Читать онлайн Плоть бесплатно
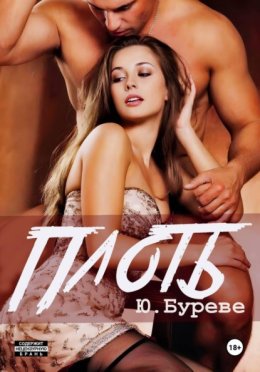
Пролог
Дверь захлопнулась за её спиной с таким звуком, будто мир снаружи отвалился куском штукатурки. Анжела прислонилась к косяку, закрыла глаза и вдохнула. Запах дома. Не «аромат семейного очага», а конкретная, осевшая в стенах вонь: прокисшего борща, немытого тела, пыли и тихого отчаяния. Она открыла глаза.
Прихожая была капканом. На вешалке – её единственное приличное пальто, скомканное и накрытое сверху его засаленной тренировочной толстовкой. На полу – гора его же кроссовок, от которых несло потом и мокрой грязью. Один ботинок лежал на боку, будто сдох. Она перешагнула через него, и её каблук хрустнул по рассыпанной на линолеуме крупе. Из кухни доносился мерный стук клавиш – он играл в танки.
Она прошла на кухню, не снимая пальто. Картина была законченная, как натюрморт под названием «Хуйня». На столе – три тарелки в засохших подтёках, пустая пачка «Беломора», пепел на скатерти. В раковине – башня из кастрюль, из-под макарон, кажется. Вода в них уже покрылась радужной плёнкой. В углу, у мусорного ведра, валялась пустая бутылка из-под пива, и муха методично билась о её горлышко.
– Дима.
Стук клавиш не прекратился.
– Дима, блять!
Стук прервался. Из-за угла показалась его макушка, потом – усталое, обрюзгшее лицо с трёхдневной щетиной.
– Чё?
– Это что? – она ткнула пальцем в сторону раковины.
Он лениво покосился.
– Раковина. Кастрюли.
– А почему они тут? Кто будет мыть?
Он наконец оторвался от монитора, развернулся. На нём была серая майка с пятном на животе.
– Анж, прикольно. Ты с работы, я тут отдыхаю. Помоем потом. Вместе, романтично.
В его голосе не было ни злости, ни насмешки. Была плоская, как доска, уверенность. Уверенность, что это – норма. Что тарелки могут ждать. Что всё может ждать. Она почувствовала, как по спине побежали мурашки – не от холода, от бессилия.
– Отдыхаешь? – её голос стал тише и острее. – Ты третий месяц «отдыхаешь». Я встаю в шесть, торчу в этой конторе, как дура на палке, а ты… ты даже, блять, тарелку за собой помыть не можешь? Кроссовки на всю прихожую разбросал! Крупу просыпал!
Он смотрел на неё честными, немного выпученными глазами. Не понимал. Искренне не понимал.
– Ну просыпал и просыпал. Подметёшь. Ты ж дома. Я вот не пристаю к тебе, когда ты носки свои по комнате раскидываешь. – Он улыбнулся, думая, что нашёл гениальный аргумент. – Живём как люди. Без истерик.
«Как люди». Фраза повисла в воздухе, смешавшись с запахом гнили. Она посмотрела на его руки, лежащие на коленях. Чистые, мягкие руки, которые тяжелее бутылки пива ничего не держали. Руки, которые три месяца не принесли в этот дом ни копейки, ни усилия, ни даже намёка на стыд.
Она не стала кричать. Крик требовал энергии, а её не осталось. Только пустота, заполненная этой вязкой, липкой грязью вокруг.
– Ладно, – просто сказала она и пошла в комнату, оставляя его в недоумении перед монитором.
Ночью он пришёл к ней. Она лежала на боку, спиной к нему, глядя в стену. На обоях над кроватью был скол, треугольник, отклеившийся уголок. Она изучала его текстуру, каждый излом.
Он придвинулся, тяжело дыша. От него пахло сном и вчерашним пивом. Рука грубо залезла под её футболку, сжала грудь. Ни поцелуя, ни слова. Просто механическое движение. Она не шевельнулась.
– Перевернись, – буркнул он сонно.
Она не перевернулась. Ей было всё равно. Он вздохнул, как будто столкнулся с мелкой бытовой неприятностью, и пристроился сзади. Толстовка зашуршала. Он натянул с неё штаны, потянул с себя трусы. Потом была тупая, влажная попытка войти. Несколько неудачных тычков, он что-то пробормотал, поправил. И наконец вошёл.
Это не было больно. Это не было приятно. Это было. Как скрип несмазанной двери. Как звук чайника, который вот-вот закипит. Он двигался за её спиной, вяло, методично. Его дыхание участилось. Она смотрела на скол на стене. Он казался ей целой вселенной. Края обоев заворачивались внутрь, как лепестки увядшего цветка. Внутри – серая бетонная пыль.
Он застонал, судорожно дёрнулся несколько раз и затих. Горячая, липкая струйка потекла по её внутренней стороне бедра. Он вынул себя, шлёпнулся на спину и через минуту уже храпел.
Она лежала неподвижно. Тело, обманутое механическим трением, подавало слабый сигнал где-то внизу живота. Тупая, незавершённая пульсация. Как эхо. Она задержала дыхание, попыталась поймать этот намёк, достроить его внутри себя. Сжала мышцы. Ничего. Только ощущение влажности и пустоты, заполненной чужим семенем.
Осторожно, чтобы не разбудить его, она стянула с себя испачканные трусы и вышла в темноту ванной. Села на край ванны. В тишине было слышно, как капает кран.
В голове гудело одно: «Я не успела. Я даже кончить не успела. В своём собственном доме. На своей собственной кровати».
Она опустила руку между ног, попробовала. Пальцы двигались, знали движения, но чувства не было. Как будто кнопку отключили. Она терла, давила, закрыв глаза, вызывая в памяти образы из прошлого, из фильмов, из ничего. Но тело молчало. Оно было как эта квартира – захламлённое, грязное, отчуждённое. В конце концов, она просто убрала руку. Посмотрела на пальцы. Вытерла их о край ванны. И почувствовала не ярость, не обиду. Леденящую, абсолютную ясность.
Утром, когда он ещё храпел, ворочаясь в размятой вдоль и поперёк простыне, она встала. Быстро, беззвучно. Собрала одну спортивную сумку: две пары джинс, несколько футболок, бельё, паспорт, все наличные, что были в её кошельке. Не оглядываясь на спящее тело, на кухню с грязной посудой, на прихожую с мёртвым ботинком.
На пороге остановилась на секунду. Сделала последний вдох этого воздуха – запаха немытой жизни, в которой она перестала дышать. Выдохнула.
И закрыла дверь. Не на ключ. Просто закрыла.
На улице был серый, предрассветный час. Воздух пах холодом и свободой. Свежесть бодрила затуманенную голову. Она села на первую попавшуюся электричку, билет – «до конечной». Когда поезд тронулся, она прижала лоб к холодному стеклу и смотрела, как проплывают назад грязные задворки её прошлой жизни. Ни одной мысли. Только ровный гул колёс и пустота внутри, чистая и просторная, как незнакомый город в конце маршрута.
Она не плакала. Она просто уехала.
Часть 1: Падение. Семя власти
Акт 1: Прибытие. Руины
Вокзал встретил её гулом, который не смолкал ни на секунду. Не гулом толпы или поездов – гулом пустоты, заключённой в железобетонные своды, воздух пах углём, металлической пылью и мокрым асфальтом. Анжела поставила на землю свой единственный чемодан, небольшой, с потёртым углом. В нём – руины. Осколки фарфоровой кружки, которую она не стала склеивать. Пачка писем, перевязанных бечёвкой. Два свитера, которые пахли уже не домом, а нафталином и далью. Одежда, которая сидела на теле, ставшем чужим.
Дождь не лил, он сеял: мелкий, колючий, проникающий под пальто. Ветер, резкий и неуместный, норовил залезть под подол юбки и студить кожу выше колен. Это не был «ветер перемен». Это был сквозняк. Сквозняк, тянувший из городских трущоб, из промзон, из раскрытых подвалов, выдувавший на свет всю промозглую изнанку этого места.
Она подняла воротник и пошла, волоча чемодан за собой. Колесо подскакивало на плитках, издавая сухой, раздражающий стук. Город за вокзалом был плоским и низким. Дома-коробки, облупившаяся штукатурка, редкие вывески с потускневшими буквами. Люди шли, не глядя по сторонам, уткнувшись в асфальт. У неё не было карты, только клочок бумаги с адресом: улица Кирпичная, 17, общежитие для рабочих «Металлург». Такси она не поймала – они проносились мимо, брызгая грязью. Пришлось идти пешком.
«Развод – это не бумажка из загса, – пронеслось в голове обрывком. – Это когда ты выносишь мусорное ведро, а возвращаешься, и в квартире пахнет тобой, но ты здесь чужая. Каждый предмет смотрит на тебя пустыми глазами и спрашивает: «А что ты тут делаешь?». Остался только запах. Запах его немытых носков, закатившихся под кровать. Запах старого пива и равнодушия. И этот запах ты не выветришь. Ты везешь его с собой. В сумке. В лёгких. В этом чемодане».
Кирпичная улица оказалась длинным, унылым коридором между двумя рядами одинаковых пятиэтажек. Общежитие было серым, с облупившейся краской, с чёрными подтёками под окнами. Дверь в подъезд не закрывалась, придерживалась кирпичом. Внутри пахло варёной капустой, сыростью и дешёвым табаком. Дежурная, женщина с лицом, как смятая бумага, не глядя протянула ключ.
– Третий этаж. Девятая комната. Санузел в конце коридора. Горячая вода по средам и субботам с восьми до десяти. Правила на стене.
Комната была крошечной, казённой. Одна узкая койка с продавленным матрасом. Стол, привинченный к стене. Тумбочка. На стенах – когда-то зелёная матерчатая обивка, теперь протёртая до дыр, пропитанная запахом тысяч чужих сигарет. Этот запах был густым, осязаемым, он висел в воздухе тяжёлым покрывалом. Анжела открыла чемодан, но не стала ничего вынимать. Просто поставила его в угол, у ножки кровати. Он стоял там, как памятник, как надгробие.
Она села на койку. Пружины жалобно скрипнули. За окном медленно смеркалось. Серый свет угасал, не уступая место темноте, а растворяясь в ней, превращая комнату в подобие аквариума с мутной водой.
Ночь наступила тихо, без предупреждения. Она легла на спину, уставившись в потолок. Прямо над ней зияла трещина – длинная, извилистая, как река на старой карте. Она следила за её изгибами, пока глаза не начали слипаться.
И тогда пришли не мысли, а ощущения. Всплыло не лицо мужа, не ссоры, не слова. Всплыло ощущение. Тычки в темноте. Нерешительные, вялые, будто он и сам не понимал, зачем это делает. И она лежала, глядя в потолок их спальни, на тот самый скол в штукатурке, который она изучила до мельчайших деталей. Маленький, серый скол, похожий на звезду. Она концентрировалась на нём, отключаясь от всего, от этих движений сверху, от тяжёлого дыхания в ухе. Внутри не было боли. Не было даже обиды. Была пустота. Огромная, бездонная, как космос. Он заполнял её собой, а она в это время путешествовала по трещинам на потолке.
Теперь эта пустота была не внутри. Она материализовалась. Она была здесь, в этой комнате, в этом чемодане, в этом городе. Она была плотнее воздуха, холоднее кафеля в общем туалете в конце коридора.
Под утро, когда за стеной кто-то начал кашлять – надрывно, долго, – Анжела встала. Ноги были ватными. Она подошла к маленькому, потускневшему зеркалу, висевшему над умывальником. В нём отражалось смутное пятно – силуэт женщины в растерзанном платье, с тёмными провалами вместо глаз. Черты лица расплывались, не желая складываться в знакомое отражение. Она смотрела на это пятно, и пятно смотрело на неё. Узнавания не произошло. Там, в глубине зеркала, была не Анжела. Там была только тень, приехавшая с вокзала с чемоданом руин. И тишина. Та самая тишина, что громче любого гула.
За окном, на Кирпичной улице, завёлся и чихнул первый грузовик. Новый день начинался. Ей нужно было искать работу.
Акт 2: «Надежда». Устройство
День начался с поиска денег, которых не было. Анжела обошла пять точек, отмеченных на самодельной карте из разговоров в общаге: магазин «Продукты», где требовалась грузчица (посмотрели на её руки и покачали головой); швейный цех (запах крахмала и машинного масла вызвал тошноту); пункт приёма стеклотары (мужик за прилавком оценивающе провёл глазами от щиколоток до шеи и предложил «договориться частным порядком» – она развернулась и вышла, не сказав ни слова). К полудню ноги гудели, а в желудке сосала одна и та же, знакомая пустота. Не голод – отсутствие всего.
«Надежда» нашла её сама. Вернее, её нашёл жёлтый, мигающий неон, тускло светящийся в сером свете дня. Вывеска висела криво, буква «д» давно не горела, превратив название в унылый каламбур: «На е жа». Запылённое стекло витрины, за которым смутно угадывались силуэты столов и темнота. Дверь – с облезшей краской и ручкой, отполированной тысячами ладоней.
Она толкнула её. Внутри пахло. Не просто запах, а густая, слоёная атмосфера. Нижний пласт – прогорклый жир, многолетний фритюр, въевшийся в стены. Средний – хлорка и кислота от чистящих средств, которыми пытались забить первый, только усугубляя удушье. И верхний, текучий – пар от чая, сладкий одеколон, пот. Воздух был тёплым и вязким, как бульон.
Пол под ногами слегка лип, издавая при каждом шаге тихий, отрывистый звук. Столы, расставленные в беспорядке, были исцарапаны – инициалы, телефонные номера, неприличные слова, выведенные ключами или ножом. На некоторых столешницах лежали застывшие лужицы чего-то тёмного, словно смолы. Освещение – несколько ламп под зелёными абажурами, отбрасывавших болезненный, болотный свет.
За стойкой, уставленной рядами пыльных бутылок с дешёвым портвейном и водкой, стоял мужчина лет пятидесяти, в мятом клетчатом пиджаке. Его лицо было не старым, а потухшим. Глаза – как два пепла, в которых не тлело ничего. Он вытирал стакан грязной тряпкой, движения были автоматическими, без цели.
– Хозяин? – голос Анжелы прозвучал хрипло от долгого молчания.
Он медленно поднял на неё взгляд, будто фокусируясь издалека.
– А тебе зачем? Уже открыто. Садись, чего стоишь.
– Мне работу. Ищу.
Он поставил стакан, взял со стойки пачку «Примы», вытащил одну, прикурил от газовой зажигалки с треском. Дым стлался сизой пеленой.
– Опыт есть?
– Нет.
– Ну и ладно. Тут не Эрмитаж. Ночные смены. С десяти до шести. Мытьё, подача, уборка. Плата – ежедневно, наличными. Доля с чаевых, если будут. Только запомни, – он сделал затяжку, выпустил дым в сторону её лица. – Народ тут… разный. Особенно ночью. Главное – не груби. Не умничай. Принеси-подай-заткнись. А то бармен Сергей не заступится. Он у нас тихий. Сам не лезет и тебя не выручит. Понятно?
– А если что… – начала она, глядя куда-то мимо его уха.
– Если что, – перебил он, резко стряхнув пепел на липкий пол, – туалет в конце зала. Дверь на щеколду изнутри. Всё цивильно. Тебя не убьют. Максимум – пощупают. Не понравится – щёлкни щеколдой и переждишь. Работу хочешь? Или нет?
В его голосе не было ни угрозы, ни издевки. Была констатация. Правила техники безопасности в опасном цеху. Он не предлагал защиту, он указывал на ближайшее укрытие. И в этой откровенности было что-то почти честное.
– Хочу, – сказала Анжела.
– Завтра в десять. Форма там, – он кивнул на дверь за стойкой, ведущую, видимо, в подсобку. – Можешь примерить. И смой с себя этот… вид. Тут не на панихиду пришли.
Он отвернулся, закончив разговор. Анжела прошла за стойку. В подсобке, в узком проходе между ящиками с бутылками и мешками лука, висело несколько платьев – коротких, из дешёвого тёмного полиэстера, с белыми отложными воротничками и манжетами, давно посеревшими от стирки. Она сняла первое с вешалки. Ткань была холодной и слегка влажной на ощупь, будто её только что вынули из плохо отжатой стиральной машины. Она поднесла её к лицу. Запах. Чужой пот. Не резкий, а стойкий, въевшийся, смешанный с тем же фритюром и отбеливателем. Запах работы. Запах «Надежды».
На следующую ночь она стояла за той же стойкой, но по другую сторону. Платье сидело мешковато, врезалось под мышками. Хозяин, представившийся дядей Валерой, показал ей три вещи: где кран с полугорячей водой, где тряпки и где спрятан ключ от ящика с выручкой («на случай, если меня не будет, а полиция придёт»). Бармен Сергей, худой, болезненного вида парень, лишь кивнул ей и погрузился в созерцание чёрного экрана маленького телевизора, показывающего снег.
Первые посетители пришли после одиннадцати. Двое, явно с завода, в спецовках, заляпанных мазутом. Заказали по сто грамм «андроповки» и две порции пельменей «по-домашнему», которые пахли картоном. Они пили молча, уставясь в стаканы. Даже не посмотрели на неё. Анжела вытерла стол после них влажной, липкой тряпкой. Вода в тазике быстро стала мутно-серой.
Потом пришла пара – мужчина в дорогой, но мятой кожанке и девушка с неестественно яркими волосами и пустым взглядом. Он заказал коньяк, которого, как выяснилось, не было. В итоге взял ту же водку, но в дорогой, пыльной бутылке, для вида. Девушка пила сок через трубочку, не отрываясь от телефона. Его рука всё время лежала у неё на колене, большой палец водил круги по тонкой ткани. Анжела отнесла им счёт. Мужчина, не глядя, сунул ей свернутые купюры. Его пальцы на мгновение коснулись её ладони. Они были тёплыми и влажными.
К трём ночи зал опустел. Сергей дремал, облокотившись на стойку. Дядя Валера куда-то ушёл. Тишину нарушал только гул холодильника-витрины и редкие грузовики за окном. Анжела начала мыть скопившуюся гору стаканов. Вода была едва тёплой, моющее средство плохо пенилось, оставляя жирные разводы. Она терла стекло щёткой, споласкивала, ставила на сушилку. Механические движения. Руки делали своё дело, мысли висели где-то сбоку, белые и лёгкие, как пар.
Она наклонилась над раковиной, чтобы сполоснуть очередной стакан, и вдруг увидела отражение. Не в зеркале – его тут не было. В выпуклой, блестящей поверхности нержавеющего крана. Искажённое, вытянутое, как в кривом зеркале, лицо. Черты расплылись, глаза превратились в тёмные впадины, рот – в тонкую щель. Это была не она. Это была тень в полинявшем платье, отмывающая чужие стаканы в жёлтом свете «Надежды». Без имени, без прошлого, без будущего. Просто функция. Пар, поднимающийся от воды, затуманил отражение, и оно исчезло.
Она выпрямилась, вытерла руки о подол. На пальцах осталась липкость от моющего средства и жира. Она поднесла их к носу. Пахло химией и чужими жизнями. В груди не шевельнулось ничего – ни отвращения, ни тоски. Была только усталость, глубокая и безэмоциональная, как та ночь за окном. Она посмотрела на часы. До конца смены оставалось три часа. В туалете в конце зала щеколда блестела, обещая временное, шаткое убежище. Она перевела взгляд на дверь. Ждала, когда она откроется и впустит следующего.
Акт 3: Ночная смена. Тени
Десять часов вечера. Неоновая «Надежда» зажглась, отбрасывая на мокрый асфальт жёлтое, больное пятно. Анжела вошла первой. Воздух внутри стоял спёртый, ещё не перемешанный дыханием посетителей, но уже насыщенный вчерашними запахами: застоявшийся табак, кислота, жир. Она включила свет. Лампы под зелёными абажурами мигнули раз, другой, прежде чем загореться ровным, унылым светом.
Первым делом – проверка. Дядя Валера оставил список. Краны работают. Холодильники гудят. В туалете – запас туалетной бумаги, куска два. Мыло в диспенсере жидкое, розовое, разбавленное до прозрачности. Она потрогала щеколду на двери – металл холодный, ход тугой. «Всё цивильно», – эхом отозвалось в памяти.
В половине одиннадцатого пришёл Сергей. Вошёл бесшумно, словно не открывая дверь, а просочившись сквозь щель. Кивнул ей, не глядя в глаза, прошёл за стойку. Надел поверх футболки чёрный фартук, засаленный на груди. Его руки, двигавшиеся привычно, расставляя бутылки, были покрыты татуировками – синими, выцветшими, с расплывчатыми контурами. Птицы, какие-то надписи, на правом предплечье – грубый шрам, будто от ожога или пореза, зашитого кое-как. Он ничего не сказал. Занял свой пост у маленького телевизора, включил его. Опять снег.
Клиентов было мало. Как будто город в эту ночь решил обойти «Надежду» стороной. Первыми зашли двое дальнобойщиков, в комбинезонах, пахнущих соляркой и дорогой. Заказали по двойной водке и жареной картошки. Ели быстро, жадно, разговаривали о рейсе, о деньгах, о какой-то «сволочи на посту». Выпили, расплатились, ушли, хлопнув дверью. Воздух на секунду освежился запахом ночной автострады, а потом снова сгустился, стал тяжёлым, как сироп.
В углу, у самого туалета, сидел пьяница. Постоянный, как позже объяснил Сергей одним словом. Мужик лет шестидесяти, в драном пальто, пил портвейн из гранёного стакана, купленного тут же. Пил медленно, с расстановкой, будто совершал ритуал. Время от времени что-то бормотал себе под нос, спорил с невидимым собеседником. На Анжелу не смотрел. Она подходила, забирала пустую бутылку, ставила новую. Он кивал, не поднимая головы. Его присутствие было частью интерьера, как трещина на стене или протёртый линолеум.
Анжела мыла стаканы, протирала уже чистые столы, поправляла салфетницы. Движения механические, заученные за одну смену. Но спина, между лопаток, постоянно была напряжена. Она чувствовала взгляд. Не пьяницы, не редких гостей. Взгляд бармена. Сергей почти не поворачивался к ней, но она ловила его отражение в тёмном стекле витрины со спиртным, в полированном кране. Он смотрел. Не как мужчина на женщину. Смотрел, как смотрят на новый механизм, оценивая, не сломается ли. Его молчание было плотным, давящим. В нём не было враждебности – было равнодушие, которое пугало больше крика. Односложные ответы: «Ага», «Нет», «Там», – казались не общением, а звуками, которые издаёт механизм.
Воздух в кафе сгущался с каждым часом. Даже гул вытяжки над плитой звучал иначе – не ровным фоном, а низко, угрожающе, будто что-то тяжёлое и невидимое перекатывалось в вентиляционных трубах. Гул холодильников стал назойливее.
Без пятнадцати час ночи дверь открылась. Вошёл не клиент – вошла масса. Массивный, широкоплечий мужчина, за ним потянулся холодный воздух и стойкий, едкий запах махорки и пота. Он был в робе грузчика, пропитанной грязью и солью. Лицо крупное, одутловатое, с мелкими, глубоко посаженными глазами. Они медленно обвели зал, скользнули по пьянице, по Сергею, остановились на Анжеле. Взгляд был пустым, как у животного, лишённым мысли, но полным неосознанной концентрации. Он не улыбался, не хмурился. Просто смотрел.
Сергей, не отрываясь от экрана с бегущими полосами, произнёс глухо:
– Гора. Угол.
Массивный мужчина – Гора – кивнул раз, тяжело ступил в дальний угол зала, к самому тёмному столу, и опустился на стул. Мебель под ним жалобно скрипнула. Он ничего не заказал. Просто сидел, положив огромные, покрытые ссадинами и грязью ладони на стол, и смотрел. Его взгляд был прикован к Анжеле. Он следил за каждым её движением: как она берёт тряпку, как проводит по стойке, как поправляет волосы. Не с похотливым интересом, а с той самой животной, бездумной концентрацией, с какой зверь в клетке может следить за движением смотрителя. От него исходила тяжёлая, почти осязаемая аура – немого ожидания.
Анжела почувствовала, как под полиэстером форменного платья по спине пробежала холодная струйка пота. Не от страха ещё, а от напряжения, от этого давящего, немого внимания. Она старалась двигаться естественно, но её движения стали чуть более резкими, отрывистыми. Она украдкой посмотрела на Сергея. Тот вытирал бокал той же грязной тряпкой, его лицо было каменным.
Прошло минут двадцать тишины, нарушаемой только бормотанием пьяницы и гулом техники. Внезапно Сергей, не меняя интонации, ровным, бытовым голосом, будто сообщая о погоде, сказал:
– Туалет в конце. Там засрано. Не жди уборщицу до утра.
Анжела перевела на него взгляд. Он смотрел на бокал, будто разговаривал с ним.
– Поняла, – ответила она так же ровно, стараясь, чтобы голос не дрогнул.
Фраза повисла в воздухе. Она не была про туалет. Она была про щеколду. Про укрытие. Про то, что «всё цивильно», но уборщицы до утра не будет. И что-то в этой констатации, в этом безразличии, с которым он обозначил правила игры в присутствии Горы, сжало ей горло.
Гора в углу не шелохнулся. Только его взгляд, казалось, стал ещё тяжелее, ещё пристальнее.
Возникла та напряжённая тишина, которую не нарушить. Она была гуще любого шума. Даже пьяница в углу замолчал, притих, будто почувствовал изменение атмосферы. Анжела стояла за стойкой, пальцы непроизвольно сжали край мокрой тряпки. В ушах стучала кровь, сливаясь с низким гулом холодильников в один угрожающий гул. Она смотрела на дверь туалета в конце зала. Расстояние – метров десять. По прямой. Мимо столов. Мимо угла, где сидел Гора. Металлическая щеколда блестела в тусклом свете, как маячок. Обещание. И приговор.
Она поняла, что это и есть работа. Не мытьё стаканов и подача пельменей. Это. Эта тишина. Этот взгляд. Эта готовность в любой момент сделать десять шагов к двери с тугой железной скобой. И понимание, что эти десять шагов могут быть последним, что от неё потребуют.
Гора медленно поднялся. Стул взвыл под ним. Он не посмотрел больше ни на кого, развернулся и тяжелой, шаркающей походкой пошёл к выходу. Дверь открылась, впустила порцию ледяного воздуха и запаха ночного города, и захлопнулась.
Только тогда Анжела разжала пальцы. Тряпка с глухим шлепком упала в таз с грязной водой. Она вздохнула, и воздух ворвался в лёгкие резко, болезненно. Сергей переключил канал на телевизоре. Появилось размытое изображение какой-то старой комедии, зазвучала фальшивая музыка.
– До шести ещё четыре часа, – произнёс он, не оборачиваясь. – Кофе будет?
Она посмотрела на часы. Стрелки ползли невыносимо медленно. В груди было пусто и холодно. Как в той комнате в общаге. Как в отражении в кране.
– Будет, – сказала Анжела и потянулась к чайнику. Руки не дрожали. Они просто были холодными. Совсем холодными.
Акт 4: Кафель. Разлом
Напряжение копилось часами, превратившись в тугой комок где-то под рёбрами. К трём ночи он стал невыносимым, давя на мочевой пузырь тупой, физической тяжестью. Анжела откладывала момент как могла. Мыла уже чистые стаканы, перетирала полки, считала трещины на потолке. Но тело – это предательское животное – настаивало. Боль стала острой, режущей. Придётся идти.
Она посмотрела на Сергея. Тот, как всегда, уставился в мерцающий экран, его профиль был неподвижным, как у памятника. Гора ушёл два часа назад. Кафе было пусто, даже пьяница в углу заснул, уронив голову на липкую столешницу. Казалось, самое время.
– В туалет, – тихо сказала она, не ожидая и не получая ответа.
Взяла ключ от подсобки – длинный, ржавый, на грязной бечёвке. По правилам надо было вешать табличку, но её не было. Она просто пошла по проходу между столами.
Расстояние – десять шагов. Пол под ногами всё так же лип, издавая при каждом шаге отрывистый звук отклеивающейся подошвы. Воздух в конце зала был ещё спёртее, гуще, будто здесь оседали все выдохи, все испарения. Дверь в туалет – тёмное, облезлое дерево с вертикальной щелью вместо глазка и металлической скобой щеколды.
Она толкнула дверь. Включила свет. Лампа под потолком мигнула, захрипела и загорелась тусклым жёлтым светом, отбрасывая рваные тени. Помещение было крошечным, тесным, как камера. Кафель на стенах – грязно-белый, с паутиной чёрных трещин и жёлтыми подтёками у пола. На полу – линолеум, когда-то коричневый, теперь протёртый до серой основы, липкий от вечной сырости и грязи. Вонь ударила в нос – едкий хлор, перебивающий гнилую органику, затхлость, ржавчину. Воздух был влажным, тяжёлым, им было трудно дышать.
Унитаз с потрескавшимся сиденьем, бачок под потолком с верёвкой вместо цепочки. Раковина с одним краном, из которого сочилась тонкая струйка ржавой воды. Анжела закрыла дверь. Потянула щеколду – металлический язычок с трудом вошёл в петлю. Она толкнула дверь плечом. Щеколда держалась, но при движении чувствовался люфт, болтанка. «Там засрано. Не жди уборщицу до утра». Фраза прозвучала в голове с новой, леденящей ясностью. Это не было предупреждением о грязи. Это была инструкция. Инструкция к поломке.
Она сделала свои дела быстро, судорожно, почти не садясь. Шум спускаемой воды прозвучал оглушительно громко в тишине, затем сменился шипением и бульканьем в древних трубах. Она потянулась к крану, сполоснула руки. Вода была ледяной. Потом повернулась к двери, собираясь выйти. Её рука уже потянулась к щеколде.
И в этот момент дверь содрогнулась.
Не от толчка. От удара. Тихий, но мощный удар, от которого вся конструкция вздрогнула, и щеколда задребезжала, издав высокий, визгливый звук. Анжела замерла, рука застыла в воздухе. Сердце ударило один раз, гулко, в самое горло.
Второй удар был сильнее. Дверь прогнулась внутрь, послышался треск древесины у косяка. Щеколда, болтавшаяся в петле, согнулась, выскочила из зацепления. И дверь, с низким, протяжным скрипом, подалась внутрь.
В проёме, заполняя его собой, стоял Гора.
Он не казался больше – он был стеной. Его массивная фигура перекрывала весь свет из зала, отбрасывая на неё огромную, бесформенную тень. Его лицо было темно, глаза – две маленькие, блестящие точки в тени. От него воняло. Махоркой, потом, грязью, металлом, немытым хуем. Вонь немытого мужского тела, концентрированная, удушающая. Он не сказал ни слова. Не зарычал, не усмехнулся. Просто шагнул внутрь.
Анжела отпрянула, спиной ударившись о край раковины. Холодный фарфор врезался в поясницу. Она открыла рот, чтобы закричать. Звук рванулся из горла, короткий, обрывистый —
И тут же был поглощён.
Поглощён гулом. Мощным, низким гулом вытяжки, который внезапно взревал прямо над ними, как будто кто-то включил его на полную мощность. Этот промышленный рёв заполнил всё пространство, заглушил всё. Он был громче крика, громче мысли. Он был стеной.
Гора двинулся к ней. Его движения были не быстрыми, а неотвратимыми, как движение механизма. Левая рука, огромная, как лопата, вцепилась ей в волосы у виска. Боль – острая, выворачивающая – пронзила череп. Он рванул её голову вниз и в сторону, с силой прижав лицом к стене.
Холодный, липкий кафель прирос к щеке. Шершавая, грязная поверхность вдавилась в кожу. Она почувствовала вкус пыли и мыльной плесени на губах. Его ладонь, воняющая махоркой и застарелым потом, придавила её затылок, вжимая всё лицо в стену. Дышать стало невозможно. Ноздри вжались в кафель, втягивая только запах гнили и его тела.
Потом – звук молнии. Резкий, рвущийся звук застёжки её форменного платья. Ткань грубо стащили с плеч, вниз до талии. Холодный, сырой воздух ударил по спине. Она услышала, а скорее, почувствовала вибрацией через пол и стену, как он расстёгивает свою робу. Звяканье пряжки, шуршание грубой ткани, глухой стук тяжелого члена о внутреннюю сторону бедра.
И тут началась диссоциация.
Её сознание, как камера на штативе, медленно поплыло вверх, к потолку, к мигающей лампе. Она увидела сверху. Узкое, грязное помещение. Своё собственное тело, пригвождённое к стене, согнутое в неестественной позе, с обнажённой до поясницы бледной спиной, на которой уже проступали красные полосы от его пальцев. И его тело. Огромную, сгорбленную спину в застиранной, грязной робе, широкие плечи, крупную голову с короткой щетиной. Картинка была чёткой, детальной, но совершенно бесчувственной. Как будто смотрела документальный фильм о чём-то очень далёком.
Тело внизу дёрнулось. Резко, судорожно. Оттуда, снизу, донёсся всплеск ощущений, отключённых от сознания. Собственные бёдра были грубо раздвинуты его коленями. Холодный воздух коснулся кожи там, куда даже она сама смотрела с отстранённым равнодушием.
Что-то огромное. Тупое. Неумолимое. Толстый, жилистый член, упругий и горячий, упёрся в промежность. Давление, становящееся нестерпимым. Не было смазки, не было подготовки. Было насилие материала над материалом. Сухое, жёсткое, рвущее.
Рывок. Глубокий, до хруста, до белой, слепящей вспышки в глазах, которая пронеслась даже через отстранённое сознание на потолке. Боль. Не острая, а тупая, распирающая, заполняющая всё внутреннее пространство, вытесняющая воздух из лёгких. Тело внизу затряслось в немом спазме.
Звуки доносились приглушённо, сквозь гул вытяжки. Его тяжёлое, хриплое дыхание прямо у неё в ухе. Шарканье его грубых ботинок по липкому полу. Скрип двери, всё ещё упёршейся в его спину. Свой собственный прерывистый, сиплый выдох, больше похожий на стон, но беззвучный, потому что нечем было дышать.
Он двигался. Методично. Монотонно. Без злобы, без страсти. Как дизельный двигатель на холостых оборотах. Каждый толчок отдавался глухим ударом в кости таза, в позвоночник, в прижатую к стене голову. Анжела с потолка наблюдала, как её тело качается в этом ритме, как трясётся бледная кожа на спине. Мысли висели где-то сбоку, лёгкие, бесполезные: «Волосы надо будет вымыть. Здесь мыла нет. Дверь сломана. Кто будет чинить?» Полная отстранённость. Глухая стена между сознанием и телом. Так было проще. Так не было больно. Так не было страшно.
Но тело было живым. И предательским.
Прошло время – минута, пять, десять? Неизвестно. Его движения не менялись, не ускорялись. Казалось, это будет длиться вечно. И где-то в глубине, под грудой шлака и пустоты, в том самом месте, где когда-то что-то ещё чувствовало, начало шевелиться что-то тёмное, подлое, неподконтрольное. От каждого монотонного, грубого толчка, от этого ритмичного, животного трения… в нервах, в мышцах, глубоко внутри, начало нарастать странное, чужеродное напряжение. Не боль. Нечто иное. Тепло. Липкое, противное тепло, растекающееся по низу живота.
Анжела на потолке вдруг это осознала. И ужаснулась. Нет. Только не это. Сука, только не это.
Но тело не слушалось. Напряжение росло, сжимая низ живота тугой, горячей пружиной. Это было физиологией. Глупой, животной, предательской реакцией на стимуляцию, даже такую, даже насильственную. Она пыталась отключиться, думать о чём-то другом, о сколе на стене в старой квартире, о запахе носков в чемодане, но волна уже поднималась. Из самой глубины, оттуда, где годами была только пустота. Горячая, густая, подлая. Сокращения влагалища, предательские и всё учащающиеся, сжимали его член, уже не сопротивляясь, а подстраиваясь под его ритм.
И её накрыло.
Свело живот судорогой, ноги затряслись, в висках застучала кровь. Волна конвульсивного, неконтролируемого спазма прокатилась снизу вверх, выжимая из лёгких воздух. Кончила. Блядь, кончила, сука, кончила прямо сейчас, пока этот урод её трахал в грязном сортире. Её собственный стон, дикий, хриплый, смешанный с его внезапно участившимся хрипом, донёсся до неё как будто через вату, сквозь рёв вытяжки. Это был не крик боли. Это был звук оргазма. Глубокого, животного, унизительного оргазма. Её оргазма.
В этот момент сознание на потолке рухнуло вниз, обратно в тело, с болезненной, тошнотворной резкостью. Все ощущения ворвались разом: боль, липкий пот на спине, холод кафеля на щеке, его тяжёлое тело, придавившее её, и это стыдящее, гуляющее по нервам послесвечение спазма. Стыд. Горячий, всепоглощающий, едкий стыд, который жёг изнутри сильнее любой боли. Она не просто была изнасилована. Её тело откликнулось. Возбудилось. Кончило. Предало её. Оказалось таким же грязным, таким же животным, как всё в этом туалете, в этом городе. Как он.
Его движения стали резкими, судорожными. Он издал короткий, хрюкающий звук, вдавился в неё на всю длину, его член пульсировал внутри, заполняя её горячей, липкой жидкостью, и замер. Тяжесть на её спине стала абсолютной. Он лежал на ней, его горячее, потное дыхание обжигало шею. Потом он отстранился. Резко. Без нежности, без сожаления. Член с мокрым хлюпающим звуком выскользнул из неё. Она услышала, как он поправляет одежду, звук застёжки.
Он не сказал ни слова. Просто развернулся и вышел, отодвинув сломанную дверь. Свет из зала на мгновение ударил ей в глаза, и дверь снова прикрылась, оставшись приоткрытой на несколько сантиметров. Он ушёл.
Анжела осталась стоять, прижавшись лицом к кафелю. Колени подкашивались. Она медленно, как развалина, сползла по стене на пол. Липкий, грязный линолеум холодно прикоснулся к голой коже бёдер. Она сидела, поджав ноги, прикрывая груди руками. Дрожь. Мелкая, неконтролируемая дрожь била её изнутри, зубы выбивали дробь. Внутри всё было выжжено. Боль, стыд, пустота, липкая влага между ног – всё смешалось в один чёрный, безвкусный ком.
И тогда, сквозь затихающий гул вытяжки, она услышала.
Звук из зала.
Тяжёлый, учащённый храп? Нет. Приглушённое, ритмичное шарканье. Скрип стула. Сдавленное, быстрое дыхание.
Она замерла, дыхание застряло в горле.
Это был не звук сна. Это был другой ритм. Знакомый. Тот самый, который только что был здесь, в этой комнате.
Сергей.
Он не спал. Он не читал газету. Он был там, за дверью. В нескольких метрах. Он слышал всё. Возможно, видел в щель. И теперь… это шарканье. Мастурбирует. На эти звуки. На её стоны. На звук насилия.
Не помогает. Наблюдает. Получает своё. Кончает под этот аккомпанемент.
Это осознание ударило сильнее, чем всё, что было до этого. Сильнее боли, сильнее насилия, сильнее предательства собственного тела. Это было полное, окончательное одиночество. Она была не жертвой в вакууме. Она была спектаклем. Живой, грубой порнухой. И за дверью сидел единственный зритель и трахал свою тупую руку, получая удовольствие от её унижения.
Дрожь внезапно прекратилась. Всё внутри заледенело. Стыд, ужас, боль – всё схлопнулось, сжалось в маленькую, твёрдую, чёрную точку где-то в центре груди и замолкло. Наступила тишина. Совершенная, ледяная тишина.
Она медленно поднялась. Ноги держали. Подошла к раковине. Взглянула в потрескавшееся, заляпанное мыльными разводами зеркальце над ней. В отражении – лицо с красным пятном от кафеля на щеке, спутанные волосы, пустые глаза. Ни слёз, ни искажения. Пустота. Но уже другая. Не пассивная, не страдающая. Холодная. Минеральная. Мёртвая.
Она сполоснула лицо ледяной водой. Поправила, насколько это было возможно, порванное платье, смахнула с бёдер засохшие капли его спермы. Волосы собрала в тугой пучок. Пальцы не дрожали. Ничего не дрожало.
Потом она отодвинула дверь и вышла в зал.
Сергей сидел на своём месте. Телевизор был выключен. Он смотрел прямо на неё. Его лицо было обычным, потухшим. Только дыхание было чуть учащённым, а на столе перед ним лежала смятая бумажная салфетка. И в воздухе висел сладковатый, знакомый запах мужского семени. Он смотрел на неё, и в его взгляде не было ни злорадства, ни сожаления, ни возбуждения. Был просто интерес. Клинический интерес. Как смотрят на результат эксперимента.
Анжела прошла мимо него, не опуская глаз. Вернулась за стойку. Взяла тряпку. Начала вытирать стойку, хотя она была чистой. Механические движения. Внутри была тишина. И та самая чёрная точка. Твёрдая. Холодная. Она смотрела на свои руки, держащие тряпку. На синяк, который уже начинал проступать на запястье. На микроповреждения на костяшках пальцев.
Она поняла что-то. Что-то очень важное. Боль имеет предел. Унижение имеет дно. И когда ты достигаешь этого дна, там нет страха. Там нет ничего. Там только холодный кафель и твоё отражение в потрескавшемся зеркале. И это знание было страшнее и сильнее всего, что с ней случилось. Потому что оно освобождало. От всего. От страха, от стыда, от надежды.
Она подняла глаза и встретилась взглядом с Сергеем. Он смотрел. Она смотрела в ответ. Несколько секунд. Потом он первым отвел взгляд, потянулся к сигаретам, его пальцы слегка дрожали.
Анжела снова опустила глаза на свои руки. На тряпку. На стойку. Работа продолжалась. До шести утра оставалось два часа.
Акт 5: Утро. Семя
Гора ушёл так же, как пришёл – молчаливо, бесшумно, не оглядываясь. Дверь туалета, оставшаяся приоткрытой, качнулась от его прохода и замерла, скривясь на повреждённых петлях. В щель проникал тусклый свет из зала, разрезая темноту узкой полосой, в которой плясала пыль.
Анжела осталась сидеть на липком линолеуме, прислонившись спиной к холодному кафелю. Дрожь, сначала мелкая, прерывистая, прокатилась по телу волной и стихла. На смену пришла физическая констатация.
Боль. Не острая, а глухая, разлитая по всему низу живота, тазу, промежности. Ощущение глубокого, внутреннего ушиба. При каждом движении отдавало в поясницу, в копчик. Ссадины на внутренней стороне бёдер, где грубая ткань его робы терла о кожу, прижатую к шершавому кафелю, – горели тонким, огненным налётом. На запястье левой руки, там, где он держал, уже проступал синеватый отпечаток пальцев, чёткий, как клеймо.
И липкость.
Между бёдер. Тёплая, густая, медленно стекающая по коже внутренней поверхности бедра. Она не сразу осознала, что это. Потом поняла. Сперма. Его сперма.
Она медленно раздвинула ноги, глядя вниз, в полумрак. Бледная кожа внутренней поверхности бедра блестела в полосе света. По ней, от самого центра наружу, стекали мутно-белые, густые потёки. Они выглядели странно – не отталкивающе, а… чужеродно. Как пролитый клей, как техническая жидкость. Она наблюдала за ними с холодным, почти клиническим интересом. Как будто это было не с ней. Как будто она изучала экспонат – последствия удара, химический ожог, странное атмосферное явление.
Мысль пришла обрывистая, без эмоций: «Вот он. След. Материальное доказательство». Не насилия – биологии. Животного акта. Он её оплодотворил? Нет, не в этом дело. Он её отметил. Оставил свой растворённый в воде генетический код на её коже. Как собака на столбе. Примитивно. Эффективно.
Она поднялась. Мышцы ног дрожали от напряжения, но держали. Подошла к раковине. Кран с одной ручкой. Повернула. Вода хлынула – ледяная, обжигающая, ржавая на первых секундах. Она намочила ладони, сперва умыла лицо, стирая с щеки ощущение кафеля и чужого пота. Потом наклонилась, зачерпнула пригоршни воды и попыталась смыть с бёдер липкие потёки. Вода была слишком холодной, она сводила мышцы, но очищала. Белые сгустки размягчались, смешивались с водой и грязью, стекали в слив розоватыми разводами. Она терла кожу ладонью, пока та не стала чистой, почти до боли красной от трения и холода. Но ощущение липкости, чуждости осталось. Глубже кожи. Внутри.
Вытерлась полотенцем – жёстким, серым, пахнущим сыростью. Поправила рваное платье, насколько это было возможно. Оно висело на ней тряпкой, пахло теперь ещё и им, его потом, его выделениями. Она собрала волосы, закрепила. Взглянула в потрескавшееся зеркальце. Лицо было бледным, почти белым, под глазами – тени. Но глаза… глаза были сухими и пустыми. Как два промытых камня. Ни слёз, ни паники, ни даже ненависти. Пустота. Но пустота после взрыва, после того как всё выжгло.
Она отодвинула дверь и вышла в зал.
Воздух здесь показался невероятно свежим после вони туалета, хотя был всё тот же – табак, жир, хлорка. Было тихо. Пьяница в углу храпел, уткнувшись лицом в рукав. Телевизор был выключен. За стойкой стоял Сергей.
Он мыл бокалы. Той же серой, вечно влажной тряпкой. Движения были медленными, методичными. Он не обернулся на её шаги, но, должно быть, слышал. Анжела прошла мимо стойки, направляясь в подсобку. И в этот момент их взгляды встретились.
Она остановилась. Он поднял голову от бокала.
Они смотрели друг на друга несколько секунд. В его глазах не было ничего из того, что она, может быть, подсознательно искала. Не было вины. Не было стыда. Не было сочувствия или отвращения. Была просто усталость. Глубокая, вековая усталость, въевшаяся в кожу вокруг глаз, в складки у рта. И что-то ещё, под этой усталостью. Не злорадство. Не удовольствие. Что-то более простое и страшное. Голод. Не физический. Душевный голод, пустота, которую он, как и она, нёс в себе и которую на секунду утолил этим наблюдением, этим соучастием в тишине. Он был не палачом. Он был наблюдателем. И в этой роли он нашёл свою кроху власти, свою порцию острых ощущений. Граница между ним и Горой, между наблюдателем и исполнителем, в этот момент казалась призрачной, зыбкой. Они были частью одной системы. Разными винтиками в одном грязном механизме.
Он первым опустил взгляд, вернулся к своему бокалу. Как будто ничего не произошло. Как будто она просто вышла из туалета после долгого отсутствия.
Анжела прошла в подсобку. Запах лука, тления, старой ткани. Она сняла форменное платье. Стянула его с себя, как шкуру. Ткань, пропитанная потом, страхом, чужими запахами, его выделениями, повисла в её руках тяжёлым, омерзительным тряпьём. Она не стала его складывать. Не стала бросать в угол. Она открыла крышку большого мусорного бака, стоявшего у задней двери, и швырнула платье внутрь. Оно мягко шлёпнулось на остатки овощей, пустые бутылки, пищевые отходы. Она протолкнула его глубже, в самую грязь. Пусть сгниёт здесь.
Надела свою одежду – простые джинсы, свитер, куртку. Каждая ткань, пахнущая её старым порошком, была барьером, возвращением к себе, какой бы иллюзорной эта «себя» ни была. Но это было её. Не униформа «Надежды».
Когда она вышла из подсобки, Сергей протянул ей через стойку несколько смятых купюр.
– За смену. И… за молчание, – произнёс он глухо, не глядя.
Она взяла деньги. Бумага была влажной от его потных пальцев. Она сунула её в карман, не считая. Не сказала «спасибо». Не сказала ничего.
Она вышла на улицу. Дверь кафе «Надежда» захлопнулась за её спиной с глухим, окончательным звуком.
Было утро. Серое, холодное, но уже утро. Солнце, бледное и безжизненное, пробивалось сквозь слой облаков и смога, било в глаза косыми, резкими лучами. Она зажмурилась. Воздух пах выхлопами и морозцем. Где-то вдали сигналила машина.
Она пошла. Ноги несли её сами, без команды. Каждый шаг отдавался в теле глухой болью, странной, опустошённой лёгкостью. Мысли лезли обрывистые, как осколки.
«Он тяжелее бутылки пива что-то держал, – пронеслось в голове. – Не только меня. Держал что-то в руке, когда входил. Инструмент? Оружие? Неважно. Он это держал. И меня. Держал. Фиксировал. Как вещь».
А потом другая мысль, острая, как лезвие:
«А я… я там, внутри, в самом тёмном углу, куда даже мне страшно заглядывать… сжалась. И выплюнула его. Или… нет. Не выплюнула. Приняла. И в ответ… выстрелила чем-то своим. Кончила. Я, блядь, кончила. Пока он меня рвал. Что же во мне такое, что отзывается на это? Какой же я кусок дерьма. Хуже, чем он. Он – просто животное. А я… я животное, которое знает, что оно животное, и получает от этого содрогание. Я саму себя съела и переварила этот ужас во что-то… другое».
Это был не стыд. Стыд был бы проще, человечнее. Это было осознание. Странная, ядовитая, кристально чёрная ясность. Она увидела в себе трещину, бездну, и на дне этой бездны что-то шевельнулось. Не слабость. Не жертва. Что-то тёмное, липкое, обладающее чудовищной силой. Силой, которая родилась из унижения и боли и оказалась сильнее морали, сильнее страха, сильнее её самой.
И главный вопрос, который встал перед ней не словами, а ощущением в каждой клетке, гнал её вперёд по утренней улице:
«Почему? Почему это было… так сильно? Что это было? Что во мне сломалось – или, наоборот, включилось?»
Она не повернула в сторону участка. Мысль о милиции даже не возникла. Это был бы другой спектакль, с другими зрителями, с другими унижениями. И это ничего не изменило бы. Не смыло бы потёков с бедра и не вырвало бы из памяти тот дикий, предательский спазм.
Она шла прочь от «Надежды». От вокзала. От общаги. Просто шла. Город просыпался вокруг. Люди шли на работу, открывались магазины, гремели трамваи. Она смотрела на них и не видела людей. Видела функции, оболочки, механизмы. Как и она сама теперь была механизмом, но механизмом с новым, страшным знанием о себе.
Боль в теле постепенно притуплялась, переходя в фон. На смену ей приходила та самая пустота. Но это была уже не прежняя пассивная пустота потерь. Это была пустая чаша. Выжженная, очищенная огнём стыда и насилия. Готовая. Готовая к заполнению. Чем? Она не знала. Но знала, что чем бы это ни было, это будет темно, сильно и будет пахнуть не жизнью, а чем-то другим. Семенем, пролитым на мёртвую землю.
Она остановилась на каком-то мосту через замерзающую речушку. Посмотрела вниз, на чёрную, маслянистую воду. Её отражение качалось на мелкой ряби – бледное, размытое. Она плюнула в него. Слюна упала в воду, на мгновение исказив изображение, и её лицо распалось на части, прежде чем снова сложиться. Уже немного другим.
Она повернулась и пошла дальше. В кармане пальто стучали о бедро несколько монет и смятые купюры – плата за смену. Плата за молчание. Плата за знание. Семя.
Часть 2: Трансформация. Грязь как валюта
Акт 6: «Волна». Вход в систему
Две недели Анжела прожила в состоянии странной, подвешенной пустоты. Деньги от Сергея кончились быстро. Общага требовала оплаты. Город вокруг был не местом для жизни, а враждебной экосистемой с чёткими, жестокими правилами обмена: время, тело, услуги на еду, кров, возможность двигаться дальше. Она начала изучать эти правила с холодным, методичным интересом.
«Волна» была следующим логическим звеном в пищевой цепи. Не кафе с жёлтым неоном для ночных отбросов, а заведение с претензией. Она увидела его объявление на столбе, среди листовок о похоронах и уроках английского: «Требуются официантки. Высокий доход. Сменный график». Адрес был в промзоне, у старых заводских корпусов.
Она пришла к восьми вечера. Снаружи – глухая серая стена, чёрная дверь без вывески, только крошечная неоновая табличка с синей стилизованной волной у глазка. Дверь открыл вышибала – широкоплечий, в чёрном, с пустым лицом. Она сказала: «По поводу работы». Он пропустил её, не глядя.
Внутри было не пространство, а бархатная, давящая тьма, прорезаемая резкими лучами синих и розовых прожекторов. Свет выхватывал из мрака клочки реальности: край барной стойки, отблеск на бокале, чей-то лоснящийся лоб, голую лопатку. Воздух был густым, почти осязаемым. Его составляли: сладкий, удушливый парфюм, перебивающий немытые тела; едкий табак; запах спирта, льющегося на пол; и подложка – кисловатый, знакомый запах пота и чего-то ещё, химического, скользкого. Лубриканта, поняла она позже. Или средства для чистки шестов.
Звук бил по ушам – глухой, пульсирующий техно-ритм, под который кричали какие-то электронные голоса. Его физически чувствовали грудной клеткой, вибрацией в полу. Голоса людей, смех, возгласы тонули в этом гуле, становясь частью общего шумового смога.
Она остановилась у входа, давая глазам привыкнуть. Её аналитический взгляд сканировал помещение, раскладывая его на компоненты.
Сцена. Небольшое возвышение в центре, три шеста из полированного хрома. На них, в лучах слепящего прожектора, извивались две девушки. Их тела были тренированными, но движения – не танцем, а механической демонстрацией возможностей. Заученные связки, прогибы, вращения. Их лица, покрытые плотным слоем косметики, сохраняли одинаковые, застывшие улыбки. Глаза, блестящие в свете софитов, были пусты. Они смотрели поверх голов, в дальнюю стену, в никуда. Иногда одна из них сползала к краю сцены, становилась на четвереньки, позволяя мужчине в первом ряду сунуть купюру в её стринги. Мужчина при этом шлёпал её по обнажённой ягодице – не игриво, а с властным, собственническим жестом. Девушка не вздрагивала. Улыбка не дрогнула. Она ползла дальше, к следующему.
Клиенты. Мужчины. Разные по виду, но одинаковые по вектору внимания. Одни сидели за столиками, жадно вглядываясь в темноту сцены, пальцы сжимали стаканы. Другие толпились у самой сцены, купюры в руках были их пропуском к близости. Были и группы, громкие, пьяные, похлопывающие друг друга по плечам. Их взгляды скользили по телам танцовщиц, как по товару на полке, оценивая, выбирая.
Персонал. Официантки в коротких чёрных платьях, с подносами. Двигались быстро, ловко, между столиками, уворачиваясь от хватающих рук. Их лица были масками вежливого безразличия. На выходе из зала, в глубине, возле дверей с табличками «Private», стояли ещё несколько девушек, в основном в нижнем белье или прозрачных халатиках. Они курили, смотрели в телефоны, ждали. Их позы были усталыми, скучающими.
В Анжеле не шевельнулось ничего. Ни страха, как в «Надежде». Ни отвращения. Ни скрытого возбуждения. Был только холодный, клинический интерес и нарастающее, леденящее презрение. Она наблюдала за этим спектаклем и видела не соблазн, не порок, а жалкий, примитивный цирк. Танцовщицы – не богини, не соблазнительницы. Дрессированные звери, выполняющие трюки за еду. Клиенты – не повелители, не искусители. Зрители, платящие за иллюзию власти, которой у них нет в мире за стенами этого клуба. Вся эта сложная система огней, музыки, тел и денег была огромной, дурно пахнущей машиной по производству очень дешёвых иллюзий.
«Это не власть, – пронеслось у неё в голове, чётко и ясно. – Это симулякр. Они покупают право на минуту взгляда, на шлепок, на фантазию. А реальная власть – у того, кто считает деньги после закрытия. У того, кто их сюда пускает. У того, кто решает, какое тело будет на сцене. Вот она где – точка контроля».
Она заметила человека, который, видимо, и был этим контролём. Мужчина лет сорока пяти, в дорогой, но не кричащей рубашке, сидел за небольшим столиком у стены, слегка в стороне от основного света. Перед ним стоял ноутбук, он что-то печатал, изредка поднимая глаза и обводя взглядом зал. Взгляд был быстрым, оценивающим, как у инженера, наблюдающего за работой сложного агрегата. Он отмечал сбои: слишком пьяного клиента, официантку, замешкавшуюся у столика, танцовщицу, чьё движение было вялым.
Анжела направилась к нему. Прошла через зал, ощущая на себе взгляды. Но это были не те взгляды, что в «Надежде». Здесь на её одетую в простые джинсы и куртку фигуру смотрели с лёгким недоумением, как на посторонний предмет, занесённый в экосистему случайно.
Мужчина за столиком заметил её приближение, прикрыл ноутбук.
– Клуб закрыт для посторонних, девушка, – сказал он ровным, безразличным голосом.
– Я по поводу работы. Официантка, – ответила Анжела, не повышая тона.
Он окинул её взглядом. Взгляд был профессиональным, сканирующим: лицо, фигура, одежда, осанка. Не как на женщину – как на потенциальный актив или проблему.
– Опыт?
– Есть. Обслуживание, бар, касса.
– Где?
– Кафе «Надежда». Ночные смены.
На его лице мелькнуло что-то, похожее на слабое узнавание. «Надежда» явно была в одной с ним вселенной, только на другом, более грязном полюсе.
– Знакомое место, – произнёс он. – Только у нас… атмосфера другая. Клиенты другие. Справишься? Тут народ горячий. Требовательный. Руки могут запускать. Слова говорить. Нужно уметь мягко поставить на место, не испортив настроение. И не доводя до скандала. Баланс.
Он смотрел на неё, ожидая увидеть нервозность, неуверенность, желание угодить. Анжела встретила его взгляд прямо. Её глаза были сухими, спокойными, как у врача перед сложной операцией.
– Я уже справлялась, – сказала она, и в её голосе не было ни хвастовства, ни вызова. Была констатация. – С горячими. С требовательными. С теми, кто руки запускает. Дальше будет только проще. Здесь, я вижу, всё по правилам. Цирк, но с регламентом. С регламентом я работать умею.
Он замер на секунду, изучая её. Возможно, искал следы лжи, истерики, слабости. Не нашёл. Уголки его губ дрогнули – не улыбка, а знак одобрения, как у игрока, увидевшего неожиданно сильную карту на руках у партнёра.
– Меня зовут Виктор. Я менеджер. График – три через три, с десяти вечера до шести утра. Ставка плюс процент с продаж и чаевые. Форма – чёрное платье, вот такое, – он кивнул на промелькнувшую официантку. – Нижнее бельё – только чёрное. Никаких личных украшений на виду. Волосы убраны. Макияж – только если очень умеренный. Ты здесь не товар. Ты сервис. Понятна разница?
– Понятна, – кивнула Анжела. – Товар – там, – она едва заметно двинула подбородком в сторону сцены. – А сервис должен быть незаметным и эффективным. Чтобы не отвлекал от товара, но чтобы стакан всегда был полным и счёт подан вовремя.
Виктор кивнул, теперь уже с едва уловимой долей уважения.
– Первую смену – послезавтра. Приходи в девять, получишь форму, инструктаж. Один пробный вечер. Не справишься – расчёт. Вопросы?
– Нет.
Она повернулась, чтобы уйти, но его голос остановил её:
– И, девушка… Анжела, да? Забудь, что ты видела или не видела в «Надежде». Здесь другие правила. Здесь всё красиво. Даже грязь – под лаком. Играй по этим правилам. Не высовывайся. Считай деньги. Всё остальное – не твоё дело.
Она не обернулась, просто кивнула и пошла к выходу. Её внутренний голос отчеканил:
«Их раздевают взглядами. Раздевают догола, заставляют ползать. Меня – нет. Я пока за кассой. Я в форме. Я сервис. Я считаю их деньги. Считаю, сколько они оставляют на иллюзию. И сколько из этого перепадает мне. Это – вход. Первый шаг внутрь системы. Пока не в клетку, а за ограждение. Чтобы видеть, как крутятся шестерёнки. Чтобы понять, где рычаг. Где слабое звено. Где настоящая сила, а не её бутафорская имитация в виде голого тела на шесте».
Она вышла на холодный, промозглый воздух промзоны. За спиной захлопнулась чёрная дверь, заглушив пульсирующий гул. В ушах ещё стоял тот ритм, но в голове уже строились схемы, расчёты. Она не чувствовала себя новой жертвой, пришедшей на убой. Она чувствовала себя исследователем, спустившимся в чужой, враждебный биом. Чтобы изучить его. Чтобы выжить в нём. А потом, возможно, чтобы начать им управлять.
«Волна» была не концом. Она была следующим уровнем. И Анжела уже видела его карту.
Акт 7: Первая сделка. Арифметика тела
Первые смены в «Волне» прошли в режиме холодного наблюдения. Анжела запоминала: лица постоянных клиентов, их привычки, что они пьют, к каким девушкам тяготеют. Она учила меню дорогих коктейлей, цены на шампанское, которое заказывали для показного пафоса. Её движения за стойкой и с подносом были точными, без лишних жестов. Она улыбалась ровно настолько, насколько требовалось по инструкции Виктора – уголки губ приподняты, взгляд направлен чуть ниже глаз собеседника, чтобы не казаться вызывающим. Она была идеальным сервисом: невидимым, но эффективным.
Её преимущество было в её же незаметности. Пока танцовщицы в центре внимания, пока официантки в коротких платьях мелькали, как чёрные мотыльки, она, особенно в начале смены у кассы или за стойкой, была частью интерьера. Мозг клиента, перегруженный обнажённой плотью, громкой музыкой и алкоголем, часто просто отфильтровывал её. Это давало ей пространство для манёвра. Для анализа.
Клиент появился на третьей неделе. Она заметила его сразу – не потому что он был заметен, а потому что был типичным. Мужчина лет тридцати пяти, в недорогом, но аккуратном костюме, который выдавал офисного работника среднего звена. Он пришёл один. Сел не у сцены, а в дальнем углу, в полутьме. Заказал одну водку, потом вторую. Пивал её долго, смотрел не на сцену, а на свой стакан, изредка бросая быстрые, украдчивые взгляды на проходящих девушек. Его поза была скованной, плечи подняты к ушам. Он не был здесь хозяином. Он был посетителем, который переступил порог, испытывая смесь стыда, возбуждения и страха быть узнанным.
Анжела, проходя мимо с пустым подносом, почувствовала на себе его взгляд. Не наглый, не оценивающий. Скорее изучающий. Потом умоляющий. Когда она возвращалась, он робко поднял руку.
– Девушка… Можно ещё одну? Только… можно поговорить?
Она остановилась, повернула к нему лицо. Её выражение было нейтральным, служебным.
– Конечно. Что будете?
– Водку. И… может, сядете? На минуту. Мне… просто поговорить не с кем.
Она кивнула, сделала вид, что проверяет что-то на планшете с заказами, потом скользнула на стул напротив, оставив между ними стол. Она сидела прямо, руки на коленях. Ждала.
Клиент – представился он потом как Дмитрий – сначала говорил о работе. О начальнике-козле, о глупых отчётах, о том, как задолбало. Потом о жене, которая «не понимает». Потом о детях, которые отдаляются. Слова лились сбивчиво, перебивая друг друга. Он пил. Его взгляд стал влажным, навязчивым. Он искал в её лице сочувствие, понимание, прощение. Она не давала ничего. Кивала изредка, смотрела чуть мимо него, на стену.
Потом он сделал первый шаг. Наклонился чуть ближе.
– У вас… волосы красивые, – пробормотал он. И, будто не контролируя движение, глубоко, с дрожью вдохнул запах её волос. Это был не комплимент. Это был акт. Интимный, животный. Запах её шампуня смешался в его сознании с атмосферой клуба, с алкоголем, с его фантазией.
Анжела не отодвинулась. Не нахмурилась. Она просто продолжала смотреть туда же, на стену. Её тело оставалось неподвижным. Внутри что-то щёлкнуло. Переключилось. Мозг перестал видеть пьяного жалкого мужчину. Он увидел переменные.
Параметр А: его потребность (физический контакт, иллюзия близости, разрядка).