Читать онлайн Piccola Сицилия бесплатно
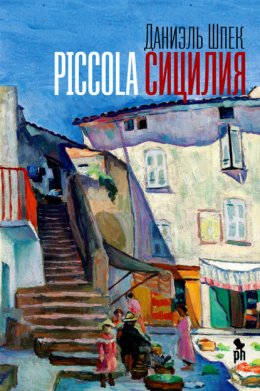
Piccola Sicilia, Daniel Speck
© 2018 Daniel Speck
© Татьяна Набатникова, перевод, 2020
© «Фантом Пресс», издание, 2020
* * *
Действие и персонажи романа вымышлены, но опираются на реальные события и реальных людей. Рихард Абель, Халед Абдельвахаб, Рени и Леопольд Берива рисковали собственной жизнью ради спасения чужой. Если бы не их мужество, эта книга не была бы написана.
Пролог
Я представляю себе: за роялем мужчина. Он вдохновенно поет. Если они узнают, кто он на самом деле, его пристрелят. Но он заразительно смеется, упиваясь обманом, – показывает офицерам то, что они и хотят в нем видеть. Он знает, что самое надежное укрытие – правильная картинка в чужой голове. Люди верят историям, что им льстят. Офицеры подпевают. Как та Лили Марлен. В этих стенах с лепниной, привычных ко всем наречиям мира, в гранд-отеле «Мажестик» теперь звучит лишь немецкая речь. Язык завоевателей, только вчера очистивших отель от прочих постояльцев и занявших все комнаты – от подвала до мансард. Но стены знают, что пройдет и это, как проходят все удачи и беды мира.
* * *
И есть в этом зале еще один человек. Он стоит, прислонившись к стене, неприметный, почти невидимый. Мой дед, ему тогда было едва за двадцать, в униформе вермахта. Он единственный, кто не подпевает в голос, лишь мурлычет себе под нос. Глядя в видоискатель фотоаппарата, он выискивает в зале подходящую цель. Его задача – внедрять картинки в головы людей, рассказывать истории, писать историю. Этот парень еще не знает, что станет моим дедом, он только что прибыл в Северную Африку. Он никого пока не знает здесь. И хотя ему положено отображать картину веселого товарищества – немецкие офицеры вокруг итальянского пианиста, – его объектив замирает на единственной женщине в баре, черноглазой и черноволосой. Никто не подозревает, что она еврейка. На ней форменное платье французской горничной, она скользит от стола к столу, меняя розы в вазах. Она замечает нацеленный на нее объектив, но тут же отводит взгляд, будто фотограф застиг ее на чем-то запретном. И действительно, его внимание привлекла не только загадочная красота Ясмины и не то, что она будто немного не в своей тарелке. Нет, он единственный в этом баре заметил, что розы, которые она вынимает из ваз, такие же свежие, как и те, что она ставит взамен. И что она уже дважды обошла ближайшие к роялю столы, не сводя глаз с Виктора, пианиста. Фотограф не знает, что Ясмина здесь только ради Виктора, ради его теплого голоса, в который можно укутаться. Голоса, к которому она привязана с тех пор, как в детстве он ночами разгонял ее страх одиночества. Фотограф не знает, что она хотела бы защитить Виктора, что готова за него умереть. Ни Ясмина, ни немецкий солдат пока не знают, что она станет женщиной его жизни, а вернее – трех его жизней. Трех масок хамелеона, отделяющих миры, которые у него еще впереди и которые я лишь теперь, по прошествии семидесяти пяти лет, высвобождаю слой за слоем, словно непрошеный гость, словно археолог на запретной территории.
Если травма утраты – важная часть нас, как и чувство защищенности, счастья или близости, то мои родные – то есть все участники этой истории, иудеи, христиане и мусульмане, – так или иначе травмированы, включая и меня. И кому еще, как не мне, надеяться, что можно снова ожить – несмотря ни на что? Все они умерли, так и не ожив. Теперь лишь от меня зависит, чем закончится эта история.
Глава 1
Нина
В некотором смысле мы все лишились родины – мигранты из страны детства.
Георги Господинов[1]
Из глубины, темно мерцая под легкой рябью, он, словно сон, медленно поднимается к свету. И взрезает поверхность воды. Серебряный хвост самолета, оторванный от фюзеляжа, но на удивление целый, будто лишь того и ждал, чтобы его пробудили ото сна на дне морском. Обросший ракушками, словно старый кит. На стабилизаторе – черная размытая свастика. Ил придонный капает с крыльев. Изнутри доносится скрежет и стон, пока кран осторожно поднимает чудище на берег. Водолаз пробует закрылки на прочность. Немецкое качество. Не раз виденная на черно-белых снимках алюминиевая обшивка «Юнкерса Ju-52» теперь возникает в цвете, посреди сверкающей синевы. Вдали песчаный пляж, скалы и оливковые деревья, на берегу играют дети.
* * *
Я смотрю на экран и не могу поверить. Мы когда-то стояли на этом пляже и смотрели на море. Ветряные мельницы Марсалы, виноградники и церковь, наше свадебное путешествие по Сицилии. Никогда бы мне в голову не пришло, что на дне моря лежит машина, которая должна была доставить моего деда домой. Самолет рухнул в Средиземное море недалеко от Трапани, базы люфтваффе, немецких военно-воздушных сил. То ли артобстрел, то ли нехватка горючего, то ли отказал мотор – это еще предстоит выяснить. Они говорят, это случилось 7 мая 1943 года, незадолго до рождения моей матери.
Я то и дело возвращаюсь к видео и перечитываю электронное письмо, с которым оно пришло. Пишу ответ и стираю его. Потом встаю, запираю свой кабинет, здороваюсь с ночным вахтером и покидаю Музейный Остров.
Сырой воздух пахнет листвой, осень в этом году ранняя. Блеклые осколки света на ряби Шпрее. Если правда, что мой дед погиб в этом самолете, это означает окончательную уверенность, что я – последняя в нашем роду. Сперва умерла моя бабушка, потом мать. Единственный, кто оставался, – исчезнувший дед. Теперь я одна.
S-бан скользит сквозь ночь. Тот же путь, что и каждый вечер. Неизменность некоторых вещей успокаивает меня. Пассажиры входят и выходят, мода приходит и уходит, а линия S1 всегда останется линией S1. Она пережила бомбардировки и раздел города. Скорее всего, и мой дед ездил по этому маршруту. Тиргартен, Савиньи-плац, Ванзее. Моя профессиональная болезнь: археологи видят мир не таким, каков он сейчас, а таким, каким он был прежде – слой за слоем. Для нас все существует одновременно, невидимое наряду с видимым, следы вчера просвечивают сквозь сегодня, настоящее я вижу как следствие прошлого.
Мой взгляд странствует сквозь времена, как будто я пролистываю книгу. Вокзал Фридрихштрассе, мы с Джанни напились в последнюю ночь прошлого тысячелетия. Моя первая поездка в Восточный Берлин в восьмидесятые – робким тинейджером в джинсовой курточке и кроссовках, с матерью, у которой был друг на Востоке, любивший западные сигареты. Он ждал нас на холоде в куртке-пуховике, с пропуском в руке, никто в нейтральной зоне не смел разговаривать в полный голос. В деталях я вижу и то, что было до моего рождения, словно присутствовала при этом: раскуроченные ночной бомбежкой рельсы, моя юная бабушка провожает на вокзале моего деда в военной форме, она еще верит в победу, а он в сомнении, но помалкивает.
* * *
После полуночи я звоню Патрису на Сицилию. Во «входящих» уже четыре сообщения от него. И видео со свастикой. Приезжай немедленно, это сенсация! Мы знакомы со студенческих лет, вместе провели год по обмену в Перудже, а потом наши пути разошлись. Его всегда привлекала подводная археология, я же предпочитала твердую почву под ногами. Все, что я люблю в пустыне, Патрис любит на глубине, и наоборот: он боится пустоты, а я глубины. Там, внизу, можно быстро погибнуть или быстро разбогатеть, а все, что в промежутке, ему неинтересно. Я же избегаю крайностей, мне нужна надежность земли, и меня устраивает постоянная должность в фонде Прусского культурного наследия.
Когда-то Патрис был влюблен в меня – и я в него, если уж честно. Может, из этого получилось бы приключение что надо, но я уже выбрала Джанни. Патрис был привлекательный, очаровательный, безумный, и именно поэтому он сделал бы несчастной любую из женщин. Одной бы ему не хватило.
Голос его я узнаю сразу – все такой же молодой, чистый, как прежде. Но вот звучит он слишком возбужденно.
– Ты же постоянно о нем говорила, ты что, не помнишь?
Да. Мой дед – вопросительный знак в нашей семье.
– Самолет летел из Туниса. А ведь он служил в Северной Африке, ты сама говорила, верно?
– В войну миллионы пропали без вести, как тут узнаешь…
– Я пришлю тебе одну фотографию. То, что мы нашли. С’est incroyable![2] Его ведь звали Мориц, нет? А фамилия как у тебя?
– Нет, у нас разные фамилии, Патрис, к тому же у меня сейчас другие проблемы.
Мне его волнение не передается. Скепсис перевешивает.
Потом приходит фото. И еще одно. Я смотрю на экран смартфона, и по спине у меня пробегает холодок. Обросший ракушками и пожелтевший от ржавчины, но все равно на удивление хорошо сохранившийся фотоаппарат. Марки «Агфа», надпись на корпусе отчетливо читается, но вместо объектива зияет дыра – там, где у старинных аппаратов была гармошка сильфона. На втором снимке фотоаппарат снят сзади, третий файл – увеличенная деталь, гравировка в ржавом металле, очищенная от отложений. Инициалы М. R. Или М. B.?
– Какая у него была фамилия?
– Райнке.
Мне эта фотокамера знакома по другому снимку, одному из немногих сохранившихся снимков деда: двадцатилетний, еще до катастрофы, он стоит на Ванзее, подтяжки, ворот рубашки расстегнут, на лице улыбка – и острый, прямо в объектив, взгляд, в руке камера, будто он только и ждет, чтобы сфотографировать того, кто снимает его самого, то есть мою юную бабушку.
– После шестидесяти с лишним лет, Нина! Жизнь пишет самые безумные истории.
Нет, моя жизнь уж никак не безумна, в ней все идет по заведенному распорядку, моя жизнь – островок стабильности в хаосе этого города, как говорят мои подруги; ну хорошо, за исключением краха с Джанни. При том что и сам крах вполне заурядный: молодая любовница и жена, получившая от мужа сообщение, предназначенное не ей. Нет, жизненные истории как раз слишком банальны.
– Ты не рада? Наконец-то ты его нашла!
Я молчу, сама не зная почему. Уши будто заложило, конечности онемели. Если мой дед действительно лежит на дне моря у побережья Сицилии, то он больше не будет считаться без вести пропавшим. Тогда его тайна, всегда окрылявшая мою фантазию, будет раскрыта.
– Подсказку дал мне один рыбак. Именно рыбаки всегда вытаскивают что-нибудь на поверхность. И тогда мы нашли стабилизатор и несколько предметов из хвостовой части. Бортовую утварь, каркас сиденья… и вот эту камеру. Теперь мы ищем фюзеляж. Может, найдем еще что-нибудь.
Мне стало жутковато при мысли, что я могу увидеть законсервированного в морском иле молодого солдата, который приходится мне дедом. Потом верх взял рассудок – под водой вряд ли сохранился даже скелет. Морские звезды, рыбы и раки объедают ткани. А кости со временем деминерализуются. Сохраниться они могут только под слоем ила, без доступа кислорода.
Да и инициалы могут означать что угодно. Мартин Рихтер, например. Михаэль Бидерман.
– Единственное, что вызывает у меня сомнения, – сказал Патрис, – это марка фотоаппарата. Фотографы вермахта использовали более прогрессивную «Лейку-IIIc». А это «Агфа Карат» тридцатых годов.
Вот почему мы, археологи, не читаем детективы. Мы сами ведем расследования каждый божий день. Но я не знаю, есть ли у меня силы погружаться в него. Я знаю одно: дед занимался не только фотографией. В какой-то момент он выбился в кинооператоры, снимал хронику для еженедельных киножурналов.
– Послушай, Нина. У меня есть документ, отчет начальника тыла из Трапани о несчастном случае. Там значится тот же номер самолета, который мы нашли на хвосте. Имена экипажа тоже известны. Но нет списка пассажиров. С ним бы исчезли последние сомнения. И у меня к тебе… просьба.
– Какая?
– Поименные сообщения о потерях есть в армейских архивах. Они дают справки по вермахту. То есть если где-то и есть список пассажиров, то у них. Но у меня туда нет доступа, я всего лишь мелкий французский водолаз. А там надо, чтобы был родственник или гражданин страны. Из-за этого закона о защите данных.
– Где это?
– В Берлине.
– Хорошо, я сделаю.
– Нина, ты просто сокровище. За это я приглашаю тебя на выходные!
– Куда?
– Сюда, в Марсалу. C’est magnifique![3] Приезжай поскорее, пока не набежали сумасшедшие. Об этом уже написали в газетах, мы не смогли помешать. Прилетай, Нина! Как давно мы уже не виделись? Лет десять?
– Патрис, мне очень жаль. Но я не могу.
– Почему? В чем дело?
Я не стала рассказывать ему ничего о землетрясении, разрушившем мой брак. О назначенной встрече с адвокатами и об абсурдной попытке перевести в цифры тринадцать лет жизни, а затем разделить их строго поровну. Мое существование и без того стало таким шатким, что любой толчок выбил бы меня из колеи. Я рассказала о конференции в Лондоне, умолчав, что последние десять лет провела в пропыленном архиве музея. И разучилась путешествовать.
* * *
Справочная служба вермахта, утром перед встречей у адвоката по разводу. Чистая, упорядоченная тюрьма для документов, здесь взаперти хранятся биографии тех, кем больше никто не интересуется. Кто-где-когда и что сделал. Был ранен, пропал, попал в плен или умер как-то иначе. Миллионы мужчин. Я пишу заявку. Ввожу даты, которые описывают горе в цифрах.
Ju-52/3mg6e. Дело номер 7544, летная команда полка воздушной разведки, предполагаемый солдат вермахта: Мориц Райнке, родился 2 марта 1919 в Треблине, Померания.
«Мы сообщим вам по электронной почте». Доброжелательно, бесшумно, эффективно. Этот орган – сама противоположность городу за окнами. Почему я еще ни разу не бывала здесь? Это на моей ветке метро. И я даже знаю одного человека, который тут работает. Может, боялась узнать правду? Кого он убил и в каком скотстве был замешан. Молчание, которым он был окутан, берегло нас от чего-нибудь шокирующего. Уж лучше та формула, с которой все могли как-то жить: Пропал без вести в пустыне.
* * *
Джанни уже подписал бумаги по разводу. Оставалось назначить дату, когда наша неудача будет подтверждена официально – моей подписью на бумагах.
Я всегда недоумевала, почему женщины предпочитают мужчин с более высоким доходом, чем у них. Ведь такой мужчина всегда может позволить себе лучшего адвоката при разводе. Я смотрю на своего будущего экс-мужа через необъятный стол. Новый костюм сидит на нем, как всегда, превосходно, в вопросах внешности Джанни компромиссов не терпит. Его адвокат, в контору которого он меня пригласил, распинается о щедрости предложения. Джанни улыбается. Чужой, тело которого, душа и сердце были когда-то заодно со мной. Как можно обмануться в человеке. Я ничего не говорю ему о звонке с Сицилии. Сообщаю лишь, что должна уехать, сую бумаги в сумочку, не поставив подпись, и прошу дать мне время на размышление.
– Но ты не можешь сейчас уехать! – Джанни с негодованием вскакивает. Как будто мы все еще пара. – Нина, мне очень жаль.
Он желает отпущения грехов, чтобы я благословила его на будущее с Как-уж-там-ее-зовут. А я желаю ему приятного дня и покидаю контору.
Откуда у меня вдруг взялось мужество, не знаю. Решение пришло спонтанно, словно возникло из стены тумана, – кажется, что не я произносила эти слова, а кто-то другой. Может, это было бегством из настоящего и одновременно тоской по прошлому. Ну или предчувствием, что ключ к моему утраченному «я» находится не здесь, а в истории, случившейся задолго до моего рождения, – в истории, что сохранила безумную судьбу в капсуле времени, обросшей ракушками, в темноте на дне моря. Я приехала домой и собрала чемодан. Была пятница, вторая половина дня.
Глава 2
Почти все, что я знаю про деда, мне рассказала мать. Бабушка говорила о нем очень редко. В каждой семье есть табу и есть кто-то, оберегающий его. Нашу семью делало особенной не то, что бросалось в глаза, – не мой отец, живущий в Америке. Я регулярно разговаривала с ним по телефону, а моя мать – хотя это именно она потребовала развода – не сказала о нем ни единого дурного слова. Он существовал. Он был отсутствующим, но реальным членом семьи. Дед же мой, наоборот, казалось, не имел права на существование, он был устранен из круга семьи еще до моего рождения. Но у каждой семьи есть память, которая выходит за пределы воспоминаний ее членов. Почему я еще в детстве сгорала от любопытства, желая узнать хоть что-то про деда, непонятно. Может, как раз молчание бабушки и создавало вокруг него этот ореол загадки.
Всякий раз, когда я о нем спрашивала, воцарялась свинцовая тишина. Не уютное и не печальное молчание, а ледяное, от которого у меня пресекалось дыхание, а внутри поднимался страх, будто я ляпнула что-то не то, – чувство, сравнимое с глубокой неловкостью, охватившей меня однажды, когда я – ребенком лет пяти – спросила, кто же такой этот Гитлер, о котором взрослые говорят так тихо, будто не хотят, чтобы я расслышала. Одно упоминание ребенком этого имени точно заморозило всех за столом. Мне стало стыдно, словно я всех подвела, сама того не ведая. Гитлер и дед почему-то принадлежали к категории вещей, которые лучше не упоминать, чтобы пощадить взрослых. Ответ на мой вопрос, где же дедушка, всегда был одинаков:
– Он не вернулся с войны.
И если я допытывалась, умер ли он, бабушка не говорила ни да ни нет, а только:
– Он пропал без вести.
– Где?
– В пустыне. А теперь ешь свой яблочный пирог!
Слова «пропал без вести» сопровождали меня после таких вечеров у бабушки до самого сна. Значит, было нечто промежуточное между мертвым и живым, какая-то нерешенность, сродни невнятному миру, порождавшему легенды о Бермудском треугольнике и сгинувших в нем самолетах или о кораблях-призраках, приговоренных вечно блуждать в океане, не находя ни одного порта, но и не погружаясь на дно. Мой дед тоже был неприкаянным призраком, и с самого детства пустыня будоражила мое воображение.
После того как мать рассказала, что летчик, написавший «Маленького принца», тоже пропал без вести, я фантазировала, как Сент-Экзюпери и мой дед встретились где-то в пустыне Северной Африки, поделились водой и показали друг другу фотографии своих жен, которые напрасно их ждут. Я проглатывала книжки о приключениях Кара бен-Немси[4], путешествовала вместе с ним по Египту. Проклятие Тутанхамона, загадка Сфинкса, миражи фата-моргана. Зеркало в песке. Может, то были без вести пропавшие, возвращавшиеся в виде духов? Кто знает, почему выбираешь себе ту или иную профессию, – может, по случайности. Но совершенно точно – я захотела стать археологом не для того, чтобы сидеть в музейном архиве, а чтобы распутывать неразгаданные тайны.
* * *
В то время как бабушка предпочла бы видеть мужа мертвым, мать тосковала по пропавшему без вести отцу. Она его никогда не видела. Она верила, что он выжил и был жив еще десятилетия после войны, она хотела в это верить вопреки реальности, тогда как бабушка отмахивалась от ее веры как от глупого наваждения. Мне их споры казались почти абсурдными. Как только речь заходила о дедушке, чувства моментально вспыхивали, чтобы тут же утонуть в свинцовом молчании. Мать словно укоряла бабушку, а та не желала принимать это невысказанное обвинение. Мне уже чудилось, что вопрос о том, жив он или нет, – лишь вопрос желания, и у кого желание сильнее, тот и определяет судьбу. В один из таких моментов до меня дошло, что реальность зависит от ракурса, что большая история состоит из историй поменьше, а мысли есть порождение чувств. Воспоминания – это игра в загадки с рассудком, который тщетно пытается отделить желаемое от истинного.
Глава 3
Всякий раз, поднимаясь в самолет, я думаю о матери. Должно быть, ей стоило неимоверных усилий приветливо улыбаться раздраженным пассажирам, никогда не допускать небрежности в прическе, игнорировать мужскую ладонь, в тесноте салона якобы невзначай скользнувшую по ее заднице. Я всегда улыбаюсь стюардессам в ответ, даже если им это безразлично. Сейчас другие времена, полеты утратили блеск избранности, который отражался в глазах моей матери, когда она рассказывала мне о Лос-Анджелесе, о Бангкоке и Монреале. Она любила свою профессию больше всего, может, даже больше меня, кто знает.
Я не в обиде на нее за то, что она так редко бывала дома. Возможно, благодаря ей я так люблю работать одна, ведь еще ребенком я научилась не чувствовать себя одиноко, а в моих фантазиях всегда присутствовал кто-то, с кем я могла беседовать. Я и сейчас, после тринадцати лет брака, не боюсь одиночества, боюсь лишь неизвестности. Я любила ритуалы, которые упорядочивают день, – например, воскресным утром Джанни всегда шел в ванную первым, пока я готовила кофе, а когда я стояла под душем, он уходил покупать булочки к завтраку. Он знал, что больше всего я люблю круассаны с марципаном от Butter Lindner, и хотя идти за ними было немного дальше, он всегда делал это – из любви ли ко мне или оттого что просто мог подольше поговорить по телефону. С ней. Этот заведенный порядок длился довольно долго, пока я не узнала правду. Но если ты однажды решишь порыться в мобильнике своего любимого, пока он стоит под душем, значит, конец уже не за горами.
Перелет короткий, рукой подать. Пересадка в Риме – пока с легкостью удается держать воспоминания на привязи, – а оттуда через час в Трапани. В любом полете есть середина, и это не всегда половина времени, а точка, в которой мысли, связанные с местом вылета, сменяются мыслями о месте прилета. Переход между прошлым и будущим, чудесное зависание в настоящем, вне пространства и времени. Однако на сей раз самолет уже снижался, а я мысленно все еще оставалась в Берлине, рядом с Джанни, – он сейчас, должно быть, в нашей квартире, пришел забрать остатки своих вещей, возможно, даже с ней. Под иллюминатором – аэропорт Трапани. Десятки лет назад – база немецкого люфтваффе. С тех пор сохранились ржавые ангары. Здесь Мориц должен был приземлиться в мае 1943-го, после короткого полета над Сицилией. Но не приземлился.
* * *
Никто не обращает на меня внимания. Патрис хотел встретить, но я отказалась. Даже время прилета не сообщила. Я хотела побыть одна. Понять, каково это – очутиться здесь спустя тринадцать лет. Хотела, чтобы никто меня не видел, если вдруг накатит тогдашнее чувство. Сицилия. Как нарочно, Сицилия.
С залами прибытия у меня связан один пунктик. Никому, кроме меня, такое в голову не приходит, а я никогда не упускаю этой возможности. Джанни – единственный, кому я об этом рассказала. Тринадцать лет назад, в аэропорту Палермо, в наше свадебное путешествие. Представлял ли ты себе хоть раз, спросила я его, как подходишь к одному из шоферов, что встречают прибывших, держа таблички с фамилиями, называешься написанным именем и следуешь за водителем? Это ведь так просто – всего-то назвать фамилию с таблички, водитель не станет спрашивать паспорт, он стремится поскорее уехать. Берет твой чемодан, ведет тебя к мини-автобусу или, если повезет, к лимузину с тонированными стеклами и везет, ты не знаешь куда – в конференц-зал, в отель, на корабль; ты болтаешь с водителем, гадая, насколько далеко ты готов пробраться в чужую жизнь – как в одежду, что тебе не по росту или не по твоим деньгам, но такая приятная. Пока у тебя не спросят паспорт, ты в отпуске от самого себя. Ты никогда бы не посмела это сделать, сказал тогда Джанни и был прав. Скорее всего, это оказалось бы не столь волнующе, как в моих фантазиях, но дело ведь в другом. Меня зачаровывает сам момент выбора, когда ты направляешься к шеренге из пяти-шести табличек, и каждое имя – дверь в другую жизнь. Пьянящее чувство, что все возможно. Если только перестанешь быть собой.
* * *
Парковка перед аэропортом почти пуста. Ландшафт отсутствия. Серое море, ноябрьские облака, сквозь которые иногда прорывается солнце, отражаясь в мокром асфальте. Переменчивая игра между рябью волн, набегающих с моря, и неожиданно синим небом. Дождь тяжелый, свет ненадежный. Ты помнишь это другим. Тебе недостает оглушительной жары, цикад, буйного дурмана лета.
Солнце уже низко, проглядывает между туч. С запахом этого острова опять оживает запах Джанни. Я отгоняю воспоминания. Все еще слишком близко. Я пока только пытаюсь научиться его ненавидеть. Не в силах простить его.
Я беру такси до Марсалы. Радуюсь стеклянной перегородке между мной и миром. Жду и боюсь, что прошлое меня настигнет.
* * *
Упоение нашего первого путешествия в качестве супружеской пары, Signore e Signora Scatà, наш смех, когда ко мне впервые обратились по этой фамилии, непривычная естественность звучания, чувство, что наконец-то достиг цели. Теперь этого чувства нет. Ландшафт, что тогда был кулисами нашей мечты, стал теперь банальностью. Рекламные плакаты провайдера мобильной связи вдоль дороги. Болтовня радио. Ни следа прежней меланхолии. На обочине человек, потерпевший жизненное крушение, продает розовых плюшевых зверушек, дешевую дрянь из Китая. Тогда города были темные, захудалые и опасные, наша влюбленность контрастировала со здешним упадком, мы светились, наше будущее сияло на фоне здешнего безнадежного прошлого. Теперь же местность была словно расколдованная. Интересно, что на самом деле изменилось, страна или я?
Сицилия после лета – ярмарка без детей. Пустые дороги через пустые деревни, унылые пальмы, пластиковые пакеты, застрявшие в колючей проволоке. Камыш, кактусы, оливы, красная почва, старая каменная кладка. Повсюду таблички «Продается», закрытые ставни и двери. Африканцы, пинающие на парковке футбольный мяч. То и дело недостроенные дома, ржавые прутья арматуры, торчащие из бетона, – на верхний этаж не хватило денег. Заброшенные стройки, мечты, отложенные в долгий ящик. Кто это запланировал? Где они теперь? Может, молодая пара, которая по-прежнему живет у родителей, а то и вовсе распалась. Строительство дома, съезд в одну квартиру и рождение детей – самые частые причины расставания. Мы обошлись даже без них.
Может, причиной стала нехватка перспективы будущего, стагнация в слишком надежном настоящем, может, нужен был какой-то совместный проект. Я припомнила одну фразу Сент-Экзюпери, смысл которой сводится к тому, что любовь – это когда смотришь не друг на друга, а вместе в одну сторону. Но мы – в одну ли сторону мы смотрели? Действительно ли он был тот, кого я любила, действительно ли я была та, кого он имел в виду? После расставания я спрашивала себя, не притворялись ли мы друг перед другом, не нарисовала ли я себе образ более привлекательный, чем в действительности, не выталкивала ли я вперед лучшую версию себя, – этакая идеальная пара не только для других, но и для самих себя, фальсификация, подмена. Может, его обман стал лишь следствием самообмана, который мы соорудили сообща.
* * *
Вечерние сумерки над Марсалой. Город наподобие Тимбукту или Иерихона: название известно всем, а реальность банальна. Я навоображала себе живописный пляжный променад, оживленный рыбный ресторан на берегу, детей с рожками мороженого. Вместо этого многоэтажки из семидесятых годов, эти жуткие коробки, пустая парковка, киоск с колбасками. Моря почти и не видно, только рыбацкие шлюпки на козлах, пустые помещения, безработные курят, сбившись в кучки.
Патрис выбрал отель за городом, чтоб не привлекать внимания. Группки домов вдоль деревенской дороги, да вряд ли можно назвать это деревней, дома – что охряные, что розовые – выглядят уныло, будто и не у моря. И вот съезд на ухабистую частную дорогу, и маленький белый прибрежный отель, явившийся прямиком из семидесятых или восьмидесятых, Lido del Sole[5], что за потасканное название. Но оно превосходно подходит к осыпающейся штукатурке, растрепанным пальмам и стоящим вразнобой пластиковым стульям. Подавленность межсезонья.
– Хозяйки нет, – говорит горничная.
Нелюдимый, скучающий взгляд, осиротевший холл, откуда-то лопочет радио. Моя комната пахнет затхлостью и моющим средством, в ней стоит темно-коричневая двуспальная кровать, моря с балкона не видно, но слышно. Солнце заходит, небо почти фиолетовое, и вывеска Lido del Sole на здании начинает мерцать. Я разбираю вещи, развешиваю их в шкафу и пишу Патрису сообщение. Когда становится темно, снизу доносятся взволнованные голоса, женщина и мужчина, – кажется, они спорят. Я выхожу на балкон и вижу силуэты в темноте у входа.
– Désolé, Madame, отель полностью забронирован!
– Ah bon? Но даже слепому видно, что здесь все мертво!
Я узнаю Патриса. Его крупное тело, энергичная жестикуляция. Француженка – немолодая дама в шляпе от солнца и с меховой горжеткой на шее – саркастически смеется и отворачивается.
– Я вызову вам такси.
– Да уж сама управлюсь!
– Au revoir, Madame.
Дверь отеля захлопывается. Мне слышно, как француженка тихонько сыплет проклятиями. Затем она проходит со своим чемоданом на колесиках мимо моего балкона. В тот момент, когда я вдруг пугаюсь, как бы она меня не увидела, она бросает взгляд наверх. Я не могу различить лица, только шляпу и горжетку, но откуда-то возникает странное чувство, что я ее знаю. Притворившись, будто не заметила ее, я возвращаюсь в комнату. Мне жаль эту чужую женщину. Почему Патрис ее прогнал?
* * *
Патрис почти не изменился. Несколько седых прядей в длинных, до плеч, волосах и трехдневная щетина, глубокие морщины вокруг голубых глаз, но ему это к лицу. Мужчина в расцвете лет, загорелый и хорошо тренированный, как и прежде.
– Ça va[6], Нина? Ты такая восхитительно бледная! – Он всегда был очаровательным лжецом. Но от его объятия мне становится хорошо. Ничем не отягощенное, как и прежде.
В маленьком ресторане отеля неожиданно шумно, они тут включают музыку, даже если занят всего один стол. Патрис представил меня своим товарищам-водолазам. Филип, Бенва, Ламин. К моему удивлению, за столом есть и немцы, родственники экипажа самолета, они тоже прибыли недавно. Госпожа Митцлафф, господин Бовензипен, супружеская пара Трибель. Пожилые господа, приветливые, взволнованные – сообщество, к которому они теперь причисляют и меня.
Чужие, слишком доверительно говорящие о «наших родных», и Патрис с вопросом, почему со мной не приехал мой муж. В довершение всего. Момент тишины, когда возникло слово «развод», сочувственные фразы, как будто у меня заразная болезнь. Патрис это очаровательно обыграл, потом я по возможности незаметно встроилась в разговор, укуталась в покров пустяков, протянула ему бокал, пила вино. Я ловила на себе взгляды, как если бы у меня вся одежда была в прорехах. Но в прорехах была я сама, и сквозь дыры во мне свистел ветер.
Патрис травит водолазные байки о поисках сокровищ. Он остался молодым в хорошем смысле: любопытным, полным энтузиазма и заразительным. Превратился в настоящего искателя приключений, каким всегда хотел быть. Кольца на пальце нет. Почему бы это. У него всегда что-нибудь происходило. Ведь я тогда сказала «нет» не потому что он мне не нравился, а потому что такой человек, как он, всегда найдет себе более привлекательную. Он поглядывает на меня, пока говорит. Как будто рассказывает свои истории мне одной. Экспедиция по следам Сент-Экзюпери. Его одержимость найти пропавший без вести самолет национального героя и самому стать при этом героем. Я помню, как он тогда звонил среди ночи, один раз незадолго до решения загадки и второй раз глубоко удрученный. Сегодня он уже может посмеяться над этим.
– Ну это ли не курьез? – смеется он. – Целая нация ищет знаменитого писателя, армии ныряльщиков, десятилетия тщетных поисков, а потом какой-то рыбак из Марселя вынимает из своей сети браслет. Оттирает ил и спрашивает у босса: Святой Экзюпери, кто это? А босс у него из Туниса, имя это слышит впервые, про книги не знает, но зато он из тех мест, где обожают Сент-Экса! Un drôle de destin![7]
Я помню тот звонок Патриса, в конце девяностых, и ту печаль, что тогда охватила меня. Окончательность смерти Экзюпери. Патрис же, наоборот, горел энтузиазмом, ему не терпелось найти останки самолета. Началась гонка нескольких команд, споры и дрязги с правительством. Обломки из моря достал в итоге совсем другой водолаз. Пресса взахлеб писала об успехе экспедиции, но меня вся та история странным образом расстроила. Может, потому, что конец Сент-Экзюпери был таким банальным: отец Маленького принца был сбит немецким истребителем. Но может, и потому, что его поиски напомнили мне о другом пропавшем без вести, которым никто не интересовался.
– А помнишь, что я тебе тогда пообещал? – Патрис подмигивает мне.
Я помню. Если великий Сент-Экс ушел у него из-под носа, то он найдет хотя бы моего безвестного деда.
– Et voilà![8]
Мы чокаемся за успех, и чуть погодя я под каким-то предлогом ускользаю из ресторана. Мне хочется глотнуть воздуха. Оказываясь среди людей, я очень быстро начинаю рваться прочь от них. А когда рядом никого, то нападает одиночество. Я иду вперед, пока под подошвами не начинает скрипеть песок. Воздух, касающийся кожи, такой ласковый, а я-то взяла с собой лишь теплые вещи. Бывают минуты, когда границы между твоим «я» и миром растворяются. Но сейчас меня окружает каменная стена. Я иду к морю, чернильно темнеющему впереди. Ни ветерка, ни волн, мир словно затаил дыхание. Я на краешке Европы, в середине моей жизни, и у меня нет ни одной идеи, куда двигаться дальше.
Шаги по песку. Патрис.
– С тобой все в порядке?
– Да.
– Хорошо, что ты прилетела.
– Для чего ты созвал сюда родственников? Мне казалось, ты хотел избежать шумихи.
– Да, хотел. Но как только об этом сообщили газеты, сюда набежала тьма ротозеев и чокнутых. Да я и не могу больше все это финансировать в одиночку. Надо вытащить обломки корпуса до того, как начнутся зимние штормы. Не беспокойся, у тебя я денег не прошу.
– Тогда зачем ты мне позвонил?
Мой вопрос его возмущает.
– Я же тебе обещал! Ты что, больше не хочешь знать, что случилось с твоим дедом?
– Но ведь экспедицию ты затеял не ради него. Почему тебя интересует этот самолет?
Патрис ни разу не занимался мелкими, ностальгическими проектами. Он всегда пребывал в поиске чего-то грандиозного. И всегда кто-нибудь успевал его опередить.
– В самолете было четыре члена экипажа и двадцать пассажиров. Двадцать четыре человека. Двадцать четыре семьи, которые остались в неведении. В том числе твоя мать. Я хорошо помню: у нее была маниакальная идея, что он еще жив. Где-то там. Если мы найдем останки, она наконец сможет попрощаться с ним.
Красивая мысль. Но в его альтруизм мне не верится.
– С этим ты опоздал.
– Почему?
– Моя мать умерла. Два года назад.
– О! Прими мои соболезнования, Нина.
– Ничего, ничего.
– Она мне очень нравилась. Она всегда была такой молодой по духу.
Некоторое время мы просто стоим молча. Потом он спрашивает в полной тишине:
– А у тебя нет детей?
Я отрицательно мотаю головой. Ненавижу этот вопрос. Потому что ненавижу реакцию на мой ответ. Понимающие кивки, фальшивое признание эмансипированного решения, но за этим признанием скрывается только жалость.
– Почему?
Почему. Этот вопрос я ненавижу еще больше, поскольку хороший ответ, который прежде у меня всегда был наготове, больше не работает. Мы приняли это решение осознанно – так мы всегда говорили, приводя все те аргументы, согласно которым другие пары нам завидовали. Мы оба любили свои профессии и не хотели терять себя, что зачастую происходит с появлением детей. В нашем кругу многие потерпели поражение в желании иметь все сразу – хорошую работу, прекрасных детей и замечательные отношения, – хотя прилагали все силы. Мы с Джанни хотели сделать иначе, сохранить для себя все то, чего пары с детьми уже не могли себе позволить. У них не было ни времени, ни нервных сил, ни охоты путешествовать, танцевать, смотреть фильмы, читать книги и быть вдвоем. Только вдвоем. Один вечер в неделю мы справляли торжественную мессу нашей любви. Вместо быстрого секса перед сном мы изобретали что-нибудь более изощренное, любили друг друга до глубокой ночи, в каких-нибудь безумных местечках, самым безумным образом. Если кто-то из наших друзей говорил, что находит нашу жизнь рутинной (поскольку в повседневности так оно и было), мы лишь молча переглядывались, объединенные нашим секретом. Тем подлее была измена. Он ходил на сторону не потому, что у нас больше не было секса, и не потому, что он больше не вожделел меня. Он сбегал от моей души.
При том что поначалу это было решение Джанни – не иметь детей. Я была не так категорична. Я могла бы заупрямиться. Но тогда бы он ушел. Я понимала, что не в силах его изменить. Да и не хотела его изменять, поскольку любила. Мы поженились, и когда наши друзья один за другим разводились, все с детьми, все измученные, нам казалось, что мы поступаем правильно. У нас все хорошо. Мы есть друг у друга. А теперь поздно. Я злилась на него. Я злилась на себя за то, что поставила все на одну карту. И вот одна и осталась. Последняя из нашей семьи. После меня не будет никого. Сама того не желая, я очутилась там, где до меня уже стояли мать и бабушка: женщины – потерявшие своих мужчин. Что же с нами не так?
– А ты, почему у тебя нет детей? – спрашиваю я вместо ответа.
Патрис пожимает плечами:
– А это обязательно, чтобы быть счастливым?
– И ты счастлив?
– Да.
– Откроешь мне свою тайну?
– Очень просто. Делай то, что ты хочешь. Все. Кроме женитьбы.
Обезоруживающая ухмылка. А он мне все еще нравится. Но будь мы парой, мы бы только ругались.
– Идем, я тебе что-то покажу.
* * *
Патрис ведет меня по темной улице между пустующими летними домиками. Где-то лает собака. Перед неприметным гаражом он останавливается, осторожно оглядывается по сторонам и открывает железные ворота.
– Только никому про это не рассказывай. Здесь постоянно крутится слишком много сумасшедших. Ротозеев, кладоискателей и наци-коллекционеров.
Мы проскальзываем внутрь. Он нашаривает выключатель, вспыхивает неоновый свет, мы в музее. Передо мной лежит покореженный стабилизатор «Юнкерса Ju-52», похожий на гротескную скульптуру, весь облепленный ракушками. Рядом кожаный сапог в похожем состоянии, обломок закрылка, канистра для бензина, ржавый пулемет, какая-то причудливо изогнутая алюминиевая деталь… и камера.
К чувству, охватывающему меня, когда я беру фотоаппарат в руки, я не готова. А ведь для меня это должно быть рутиной – предмет, найденный в море, двадцатый век, без поломок, хорошо сохранился, явно почти не контактировал с кислородом, должно быть, пролежал все это время в толще ила. Но гравировка меняет все.
M. R.
Старый металл в моих ладонях. Которого касались его пальцы. Я смотрю в видоискатель. Края немного в ржавчине, но стекло целое. Что он видел через этот видоискатель?
– Открой, – говорит Патрис.
Я обследую корпус. Патрис его уже почистил. При первой попытке крышка не поддается. Но затем откидывается со скрежетом. Кассета с фотопленкой все еще внутри. Агфаколор. Целлулоид пленки разложился, остатки в виде коричневой массы прилипли к металлу. Что он снял на последний кадр? Почему один человек возвращается с войны домой, а другой падает в море? Меня окатывает волной скорби.
Патрис кладет ладонь мне на плечо.
– Почему именно этот самолет? – беспомощно спрашиваю я. – Чего ты ищешь на самом деле?
Я вижу – он что-то утаивает. Вместо ответа Патрис говорит:
– Расскажи мне о своем дедушке.
Глава 4
Все, что мать знала о своем отце, – его имя и рассказы бабушки. Да еще несколько старых фотографий. Бабушка лишь однажды поведала мне историю рождения моей матери в разгар войны, и я не уверена, что запомнила верно. Но точно помню снимки из ее фотоальбома: восемнадцатилетняя девушка в прачечной, Трептов, 1942 год, до ночных бомбардировок, до Сталинграда, когда многим еще удавалось вытеснить из сознания то, что происходило на самом деле. На сепиевых карточках с зубчатыми краями бабушка не такая, какой я ее знала, причесана и одета хоть и скромно, но выглядит куда жизнерадостнее, несмотря на войну, на лице ни намека на скорбь, что поселится там позже. Доверчиво улыбающаяся в объектив девушка из приличной буржуазной семьи. Дальше снимок молодого парня – мой дед в форме вермахта, худой, с впалыми щеками, но тоже улыбается, почти невинный, можно даже подумать, что за границей, откуда он как раз прибыл в отпуск, его занятием было торговать, а не убивать. Интересно, о чем он рассказывал и о чем умалчивал, когда они оба, в купальнике и плавках, сидели на мостках у Ванзее. Стоял один из последних погожих дней осени, на обороте снимка значится 1942 год, то есть незадолго до того, как на берегу этого самого озера было принято решение об уничтожении евреев Европы. Оба сияют, глядя в камеру, как будто мир – огромный цветущий сад. Было ли ему известно о преступлениях, не знаю. Знаю только, что рассказывала бабушка: они дружили еще школьниками, а увиделись в этот его отпуск после того, как написали друг другу несколько писем. Можно допустить, что на его совести не было ни одной человеческой жизни, еще не было: военный корреспондент, оператор пропагандистской роты, их оружием были слова и картинки. Они убивали не людей, а правду.
Сделал ли Мориц этот выбор по убеждению – он был верующий христианин, – по трусости, из честолюбия или случайно, я не знаю. Бабушка рассказывала, что он был неплохим человеком, но война его разрушила. Как ты можешь считать его жертвой, спросила я, если на фронт он пошел с воодушевлением?
– Ты не понимаешь, – сказала она. – Скажи спасибо, что ты этого не понимаешь.
Они познакомились до войны. На Ванзее, где она купалась с подругами. Он был там с компанией мальчишек, и она его сразу выделила, потому что он один из всех не лез в воду. Красивый жилистый парнишка, он только смотрел, как другие с воплями прыгают с мостков. У него в руках была маленькая фотокамера «Агфа Карат», и он фотографировал друзей. Заметив Фанни, сфотографировал и ее. Тот первый снимок не сохранился. Но бабушка рассказывала, как она подошла к нему и нахально заявила, что раз он ее сфотографировал без спросу, то должен подарить ей снимок. Он немного оробел – мальчик, которого застукали за шалостью. Но неделю спустя снова появился на озере – с отпечатанным снимком, чтобы подарить ей. Красивая девушка в купальнике, заметившая камеру в тот момент, когда фотограф нажал на спуск. Ее кокетливый, удивленный взгляд.
* * *
Она узнала, что он из евангелического интерната на озере. Школа, куда принимали детей из лучшего круга. К которому относилась и семья Фанни. Но Мориц отличался от своих одноклассников. Он был не из Берлина, а из Восточной Пруссии, из деревни, сын простых родителей, и в эту школу он попал только благодаря счастливому случаю – или несчастному, это как посмотреть. Его мать умерла в родах его сестры. Отец выбивался из сил – крестьянин без жены и без прислуги, с двумя детьми. За маленькой сестрой присматривал Мориц, но она была недоношенной, со слабыми легкими и через три года умерла.
Отец запил, потерял себя. Сына бил. Мориц тосковал по матери, на которую походил больше, чем на отца. От нее унаследовал впечатлительность, особый взгляд на вещи. Замечал то, чего не видели другие. То, чего никогда не понимали ни его товарищи, ни отец. Деревенский пастор был единственным близким ему человеком в местной школе. Он понимал бедственное положение мальчика и уговорил его отца отдать сына в интернат. Сам организовал стипендию от церкви. И отвез одиннадцатилетнего мальчика в Берлин.
Интернат оказался совершенно новым миром, там Мориц узнал, что искусство не пустое дело, а чувствительность – не слабость. Он открыл для себя старых мастеров, законы перспективы и силу образа. Он изучал латынь и учился играть на клавире. И познакомился с Фанни. Ему было шестнадцать. Робкий, но привлекательный мальчик и самоуверенная девочка из обеспеченной семьи. Коренная берлинская буржуазия. Он был крестьянский мальчик, говорила бабушка. Однажды она пригласила его к себе домой на обед. Ее родителям он понравился. Мы взяли его под крыло, говорила бабушка. Что бы под этим ни понималось. Она всегда рассказывала лишь намеками, никогда хронологически, а иногда и противоречиво. То она вспоминала о нем с любовью, то впадала в озлобленность, и последнее – чаще. Многое она оставляла при себе, а вспоминала какие-нибудь мелочи – например, что он любил ее яблочный пирог и, исхудавший, поедал его с аппетитом молотильщика с гумна. Но огромный образ войны, частью которой он был, расплывался в ее воспоминаниях. Война не была для нее чем-то таким, за что или против чего можно было выступать, она происходила как явление природы. При жизни бабушки война и мир чередовались как времена года.
* * *
Мориц впервые поцеловал ее на тех же озерных мостках. В тот день, когда получил военный билет. Он уходил на войну добровольно. Мориц не был ни сорвиголовой, ни силачом. Но он обладал талантом, с которым мог превзойти своих ровесников, – умел хорошо фотографировать. Прослышав, что в пропагандистскую роту требуются операторы, решил, что для него это шанс проявить себя. Стать кем-то. Возместить изъян происхождения. Вскоре после курса подготовки Морица отправили во Францию, в люфтваффе, где он делал снимки с самолета-разведчика. Потом его эскадрилью перебазировали на Сардинию, позднее – в Северную Африку, все дальше к югу, Мориц и предположить не мог, что никогда больше не увидит свою родную деревню. Зачем же так далеко? – горевала Фанни. За сидение дома орден не получишь, отвечал он.
* * *
Осенью 1942 года в распоряжении Фанни и Морица было не так много времени. Всего две недели, в которые они виделись ежедневно. Каждая секунда была подарком, которым они наслаждались, не зная, куда и как надолго отправят Морица потом. Бабушка говорила, что эти две недели с Морицем были лучшим временем в ее жизни. И только когда я стала допытываться, так ли уж идиллически все было, – как-никак шел 1942 год! – она рассказала про воскресенье, когда они с Морицем отправились в кино «Цоопаласт». Фанни непременно хотела увидеть еженедельный киножурнал. Увидеть события, которые снимал он. Картинки из Северной Африки. Эти киножурналы уже показывали немецких солдат на Атлантике, в Париже и под Москвой. Но ничто не завораживало людей так, как Африка. Пустыня, бескрайняя даль воображения, которая наполнялась сценами «рыцарской» войны. Роммель, Лис пустыни. Летчик-ас Ганс-Йоахим Марсель, Звезда Африки. Сто пятьдесят восемь побед в воздухе и один сбитый англичанин, которого он спас из пустыни. Муссолини, цепляющий на грудь молодого летчика-аса medaglia d’oro[9].
Все обсуждали солдат, которые на раскаленной под солнцем броне танка жарили глазунью. Киножурнал в «Цоопаласте» показывал немецких и итальянских камрадов, они голыми плескались в оазисе, такая фашистская мужская дружба. Потом победный пикирующий бомбардировщик – и английские «спитфайры», мухами сыплющиеся с неба. Итальянский солдат в палатке бреется, на подбородке мыльная пена, которую он развел в каске, смеясь в камеру. Heia Safari. Развлекательное сафари, война как приключение, ибо сегодня нам принадлежит Германия, а завтра – весь мир.
Мориц снимал сцену утреннего бритья незадолго до кровавой битвы за Тобрук. Больше он этого итальянца не видел.
Фанни гордилась Морицем, но когда они вышли из кинотеатра, он был какой-то притихший и бледный. Они пошли чего-нибудь выпить. Кудамм тогда еще не затемняли. И он сказал ей, как это все выглядело «там внизу» на самом деле. Глохнущие моторы. Нехватка горючего. Жара днем и холод ночью. Суп, в котором плавают мухи, вода с привкусом дизеля. Желтая лихорадка и тиф, уносившие почти столько же солдат, сколько и английская артиллерия. Усталость, смятение духа, жажда и понос. Во время боев у нас постоянно были полные штаны, сказал Мориц.
Он снимал фельдфебеля, который нетвердо брел между разрывами снарядов по песку, потеряв ориентацию; разрушенный немецкий танк и гротескно изувеченное тело Ганса-Йоахима Марселя, который выбросился из своего горящего самолета, но не смог раскрыть парашют. Ничего из этого они, разумеется, не смонтировали в кинохронику – смерть не показывали, на экране торжествовали живые, хотя жить им оставалось всего ничего. А там ты слышишь не музыку марша, а свист в ушах, от грохота разрываются барабанные перепонки, а после, в установившейся призрачной тишине, – стоны умирающих.
В хронике же полюбившийся публике сюжет – глазунья на броне. То, что в действительности происходило в Африке этой осенью, не давало хорошей картинки. Проигранная битва в Египте при Эль-Аламейне, тысячи убитых и раненых, лопнувшая мечта о Каире, Суэцком канале и нефтяных скважинах Ближнего Востока. Роммель спасал выживших солдат, немцев и итальянцев, и сорок танков. Вполголоса говорилось, что он воспротивился приказу фюрера стоять до последнего патрона. Морицу повезло пережить бои, пропагандистов перебросили раньше остальных, отступление – нефотогеничное дело. Маленький, много раз обстрелянный самолет доставил Морица и отснятые пленки из Тобрука в Крету, тогда как остатки танковой армии Роммеля драпали на запад, через Ливийскую пустыню, преследуемые британскими бомбардировщиками.
Такова была правда, а в киножурнале – романтика пустыни. Все говорили о глазунье, а не о поражении. Кстати, этот знаменитый эпизод был постановочным – когда Мориц снимал, его помощник подогревал броню изнутри горелкой Бунзена.
Фанни была смущена, слушая это. Но ничего не сказала. Есть вещи, о которых лучше молчать. А потом Мориц показал предписание, только что полученное: он должен вернуться на фронт раньше, чем было запланировано. Судя по слухам, его отправляют назад в Африку. Но куда именно? Ливия уже потеряна. Однако огромное количество транспортных средств и танков срочно перекрашивалось в маскировочные цвета пустыни, спешно шилось обмундирование, из Франции и Италии перебрасывались целые дивизии. Гитлер хотел Северную Африку любой ценой. Морицу и Фанни оставался всего один день.
* * *
Хотя моя бабушка не упоминала об этом, в какой-то момент они с Морицем переспали. Но вот о чем она рассказывала подробно – это о его обещании. Она помнила каждое слово: «Фанни, я тебе обещаю, что я вернусь». В том, как она повторяла эти слова, слышалась уверенность, что обещание есть нечто священное, нечто такое, чего нельзя нарушить ни при каких обстоятельствах. Кто посмеет его не сдержать, тот будет извергнут из спасительных объятий любви. Он сделал ей предложение, которое она с радостью приняла, но времени огласить помолвку у них уже не было.
* * *
Поэтому они отправились не в церковь, а отпраздновали свадьбу на том самом лугу на Ванзее, в спешке созвав туда друзей накануне отъезда Морица. Незадолго до того начался дождь, они вышли на мостки и принесли брачные клятвы. Мориц купил на черном рынке два кольца – настоящее серебро, на золото не хватило его солдатского жалованья, две бабушкины подруги стали свидетельницами, а лучший друг Морица, накинув на плечи простыню, изображал священника. Они действительно думали то, что говорили, «пока смерть не разлучит нас», со всей юношеской серьезностью, более священной и безусловной, чем у взрослых, потому что еще верили в незыблемость обещаний, в их однозначность, в нерушимое и непобедимое. Их скоропалительный ритуал был попыткой удержаться за нормальное в мире, слетевшем с петель; безрассудной надеждой застраховаться от непредвиденного, как будто где-то в сердце спрятано хранилище добра. То был спор с судьбой, инверсия причины и следствия: они заключили союз на всю жизнь, а потому он не умрет.
* * *
Накануне его отъезда Фанни ночевала, тайком от родителей, в его каморке под крышей. Утром она проводила Морица на вокзал – целый поезд молодых мужчин, не знавших, куда их везут. Прощание на перроне, она потеряла его в толпе, потом снова нашла, последний торопливый поцелуй и муторное ощущение в желудке, когда поезд дернулся. Долгая дорога через Мюнхен, Верону, Рим и Неаполь, почтовая открытка из порта, где стояли морская и воздушная армады, готовые пересечь Средиземное море. О месте назначения – ничего, кроме слухов. Через девять месяцев, в августе 1943 года, когда на Берлин уже падали бомбы, родилась моя мать.
Глава 5
Общее у нас одно – все мы разные.
Роберто Бениньи
Над морем летали кайт-серферы. Ветер возобновился. Мини-автобус привез нас в порт Марсалы, где стоял катер Патриса. Госпожа фон Митцлафф, дочь радиста. Господин Бовензипен, племянник пилота. Господин Трибель, внук бортмеханика, и его жена. Мы едва знаем друг друга, но чувствуем себя странным образом связанными. Истории о погибших, разные семьи сходятся в одном – в чувстве, что не хватает какой-то части нас. Той части, которая лежит на дне моря. Которую мы хотим извлечь, чтобы освободить ее. Чтобы освободиться от нее.
Единственное различие между ними и мной в том, что у них уже есть письменное свидетельство. Имена членов экипажа значатся в списке начальника тыла Трапани.
«Юнкерс Ju-52», вылетевший на задание в 7 часов утра, командир корабля л-т Бовензипен, не вернулся из транспортного полета, на обратном пути из Туниса упав в воду в квадрате 64833/05. Унтер-офицер фон Митцлафф, Готфрид; ефрейтор Биттнер, Руди; обер-ефрейтор Хайнце, Теодор; обер-фельдфебель Трибель, Йоханнес.
На вопросы о дедушке я отвечаю лишь предположениями и рада, что они не расспрашивают меня о моей жизни.
Патрис готовит судно к отплытию. Рыбаки глазеют на нас, господа Трибель и Бовензипен, оба яхтсмены, ведут деловой разговор с водолазами, а я иду за кофе. Пересекаю неприглядную улицу и нахожу маленький бар. У стойки курят несколько безработных и рыбаков. Они расступаются передо мной, но не здороваются, и это не грубость, а молчаливое, ненавязчивое почтение, за которое я всегда ценила сицилийцев.
Бариста едва замечает меня. Я заказываю восемь caffè и протягиваю ему scontrino. Несколько мужчин завтракают у высоких столов – эспрессо и бриошь. По телевизору крутят запись футбольного матча, который никого не интересует. Я жду. Вдруг слышу за спиной женский голос – по-немецки, с акцентом:
– Доброе утро.
Оборачиваюсь. У стойки среди мужчин немолодая дама. Поверх светлых локонов шляпа, льняное платье легковато для этого времени года, индийский шарф. Невысокая, но энергичная. Я не сразу узнаю ее – вчерашняя француженка. Теперь я могу разглядеть ее глаза – изумрудно-зеленые, лучистые. Такое ощущение, что эта женщина заполняет все помещение, но в то же время она кажется здесь неуместной. Ее окружает аура строптивого задора. Слишком молода душой, чтобы принять свой возраст. Слишком стара, чтобы переживать, нравится ли она окружающим. Эта женщина не подходит ни под какой шаблон – по крайней мере, ни под какой из мне известных.
Позже, в течение нескольких дней, я узнаю, что эта француженка на самом деле еврейка из Израиля, родившаяся в арабской стране, и эти дни вместят целую жизнь. Значение самых важных встреч постигаешь только потом. А когда они происходят, то кажутся само собой разумеющимися, словно шестеренки судьбы бесшумно цепляются друг за друга, и не имеет значения, содействуем мы тому или нет, согласны мы с этим или нет. Она улыбается мне, в уголках губ – намек на иронию. Я вспоминаю, как Патрис предостерегал меня от ротозеев.
– Buongiorno, – отвечаю я по-итальянски, чтобы создать дистанцию.
– Вы из Германии?
– Да.
– Из какого города?
Ее итальянский лучше моего. Можно даже подумать, что это ее родной язык.
– Из Берлина.
– Вы здесь из-за самолета?
Небрежный тон не сочетается с пристальным, почти бестактным, слишком доверительным для незнакомого человека взглядом. Она протягивает мне руку:
– Жоэль.
Я отвечаю на ее приветствие:
– Нина.
Рукопожатие у нее теплое и дружеское. А я все смотрю на ее глаза. Никогда не видела такой искрящейся зелени. Она взволнована, я не понимаю почему.
– Твою маму случайно не Анита зовут? Она была стюардессой в «Люфтганзе»?
Мне становится не по себе.
– Мы с вами знакомы?
– Еще нет. – Она тепло улыбается мне, почти по-матерински. – Он мне о ней рассказывал.
– Кто?
– Твой дед.
Я не могу скрыть испуга, и в ее взгляде читаю сочувствие. Она явно обдумывает слова, прежде чем произнести – тихо, но отчетливо:
– Я его дочь.
И с улыбкой щурится. Я чувствую себя одураченной. Это розыгрыш?
– Мориц Райнке?
– Eh oui[10]. Он мой отец. – В ее голосе нежность, но одновременно и грусть.
– Должно быть, вы что-то путаете.
– Он никогда тебе не рассказывал о нас?
Я смотрю на нее как на сумасшедшую. Может, так оно и есть?
Но она спокойно открывает сумочку, достает блокнот, из него – фотокарточку и протягивает мне. Это фото на паспорт, черно-белое, с зубчатой каймой, на снимке Мориц, это однозначно Мориц, хотя и без военной формы, в костюме и галстуке. Серьезный взгляд устремлен в объектив.
– Otto caffè da portar via![11] – Бариста выставляет бумажные стаканчики на стойку. – Вам нужен пакет, синьора?
В голове у меня шумит.
– Sì, – бормочу я. – Где это снято?
– В Тунисе.
– Когда?
Она переворачивает фото. На задней стороне штамп: 23 июня 1943 года, студия Монсеф Боубакер, проспект де Картаж, 23, на спуске.
– Год моего рождения, – говорит она и лукаво улыбается.
Я ошарашена. В тот же год родилась моя мама. Словно прочитав мои мысли, Жоэль добавляет:
– Как и твоей матери.
Бариста протягивает мне бумажный пакет со стаканчиками кофе. Я стою как оглушенная.
– Откуда вы знаете о нас?
– Он мне рассказывал. О своей другой семье.
Я не нахожу слов. О своей семье? О своей другой семье? Когда же он успел ей об этом рассказать, если разбился в 1943-м?
Она с улыбкой берет у баристы пакет и передает мне:
– Думаю, твои друзья уже заждались кофе.
Я не хочу, чтобы Патрис меня искал. Но и не могу сейчас уйти, это невозможно. Если она говорит правду, то мы родственницы. Она единокровная сестра моей матери. Можно во многом обвинить мою мать, но только не в том, что она утаила от меня нечто столь неслыханное.
– Я всегда хотела познакомиться с твоей мамой. Я вас разыскивала. Но он мне не выдал даже вашу фамилию, только имена и то, что вы живете в Берлине.
Я собралась спросить, но она меня опередила:
– Когда ты видела его в последний раз?
Что за вопрос!
– Никогда!
В ее взгляде недоумение. Я почти вижу, как в голове у нее проносятся мысли.
– Но ведь он же навещал твою маму?
– Его нет в живых. С сорок третьего года. Разбился на самолете. В нескольких километрах отсюда, в море. Разве вчера вы этого не поняли?
Она молчит. На лице разочарование. Или, скорее, печаль. В какой-то момент наши чувства, кажется, совпадают. Но я не уверена. Потом она неожиданно улыбается:
– Ну, тогда ваши поиски затянутся надолго. Вы найдете немного старого железа, но уж точно не твоего дедушку.
– Откуда вам это знать?
– Дорогая моя, он мой папа́. Он учил меня плавать, ездить на велосипеде и играть на пианино. В самолете вы, может, и обнаружите пару нацистских скелетов, но я уверена, что наш старик живехонек. Иначе мы бы знали.
У меня есть только одно объяснение: она имеет в виду кого-то другого.
– На всякий случай: мы говорим об одном и том же человеке? Мориц Райнке.
Кажется, это имя звучит для нее как-то незнакомо. Но она кивает.
– У нас его звали Мори́с. Но это то же самое. У него были две жены, две жизни… а потом, судя по всему, еще и третья.
У меня начинает кружиться голова. В последнее время мне пришлось выслушать слишком много лжи, и я не понимаю, чему верить.
– Что значит «у нас»? Откуда вы?
– Послушай, моя дорогая, – решительно говорит она, – отнеси-ка своим друзьям кофе, а потом мы закажем шампанского, я расскажу тебе о нашей семье, а ты мне расскажешь о своей. Идет?
Мне хочется бежать отсюда без оглядки. Если фундамент, на котором стоит твой мир, не существует, можно ли его поколебать? Едва ли что видя перед собой, я выхожу за дверь и иду через дорогу к причалу. Все уже на палубе, мотор запущен. Я протягиваю другу Патриса пакет и говорю, что плохо себя чувствую. Пока Патрис меня не увидел, возвращаюсь в бар. Решение дается мне без усилий. Словно предложили более интересное место раскопок, чем там, в море.
Жоэль флиртует с бариста, который откупоривает бутылку спуманте.
– Шампанского нет, но мы переживем.
– Самолет разбился в мае сорок третьего, – говорю я. – А когда родились вы?
– В декабре сорок третьего.
Моя мать родилась летом. Значит, незадолго до смерти он зачал двоих детей. Вот только фото на паспорт, которое она мне показала, сделано в июне сорок третьего. Через месяц после крушения самолета.
– Где вы родились?
– В Тунисе.
– И по-прежнему там живете?
– О нет. Теперь я живу везде понемногу. В Париже, в Хайфе… Cin cin! За Мори́са!
Она чокается о мой бокал. Я растеряна.
– Хайфа – это в Израиле?
– Oui. Я тунисская еврейка с французским паспортом. И израильским, если тебе нужны детали.
И снова почва уходит у меня из-под ног. Если она еврейка, значит, еврейкой должна быть ее мать. Солдат вермахта и еврейка – в 1943 году?
– Когда он познакомился с вашей матерью? И где?
– Ты куришь?
– Нет.
Она выкладывает на стойку пачку французских сигарет.
– Давай выйдем.
Не дожидаясь ответа, направляется к двери. Я иду за ней следом. Она закуривает. Руки у нее слегка дрожат. Я вижу, как отчаливает катер Патриса.
– Это долгая история. – Она выдувает дым и испытующе вглядывается в меня. – Речь в ней идет о любви и об исчезновении. Я расскажу тебе ту ее часть, которую не знаешь ты, а ты потом расскажешь то, чего не знаю я.
Рассказы – это черепки, думаю я. Обломки жизни, которые мы вырыли из земли и поднесли один к другому, чтобы посмотреть, подходят ли они друг к другу. Иногда это не имеет смысла, а иногда из них складывается ваза, статуя, храмовый фриз.
– Несчастья начались за год до моего рождения. Не так далеко отсюда, на другой стороне Средиземного моря. В Тунисе. Мою мать звали Ясмина. Она была почти ребенком, когда началась война. И жизнь была прекрасна. Пока не пришли немцы.
Глава 6
Ясмина
Кофе должен быть горячим, как поцелуй девушки в первый день, сладким, как ночи в ее объятиях, и черным, как проклятия ее матери, когда та узнает об этом.
Арабская поговорка
Когда в Ливийской пустыне погибали тысячи мужчин, Тунис по-прежнему наслаждался жизнью.
Проспект де Пари, 36. Белый дворец с балконами belle époque[12] и полотняными навесами от солнца. Всякий, кто входил в массивные двери отеля «Мажестик», поднимался по изогнутой лестнице, ступал на мягкие ковры холла, принадлежал к прослойке тех, кто взирает на мировые события свысока, сидя в удобном кресле за послеобеденным коктейлем, огражденный от зноя и внезапного ливня, какие обрушиваются на приморский город осенью и оставляют на черном лаке автомобилей желтые потеки с пылью Сахары.
В стенах гранд-отеля, где воздух гоняли массивные вентиляторы, голоса становились тише, а шаги приглушеннее. Там пили шампанское, перно и анисовый ликер; в баре до глубокой арабской ночи играли джаз и свинг. Приезжие из Европы находили здесь экзотику под пальмами, но при этом с горячей водой из крана и личным слугой. А местная тунисская буржуазия наслаждалась в отеле кусочком Парижа посреди Северной Африки.
* * *
Ясмина, девушка, которая пока не догадывалась, что скоро станет матерью Жоэль, стояла у двери в бар и вслушивалась. На ней был черный передник и белая блузка горничной, и ей не полагалось здесь находиться. В бар разрешалось входить только кельнерам. Женщины работали там, где они никому не попадались на глаза, – убирали номера и стирали в подвале постельное белье. Когда около года назад Ясмина поступила сюда, она быстро поняла, что ей нравится работа горничной, для нее не было ничего более волнующего, чем пустые комнаты постояльцев, чемоданы и одежда которых рассказывали целые истории, это были окна в неведомые миры. Чего стоили те короткие мгновения, когда, сев на неприбранную кровать, она обводила взглядом комнату и закрывала глаза, вдыхая запахи, оставленные чужаками, представляя, что происходило на этой кровати минувшей ночью. Тишина способна говорить, думала она. Чем тише вокруг, тем яснее слышны вчерашние голоса, отчетливее эхо слов на чужих языках, актов любви или насилия, следы счастья и несчастья, что записаны в памяти времени.
Ясмине было семнадцать, ее снедала жажда жизни. Девушка из предместья, темные кудри и робкая улыбка, полная соблазна. Немногословная настолько, что некоторые ее вообще не замечали, но она-то видела каждого. Живые темные глаза воспринимали все, что было видимо и что невидимо. Ее окружала особая тишина, даже в суете работы. Она молчала не потому, что ей нечего было сказать, а потому что сдерживала чувства, переполнявшие ее. Ясмина ни разу не покидала свою страну, но в отеле «Мажестик» и не нужно было странствовать, чтобы увидеть мир, – он сам приходил к ней.
* * *
Закончив уборку номеров, она шла к Латифу, консьержу, похожему на добродушного медведя, и он иногда отделял из свежего букета роз, принесенного торговцем, одну и тайком дарил ей. Остальные цветы она расставляла в лобби, в салоне и туалетах, которые мыла трижды в день. Кельнерами в баре были только мужчины. Ясмине одной из всего женского персонала разрешалось пройти через это красивое помещение, чтобы попасть к туалетам, но она двигалась незаметно, скользила вдоль стены. Постояльцы хотят видеть чистоту, а не уборку, наставляла ее начальница, потому что уборка напомнит им про грязь. Лучшая горничная та, которую никогда не видно.
* * *
В баре под вялыми вентиляторами мужчины в светлых костюмах курили сигары, а дамы в широкополых шляпах и не думали прятать лица. Им подавали мятный чай и шампанское. Мужчины дискутировали о Роммеле и Монтгомери, о битве за Эль-Аламейн, о переломе в североафриканской кампании. За толстыми стенами «Мажестика» о войне говорили так, точно она была боксерским поединком, репортаж о котором передают по радио. Лис пустыни против Пустынных крыс. Непобедимый Роммель был разбит и спасал свою армию, украв бензин у союзников-итальянцев, бросив их и отступая из Египта через Ливию – тысячи километров по пустыне, преследуемый британскими истребителями.
Дамы – и это не укрылось от Ясмины, пока она расставляла розы по вазам, – слушали не столько своих мужей, сколько мужчину за роялем. Белый костюм, темные волосы, алая роза в петлице. Его голос звучит совсем иначе, когда он поет, думала Ясмина, – рояль преображает его. Когда Виктор пел свои шансоны, он переставал быть ее старшим братом, объяснявшим ей мир, он становился частью этого мира, ровней великим шансонье из радио, которое они слушали детьми в их припортовом доме. Виктор обладал магическим обаянием и без усилий завоевывал сердца. Шарм не поддается объяснению – просто у кого-то он есть, а у кого-то нет.
У брата была озорная улыбка мальчишки, который не желает взрослеть. Еще подростком он мог позволить себе рассказать анекдот, когда вся семья сидела молча, собравшись на кадиш по усопшему дяде. Он не выносил, когда мама плакала, терпеть не мог никакой серьезности – как другие, бывает, терпеть не могут пауков; его стихия была – свобода. Когда он улыбался, это было как приглашение на танец.
И потому его любили женщины: с Виктором было легко. Когда он пел, его голос поднимался над тяготами будней. Adorable[13]. Может, причина в том, что он поет по-французски, как все великие шансонье, думала Ясмина, ведь другой язык придает нам другой характер, оживляет в нас доселе скрытую сторону личности.
Для самой Ясмины так оно и обстояло: итальянский был языком бабушки, семьи, домашнего обихода – bombola di gas и fiammiferi[14]. Это был язык еды и животных, всего того, что любишь. Cocomero. Gatto. Maggiolino[15]. И это был язык ее прозвища, которое использовал только брат, сам же наделивший ее этим именем – Farfalla. Бабочка.
На итальянском она была ребенком, но на французском – Mademoiselle. На этом языке, на котором говорили все в отеле, в том числе и арабы, она была взрослой и обращалась к людям на «вы». Pardon, Monsieur. Bien sûr, Madame. Это был язык, на котором пишут, язык аристократов, полицейских и чиновников.
Наряду с этими языками – или, вернее, между ними – был еще язык улицы, рынка и муэдзинов – арабский, на котором она здоровалась с соседями, в том числе и с еврейскими, и желала благословения Божьего торговцу фруктами, хотя ее Бог не был его Богом.
Ее же Бог говорил на древнейшем из языков, на языке Шаббата, молитвы и Священной книги, которую отец читал по праздникам, с буквами, внятными только ему. На этом языке она молчала.
Каждое место имеет свое звучание, сказал однажды Виктор, точно так же, как имеет запах и цвет. Прямые, с рядами деревьев, бульвары центральных кварталов города звучали по-французски, запутанные переулки Медины с их изгибами и голубыми деревянными дверями – по-арабски, темные, лишь свечами освещенные синагоги, – на иврите, а на кухне царил итальянский. Язык места пронизывает наши мысли и даже наши сны, считала Ясмина, и делает нас в каждом месте кем-то другим.
* * *
Виктор, которого вообще-то звали Витторио, чего постояльцы не знали, пел L’accordéoniste[16]. Когда изысканные дамы заходили в туалет, чтобы припудрить щеки, поправить прическу и обменяться секретами, Ясмина отступала со своим ведром в сторонку, отворачивалась, чтобы на нее не обращали внимания.
Она прислушивалась к дамам, которые – как и их мужья в баре – говорили по-французски, хотя и не были француженками. Adorable! Magnifique! Extraordinare! Божественный голос! А ты видела его руки? Если он целует так же, как поет! Ясмина украдкой улыбалась, не имея права выказать ни гордость тем, что она сестра Виктора, ни ревность. Разумеется, у нее была привилегия находиться к нему ближе, чем остальные, но хотя он и спал каждую ночь в соседней комнате, все равно был для нее недостижимо далек.
Когда Виктор вставал из-за рояля, наслаждаясь аплодисментами, и пил с кем-нибудь из постояльцев перно, Ясмина знала, что вот-вот он примется ее искать. Она всегда ждала его во внутреннем дворе у выхода из прачечной, тайком совала ему ключ, шептала номер комнаты и надеялась, что хотя бы на мгновение он возьмет ее за руку и спросит, как дела, но он лишь улыбался, лукаво ей подмигивал и быстро исчезал. Ясмина смотрела сквозь ясный осенний воздух вверх на квадратный кусок неба над двором, на птиц в последнем свете вечера и слушала призыв к вечерней молитве, доносящийся из Медины.
* * *
Ясмина осторожно прокралась вверх по тесной пыльной лестнице для прислуги. Она осознавала, что делает запретное, но что-то в ней было сильнее запрета. Любопытство, больше чем любопытство. Грех ли это – наблюдать чужой грех? Было два вида запретов, думала она, внешние и внутренние, запреты общества и запреты совести. В то время как Виктор преступал внешний закон и при этом не мучился совестью, она боролась с собой, хотя не нарушала никакого закона. На четвертом этаже она открыла дверь в коридор, осмотрелась, не видит ли кто, и тихо отперла номер 308. Не случайно она выбрала для Виктора 307-й, она знала, что оба смежных номера свободны. Она заперла за собой дверь, свет включать не стала. Она знала эту комнату так хорошо, что могла пройти по ней и с закрытыми глазами. Сквозь занавески сочился слабый свет уличных фонарей, пахло свежим постельным бельем. Она бесшумно скользнула по ковру и приложила ухо к двери. В соседнем номере послышался смешок, потом все стихло, а потом – негромкий сладострастный вскрик женщины и голос Виктора. Ясмина нажала на ручку и тихонько приоткрыла дверь, всего лишь на щелочку, чтобы видеть кровать. Темное дерево, белые простыни и два обнаженных тела на постели. Ясмина слышала биение своего сердца и старалась не дышать. По одежде, брошенной на пол, она узнала ту давешнюю француженку. В полутьме, с распущенными волосами она казалась совсем другой, эта утонченная дама, скромно припудрившая нос, перед тем как вернуться за столик к мужу, французу в белом костюме. Сейчас же Ясмина видела ее ошеломительно бесстыдной и притягательно дикой. Женщина была немного старше Виктора, и Ясмина подумала, что у нее уже, возможно, даже есть дети, хотя вряд ли. Любила ли она Виктора? Любил ли ее Виктор? В самом ли деле он чувствует то, что говорит? И почему он использует для этих женщин только французские нежные слова? Никогда не говорит с ними по-итальянски, тем более по-арабски, даже с итальянками и арабками.
Ясмина подсматривала за братом уже не в первый раз. В который – она уже и не помнила, это превратилось в тайную одержимость, наполнявшую ее стыдом, но еще больше, вожделением, оно прорывалось через запрет ее совести, и стыд становился еще сильнее. И всякий раз ее потрясало, как преображается любимый брат с другими женщинами. Он становился грубым и вместе с тем галантным, невероятно самоуверенным и чужим, да, он становился чужим ей, хотя ближе у нее никого не было. И эта чуждость завораживала ее, она тоже хотела получить ее долю, хотела стать другой, не такой, какой ее знают дома, и в глубине себя она уже была этой другой – не дочерью, а женщиной, но она не умела дать этой новой себе ни имени, ни лица. Внутри нее будто собиралась гроза, не подвластная ей.
Чужачка внутри нее внушала ей страх, а поскольку обсудить это было не с кем, она бежала от этой другой прочь, сознавая в то же время, что убежать не сможет, потому что эта чужачка и есть она сама. Мы носим разные маски, сказал ей однажды Виктор, – в зависимости от того, где мы и с кем. Но Ясмина ощущала это иначе. Домашняя Ясмина, хорошая дочь из хорошей семьи, была не маской, которую она могла по желанию снимать и надевать, а кожей, которая долгое время облегала и защищала ее, но теперь стала ей тесна. И как змея, которая может расти, только если заползет под камень, стянет свою старую кожу и даст нарасти новой, чужая росла в ней, требуя новой кожи. Тайные минуты, когда она подсматривала за братом и его женщинами, были для нее тем самым камнем.
Но сегодня случилось то, чего прежде не происходило. Виктор лежал на француженке, та сладострастно сжимала его бедра и стонала, и вдруг он поднял голову, словно почувствовал чье-то присутствие. И увидел глаз Ясмины в дверной щели. И испугался.
– Что такое? – спросила женщина.
– Ничего, mon cherie.
– Тут кто-то есть?
– Нет, никого. – Он припал к ней и целовал, пока она снова не закрыла глаза, перемежая хихиканье стонами.
Убирайся, дал Виктор понять сестре взглядом, но она не могла отвернуться – оцепеневшая, скованная по рукам и ногам, и ему ничего не оставалось, как продолжать.
* * *
Позже, когда они, как и каждую ночь, шли по проспекту де Пари к пригородному поезду, оба молчали. Виктор шагал быстрее обычного, Ясмина едва поспевала за ним. Но не смела крикнуть, чтобы подождал. Он держал ровно такую дистанцию, чтобы она не потеряла его из виду. Перед собором на проспекте Жюля Ферри они сели в последний поезд. Сидя на деревянных скамьях списанного вагона парижского метро, они смотрели на грузовой порт, потом на лагуну, отделявшую центральные районы от их портового квартала. Свет фар ненадолго выхватывал из темноты фламинго, дремавших на одной ноге на дамбе. Поток воздуха из открытого окна становился холоднее, но Ясмина потела под своим платьем. Виктор молча смотрел во тьму.
Они одни вышли на Piccola Сицилии, в квартале от рыбацкого порта, где улицы были поуже, дома пониже, а в воздухе пахло морской солью, жасмином и жареной рыбой. В небе вспыхивали зарницы, дневной зной еще не отступил, можно было купаться. Они молча дошли до родительского дома, маленькой белой виллы начала века в европейском стиле, неприметно зажатой между двумя соседними домами, с плоской крышей, крошечным палисадником и бугенвиллеей, карабкавшейся по стенам до окон. Море было отсюда не видно, только трубы кораблей иногда проплывали за крышами домов.
– Виктор, прости меня. Я хотела только…
– Тсс… Иди в дом.
Он тихо открыл дверь. Ни разу больше не взглянув на нее, исчез в ванной.
Ясмина вошла в кухню, где мать, как и каждую ночь, оставила для них еду на столе. Прикрытые полотенцем, стояли две тарелки с сэндвичами, строго одинаковыми, за этим мать следила с тех самых пор, как они были маленькими, – в еде ли, в одежде, в карманных деньгах. Ясмина не должна была почувствовать себя обделенной по сравнению с братом, потому что он родной ребенок, а она – нет. Но именно эта одержимость справедливостью, эта преувеличенная озабоченность матери всегда напоминала Ясмине о том, что у них не совсем обычная семья.
Почему бы Виктору не получить кусок мяса побольше? Он ведь, в конце концов, мальчик. Равноправие она воспринимала как особое обращение, какое полагалось бы гостю, но не младшему ребенку в семье.
Несмотря на голод, она не смогла бы проглотить сейчас и кусочка. Ей хотелось поговорить с Виктором, но она не знала как. Ее не интересовало, кто эта женщина. Она не собиралась объясняться или требовать объяснений от него. Она хотела, чтобы он знал: она его не осуждает, ему нечего стыдиться, разве стыдно быть любимым и желанным? Она хотела сказать, что не стала любить его меньше из-за того, что увидела. Ей хватило бы одного его взгляда, одного его теплого взгляда, который сообщил бы, что все хорошо.
Она слышала, как брат вышел из ванной и поднялся наверх к себе в комнату, не сказав ей buona notte. Эта внезапная холодность обидела ее. Обычно они еще немного сидели в кухне, молча ели или обсуждали постояльцев отеля, потом Виктор всегда выходил на балкон и выкуривал последнюю сигарету, а она подогревала молоко, которое он любил выпить перед сном – с медом и финиками, каждую ночь, один стакан для него и один для нее.
* * *
Ясмина налила молока в кастрюльку, подогрела его, взяла несколько фиников из холодильника, налила молока в стакан, размешала в нем мед, положила на блюдце финики, пошла наверх и тихо постучала в дверь. Виктор открыл, уже в нижней рубашке. Ясмина протиснулась мимо него и поставила молоко у кровати.
– Я ничего не скажу папа́.
Он кивнул.
– Сколько женщин у тебя уже было?
– Зачем тебе это знать?
– Просто так. Я вовсе не нахожу это дурным.
– Я тоже не нахожу. – Он ухмыльнулся.
– Я только беспокоюсь из-за мужей. Что, если какой-нибудь из них проведает?
– Ты не знаешь женщин. Они гораздо изворотливее своих мужей.
– Ты ее любишь?
– Я занимаюсь с ними любовью. А тут есть некоторая разница. – Он отхлебнул молоко, озорно глядя на нее.
– А какие тебе больше нравятся? Француженки?
Виктор рассмеялся.
– Да какая разница. Красивые женщины приезжают отовсюду. Спокойной ночи, сестрица, тебе завтра рано вставать.
Ясмина взяла его стакан и медленно направилась к двери. На пороге повернулась:
– А я красивая?
– Да конечно, ты очень красивая!
– Ты это говоришь только потому, что я твоя сестра?
– Нет!
– Мне нужен честный ответ. Не от брата, от мужчины. Ты находишь меня красивой?
– Ты очень особенная девушка, Ясмина.
– Что значит «особенная»? Другая?
– Да, ты другая, сестренка, а это совершенно особенный вид красоты. Твоя собственная красота. Buona notte, farfalla.
И он поцеловал ее в лоб.
Глава 7
Ясмина стояла голая перед зеркалом в своей комнате. Он хотел ей добра, но она хотела другого. Пусть бы он был честен или хотя бы соврал, сказал, что она красивее тех женщин, которых он целовал. Но он сказал – другая. Никакое слово не ранило бы ее сильнее, потому что «другая» означало для нее «ущербная».
Взгляд в зеркало напомнил ей, что она здесь действительно чужая. Что ее мать на самом деле ей не мать, а отец – не отец. Что у нее, в отличие от всех детей, нет в семье места, предназначенного только ей, в котором бы никто не сомневался, – она была здесь лишь благодаря состраданию родителей. Все остальные дети просто есть, а ей можно тут быть. А за этим «можно» кроется страх, что позволение в любой момент отзовут.
Оказавшись в семье, она боялась бегать по дому или слишком громко позвать, если, например, захочет пить. И пусть приемные родители любили ее как собственного ребенка и никогда бы не бросили в беде, Ясмина понимала, что главное – ей разрешено тут остаться. Но позднее, когда она выросла, из защитной скорлупы проклюнулась новая сторона ее «я», она больше не желала быть тихой. Если ты тихая, ты невидимка. А в ней разгоралось желание быть замеченной – такой, какая она есть. Ясмина не знала, кто она, ей требовалась родственная душа, которая держала бы перед ней зеркало.
У других детей имелись родители, в которых они находили свое отражение. Но ее мать, которая жестикулировала и говорила как европейская женщина, часто казалась ей чужой, а любовь отца не могла заполнить пустоту у нее внутри.
Ясмина начала бунтовать, сперва в мелочах – например, не ела печенье или не торопилась домой из школы. Не надевала платья, которые мать для нее шила, а подруг предпочитала таких, которые не нравились родителям, дескать, это дети улицы, «дурная компания для таких, как мы». Но она сама не была «как мы», она была иная, она искала себя. А потом Ясмина открыла нечто сильное и запретное, пьянящее – то, о чем никто не говорил, слишком это было сокровенно. Другое измерение внутри ее маленькой комнаты, где она тихо лежала под одеялом, закрыв глаза, слушая биение крови в ушах, и от наслаждения обретала невесомость. Опьянение, которое было не от мира сего.
В окно застучали капли дождя. Всплыло воспоминание, настолько четкое, будто это случилось вчера. Грозовая летняя ночь, ей лет восемь или девять, она уже не чужая в доме. Она не могла спать, такая стояла духота, жара сжимала ее комнатку, город, пока не разразилась мощная буря. Молнии прорезали ночь, пальмы плясали под ветром как безумные, и удары тяжелых волн о берег было слышно даже в комнате Ясмины. Ее парализовал страх. То был страх перед чем-то громадным, диким, неукротимым, но и зловеще красивым. Гром грохотал так, что приходилось затыкать уши.
Ясмина укрылась с головой, дыхание участилось, сердце билось у самого горла, она не смела позвать родителей и чувствовала себя позабытой всеми, брошенной на краю света. Преодолев страх, она спрыгнула с кровати и босиком, в ночной рубашке – до сих пор в ней живо то ощущение – пробралась в комнату Виктора и забилась к нему под одеяло, почувствовала его тело, он ее обнял, и буря внутри нее улеглась.
– Открой глаза, farfalla! – сказал он. – Это всего лишь гроза. Страшно, только если зажмуриться. Тогда ты видишь то, чего на самом деле нет. Поэтому держи глаза открытыми. А когда сверкнет молния, вот сейчас, считай секунды – и скоро загремит гром. Uno, due… слышишь, это даже не над нами, наверное, над Мединой, ведь звуку требуется больше времени, чем свету, чтобы дойти до нас, ты это знала? Нет ничего быстрее света, даже самолет медленней!
Но дело было не только в его словах, но и в звуке его голоса, вибрации его груди. Он понимал мир, с ним этот мир был не местом, полным опасностей, а приключением, каруселью, праздником радости. Еще никогда Ясмина не чувствовала такой защищенности, как в ту грозовую ночь. Пульс ее успокоился, хотя снаружи продолжало грохотать, но засыпать она не хотела, чтобы не расставаться с этим чудесным чувством. Даже если рухнет дом, с ней ничего не случится, пока ее обнимают его руки.
* * *
А ведь самая первая их встреча не предвещала ничего хорошего. Ей было три года, и Виктор в его восемь лет казался таким взрослым. В кепке и коричневых кожаных ботинках с прилипшей к ним грязью. Была зима, и холод от плиточного пола пробирался сквозь тонкие подошвы. В большой спальной зале не было печки, только умывальные раковины из белой эмали, которые висели слишком высоко, да бесконечные ряды кроватей – черное железо и белые одеяла; еще высокие окна, а над дверью – крест, коричневый деревянный крест без Христа. Все это Ясмина помнила отчетливо, будто это было вчера. Взволнованные крики детей, она побежала со всеми, не понимая, что случилось, строгий голос брата Роберта, его белое монашеское одеяние, он велел детям угомониться и ждать, а потом эта семья – они нерешительно переминались в коридоре. Элегантная женщина в черной шляпе, мужчина в сером костюме, говоривший с монахом, и восьмилетний Виктор рядом с ним, уже тогда типичный Виктор – с любопытством поглядывающий на детей, многие из них его ровесники, но не равные ему, обладателю родителей, да еще приличных.
В сиротский приют часто приходили пары, беседовали с монахами, выбирали себе ребенка, и далеко не всегда монахи им ребенка отдавали. Они присматривали за своими подопечными, лучше уж пусть растут здесь, чем у плохих родителей, а таковых хватало. Иногда дети вырывались, кричали, они инстинктивно чувствовали людей, и одному богу известно, что сталось с теми, кого все-таки забрали, монахи были бедны, а в приют поступали все новые и новые сироты. Крикливая разномастная шайка подкидышей, которых оставляли ночами у ворот монастыря проститутки, бедняки или юные девушки – как Ясмину две зимы назад. Ни одна семья – ни хорошая, ни плохая – не хотела ее брать, потому что Ясмина была дикая, непослушная и почти не говорила. Она либо молчала, либо буйствовала. Вредный ребенок, по словам монахов, а кому нужна вредная девочка? Даже злые родители искали себе хороших, послушных девочек. Ясмина не знала, правы ли монахи, но их слова были законом – до того самого дня.
* * *
Она до сих пор помнила тот взгляд Виктора. Он смотрел на монашеских сирот удивленно, с осознанием своего превосходства. Только на нее, Ясмину, он, казалось, не обратил внимания – может, потому, что она была самая маленькая, а может, другие девочки были красивее, а она была вредным ребенком, однако он не сказал ни слова, когда монах указал на Ясмину и отец посмотрел на нее – испытующе, но и сострадательно.
И тогда она услышала свое имя, Ясмина, и пристыженно потупилась, потому что она ведь вредная девочка. Однако монах подозвал ее к себе. Она подняла голову и увидела, что мужчина и его жена улыбаются, и это ошеломило ее. С чего они вдруг так добры к ней? Разве они не знают, что она непослушная? Идем, сказал мужчина, идем, сказала женщина, иди, сказал брат Роберт, скажи bonjour мадам и месье Сарфати. Но Ясмина смотрела на Виктора, такого взрослого мальчика.
Ясмина и теперь помнила, как нерешительно она двинулась, и в этот момент Виктор потянул отца за руку, и тот наклонился к нему, Виктор что-то шепнул ему на ухо и показал на мальчика постарше, и Ясмина совсем оробела и замедлила шаг: они не хотят меня, хотят Ахмеда, он послушный мальчик, а я вредная девочка. Она остановилась и затравленно посмотрела на мадам, чтобы понять, исходит ли от нее опасность. Но глаза женщины были приветливы. Ясмина не поняла, что сказал сыну отец, они говорили по-итальянски. Тут началось замешательство. Все разом заговорили, отец одернул сына. Мальчик упорствовал, мать тихо его уговаривала, и на Ясмину больше никто не обращал внимания.
Потом Ясмина впервые услышала слово, которое в монастыре никто не использовал. Оно прозвучало, когда отец указал на нее, объясняя что-то своему сыну. Ebrea, сказал он.
* * *
Ясмина не поняла значения этого слова, но догадалась, что оно волшебное, потому что сломило сопротивление Виктора. Должно быть, слово это обладало тайной силой, дающей ей преимущество перед остальными детьми. Она ничего не знала об этой загадочной силе, но увидела, что в мире взрослых с его непроницаемыми законами и правилами эта сила имела большое значение.
Виктор – теперь Ясмина это знала – хотел себе брата, товарища по играм, ровесника. Такие, конечно, там были, ему оставалось только выбрать. Но отец выбрал ее, самую маленькую, бесполезную дикарку, не умевшую многое из того, что умели другие, – не умевшую шить, играть в футбол, сидеть тихо и считать до ста. Но она носила в себе то, чем здесь больше никто не обладал, тайну, которую она, ничего не делая для этого, делила с этой чужой семьей, – невидимую, но старую, тысячелетней древности связь. «Она еврейка, – сказал месье Сарфати сыну, – такая же, как мы».
* * *
Так Ясмина и узнала, ведь у францисканцев все дети молились Богу монахов, неважно, звали тебя Мохаммед, Кристина или же Ясмина. И с того дня она навсегда прониклась благодарностью. Оказывается, быть еврейкой означало быть не такой, как все, особенной, и в этом таилось одновременно спасение и проклятие. Волшебное слово ebrea с одними ее связывало, а от других отделяло. Чужие нашли в ней нечто родственное и вдруг сделались ей своими. Завистливые взгляды детей, перешептывания и злые слова, когда месье Сарфати протянул ей руку и дружелюбно сказал «Привет, Ясмина», смущали ее, но еще больше ее смущало то, что этот чужой человек явно симпатизирует ей. Вредная девочка не могла нравиться, поэтому она не подала ему руки, но он невозмутимо продолжал улыбаться, будто видел в ней то, чего не видели ни монах, ни другие дети, ни даже она сама. Что-то хорошее. Его добрый взгляд прорвал дыру в истории вредной девочки, пусть и маленькую, но достаточную для того, чтобы зародить в Ясмине мысль, что она, может, не так и плоха. Раз кто-то счел ее достойной любви. Ибо этот человек обладал волшебным словом, и оно перевесило.
Она всегда чувствовала, что не такая, как все, но вдруг оказалось, что эта непохожесть не изъян, а печать. Она протянула месье руку, и он произнес фразу, которую никто и никогда не говорил ей:
– Ты хорошая девочка.
* * *
Час спустя взрослые подписали все бумаги, и Ясмина со своей новой семьей покинула францисканскую миссию в Карфагене. Снаружи дул холодный ветер, камни мостовой были еще мокрые после дождя, но зимнее солнце уже заливало белые стены миссии неправдоподобно ярким светом, приходилось щуриться. Она знала, что никогда сюда не вернется.
* * *
Виктор принял ее далеко не сразу, и принятие еще не означало доброго отношения. Поначалу это просто была жизнь бок о бок, ее комната в белом доме семьи Сарфати – целая комната для нее одной! – была рядом с комнатой Виктора, но их миры не пересекались, словно она явилась с другой планеты. Виктор жил так, будто ее не существовало, будто он все еще единственный принц своих родителей. Но однажды он запер ее в туалете, и она поняла, что он уже не может ее игнорировать. Отец наказал его тогда – за то, что сделал с сестрой. Да, он так и сказал – «сестра», а не «Ясмина». Ей тоже полагалось говорить «папа́», а не «месье Сарфати». В строптивом взгляде Виктора, когда он лежал поперек колен отца, а тот пять раз ударил его ремнем, угадывался намек на тайное соучастие, а позже они сделались сообщниками.
* * *
Той ночью она опять не могла заснуть, ее пугала темнота, и она прокралась в комнату Виктора. Он спал. Она закрыла дверь, на цыпочках подошла к кровати и осторожно скользнула под одеяло, легкая как перышко, чтобы он не почувствовал, хотя ее сердце билось так громко, что она боялась разбудить его этим стуком. Когда она уже лежала, легко прильнув грудью к его спине, он проснулся. Она не могла видеть его глаза, но знала, что он их открыл.
– Я не могу спать, – прошептала она.
Виктор повернулся и посмотрел на нее. Удивленно, но не враждебно. И не прогнал ее. Она зажмурилась, чтобы ускользнуть от его взгляда на дно, чтобы остаться с ним, но невидимкой, и всю ее смятенную душу наполнил глубокий покой.
Призраки, которые каждую ночь являлись к ее постели, сюда войти не решались. Они последовали за ней из монастыря в ее новый дом. Могущественные, пылающие сгустки тьмы, которых она боялась до смерти. Все дневное – строгие монахи, пакости других детей – осталось позади, но все ночное прилипло к ней точно смола. И когда опускалась темнота, злые духи были тут как тут, совсем как комары, что в сумерках покидают свои лужи и летят в дома. В монастыре она никому об этом не рассказывала, чтобы ее не приняли за сумасшедшую. В своей новой семье она только раз отважилась попросить папа́ не закрывать дверь ее комнаты на ночь, чтобы туда проникал свет. Когда он спросил ее о причинах – голосом, внушающим доверие, – она рассказала про злых духов, надеясь, что он поймет и защитит ее. Но папа́ сказал, что на самом деле то, что она видит, не существует. И бояться не надо. Ясмина кивнула, как кивают послушные девочки, и он пожелал ей спокойной ночи, как делают добрые отцы. Но как только дверь закрылась, Ясмину снова окружили порождения тьмы. Больше она об этом не заговаривала, однако отныне к ее страхам примешалось еще и отчаяние человека, обреченного молчать.
Но сейчас, рядом с теплым телом Виктора, она не чувствовала присутствия злых духов. Они будто не смели приблизиться к нему. Он был сильнее их.
– Спасибо, – прошептала Ясмина и взяла его руку, не открывая глаз.
* * *
Теперь она знала, куда бежать. И Виктор разрешал ей остаться. Что-то в этих тайных объятиях в темноте, должно быть, нравилось и ему, иначе бы он рассказал родителям. Но те ни о чем не подозревали. Когда утренний призыв муэдзина оповещал о первой зорьке, Ясмина прокрадывалась мимо спальни родителей назад в свою постель. Так шло годами, пока они росли, и этого никто не замечал, и сами дети никогда не говорили об этом при свете дня. До той знойной летней ночи, когда она не могла уснуть от жары. Она прокралась в комнату Виктора, тихо скользнула под простыню и прижалась спиной к его голой груди. Сквозь ночную рубашку она чувствовала его горячую, влажную от пота кожу. Она ждала, когда он обнимет ее, вслушивалась в его дыхание и медленно ускользала в сон… пока не ощутила внезапно нечто удивительное. Что-то жесткое и жаркое коснулось ее бедер. Неведомое, но не зловещее. Оно пробудило в ней любопытство. Когда ее рука нырнула под простыню, чтобы потрогать, Виктор отвернулся. Она не посмела заговорить с ним, он тоже не упоминал об этом. Ясмина усвоила, что между любящими людьми есть вещи, которые ведут свою собственную жизнь под покровом молчания.
* * *
Их тайна с самого начала была больше того, что связывает обычных братьев и сестер. Ибо – несмотря на заверения родителей – их отношения никогда не разумелись сами собой, а были заряжены любопытством и напряжением, вытекающими из разного происхождения. Самоуверенный Виктор инстинктивно чувствовал ее робость, но изводить ее перестал, лишь когда нащупал другой способ почувствовать собственную силу – защищая ее.
На улице главным было не кто ты сам, а кто за тобой стоит. За Ясминой стоял Виктор, а с Виктором лучше не связываться. Он был предводителем своей клики, и если одному из этой клики надавали по шее, обидчику приходилось пробовать на себе кулаки остальных. Ясмина была принцессой квартала, а мальчишки были ее лейб-гвардией.
* * *
Их квартал, Piccola Сицилия, расположенный от францисканской миссии в Карфагене лишь в одном коротком перегоне на пригородном поезде, являл совершенно иной мир. Одно и то же море, но там оно оставалось недосягаемым, хотя его было видно с Монастырского холма, здесь же, у старого рыбацкого порта, с морем жили. Банда Виктора дни напролет торчала на пляже, а по улице, где жили Сарфати – рю де ля Пост, – от станции шли отдыхающие: женщины с белыми зонтиками и мужчины с тяжелыми коробами для пикника, они рассеивались по пляжу, рыбным ресторанам и кафе. Если сиротский приют прятался в тени, и там господствовали дисциплина, послушание и аскетизм, то маленький квартал просто лопался от жизнелюбия, удовольствия и воплей под жгучим солнцем. Ночами гуляки в Piccola Сицилии развлекались на площади, в барах и кинотеатрах, тогда как францисканцы после захода солнца выключали в спальной зале свет. В миссии был только один Бог, Бог христиан, и один язык – язык французов, тогда как здесь, внизу, у моря, колокольный звон Сант’Агостино смешивался с призывом муэдзина и молитвами четырнадцати синагог, они не соперничали между собой, а сопутствовали друг другу, как и четыре языка: итальянский, французский и арабский в обоих своих диалектах – мусульманском и еврейском.
У каждого было по два, иногда по три имени и идентичности. Папа́ в синагоге звался Абрахам, со своими коллегами он был Альберт, а для его итальянской матери – Альберто. Своего любимого внука Виктора она называла Витторио, но в его паспорте стояло Викто́р – все родившиеся в Тунисе европейцы получали при рождении французское гражданство, – а на еврейских праздниках рабби называл его Авигдор, что было близко по звучанию, но имело другое значение, не победитель, а защитник. Маму звали Мейма, традиционное сокращение от Мириам, но все называли ее Мими, это звучало современнее и указывало на ее европейские корни. Семьи, подобные их семье, прибыли сюда на кораблях из Ливорно, Неаполя или Палермо, чтобы обрести новую родину на южном берегу Средиземного моря. Тунис, белый город в Северной Африке, лицом всегда обращенный к Европе, принял их с открытым сердцем и сделал своими детьми. Так и Ясмина стала дочерью этого квартала, где никто не спрашивал, откуда она родом, потому что люди здесь жили настоящим, не очень-то оглядываясь в прошлое и не слишком беспокоясь о будущем.
Piccola Сицилия – это пляж и пальмы, аромат хлеба по утрам, жаренной на гриле рыбы в полдень и жасмина вечером. Это квартал, где половина людей готовила еду, а другая половина ее поедала. Тощие местные кошки кормились у ресторанов остатками рыбы и спали в тени стен. Тут был Cinéma Le Théâtre, куда детей по праздникам пускали бесплатно – на Рождество, Ид и Пурим, и никто не спрашивал, какой они веры, когда они всей гурьбой валили в зал. Тут можно было услышать шарканье babouches – кожаных арабских шлепанцев – по пыльной мостовой, молитвенные бормотания месье Боргеля, который летом, когда снаружи было слишком жарко, совершал свой маарив у стены дома, чтобы всем показать, насколько он благочестив, и крики детей, игравших рядом с ним в футбол. Тут был мусульманский пекарь, который во время пасхальной процессии раздавал печенье людям, глазевшим с балконов и крыш на всем пути к порту от церкви Мадонны ди Трапани на женщин, поющих: E viva la Madonna, viva la Santa Madonna! Все желали прикоснуться к этому таинству, ибо как знать, может, Мадонна слушает и мусульманские молитвы, и еврейские – не она ли та Мариам из Корана и еврейка из Назарета? А теологические споры, в которых какой-нибудь особо благочестивый мусульманин сомневался в ее девственности, а какой-нибудь въедливый еврей еретически вопрошал, как вообще у Бога может быть мать, – споры, происходившие обычно за анисовкой в баре, – переносились на попозже.
Конечно, то не было раем, где ж его найдешь, но люди держались вместе, ибо враги у них были общие: москиты летом, блохи зимой и всегда – пыльный сирокко из Сахары, от которого женщины сходили с ума. Было чем заняться и помимо религиозных споров. Праздновали сообща, ругались и расплевывались, но на следующий день снова сходились – на рынке, на лестничной клетке, в школе, а куда деться-то друг от друга. Учились соблюдать меру – в ссоре и в любви, знали, что можно назвать соседа тупым ослом, но не смей оскорбить его Бога или, того хуже, его мать. Кроме того, праздников получалось втрое больше, чем в Европе, – евреи приглашали христиан и мусульман на Хануку, Рождество справляли в домах христиан, а на Ид аль-Фитр в конце Рамадана набивали себе животы все вместе. Дети танцевали до поздней ночи. Они были братья и сестры во празднестве.
На таких разномастных гуляньях никогда не поднимали три темы: Бог, секс и политика. А зачем? Все слишком любили жизнь, чтобы стремиться к правоте. Быть правым утомительно. Ты мог быть либо правым, либо радостным, но не то и другое сразу.
В этой маленькой стране, не располагавшей ни железной рудой, ни нефтью, самыми ценными ресурсами были гостеприимство и терпимость. Сосуществование было не утопией, а необходимостью. Когда старики нынче оглядываются на то время, у них разрывается сердце. Евреи, итальянцы и французы ушли. Сегодня у всех есть машины, телевизоры и смартфоны, но детский рай Ясмины обратился в бедную страну.
Глава 8
В Piccola Сицилии Ясмина обрела неведомую прежде, ничем не отягощенную свободу. Лето на пляже, теплые сентябрьские ночи на площади перед церковью, цветки жасмина за ухом у весенних фланеров. Здесь она осознала, что вовсе не была вредной девочкой, как твердили миссионеры. Больше не надо было кричать – ее и так слышали, незачем было прятаться – ее и так все уже разглядели. Здесь она могла свободно бегать по пляжу, часами плескаться в море и, не страшась нагоняя, танцевать на свадьбах у соседей. Ее родители – а теперь они у нее были, потому что она говорила им «мама» и «папа́», – показали ей другую историю, в которой она не ютилась где-то сбоку, а, желанная, находилась в центре. Мало-помалу в ней что-то расслаблялось, она уже чувствовала, что не в тягость новым родителям, что она действительно любима. Мать всегда оказывалась рядом, если Ясмина падала, а отец помогал ее новому «я» обжиться в новом мире, она прислушивалась к правилам и участвовала в ритуалах, которые обещали защиту тем, кто их придерживался. Защиту ее Бога и защиту ее общины.
* * *
Когда позднее Ясмине пришлось уяснять, что означает быть еврейкой, она вспоминала отца, который говорил детям, что каждый из них неповторим и угоден Богу именно в своей неповторимости и что эта особость есть миссия: не верить ничему, что говорят люди, потому что мир полон историй, а правды нет и в половине из них. У нас, евреев, есть старая традиция, пронесенная через времена, страны и культуры. Мы – рыбы, что плывут против течения, мы используем собственную голову, чтобы все подвергать сомнению, даже Тору. Мы должны верить только тому, что попробовали сами, ибо Господь дал человеку разум для того, чтобы он не брел по миру тупым ослом.
Она верила словам папа́, потому что все это он проживал сам. Не только в синагоге, не только в Шаббат, но и со своими пациентами в городской больнице, где Ясмина любила навещать его. Доктор Альберт Сарфати в белом халате, со стетоскопом на шее, беседующий с матерью, уверенной, что ее ребенка сглазили. Нет, добрая женщина, терпеливо объяснял Альберт, дайте ему эти таблетки, они хорошие, из Франции, и помойте ему голову, постирайте одежду и постельное белье, да мойте его горячей водой, добрая женщина, потому что сыпной тиф переносится вшами, а не проклятиями!
Альберт считал себя не столько целителем, сколько просветителем. Он верил в науку и в синагоге часами спорил с теми, кто толковал старые писания буквально. Они вели бесконечные дискуссии о том, как Бог мог создать мир всего за шесть дней и произошел ли человек от Адама или от обезьяны.
Он воевал с прошлым, делом чести он считал для себя строительство современного Туниса, где разум и прогресс восторжествуют над суевериями. Он любил этот город и его жителей, несмотря на все их недостатки, он никому не отказывал, движимый искренним интересом к людям во всем их разнообразии. Бедным он уделял столько же времени, сколько и богатым, иногда даже больше, потому что был убежден: образование – единственное лекарство против бедности. Он заботился о том, чтобы его пациенты покидали больницу не только исцеленными телесно, но и с новыми мыслями, которые он посеял в их головах.
* * *
Внешне Альберт выглядел человеком из другого столетия. Шаркая по пыльной рю де ля Пост, доктор Сарфати походил на фигурки Джакометти, длинные и тощие, – шел он медленно, почти неуверенно, слегка пригнув голову, весь погруженный в мысли, но вежливо приподнимал шляпу, приветствуя парикмахера, кошерного мясника, прочих людей, имен которых он не помнил. Buongiorno Dottore, bonjour Monsieur, shalom, assalamu aleikum. Он шел так, будто наблюдал при этом за самим собой: упереть пятку в землю, перенести вес тела на носок, согнуть и напрячь пальцы. Он будто дивился человеческой способности прямохождения, будто перебирался по узким, шатким мосткам науки через болото невежества. Его медлительность отнюдь не была следствием вялости, напротив, когда он задумчиво листал газету или перед сном неторопливо снимал очки и складывал их, эта неспешность была следствием работы ума, который отслеживал динамику движений, фиксировал их и анализировал.
Глаза его, в отличие от тела, были быстры. На улице они мигом выискивали в толпе наиболее интересного прохожего и изучали его прямо-таки с научным любопытством – шрамы на лице у одного, прихрамывание старой женщины, культи нищего калеки на тротуаре. У него был взгляд исследователя, приправленный состраданием, но куда больше Альберта интересовали функции и болезни тела, а не то, что называют душой.
Дружба с Якобом, раввином Piccola Сицилии, не мешала ему жарко с ним спорить. Еще никто, говорил Альберт, при вскрытии тела человека не обнаружил душу. И никакое чудо-средство суеверных баб и пройдох-торговцев не избавит человека от его древних мучений – в отличие от современной фармакологии. Обычно добродушный и миролюбивый, он вспыхивал, когда заходила речь о людских суевериях. Он был европейцем в Африке, одиноким светочем просвещения во мраке магии, шарлатанства и болезнетворных микроорганизмов. «Это суеверие, дитя мое, – приговаривал он, – держитесь фактов! Люди много рассказывают, да мало знают».
Альберт редко выезжал из города. Он был насквозь горожанин, столичный житель, любил широкие бульвары Туниса, прямые улицы европейского квартала с его белыми фасадами в стиле модерн, шикарными кафе и оперным театром. Он был homme de culture[17] и воодушевленно старался передать знания новому поколению своей любимой страны.
* * *
Как, должно быть, горько было Альберту, что собственные дети не пошли по его стопам! Виктор, его первенец и единственный сын, с трудом выдержал выпускные экзамены в школе и хотел стать не врачом, а артистом развлекательного жанра. Ясмина же, на которую обратились все надежды Альберта (пусть она и девочка), потому что она проявляла способности в учебе, гимназию не закончила. Причина была не в ней. Причина была в болезни, поразившей Европу. Распространяясь подобно раку, недуг добрался до Северной Африки.
После того как Гитлер оккупировал Францию, правительство Виши ввело новые расовые законы как в метрополии, так и в колониях. Еврейские врачи и адвокаты лишились права на практику, еврейские учителя и профессура были уволены из государственных учебных заведений, школы и университеты ввели квоты для евреев. Еврейские кинотеатры и газеты были экспроприированы, французская и верная Муссолини итальянская пресса вовсю поносила евреев. В Алжире было хуже всего, там уволенные учителя преподавали в пустых фабричных цехах ученикам, которые больше не могли посещать государственные школы. Тунис держался сколько мог – страна гордилась своей светской традицией отделять церковь от государства, укоренившейся здесь еще до французского протектората. Бей[18] пытался всеми возможными трюками оттянуть применение законов. Тунисские евреи, говорил он, мои дети. Однако в такие времена красивые слова помогали мало, настоящая власть была в руках французов, а те капитулировали перед немцами.
Поначалу казалось, что все идеологией и ограничится, никакой открытой ненависти не было, люди считали происходящее вывертом бюрократии, которому лояльные служащие вынуждены подчиниться. Еврейские врачи не лишились лицензии, они могли и дальше лечить пациентов – по крайней мере, еврейских, что в больнице Альберта приводило к абсурдным ситуациям, когда пациенты-мусульмане вдруг потеряли возможность лечиться, хотя им было все равно, какой религии придерживается врач, лишь бы знал свое ремесло. Больницы стали нанимать молодых христианских врачей, а опытных еврейских докторов увольняли. Альберта первое время не трогали, потому что у него был итальянский паспорт, а итальянский консул вытребовал, как представитель страны-союзника Германии, исключение для своих граждан. Однако Альберт отказался воспользоваться своей привилегией: если его коллеги должны уйти, уйдет и он. Потому что если уж он что и ненавидел, так это несправедливость, и если уж он во что и верил, так это в разум. Без еврейских врачей лечебное дело рухнет, заявлял он, ведь хорошие доктора на вес золота. Но он не принял в расчет людскую глупость. Чиновники беспокоились не за пациентов, а за свои посты.
– Лично мне очень жаль, месье Сарфати, но что я могу поделать? Закон есть закон.
Эту фразу он тогда слышал всюду, начиная от бухгалтера и кончая директором больницы. В атмосфере страха каждый думал в первую очередь о себе.
– Останьтесь, месье, ваши коллеги поймут, – просил его директор, но Альберт не отступил от своих принципов.
Он уволился. Его поступок вызвал большое уважение в еврейской общине, но хлеба на уважение не купишь.
* * *
У Мими его решение не вызвало никакого восторга. Она заправляла домашними финансами, поскольку Альберт с деньгами не особо ладил. Они были для него лишь неизбежным злом, частенько он лечил бесплатно, если у пациентов с деньгами обстояло туго, а поскольку таких было большинство, то слухи о его добросердечии распространились по всему городу. Дыры в домашнем бюджете были единственным поводом для ссор в гармоничном браке Альберта и Мими.
В отношении материальной стороны жизни Мими была прямой противоположностью мужу. Счета, приходившие с почтой, Альберт откладывал, не распечатывая, – и не потому что не хотел оплачивать, а потому что предпочитал почитать газету, статья в которой интересовала его больше, чем обыденность. На улице Альберт и Мими – он всегда в одном и том же поношенном костюме, а она в изящных перчатках, элегантной шляпке и туфлях на каблуке – выглядели людьми из разных миров. Она и действительно происходила из старинной купеческой семьи из Ливорно. С ее семейными связями, изысканной красотой и очаровательным юмором Мими могла бы составить партию любому мужчине из лучшего общества Туниса, но она отклоняла одно предложение за другим. И проявила упрямство, склонясь в пользу студента-медика Альберта, не обладавшего виллой в Карфагене, не приглашавшегося на приемы во дворец бея, не имевшего своего места на трибунах автогонок Гран-При. Свои дни Альберт проводил, изумляясь сложности устройства человека. Она любила его, вот и все. Может, как раз потому, что видела в его особости отражение собственного эксцентричного упрямства, приводившего ее родителей в отчаяние.
Когда она приняла предложение Альберта, родители вздохнули с облегчением, радуясь, что после бесчисленных «нет», оборвавших для них столько социальных связей, наконец-то прозвучало «да». И, вопреки всем карканьям, этот брак состоялся под счастливой звездой – возможно, как раз потому, что они были такие разные и ни в чем не соперничали друг с другом. Он жил в своем мире идей, она управляла материальной повседневностью, он учил детей мыслить, она внушала им веру, он пропал бы без нее, а она знала, что он никогда не оставит ее ради другой, даже когда ее красота поблекнет. И все это основывалось на само собой разумеющемся соглашении – он зарабатывает деньги, которые она тратит. И вот впервые за годы их брака он возвращался домой с пустыми руками, испытывая терпение Мими, которым она и так-то не могла похвастать.
– Не переживай, дорогая, – успокаивал Альберт. – Врачи нужны везде.
Он спросил мусульманских коллег, не требуется ли где подкрепление в их врачебных кабинетах, неофициально, разумеется. Он знал одного еврейского адвоката, который передал свою контору французскому доверенному лицу, и торговца-оптовика, который устроился бухгалтером к мусульманскому базарному торговцу. Однако помочь ему смог лишь арабский аптекарь, месье Бен Амар, который нанял его помощником, другой работы у него не было. И доктор Сарфати ездил на своем автомобиле по городу, развозя медикаменты. За свой черный «ситроен траксьон авант» он держался крепко, ни за что не хотел его продавать. Лучше он будет глодать сухие хлебные корки, потому что человек, имеющий автомобиль, принадлежит к тому слою, который считается современным и европейским. Однако, хотя он не желал бы признаться в этом детям, Альберт прекрасно сознавал, что «траксьон авант», может, и хорошо защищает от дорожной пыли, но против беды, обрушившейся на евреев, он бессилен.
* * *
Виктор своими выступлениями в отеле «Мажестик» зарабатывал больше, чем отец. Он тайком совал купюры маме, чтобы не вызывать неловкости у папа́. Альберту было бы тяжело принимать деньги сына, ведь тогда пришлось бы перестать осуждать занятие Виктора, к которому никак нельзя относиться всерьез. По мнению Альберта, было только одно ремесло, которое подходило Виктору, – медицина. Нежелания Виктора учиться Альберт никогда не мог понять. Не то чтобы он не любил музыку, напротив, он сам же и позаботился о том, чтобы Виктор получал классические уроки по классу фортепьяно. Но то, что так вдохновляло Виктора, – шансон, развлечение летними ночами, игра на чувствах публики – было для Альберта пустой тратой времени. И прежде всего он порицал стиль жизни Виктора, который называл эгоистичным и легкомысленным.
– Что ты делаешь для людей, что ты делаешь для страны? – вопрошал он.
А Виктор лишь транжирил направо и налево. Однако теперь они все зависели от его денег, и отцу пришлось смолкнуть.
Надежды свои Альберт теперь связывал с Ясминой, и она была благодарна ему уже за одно то, что он хотел послать ее в университет. Альберт был действительно передовым человеком – для него женщина-врач была так же хороша, как и врач-мужчина, и он искренне верил в свою дочь. Но незадолго до того, как нужно было подавать заявление на медицинский факультет Алжирского университета, вступили в силу расовые законы: лишь немногие евреи допускались к обучению – исключительно те, у кого родители обладали политическими связями или деньгами. Об университетах Парижа или Рима теперь нечего было и думать. Альберт пообещал Ясмине, что она пойдет учиться, когда война закончится – если победят британцы и американцы. А Виктор услышал, что в «Мажестик» требуется горничная. И хотя эта работа была не лучшего рода, зато «Мажестик» был самый респектабельный отель в городе. Для юной девушки из Piccola Сицилии не было ничего зазорного в такой работе, наоборот, изучение медицины было куда экстравагантнее.
Глава 9
8 ноября 1942 года война европейцев добралась до маленькой страны Ясмины. За завтраком все напряженно, затаив дыхание, следили, как Альберт настраивает радио на волну Би-би-си. Он принялся переводить: впервые с тех пор, как Гитлер вверг планету в войну, его противники перешли в наступление. Самый большой флот, какой только видывали моря, пересек Атлантику и, соединившись с британской флотилией, ко всеобщему удивлению, подошел к Северной Африке. Цель: уничтожить армию Роммеля, а затем начать освобождать Европу с юга.
Тунис, страна Центрального Средиземноморья, представлял собой основание моста к Сицилии, и достаточно было глянуть на карту, чтобы увидеть, что Piccola Сицилия в самом центре военных интересов. Место, куда на лодках прибыли когда-то итальянские мигранты, стремившиеся обосноваться в Северной Африке, должно было стать точкой, откуда огромная армия коалиции начнет движение в обратном направлении.
То была самая большая в истории высадка военных сил. В портах Касабланки, Орана и Алжира французы-вишисты попытались оказать сопротивление, но быстро капитулировали перед превосходящими силами коалиции. Свыше сотни тысяч солдат высадились с кораблей, тысячи грузовиков, танков и самолетов были перемещены на сушу, и гигантская армада начала движение по Алжиру к тунисской границе. С востока, из Ливии, британцы теснили армию Роммеля, потерпевшую неудачу в попытке пробиться к Египту и Палестине. Между двумя фронтами находился Тунис – страна, которую война до сих пор щадила. Впервые непобедимые прежде немцы оказались в обороне. Это еще не конец, – говорил по радио Черчилль. – Это даже еще не начало конца. Но это, возможно, конец начала! Когда новость разнеслась по округе, радостные крики еврейских женщин слышались из многих домов. После нескольких лет страха и трепета – наконец-то надежда!
* * *
Вскоре после того, как высадка войск коалиции стала темой первых полос в газетах, над домами Piccola Сицилии появились самолеты. Была пятница, 13 ноября 1942 года.
– Американцы! – вопили дети, возбужденно носясь по улицам.
Ясмина выбежала на балкон, напуганная низким гулом в небе, и глянула вверх. Поначалу было два-три самолета, но их становилось все больше. Они надвигались со стороны моря как стая саранчи, закрывая солнце. Самолеты летели очень низко, они шли на посадку на недалеком аэродроме Эль-Ауина. Ясмина разглядела на серебристых хвостах черную свастику.
То были не американцы, то были немцы.
Тени самолетов проносились по головам детей.
* * *
Пока все обсуждали, когда союзные державы доберутся до Туниса, Гитлер приказал молниеносно оккупировать последнюю свободную страну Северной Африки. То была гонка на время: кто удержит Тунис, тот и станет контролировать Средиземное море, Сицилийский пролив, а значит, и ворота в Европу. Горожане приникли к радиоприемникам, из которых неслись самые разные версии – в зависимости от станции. «Радиофоно Италия» призывала к фашистскому сопротивлению «на полях сражений, где Сципион когда-то победил Ганнибала». По Би-би-си говорил генерал де Голль, расписывая, как англичане вблизи столицы Туниса «отважно обороняют свободу, равенство и мир!».
Радио «Алжир-франсез», позицию которого было не понять, часами крутило «Марсельезу». В Эль-Ауине что-то взорвалось – это загорелся при посадке один из немецких самолетов. Однако французы, которые контролировали аэродром, не оказали сопротивления – они открыли немцам город. Ночь горожане провели на балконах, вглядываясь в небо. Гул моторов перекрывал шум морского прибоя. В темноте это было особенно жутко. Но где же сами немцы? Сколько их повылезло из чрева самолетов? И что они задумали?
Немцев пока еще никто не видел.
* * *
Папа́ нервно крутил колесико радиоприемника, переходя от одной радиостанции к другой. Был Шаббат, мама еще накануне приготовила шакшуку, яйца-пашот в остром томатном соусе, весь дом благоухал кардамоном, кориандром и кумином. Но Виктор уже переоделся в свой белый костюм, начищенные туфли сверкали. Он хотел своими глазами увидеть, что происходит в городе.
– Никто не покидает дом, – пробормотал Альберт.
– Не беспокойся, папа́, в отеле мы в безопасности.
– Ты останешься здесь, и basta! – воскликнула мама.
Виктор упорствовал:
– Мы итальянцы, нам они ничего не сделают.
– Сынок, ты не знаешь, на что способны люди.
– Но боши как-никак союзники итальянцев. Вот увидишь, нам теперь будет легче!
– Ты не знаешь, что они в Италии делают с евреями?
– Ты думаешь, они будут проверять, обрезанный ли я? Если они нас задержат, я просто крикну: Viva il duce![19]
Альберт тревожно глянул на Ясмину, и без всяких слов было понятно, о чем он думает, – по ней сразу ясно, что никакая она не итальянка. Ее настоящие родители были евреями с острова Джерба – сефарды, которых почти не отличить от арабов. Еще в школе Ясмина почувствовала, что не все евреи равны, более того – евреи и не хотели равенства. Европейские евреи считали себя более изысканным обществом, тогда как арабские евреи гордились тем, что жили на этой земле уже два с половиной тысячелетия. Первые были адвокатами, банковскими коммерсантами и врачами, а вторые – торговцами и ремесленниками. Они, правда, молились вместе, но смешанные браки были табу. Европейский еврей скорее женится на христианке, а арабский еврей – на мусульманке. Истинная граница проходила не столько между религиями, сколько между сословиями.
Приемные родители Ясмины никогда не делали тайны из ее происхождения, Альберт был честным человеком. Но Ясмина и так сознавала свою чужеродность, одного взгляда в зеркало было достаточно: ее черные кудри, ее восточные глаза, беспокойные, горящие, ее полные губы – все это ей самой казалось чужим, она нисколько не походила на людей, которых называла мама и папа́. Хотя Мими постоянно повторяла: «Мы же одна семья, итальянские и арабские евреи!» – все равно во фразе таилось то, что Ясмина ощущала как свой изъян. Вот и в тот момент Ясмину снова кольнуло – когда отец молча посмотрел на нее. Ebrea, волшебное слово, которое когда-то принесло ей спасение, в ту ночь стало проклятием.
* * *
Ясмина вспоминала кадры из киножурнала. Огромные массы людей на площадях в Риме и Нюрнберге. Все в одинаковых рубашках – в Италии черных, в Германии коричневых. Все вскидывают руку в одну и ту же секунду, словно единый организм, все кричат одно и то же слово, отдельных людей уже и не различить. Могло ли такое произойти и здесь? Здесь, где одна идет, кутая лицо, а другая – в платье из Парижа; один носит бурнус, а другой – итальянский костюм; у одного кипа на голове, у другой крест на шее, а третий перебирает пальцами молитвенные четки. Здесь все говорят на путаной смеси из трех, а то и четырех языков. Один ест кошерное, второй халяльное, а третий пьет вино. Неужто можно набросить на этот пестрый разноцветный Тунис ту монохромность, что задушила Европу?
– Я хочу знать, что происходит в городе, – сказал Виктор и направился к двери.
– Ты не слышал, что я сказал? – крикнул Альберт.
– Да что со мной случится? Это мой город, и если я встречу на улице боша, я скажу: «Добро пожаловать, господин Капуста, позвольте пригласить вас на чай».
Виктор был баловнем судьбы. Все так и падало ему в руки, и из любой ситуации он всегда выходил победителем. Он верил в ауру своей непобедимости.
– Виктор, ты еще не видел войны. Ты не знаешь, как униформа превращает приличного человека в зверя.
– Я их не боюсь. Гитлер? Когда я слышу речи этого типа, я не могу сдержать смех. Как можно принимать его всерьез? Ясмина, идем! – Виктор взял ее за руку.
Альберт преградил им путь.
– Свою жизнь можешь хоть выбросить, если ты и впрямь так глуп, но Ясмина останется здесь!
– Мы отвезем их на работу на машине! – предложила Мими.
Как будто в машине они были защищены от немцев. Альберт воспротивился, но – как и бывало чаще всего – Мими своего добилась. Это чувство, что они все вместе, как ничто другое давало ей уверенность в защищенности.
– Возьмите удостоверения! – сдался Альберт и стал повязывать галстук.
Виктор крутанул ручку, заводя мотор, и Альберт выжал газ. Это был единственный ритуал, который еще связывал их.
В небе стягивались тучи, с моря задул холодный ветер. Собирался дождь.
* * *
На дорогах было безлюднее обычного. В воздухе повисла неопределенность. Чтобы попасть в центральный квартал, им предстояло проехать мимо аэродрома. Французские солдаты перекрыли основную дорогу, что вела оттуда в город. Очевидно, что по приказу немцев. Альберт направился в объезд. Он ехал медленно, даже медленнее, чем всегда. Ясмина молчала, зато Мими говорила без умолку. Когда на нее нападал страх, она говорила не переставая, лишь нагнетая напряжение. Сейчас она говорила о сожженных синагогах в Германии, о евреях, которых выгоняли из их квартир и как скот перевозили в лагеря.
Виктор, сидевший впереди, повернулся к ней и взял ее за руку.
– Мама, не надо верить всему, что болтают люди! Я как-то познакомился в отеле с немцами, пожилая путешествующая пара, милые люди. Попросили сыграть для них Бетховена и дали хорошие чаевые.
– Виктор, – перебил его Альберт, – твой отель – не настоящий мир. Почитай газеты, послушай радио, посмотри кино! Мы говорим не о немцах, а о нацистах! Ты видел, как они строят свои города, Нюрнберг, Берлин? Как Муссолини в Риме: только прямые линии и прямые углы. Колонны, улицы, парадные строения, конвейеры военных фабрик – архитектура для машин, не для людей!
Ясмина смотрела в окно. Восток был противоположностью картинок из Германии: изгибы и переулки Медины, извилистые, словно речушки, ветвились привольно, безо всякого плана. Народы прямых углов хотят однозначности, думала она, тогда как восточные люди предпочитают двузначность, игру между видимым и скрытым. Восточный человек никогда не скажет напрямую то, что думает; «да» может означать у него «нет», а «нет» может означать «да» – чтобы каждый мог сохранить лицо. В многонациональных государствах Востока всегда уживаются несколько правд, мирское и духовное перетекают одно в другое – парадокс, который европеец пытается разгадать, тогда как восточный человек просто принимает его как данность. Мы слишком хаотичны, думала Ясмина, для прямолинейных фашистов. Как немцы собираются выиграть войну в стране, где четыре недели уйдет только на то, чтобы явился водопроводчик прочистить забитый унитаз?
– Ты же сам проповедуешь рациональность модерна, папа́, – раздраженно возразил Виктор.
– Я говорю о здравом смысле, – сказал Альберт, разъезжаясь на узкой улице с встречной гужевой повозкой. – Фашисты не рациональны, а фанатичны. Рациональный человек исследует действительность, чтобы лучше ее понимать. Фашисты ненавидят действительность, потому что она слишком парадоксальна, они создают свою собственную правду, в которой есть лишь черное и белое. До тех пор, пока верят в собственную ложь. Поэтому они не могут быть верующими людьми, ведь кто верит, тот принимает таинство, которое больше него самого. Теперь ты понимаешь, почему я боюсь за вас? Потому что для этих нацистов человек не может быть одновременно итальянец, тунисец и еврей.
Они молчали, пока не добрались до центрального квартала. Движение на улицах почти отсутствовало. Можно было кожей ощутить напряжение – как перед грозой. На перекрестках стояли французские солдаты, немцев не было видно.
Виктор сказал, просто чтобы хоть что-то ответить:
– Ты ведь и сам не веришь в Бога, ну разве что в Шаббат.
И закурил. Это была провокация, которую Альберт стерпел.
– Я человек науки, – сказал Альберт. – До тех пор, пока не доказано ни бытие Бога, ни его небытие, сомнению всегда есть место. И это хорошо, потому что сомнение – источник познания. И оно же – источник терпимости, сын мой. Кто сомневается, тот никогда не станет фашистом. Прямой угол – изобретение людей, которые боятся сомнений!
Виктор засмеялся. Он всегда смеялся, когда положение становилось серьезным.
– Это неправда! Взгляни на наш квартал, он построен французами, даже раньше Медины, и там все по линеечке, но они же никакие не фашисты!
– На прямых улицах легче контролировать народ, чем в лабиринте базаров, – ответил Альберт. – Но посмотри на наши фасады ар-деко, на пышные украшения, на цветы и деревья! Если хочешь знать мое мнение, то французы как древние римляне: с одной стороны, холодные рационалисты, с другой – темперамент у них средиземноморский. Имперцы и гедонисты одновременно!
Виктор усмехнулся, и какое-то время казалось, что они пришли к единому мнению.
– Потому-то они и сгинули, римляне, слишком много праздновали! Почему, ты думаешь, французы так быстро капитулировали перед немцами? Если ты спросишь меня, то Северную Африку они потеряют. Они слишком любят смеяться, чтобы так долго господствовать над нами, ведь господство лишает юмора.
– Потому-то я и боюсь немцев больше, чем французов, – вставила Мими. – В них нет ничего средиземноморского, они воспринимают все слишком серьезно, к тому же дисциплинированные и послушные до ужаса.
* * *
И тут они увидели первых немцев. Двое вооруженных молодых солдат в тропической форме стояли у британского посольства. Прохожие, завидев их, переходили на другую сторону улицы. Абсурдная ситуация – и солдаты, и прохожие делали вид, что не замечают друг друга. Взгляд прямо перед собой или под ноги, главное – не встретиться глазами. Альберт поддал газу, и Ясмина не успела разглядеть лица немцев.
Перед главпочтамтом стояли два вездехода «фольксваген» песочного цвета. Лестницу преграждали постовые, не пуская никого внутрь. Не было и намека на сумбур или импровизацию, очевидно, что все действовали по приказу, все следовало единому плану. Что происходит внутри здания? Ясмина увидела, как жандарм приколачивает к газетному киоску плакат, написанный на немецком, французском и итальянском.
К сведению населения!
Отныне государство Тунис находится под защитой немецкой армии.
Требованиям вермахта подчиняться беспрекословно.
Кто станет чинить препятствия, будет расстрелян!
– Поезжай назад, Альберт, – прошептала Мими, – здесь опасно для детей.
Она так и сказала, «для детей».
– В «Мажестике» мы в безопасности, – возразил Виктор.
У отеля на первый взгляд все было как обычно. Но Ясмина сразу почуяла: что-то не так. Напротив входа в отель, на проспекте де Пари стоял немецкий грузовик. Альберт остановил машину. Но сзади посигналили. В зеркало заднего вида Ясмина увидела песочного цвета вездеход с немецкими солдатами. Водитель привстал и заорал:
– Давай! Проезжай вперед!
Альберт испуганно вдавил педаль газа, и мотор тотчас захлебнулся. Машина дернулась, остановилась, и затем последовал толчок сзади. В них воткнулся вездеход.
Что-то крикнули по-немецки.
– Боже милостивый! – воскликнула Мими.
– Заведи, Виктор, быстро! – велел Альберт.
Виктор схватил рукоятку, выскочил из машины. Ясмина увидела, как два солдата в стальных шлемах спрыгивают с вездехода и направляются к ним. За ними следовал офицер.
– Документы у вас с собой? – прошептал Альберт.
– Да.
– У Виктора тоже?
Ясмина не знала. Через стекло она видела, как Виктор приветствовал солдат:
– Ciao, amico, come va?[20] – С обезоруживающей улыбкой он показал им ручку для запуска мотора.
Немцы были даже моложе его. Изможденные лица, еще чужие здесь. Виктор склонился перед радиатором, вставил рукоять в отверстие и резко крутанул, немцы, остановившись подле него, явно давали советы. Альберт выжал педаль газа, еще раз, и еще. Мотор ревел, но не запускался. Мими бормотала молитву.
В стекло постучали.
– На газ не жать! – У офицера было жесткое, худое лицо с холодными глазами.
Альберт кивнул, на лбу выступили капли пота. На тротуаре уже скопилась горстка зевак. Офицер что-то приказал, и солдаты, встав по разные стороны машины, без предупреждения толкнули ее. Виктор едва успел отпрыгнуть в сторону, ручка звякнула об асфальт. Один солдат открыл дверцу и взялся за руль, чтобы направить машину к обочине. Альберт бессильно обмяк. В этот момент Ясмина осознала: немцам нет нужды ненавидеть их. Местные для них просто помеха, которую следует убрать с дороги. Вероятно, им безразлично, евреи эти местные, арабы или итальянцы. Они смотрели на них сверху вниз, потому что местные – никто. Ненависть рождается в горячем сердце, презрение исходит из холодного.
Машина ткнулась в тротуар и резко остановилась. Прохожие таращились, разинув рты.
– Где Виктор? – крикнула Мими.
Ясмина обернулась и увидела его позади машины, офицер что-то требовательно говорил ему. Немецким военным было не особо интересно пререкаться с местными. Вот и офицера привлек вовсе не сам Виктор, просто следовало показать собравшимся зевакам, кто теперь хозяева в городе. Виктор был лишь средством. Скорее всего, немец не смог бы отличить еврейское имя от мусульманского. Виктор делал вид, что ищет документы, лишь бы потянуть время. Ясмина тотчас это поняла. У него не было с собой удостоверения. Почему он не взял его? Из высокомерия или из-за протеста против отца? Ясмина схватилась за ручку двери.
– Сиди! – приказал Альберт непривычно резко.
– Надо ему помочь!
– Сиди, я сказал!
Альберт уже хотел выйти сам, но тут от толпы зевак отделился мужчина в элегантном костюме. Это был Латиф, консьерж.
– Виктор! – громко воскликнул он и обратился к офицеру по-французски: – Этот господин – сотрудник отеля «Мажестик», месье!
– Что?
– Personale. Lavoro. Italiano. – То была неподражаемая смесь из вежливости, такта и авторитета, присущая Латифу. Всегда к вашим услугам, но никакого раболепия.
– Персонал? А документы?
– В отеле, месье. У нас такой порядок.
– Ну тогда на работу, вперед!
Офицер направился с Латифом и Виктором ко входу в отель.
Латиф незаметно подал Альберту, уже вылезшему из машины, знак не вмешиваться. Альберт кивнул так же незаметно и сел на место. Солдаты припарковали свой автомобиль перед отелем.
– Что они с ним сделают?
– В отеле ему ничего не грозит, – сказала Мими.
Однако когда Виктор с Латифом и офицером скрылись за дверями, Ясмину охватило недоброе чувство. Она не раздумывая распахнула дверцу и кинулась через дорогу к «Мажестику».
– Ясмина! – крикнул вдогонку отец.
Солдаты обернулись. Ясмина пробежала мимо них. Внутри она поняла, что совершила ошибку.
В лобби царил хаос. Повсюду громоздились чемоданы, ящики с амуницией и канистры. У стойки какая-то французская пара протестовала, носильщики тащили их чемоданы к выходу, солдаты выгружали из ящиков оружие. В центре стоял офицер с каким-то списком – наверное, распределял комнаты. Ясмина увидела Виктора с Латифом и направилась к ним.
– Они конфисковали отель, – безутешно прошептал Латиф.
Благородный «Мажестик» отныне больше не был отелем, а стал комендатурой немецкого вермахта.
Ясмина непонимающе смотрела на него.
– А что с нами? – спросил Виктор.
– Для нас ничего не меняется, – сказал Латиф с горькой иронией. – Разве только то, что наши дорогие постояльцы теперь все будут сплошь из Германии. Быстро, Ясмина, переодевайся – и наверх. Все комнаты должны быть подготовлены.
Ясмине стало не по себе.
– А Виктор? – спросила она. – Латиф, ты же знаешь, мы…
– Французы? – перебил ее немецкий офицер со списком, издерганный и переутомленный многоязычным хаосом.
– Итальянцы, – сказал Латиф. – Они итальянцы.
– Nome, cognome?
– Карузо, Витторио и Фарфалла, – соврал Виктор.
Офицер внес их имена в свой список и спросил Латифа:
– Британцы или американцы среди персонала?
– Нет, месье, – сказал Латиф.
– Хорошо, – вздохнул офицер и побежал к расшумевшимся солдатам, чтобы призвать их к порядку. Сизиф с авторучкой.
Латиф подмигнул сестре и брату:
– И, как полагается добропорядочным итальянцам, немедленно повесьте кресты на шею. Capisce?[21]
Глава 10
МАРСАЛА
Жоэль вытягивает из сумочки старое фото, кладет на стойку, между чашками кофе. Черно-белое, с волнистой кромкой.
– Вот моя мать. За год до моего рождения.
Ясмина стоит перед аристократическим зданием эпохи грюндерства[22], отелем «Мажестик», на ней форма горничной, типично французская, даже с наколкой. Похоже на маскарадный костюм, никак не выражающий ее сути. Красивая женщина, но «красивая» – не совсем верное слово. Ясмина обворожительна. Ее глубокие темные глаза, кажется, не просто смотрят на фотографа, они будто готовы поглотить его. Да и слово «женщина» совсем не точное. Если присмотреться, ясно, что она еще почти девочка. Не робкая, но полная жажды жизни.
Она совершенно не походит на мою бабушку, с ее строго поджатыми губами. Понятно, почему мужчина мог бы попасть под ее чары. Я волнуюсь, как бывает со мной на раскопках. Когда высвобождаешь из-под слоя земли кусочек керамики или металла, который позволяет заглянуть сквозь время. Почти забытое чувство. И почему я это оставила? Ведь не для того я изучала археологию, чтобы управлять архивом. А чтобы преодолевать границы привычного: из найденных камней мы складываем воображаемые дома, из домов – города, а из городов – людей, которые в них жили.
* * *
Конечно, я видела старую кинохронику из Африки. Глазунья, поджаренная на танке. Песня «Хейя сафари». Я всегда удивлялась, как молоды были те блондины в пустыне. Я так и ждала, что в каком-нибудь кадре мелькнет Мориц, но потом вспоминала, что он ведь сам стоял за камерой. Может, именно эту сцену как раз и снимал.
Но вот о чем я никогда не думала, так это о людях, про которых мне рассказывает Жоэль. Были немцы и были их противники, объединенные в коалицию. Почти неотличимые – в тропических шлемах, в военной форме. Но были еще и местные, не чьи-то враги, а просто люди – мужчина в бурнусе, женщина, закутанная в белое, узоры хной на ладонях. Арабы, евреи, но они не были для меня Мохаммедом, Давидом, Ясминой, не были людьми с историей, лишь статистами на заднем плане. И я никогда не спрашивала себя, как эти люди воспринимали европейцев, которые вторглись в их страну, чтобы убивать там друг друга. История Жоэль – это новый кадр, с другой перспективой, которой нет в старой хронике.
* * *
Мне требуется время, чтобы заново настроить мой компас. Я все знаю о Древнем Египте, но почти ничего об этом мире, который находится в двух шагах отсюда. Евреи и арабы, для меня это символ вечной вражды библейского масштаба. Жоэль смеется.
– Мы же двоюродные братья! Мы – как и они – пишем справа налево, мы не едим свинину, у нас один Бог, явившийся нам в пустыне. И мы празднуем невероятно шумные свадьбы. Никто из нас не видел в другом чужого, мы ведь и не знали другого мира, кроме нашего пестрого хаоса. Мы все откуда-нибудь пришли. Посмотри на карте, где расположен Тунис – ровно по центру Средиземного моря. Точка скрещения между Европой и Африкой, между Востоком и Западом. Сколько народов уже прошло через это место! Финикийцы, которые основали Карфаген. Римляне, которые его разрушили. Вандалы, которые его заново воздвигли. Потом пришли арабы и сделали из Туниса центр науки и торговли. Андалузские художники и ученые привели его к культурному расцвету, потом его завоевали турки, а под конец французы. Там были итальянцы, мальтийцы, ливийцы, марокканцы – и, конечно, евреи, которые пришли сюда еще до рождения Христа, принеся с собой камешек от храма, разрушенного в Иерусалиме, его они и положили в основание синагоги на Джербе.
– Сколько евреев живет в столице Туниса?
– Сегодня? Не много, к сожалению. Но когда твой дед прибыл в город, они составляли около пятнадцати процентов. И половина жителей были европейцы.
Мне приходится немного подправлять систему координат. Археолог во мне задает вопросы, отбраковывает неполное знание, заново создает взаимосвязи. А что-то другое во мне расслабляется в присутствии Жоэль, впускает в себя.
– Разумеется, это не было идиллией. Мы не жили в обнимку, мы просто были соседями. Присматривали за детьми друг друга, вместе отмечали праздники, спорили об идиотских пустяках. Была бедность, были болезни, но никто не считал, что в каком-то несчастье виноваты мусульмане или евреи. Религию другого уважали, потому что почитали Бога. И Бог тогда был не такой, как сейчас. Уважали таинство главных вещей, вот. А разделили нас нацисты.
– Где ваша мать встретила Морица? В отеле?
Посреди вопроса звонит мой телефон. Это Патрис. Только теперь до меня доходит, что уже поздно. История Жоэль напоминала раскопки: погрузившись в другое время, я забыла про настоящее. Я говорю Патрису, что все еще торчу в баре. И что встретила человека, с которым он непременно должен познакомиться. Он встревоженно шепчет в трубку:
– Ни с кем не говори про наш самолет. Слышишь? Ни с кем!
– Почему?
– Возвращайся в отель. Немедленно. Я жду тебя там!
Я растерянно отключаю телефон.
– Мне надо идти. Мне очень жаль. Я бы хотела узнать о Морице больше.
Жоэль берет свою сумочку:
– Я тебя немного провожу.
Глава 11
Мориц
Настоящая поисковая экспедиция состоит не в том, чтобы открыть новые ландшафты, а чтобы обрести новое зрение.
Марсель Пруст
Мы выходим из города, направляясь в сторону отеля, вдоль дороги тянутся поля, иногда попадаются маленькие домики; мы минуем дикий пляж, замусоренный пластиком, ржавыми останками машин и плавником. Море серебристо поблескивает, радуя глаз обманчиво мирной красотой. Как будто знать не знает о тайнах, которые скрывает в своих глубинах.
* * *
Я представляю себе Морица в самолете, стиснутого между незнакомыми солдатами. Гул мотора, темнота, пот и сигареты, смятые письма из дома, в последний раз извлеченные из кармана, чтобы перечитать. В крошечном иллюминаторе – синее, зловеще мирное Средиземное море, купайся не хочу, потом бурый берег, сожженная земля. Африка. Никого из его товарищей еще не заносило так далеко на юг. Молодые парни летели в чужую страну, чтобы принести там в жертву свои лучшие годы. Некоторые из них побывали в России, выжили в ее снегах, а здесь пустыня и зной – где ты предпочел бы погибнуть?
* * *
Мориц знал цвета этого континента. Он был в Эль-Аламейне. Выжил в том адском огне, сам не понимая как. Оглушительный грохот артиллерии, разорванные танки и горящие люди в ночи. Безумие в пустыне было даже страшнее самой смерти, которая всегда была рядом, в любой момент могла тебя поймать. Он был не храбрее тех бедолаг, которых они не смогли похоронить, просто ему пока везло. Почему выжил он, а не неведомый ему солдат, павший в каких-то метрах от него? Пуля могла задеть и его. Английский снайпер лишь по случайности целился в другого, а может, и в него, но промахнулся, чуть дрогнула рука, порыв ли ветра – и твоя судьба решена. Какой смысл в существовании, если цена его так мала?
И вот под ними дома города Туниса, белые кубики на побережье, минареты, линии улиц, можно даже различить людей. Одна из них, не подозревая об этом, станет матерью его дочери.
* * *
Аэродром в лучах закатного солнца, ветер с моря, безумный танец пальм, пыльный вихрь на посадочной полосе. Мужчины крепко держат свои фуражки. Несколько бараков и железные ангары; солдаты выпрыгивают из самолета без трапа, запах чужой земли и привычные приказы. Каждый со своей поклажей, построиться, шагом марш. Тревога Морица за свою камеру, объективы и пленки, он проверяет все деревянные ящики, ни один метр целлулоида нельзя потерять, катушка «Агфахром» здесь дороже, чем сотня канистр с водой. Места назначения никто не знал, довольствовались лишь слухами. Где тут Роммель, где стоит Монтгомери? Кто-то рассуждал о римлянах и Карфагене, разрушенном городе прямо у них под ногами, в точности здесь, где теперь аэродром. «Юнкерс Ju-52» развернулся и тут же снова взлетел, держа курс на Трапани, чтобы забрать следующую партию камрадов.
Десятки тысяч немцев и итальянцев устремились в страну, не готовую к их прибытию. Не готовую ни принять их как гостей, ни сражаться с ними. Французы свое оружие не задействовали, открыли город. Тунисцы, давно уже не являвшиеся хозяевами своей страны, просто наблюдали, как их дом переходит в чужие руки. Невеста досталась завоевателям даром.
* * *
Но и Мориц прибыл в Тунис неподготовленным. По Ливийской пустыне ему уже был знаком этот яркий свет, резкой гранью отделенный от тени, но он впервые видел широкие бульвары, белые фасады в стиле модерн, голубые ставни на окнах. Это Африка, но город французский, говорят на непонятных языках, обычаи тоже незнакомые, и население – поразительное сплетение самых разных групп. Морица и его товарищей научили убивать противника, но не объяснили зачем. Ради Германии, разумеется, но что Германия тут потеряла, никто не знал.
Первая сцена, которую снял Мориц, – проверенная временем картина триумфа: немецкие танки победно катят по городу. Эту картинку уже знали по Востоку – командир танка стоит навытяжку, новым было только окружение. Улица, окаймленная пальмами – возможно, проспект де Пари, – за танками марширует пехота, взгляды молчаливых прохожих у кафе. Камеру надо вести всегда слева направо, как строчку письма, внушал Мориц своему ассистенту, желторотому юнцу из Потсдама, и всегда победно двигаться вперед! Танки, которые объезжают оператора неправильно, на студии UFA отбраковываются. На заднем плане аптека, две надписи по окну, французская и арабская, – знал ли Мориц, что для арабов, которые пишут справа налево, танки двигались не в ту сторону?
Смена кадра: местное население. Нам нужно ликование и воодушевление, лучше всего дети и женщины, встречающие немцев как освободителей! И они нашли, где снять такие сцены, но не в центральном квартале, где жили главным образом французы, а в порту, где отыскали союзников-итальянцев и арабов, которым немцы были желанны не столько из идеологических соображений, сколько в надежде, что те освободят страну от французского господства.
Пишущие коллеги Морица проделали блестящую работу – пропагандистская рота трудилась не только на немецкое население, но и на местное. Над улицами порхали листовки, написанные на трех языках.
Тунисцы! Мы не колонизаторы! Мы пришли освободить вас! Ваш враг – наш враг!
И при всем недоверии к завоевателям многие радовались, открыто или втайне, низвержению французов: бывшие господа теперь сами оказались под пятой! А те, в ком был силен инстинкт подданного, подчинялись сильнейшему – нации новых господ, высшей расе, асам молниеносных войн.
Еще никто не знал, что Тунис, столица Туниса, станет последним завоеванием немцев, мнимой победой без сопротивления, и что этой же зимой в кинохронике будет все чаще звучать новое слово – отступление. Или же туманное спрямление линии фронта. Но никогда – поражение.
Мориц отснял все необходимые планы и сцены, смонтируют их как надо уже в Берлине. Действительность не искали, не выбирали, ее монтировали.
– Откуда вы все это знаете? – спрашиваю я Жоэль.
– От матери. Он никому об этом не рассказывал, кроме нее.
У меня мелькает мысль: можно ли на это положиться? Устные источники. Как археолог, я верю только в то, что можно потрогать. Старый спор между археологами и историками. Историки говорят с людьми. Мы говорим с камнями. Камни не лгут.
Документально установлено, что гранд-отель «Мажестик», находившийся в собственности у одной еврейской семьи, был реквизирован вермахтом и отдан под комендатуру. В течение суток всех постояльцев выставили на улицу. В боковом крыле на третьем этаже обосновалась пропагандистская рота «Африка» – жалкие остатки из Ливии и свежее подкрепление из Франции, 16 человек команды «текст-фото-фильм», 3 мотоцикла, 5 легковых машин, 8 пишущих машинок («Олимпия», «Оливетти» и «Торпедо»), 2 передвижных печатных пресса для листовок, 8 камер «Лейка-IIIc» с объективом 50 мм «Эльмар», 2 кинокамеры «Аррифлекс», 16-миллиметровые, с цейсовскими объективами, деревянные штативы, 32 катушки черно-белой пленки 16 мм «Агфахром», 5 катушек 16-миллиметровой цветной пленки «Агфаколор», передвижная фотолаборатория, небольшие и средние громкоговорители по 20 и 70 ватт, с досягаемостью не более 1500 метров.
Горничные застилали постели, чистили туалеты и относили в стирку военную форму. Bonjour, Monsieur; excusez-moi, Monsieur; au revoir, Monsieur – никто не спрашивал у девушек ни имен, ни религиозной принадлежности. Обученные быть невидимками, они приспособились к распорядку немцев, знали, когда комнаты пустуют, и перемещались по отелю тенями. Мориц не замечал Ясмину. Она была одной из теней, иногда их взгляды встречались мимоходом, но они не обменялись ни одним словом сверх необходимого. Форма определяла одного как господина, а вторую как прислугу. Впоследствии он удивлялся, как мог так долго проходить мимо женщины своей жизни, не замечая ее. И как много людей всю жизнь проходят мимо друг друга, даже не взглянув по-настоящему. Но Виктор, разве мог он проглядеть Виктора? Он заметил его в первый же вечер, когда пришел в бар, чтобы выпить со своей командой. Виктор сидел за роялем. Виктор, поющий итальянец. Виктор, который знал, где легче всего спрятаться, – там, где тебя никто не ищет. В свете рампы.
- C’est presque au bout du monde
- Ma barque vagabonde
- Errant au gré de l’onde
- M’y conduisit un jour.
- L’île est toute petite
- Mais la fée qui l’habiteGentiment nous invite
- A en faire le tour[23].
Он играл и пел медленное танго «Юкали» с тяжелым шагом и легкой мелодией, про которое ни один немец не знал, что это тайный гимн французского Сопротивления. Сочиненный Куртом Вайлем в парижском изгнании. В этом был весь Виктор. Всегда на грани, с неизменным шармом. Но он не догадывался, что эта песня, в которой речь шла о тоске по утраченному раю, скоро станет балладой его собственного изгнания.
- Youkali,
- C’est le pays de nos désirs
- Youkali,
- C’est le bonheur, c’est le plaisir
- Youkali,
- C’est la terre où l’on quitte tous les soucis
- C’est dans notre nuit, comme une éclaircie
- L’étoile qu’on suit
- C’est Youkali[24].
– А ты не знаешь чего-нибудь немецкого? – кричали солдаты.
И Мориц, который во время службы в Ливии нахватался слов у своих итальянских товарищей, перевел Виктору.
– «Лили Марлен»! – крикнул кто-то от стойки бара.
Конечно же, Виктор знал «Лили». Английские постояльцы любили эту песню, французы и итальянцы тоже. Но Виктора удивило, что и нацистам она явно по душе, хотя Геббельс в апреле 1942 года запретил песню за то, что ее пела Лале Андерсен[25]. Из-за ее дружбы с евреями. Но эта песня действительно могла объединить всех мужчин, что оказались на фронте вдали от своих любимых. Песня, при звуках которой британцы вопили из своих окопов немцам: Louder, please![26] – пока и британский генералитет тоже не запретил ее. Но мужчины по разные линии фронта продолжали ее насвистывать.
Итак, Виктор заиграл «Лили Марлен». Пятьдесят немецких офицеров и солдат подпевали ему во всю глотку. Некоторые даже прослезились, кто-то поднес итальянцу вина, поставил бокал на рояль, grazie, Виктор, bello, Виктор, viva Муссолини, хайль Гитлер, поганая война, проклятые «томми», завтра мы им покажем, а сегодня мы выпьем с тобой, так мы хотим побыть вдвоем, хотим стоять под фонарем, как та Лили Марлен.
– Ты пел с немцами? – удивилась Ясмина.
– Тсс, не так громко. – Виктор огляделся: никогда не знаешь, кто сидит с тобой в одном вагоне. Слабо освещенный поезд до Piccola Сицилии был почти пуст, а те, кто видел их в этот поздний час вместе, принимали за пару.
- Обе наши тени сливаются в одну;
- То, что мы влюбленные, видно хоть кому,
- Ну и пускай глядят на нас,
- Как мы стоим тут битый час,
- Как та Лили Марлен.
Ясмина понизила голос:
– Как ты мог? Они же ненавидят евреев.
– И любят итальянцев. Надо только прикинуться дурачком. Им это нравится, тогда они чувствуют себя великими. Один все время поправлял мое произношение!
- Вот и прощаемся, у нас отбой,
- А как бы мне хотелось уйти с тобой,
- С тобой, Лили Марлен,
- С тобой, Лили Марлен.
– Виктор, это слишком опасно, – шептала Ясмина. – Тебе нельзя дружить ни с кем из них! Если они узнают, кто ты…
Виктор только ухмылялся:
– Ты бы послушала, как они поют. Такие сентиментальные, рассопливились. Эта господствующая раса, скажу я тебе, уже заранее наложила в штаны. Они же знают прекрасно, что через пару дней здесь будут американцы. Не беспокойся, все будет не так плохо, как думают люди. Мы же им ничего не сделали.
- Ну а случится со мной беда,
- Кто будет здесь стоять тогда
- С тобой, Лили Марлен,
- С тобой, Лили Марлен.
– Нам надо затаиться, Виктор. Давай завтра просто не выйдем на работу.
– Тогда они будут нас искать, ты не понимаешь? Наберись терпения, farfalla, всего на несколько дней, пока не придут американцы. Ты же помнишь, как бабушка теряла свои очки? Она их ищет по всему дому и созывает на помощь всю родню. А где они оказываются в итоге? На ленточке у нее на шее! – Он засмеялся и взял Ясмину за руку: – Если уж они кого-то ищут, то точно не в своем доме, не у себя под носом.
Она любила тепло его руки, ее уверенную силу. В мире Виктора всегда оставалось место для надежды, и стоило лишь примкнуть к нему, хотя бы мысленно, как все вокруг становилось светлее и легче, ничего не погибало. Виктор не больше других знал, где сейчас стоят американцы и смогут ли они победить немцев, – каждая радиостанция, каждый слух утверждал на этот счет свое, – но он верил в них, как в шансон, который пел с такой убежденностью, что все слушатели воспринимали песню как собственную, правдивую историю.
Виктор принадлежал к счастливым людям, приспосабливающим мир к своим убеждениям, а не наоборот, как большинство. Он действительно всегда находил выход, что бы ни говорили при этом родители, общество или мнимые друзья. Все тяжелое он делал легким. Рядом с Виктором Ясмина и впрямь становилась бабочкой.
* * *
А потом начался забег. Виктор наперегонки с реальностью. Продвижение войск коалиции замерло, они не добрались до города. Их остановила контратака объединенных сил немцев и итальянцев, танки и пикирующие бомбардировщики, к тому же зарядили осенние дожди, дороги развезло, русла рек вздувались за минуты, превращаясь в смертельные ловушки. Союзники увязли в грязи. И новые господа с устрашающей быстротой запустили в Тунисе свой конвейер.
Когда однажды в семь часов утра раздался стук в дверь, Ясмина в испуге очнулась ото сна. Сперва она решила, что это немцы. Но те действовали более ловко. Быстрее. Основательнее. Вместо того чтобы кропотливо выискивать в городе евреев – а евреем был каждый шестой житель, – они переложили эту грязную работу на самих евреев. За дверью стоял старый друг Альберта из еврейской общины. Глаза его были полны стыда за то, что он пришел требовать невозможного от своего брата по вере. Простите меня, но мы должны это сделать, сказал он. Жест доброй воли. Мойше Боргель, председатель общины, сейчас как раз ведет переговоры с немцами. Бей протестует, он говорит: евреи – это мои дети. Но он больше не может нас защитить. Мы должны пойти на сотрудничество.
* * *
Людей они поначалу не потребовали. Только матрацы. Вместе с кроватями. И подушки, и простыни. Вскоре перед домами были выставлены на улицу десятки кроватей, абсурдная картина – дети прыгали на кроватях, пока грузовик не увез. И в тот же день по кварталу поползла отрава раскола: кровати забрали только у евреев, остальных семей это не коснулось. Пока не было слышно ни слова зависти или неприязни, напротив, мусульмане и христиане высказывали солидарность, однако чем громче они это делали, тем больше евреи задавались вопросом: что, теперь так и будет? Ночью, улегшись спать на полу, Ясмина пыталась представить, кто сейчас спит на ее кровати. Голубые у него глаза или карие. Думает ли он о том, чья под ним кровать. И не мучает ли немца совесть. Может, он ее ровесник. Может, он уже убивал. Может, и сам скоро погибнет. Иншалла.
Шепча проклятия, она заснула.
* * *
Потом потребовали радио. Все евреи должны были сдать на главпочтамт свои радиоприемники. Те, чьи фамилии начинались на первые шесть букв алфавита, сдают в субботу с 12 до 20 часов, на следующие семь букв – в воскресенье с 8 до 12. И так далее. Сотни, тысячи приемников громоздились в зале штабелями. Каждый владелец получил квитанцию: после войны ему вернут его аппарат. Все было организовано в строгом бюрократическом порядке, так что многие действительно поверили, что снова увидят свое имущество. Другие попрятали приборы, в первую очередь жители Медины с их старыми домами – лабиринтами из закутков и лестниц в заколдованных переулках, по которым не могла протиснуться машина. В таких домах собирались соседи, чтобы тайно послушать Шарля де Голля по Би-би-си.
Кто не подчинится распоряжениям вермахта, будет строжайше наказан.
Так было написано на плакатах – по-французски, по-итальянски и по-немецки. Но какое предполагалось наказание? Денежный штраф? Тюрьма? Расстрел? Об этом не говорилось: чем меньше знаешь, тем больше чувствуешь себя зависимым от власти произвола. В каждой семье были как пугливые, так и строптивые, а еще были те, кто зарабатывал по несколько су, донося на соседей.
* * *
Затем забрали фотоаппараты и пишущие машинки. Того, что не задокументировано, считай что и не было. Реальность есть только на фотографиях победителей, остальные пусть довольствуются устными пересказами, слухами и сплетнями. Новые хозяева ценили устное меньше, чем напечатанное, а напечатанное слово меньше, чем фотоснимок. Они не подозревали, что арабы с незапамятных времен доверяли не изображениям, а словам, и их истории испокон веку передавались из уст в уста. И что они как никакой другой народ умели читать между строк, были мастерами по части двойного дна и спрятанных сокровищ.
Но самой большой глупостью немцев было то, что свои призывы к населению они не писали по-арабски. Арабы же давно знали, что латинские буквы – буквы оккупантов, потому проходили мимо плакатов с таким же безразличием, с каким научились игнорировать плакаты французов. Мектуб – написанное – считалось действительным только на их языке, языке Священной книги, только это звучание достигало их души.
Узнав об этом, немцы сменили тактику. На каждый вражеский слух, выловленный их прихвостнями, они тут же распускали противослух. Улицы затопили шепотки. Новости курсировали, как фальшивые деньги, черный рынок лжи. Люди учились не доверять слишком очевидному, а правду искать в сокрытом. Однако вскоре и шепоток стал отравленным. И немцы на этом наживались. Мориц знал, что туманные сведения деморализуют сильнее дурных, но определенных вестей. Страх и надежда сменяли друг друга в течение минут, неуверенность разъедала души и отравляла целые семьи.
* * *
Затем они потребовали людей.
* * *
Охота началась в восемь часов промозглого декабрьского утра. Над городом висел туман. Выйдя из пригородного поезда, Ясмина влилась на проспекте де Пари в поток служащих, идущих на работу. К счастью, Виктор еще оставался дома.
Когда Ясмина проходила мимо синагоги, рядом притормозили несколько грузовиков. Вооруженные солдаты попрыгали из кузовов и побежали ко входу. Слышалось стаккато приказов, топот сапог на мокрой мостовой. Прохожие пригнулись, прикрыли головы папками и бросились прочь. Мгновенно воцарился хаос. Ясмина вместе с другими нырнула в переулок, но навстречу маршировало подразделение солдат. Они метнулись назад, на проспект, а там уже вовсю хватали людей. От каждого требовали документы. Если человек оказывался евреем, его уводили.
Некоторые пытались убежать, последовали выстрелы. Солдаты сгоняли евреев на площадку перед синагогой, держали их там под прицелом, как будто то было вражеское войско, а не безоружные служащие, дети и старики. Пытавшиеся скрыться получали прикладом по ребрам. Один уже лежал на земле, капли дождя мешались с его кровью. Ясмина дрожала всем телом, когда показывала свой документ. Солдат что-то пролаял и жестом отогнал ее. Она поняла, что их интересуют только мужчины. Она кинулась прочь со всех ног.
* * *
Латиф уже стоял перед отелем и быстро провел ее внутрь. В отеле было пусто, все немцы, должно быть, участвовали в операции. Из служебки консьержа Ясмина позвонила отцу:
– Папа́, ни в коем случае не выходи в город! И Виктору скажи, пусть сидит дома!
– Почему, что случилось?
– Они устроили облаву. Хватают всех еврейских мужчин.
– Где?
– Перед синагогой.
– Ты видела рабби?
– Нет.
– А раненые есть?
– Да.
В ту же секунду она пожалела, что сказала правду.
– Ясмина, оставайся там, где ты сейчас!
– Папа́, нет, не приезжай, слышишь?
Он уже положил трубку. Ясмина проклинала свой язык. Латиф смотрел на нее с тревогой. Она побелела как мел.
* * *
Когда Альберт со своим докторским чемоданчиком подоспел к синагоге, там уже десятки мужчин сидели на корточках под дождем. Некоторые прикладывали пропитанный кровью платок ко лбу или к руке. Два эсэсовца преградили ему путь. Прокаркали что-то, он не понял.
– Doctor! Medico!
Альберт предъявил свое врачебное свидетельство, как будто оно могло дать отпор их оружию, а его благородное ремесло могло противостоять их жестокости. Они отшвырнули его. Альберт глянул на раненых.
– Уходи, спрячься! – прошипел один из них. Альберт узнал своего пациента, торговца золотом Сержа Коэна.
– Еврей? Jiff? – пролаял немец.
Альберт сделал вид, что не понял.
– Удостоверение! Бумаги!
Альберт снова протянул им врачебное свидетельство. Другого документа у него при себе не было. А в этом не указывалась ни религиозная принадлежность, ни национальность. Солдаты передавали это свидетельство из рук в руки. Внезапно из синагоги послышались выстрелы. Солдаты вытолкали наружу мужчину. Альберт узнал Хаима Беллайше, девяностолетнего раввина. За ним следовали офицер СС в черном кожаном плаще и тунисец в костюме и галстуке, возмущенно что-то говоривший эсэсовцу. То был Поль Гец, адвокат и член совета еврейской общины, рослый высоколобый человек в круглых очках, всегда задумчивый и взвешивающий каждое слово – даже теперь, в полном своем бессилии.
Эсэсовцы приказали раввину сесть на землю рядом с остальными мужчинами. В этот момент Альберт еще мог бы запрыгнуть в свою машину и уехать. Но тогда бы он не был тем, кем был. В такие моменты доктор Сарфати забывал об Альберте Сарфати. Все стрелки, что когда-либо переводили рельсы на путях его жизни, на самом деле были спонтанными решениями в пользу других. Может, это свойство было его слабостью, а может, его силой, но в итоге оно стоило ему здоровья. Однако по-другому он не мог. Он бросился не к машине, а к раввину. Беллайше не был его пациентом, но Альберт знал, что тот страдает диабетом.
Поль Гец двинулся ему навстречу, желая перехватить доктора, пока того тоже не арестовали.
– Альберт!
– Поль, что…
– Не вмешивайся, это бессмысленно.
– Что они делают с людьми?
– Им нужны мужчины. Они затребовали две тысячи. В двадцать четыре часа. Мы им сказали, что это невозможно. Мы благотворительное объединение, мы не ведем регистрацию членов!
Пол метнул взгляд в сторону офицера СС в кожаном плаще, который командовал на площадке. Бледное лицо немца контрастировало с черной кожей плаща. Он походил на алчного, крикливого призрака.
– Вальтер Рауф, – прошептал Поль. – Рассказывают, он ездил по Восточной Европе на фургоне, в котором людей удушают газом. Смерть на колесах. Если вы их нам не отдадите, мы их сами заберем, так он сказал. Я спорил с месье Беллайше и с месье Боргелем, должны ли мы выдать наших мужчин? Поначалу я был против, но Боргель и рабби поговорили с семьями… и сегодня утром пришли первые добровольцы. Мужественные молодые люди. За каждого из них у меня разрывается сердце.
– И сколько?
– Сто. Рауф рассчитывал на большее и пришел в ярость. Грозился всех расстрелять. Потом приказал штурмовать синагогу. Хватали людей без разбора. Посмотри на них, бедняги. И это только начало.
Молодые и старые, здоровые и немощные, все сидели под дождем на корточках, тесно прижавшись друг к другу. Никто не осмеливался протестовать.
– Куда они их отправят?
– На фронт. На аэродром. В трудовой лагерь. Рыть окопы, строить позиции, взлетно-посадочные полосы.
– Не может быть, – сказал Альберт. – Мы должны…
– Погоди…
Альберт решительно шагнул к скрюченным фигуркам. Призрак в кожаном плаще гаркнул на него по-немецки. Альберт вежливо попросил по-итальянски разрешения осмотреть раненых.
Не обращая на него внимания, Рауф выкрикнул какой-то приказ, и его люди стали прикладами поднимать евреев на ноги. Альберт и теперь еще мог вернуться к себе в машину. Но вместо этого он услышал свои слова, обращенные к Рауфу:
– Полковник. Сколько вам требуется мужчин?
– Что?
– Мы можем это организовать. Но нам нужно время.
Бог знает, как Альберт, такой медлительный человек, смог так быстро решиться. Потому что это была неразрешимая дилемма: либо они сами выдадут им своих лучших мужчин, либо останется лишь бессильно взирать, как без разбору будут хватать людей прямо на улице. Старых, малолетних и больных.
– Мы составим список молодых людей, – продолжал Альберт, – мы обследуем их и отберем трудоспособных.
Поль смотрел на него с удивлением, но и с благодарностью. Ни тот ни другой не знали, как это получится, но они доверяли друг другу без слов и разделяли убеждение, что будет лучше, если они возьмут дело в свои руки.
– Доктор Сарфати – член Всемирного еврейского союза, почтенный человек с большими связями, – сказал Поль. – И, кстати, гражданин Италии.
Рауф задумался. Его смягчило не сочувствие, а холодный расчет.
– Кто мне это гарантирует?
– Мы даем вам слово.
– Две тысячи. К завтрашнему утру, к восьми часам.
Альберт не знал, как он сможет это устроить. Он почесал в затылке и задумался.
– Тысячу завтра. И тысячу послезавтра.
Рауф смотрел на него ледяным взглядом. Потом улыбнулся:
– А на следующее утро еще одну тысячу.
– Три тысячи? – ахнул Поль. – Но это…
– А если они не явятся, я расстреляю заложников.
– Каких заложников? – растерялся Альберт.
Рауф пролаял на всю площадку приказ, и его солдаты принялись отделять детей, раненых и старого рабби Беллайше от вымокшей группы задержанных.
* * *
Альберту не дали позаботиться о раненых, но в его руках оказались жизни сотен людей. До следующего утра он не сомкнул глаз ни на секунду. Они пустились в путь. Поль, Альберт и еще двое друзей, примкнувших к ним, адвокат Жорж Криф и врач Люсьен Моатти. Случайное сообщество, на которое вдруг свалилась геркулесова работа, к которой они не знали как подступиться. Но в том, что должны ее проделать, не сомневались.
Было ли это предательством общины? Неужто они уподобились скотине, что сама идет на убой? Но, с учетом жестокости противника, их решение давало единственный шанс сохранить хоть какой-то контроль. Чтобы беззаконие разбавила хотя бы доля справедливости, а жестокость – капля человечности.
* * *
Во Всемирном еврейском союзе они застали ту же картину, что и в синагоге, – пустые помещения, растерянные люди. Пишущих машинок, за которыми они пришли, там уже не нашлось. Надо было составить списки, поскольку никакого учета евреев никто никогда не вел. Пришлось записывать имена по памяти. Друзья и знакомые, их сыновья и братья, каждое имя в списке – предательство, укол в сердце. Только молодые, говорили они себе, только мужчины в возрасте от восемнадцати до двадцати семи. И у кого нет детей.
Во второй половине дня из типографии принесли сотни плакатов, которые они расклеили по улицам. Плакаты взывали к совести общины: сильные должны принести жертву ради слабых. Потом они принялись ходить от дома к дому – только так они могли подвигнуть семьи к тому, чтобы те отдали самое дорогое. Сыновей. Некоторые пытались откупиться. Возьмите наши драгоценности, но не наших детей! Некоторые прятались. Некоторые просили Альберта дать справку о нетрудоспособности. Если он откажет, они пойдут к другому врачу, не такому совестливому, и купят у него для сына инвалидность, душевную болезнь или то, чего немцы боятся больше всего, – заразу, тиф. Альберт видел уважаемых граждан, которые не остановились бы перед ложью во спасение, и видел бедных сыновей рабочих, которые с готовностью вверяли себя судьбе, чтобы оказаться полезными общине.
* * *
К вечеру набралось лишь несколько сотен. Измученный и отчаявшийся, Альберт сидел дома перед собственным сыном, объясняя ему, в чем состоит его долг.
– Я должен сдаться добровольно? – Виктор язвительно рассмеялся.
Никто не поддержал его смех.
– Это самое разумное. У немцев есть перечень всех зарегистрированных жителей. Рано или поздно они тебя найдут. А кто не явится добровольно, будет наказан.
– И каким же образом? Тюрьмой? Расстрелом?
– Этого они не говорят. Но и не остановятся ни перед чем.
– Да я лучше сам покончу с собой. По крайней мере, по собственной воле.
– Они не станут нас убивать. Мы им нужны. Рыть окопы, работать на аэродромах. У них слишком мало своих рук. И это логично.
– А почему только мы, евреи? – взволнованно воскликнула Мими. – Ты что, не слышал, что они делают в Европе? Про лагеря? Что там творится? Еще никто оттуда не вернулся!
– Здесь по-другому, – пытался успокоить ее Альберт. – Ненависти к нам у них нет. Они всего лишь презирают нас.
– А какая разница, если их пуля достанет его?
Ясмина обняла Виктора. Она его не отпустит.
– Наша судьба в руках Господа, – сказала Мими.
– Нет, Мими. Наша судьба в наших руках, – строго сказал папа́ и повернулся к Виктору: – Жиль Боккара записался. Рене Натаф. Арманд Бен Аттар. Шимон Самама. Андрэ Джерби. Джузеппе Париенте. Саломон Финци. Как ты сможешь смотреть их родителям в глаза, если увернешься?
Виктор ненавидел отца.
– Останься, Виктор, – умоляла Ясмина.
Трое против одного. Альберт взял со стола шляпу и встал:
– Ну смотри. Это твое решение.
Он не сказал: я люблю тебя. Или: я на твоей стороне, что бы ты ни сделал. Нет, хотя сердце у него истекало кровью. Альберт всегда ставил принципы выше личного. Ясмина смотрела с балкона, как он идет, ссутулясь, к своему «ситроену» и уезжает в ночь, к следующим семьям, чтобы забрать у них сыновей. Она не знала, то ли ей восхищаться отцом, то ли презирать его.
* * *
Никто в эту ночь не спал – ни Альберт, ни Ясмина, ни Виктор, и ни одна еврейская мать не сомкнула глаз.
* * *
На следующее утро тысяча двести мужчин стояли перед Еврейским союзом. Они были в сапогах, у каждого багет под мышкой и лопата на плече. Рауф, который был уверен, что у них ничего не получится, приказал рассчитаться по порядку номеров и обомлел. Такой результат его едва ли не разозлил. Сегодня никого расстрелять не удастся. Альберт и его друзья сунули каждому из мужчин в карман по стофранковой купюре и пожелали им счастья. И колонна потянулась по мокрой дороге, под низко висящими облаками в сторону вокзала. Куда – неизвестно.
Женщины у окон и на балконах молча смотрели им вслед. Мусульманские, христианские. Какая-то женщина сунула одному из них банку с солениями. Какой-то старик пробормотал:
– Храни вас Аллах.
Другие наблюдали за процессией с каменными лицами, и никто не знал, что они думали. Было ли это злорадство? Или даже ненависть? Скорее всего, равнодушие. В военное время каждый сам себе ближний.
* * *
Самым странным в шествии колонны была тишина. Если в Тунисе собирается группа людей, всегда много шума. Но тут тысяча с лишним мужчин шагали со своими лопатами по рю Мальта и слышался лишь топот сапог по асфальту. Колонна проходила мимо, и на сердца людей ложился пристыженный холод, утихали разговоры, зрители молчали. И только когда евреи и их немецкие конвоиры скрывались из виду, голоса людей снова оживали. Колонна свернула на рю де Ром, один из мужчин запел песню, остальные ее подхватили – веселую песню в лицо неизвестному. Альберт смотрел им вслед с горькой гордостью и с тревогой за сына, которого не было среди них.
* * *
Теперь он мог бы пойти домой. Он не спал тридцать часов.
– Отдохни, Альберт, – советовали друзья, – дальше мы сами.
– Еще одну тысячу до завтра… – Альберт снял очки и потер покрасневшие глаза.
– Мы сделаем. Поспи несколько часов, тебе это необходимо.
Альберт сел в «ситроен». Руки дрожали, когда он заводил мотор. Он посмотрел на пальцы без тревоги, скорее с интересом – вот что делает с человеческим организмом недостаток сна. Почему людям так необходим сон? Сколько времени у жизни он отбирает? Альберт думал о жене, которая ждала его дома, и о мадам Беллайше, которая тоже ждала своего мужа. Он проверил медикаменты в кожаной сумке. И поехал не домой, а к отелю «Мажестик». Перед входом вежливо попросил разрешения поговорить с полковником Рауфом. Охрана впустила его.
* * *
Рауф сидел за столом в просторном люксе, сесть он Альберту не предложил. Альберт снял запотевшие очки и изложил свою просьбу:
– Некоторые заложники нуждаются во врачебной помощи. Я хотел бы ходатайствовать перед вами, чтобы их отпустили.
Рауф посмотрел на него так, будто он оскорбил лично фюрера.
– Нуждаются они в чем-то или нет, решать не вам!
Альберт сохранял самообладание.
– Разрешите мне, по крайней мере, посетить заложников. Ведь мы как-никак привели вам тысячу двести…
– Это только начало. Перед нами стоят огромные задачи. Сколько людей у вас есть на настоящий момент?
– Точного числа я не знаю. Но… Я прошу вас…
– В восемнадцать часов я жду промежуточного отчета. Можете идти.
– Полковник. Обращение с военнопленными предусматривает…
– Они не больные, только пара царапин, а теперь избавьте меня от вашей чувствительности! Идите!
Альберт не сдвинулся с места. Он обдумал слова, прежде чем их произнести.
– Месье Беллайше страдает хроническим заболеванием. Ему необходимы лекарства. Если с ним что-то случится, это окажет катастрофическое действие на моральный дух добровольцев, которых мне предстоит мобилизовать. Тут все держится на доверии.
Рауф рассмеялся. И снова обратился к бумагам, что лежали перед ним. Альберт пришел в ярость. А этого ему не следовало делать.
– Отпустите старика!
Рауф вскочил:
– Что вы себе позволяете! Разговаривать со мной в таком тоне! Еще одно слово – и я лично пристрелю вашего раввина!
Страха Альберт не испытывал. Лишь разгоравшуюся ненависть. Чувство, которого он не знал уже очень давно. Отвратительное чувство. Но оно придало ему сил. Он был неуязвим, когда произнес:
– Я предлагаю обменять его на меня.
Он не мог предвидеть последствия. Скорее, хотел задеть Рауфа неким моральным превосходством. В этом было что-то солдатское. Что бывает между мужчинами. По лицу Рауфа пробежала циничная ухмылка.
– Эта его проклятая жажда справедливости! – Мими в ярости швырнула тарелку об пол.
Ясмина нагнулась собрать осколки. Только что звонил Поль Гец, чтобы выразить благодарность и благословение раввина, которого немцы отпустили в обмен на Альберта. Голос у Поля был осипший. Виктор ничего не ответил, положил трубку и уставился в ночь за окном.
– Он это сделал, чтобы наказать меня!
– Нет, Виктор, с тобой это никак не связано, – запротестовала Ясмина.
– Он хотел преподать мне урок. Но это никакая не справедливость, а всего лишь самонадеянность! До чего же глупо сдаться в руки немцам, только чтобы пристыдить собственного сына!
– Перестань оскорблять отца! – воскликнула мама.
– Теперь еще и ты будешь меня обвинять! Он сам виноват! Ему захотелось сыграть в героя, и он подставил нас всех!
Ясмина закрыла окно, чтобы соседи не слышали ссоры. Заметив на улице немецкий патруль, она отпрянула от окна.
– Тише! Там немцы!
Виктор и мама смолкли. Потом снизу донесся громкий стук в дверь. Виктор схватил кухонный нож.
– Спрячься! – шепотом приказала Ясмина.
Виктор с ножом. Немыслимо. Он никого не мог поранить – Ясмина никогда в этом не сомневалась. Неужели обманывалась?
– На крышу, быстро! – распорядилась мама.
Виктор взял Ясмину за руку.
– Идемте со мной. Обе.
– Нет, – решительно отрезала Мими и подтолкнула обоих к лесенке, ведущей на кровлю.
– А ты, мама?
– Идите, и ни звука!
Когда дело принимало серьезный оборот, Мими становилась львицей. Особенно если рядом не было папа́. Немцы уже колотили в дверь:
– Откройте!
Этот их язык. Жесткость. Беспощадность.
* * *
На крыше было холодно и тихо. Почти мирно. Звезды. Огни предместья. Море дышало во тьме. Лаяла собака. Ясмина и Виктор сели на корточки и прислушались. Решительный голос мамы, еще громче, чем голоса немцев.
– Что будем делать, если они поднимутся сюда? – прошептала Ясмина.
Виктор обнял ее за плечи. Никакого плана у него не было. Только нож.
– Ты правда мог бы убить?
– Нациста – да.
У Ясмины холодок пробежал по коже. От Виктора исходило тепло. Она всегда чувствовала себя защищенной с Виктором, а не с папа́. Она молилась.
Прошла целая вечность, и вот голоса немцев донеслись уже с улицы. Хлопнула дверь. Они ждали, пока мама не поднялась к ним. Все трое обнялись.
– Спасибо, мама, – сказала Ясмина.
– Что ты им сказала? – спросил Виктор.
Мама посмотрела на них, и в глазах ее не было облегчения.
– Они пришли не за тобой.
– А зачем же? Что-то случилось с папа́?
Мама отрицательно помотала головой.
– Чего им надо?
– Наш дом.
* * *
У них было двенадцать часов, чтобы упаковать самое необходимое в пару чемоданов. Деньги, драгоценности, одеяла, одежду, фотографии. Виктор покинул дом под укрытием темноты. Немцы о нем даже не упомянули. Они явно предоставили разбираться с мобилизацией самим евреям. Пока. Конфискация дома была местью Рауфа за героический поступок папа́. На что ему дом, если он предпочитает ночевать в тюремной камере? А вот надо было держать язык за зубами! Был бы сейчас здесь, они бы ужинали вместе, а не упаковывали серебряные ложки, пока эсэсовцы втаскивают свои ящики.
Куда же податься? Дедушка и бабушка Ясмины умерли, сестры и братья Альберта жили в оккупированной Франции, а с единственной сестрой Мими – Эмили, которая жила в Бизерте, – они были в ссоре. Когда Мими собиралась выйти за Альберта, чудаковатого студента-медика без средств, Эмили интриговала против него. Мими не могла просить сестру о помощи.
* * *
На следующее утро в восемь часов Ясмина с матерью и тремя чемоданами стояла на улице. За каких-то три дня Альберт своими решениями внес в семью раздор, лишил ее крыши над головой. Ясмина проклинала себя за то, что позвонила ему в то утро.
– Не говори так, – мама легонько смазала ей пальцами по губам, – папа́ все сделал правильно. Господь его вознаградит. Ты бы на его месте поступила так же.
В этом Ясмина не была так уж уверена. Она не героиня. Да и что уж такого геройского в том, чтобы одного спасти, а остальных ради этого выдать? Вообще, этот рабби, где он теперь, когда они в нем нуждаются? Сидит сейчас со своей семьей в тепле? Почему он не пришел и не забрал их к себе? Где та справедливость, которую он проповедовал в синагоге? Где его Бог?
Начался дождь.
– В хорошие времена, – сказала мама, – забываешь о молитвах.
Глава 12
Марсала
Все, что мы слышим, всего лишь мнение, не факт.
Все, что мы видим, лишь перспектива, но не правда.
Марк Аврелий
– А Мориц? Что он делал во время облавы? – спрашиваю я Жоэль.
Мы стоим посреди пустынного пляжа. Над нами стягиваются серые облака. Я взбудоражена и растерянна. Я не здесь, я наполовину там.
– Не знаю. Об этом он никогда не говорил.
– Он ведь был нацист? Или просто попутчик?
– Он был солдат. Получал приказы и исполнял их.
– Да, но… в чем он участвовал?
Вопрос, который я задавала и своей бабушке. Вероятно, любой немец моего поколения когда-то задавал этот вопрос своим родным.
– Если ты фотографируешь преступление, виноват ли ты в нем?
– Ты сообщник, укрыватель. Что он знал о преступлении?
– Вопрос, скорее, что он хотел знать?
Камера, подобно линзе и фильтру, увеличивает и вместе с тем подделывает, камера как оружие и как заслонка перед глазами.
* * *
Я представляю: немецкий солдат в Тунисе, ничего обо всем этом не ведающий. Безупречная репутация немецкого вермахта. Законы не нарушаются. Евреи добровольно покидают свои дома, добровольно отправляются в трудовые лагеря.
Каждый вносит свой патриотический вклад. Общими силами мы защитим нашу родину от агрессоров. К людям нужен жесткий подход, другого языка они не понимают. Дисциплина – безусловная необходимость для поддержания порядка. Возражение – это нарушение, приказ есть приказ, инакомыслие есть личное мнение. Да, при исполнении видишь неприглядные вещи, но что я могу сделать, будучи всего лишь колесиком в огромном механизме?
Подчинение приказу оправдывает все.
* * *
А что мы могли поделать, всегда говорила бабушка, ты представить себе не можешь, что такое жизнь при диктатуре. За одно неверное слово можно было угодить в концлагерь. Так что лучше было держать язык за зубами. Сколько людей должны перестать молчать, чтобы их стало больше, чем можно пересажать? Критическая масса революции. Но немцы не восставали. Немцы послушны. А если бы Гитлер пришел к власти во Франции? Последовали бы за ним и итальянцы? У них имелся Муссолини, среди них хватало восторженных фашистов, и действительно, рассказывала Жоэль, немало итальянцев и французов со злорадными ухмылками смотрели на ежедневное шествие еврейских рабочих к вокзалу. Кто-то сплевывал на землю, а кто-то плевал и в сторону этих бедолаг. Но большинство итальянцев вовсе не отличались фанатизмом. Было достаточно дезертиров, а итальянские трудовые лагеря, по словам Жоэль, не грешили жестокостью. Охранники за мзду проносили еду для арестантов, а больных отпускали домой. Маленькие жесты человечности, тайные акты непослушания. Вот потому-то немцы никогда полностью не доверяли своим союзникам.
* * *
– Он не был нацистом, – отвечает Жоэль. – Мори́ц был хороший человек.
Она ставит ударение в его имени на последний слог. Французское звучание с немецким окончанием. Это сбивает меня с толку.
– Как можно быть одновременно частью чудовищной машины и хорошим человеком?
– Он не считал себя частью машины. Он всю свою жизнь никогда по-настоящему не был частью чего бы то ни было. Он всегда производил впечатление, будто он лишь гость. Даже в качестве отца. Он присутствовал, даже проявлял нежность, заботился. Но у меня всегда было ощущение, что он с нами не целиком.
* * *
Я вспоминаю снимок, который мне однажды показала мать. Она нашла его в ящике со старыми фотографиями, которые бабушка не вклеила в альбом, там мой дед, тринадцатилетний подросток, рядом с одноклассниками. Он стоит в сторонке, с виду помладше остальных и в то же время серьезнее. Буйная веселость других, их самоуверенность, и на их фоне – он, напряженный, будто готовый обороняться.
– Тебе известно, что он никогда не учился фотоделу? – спрашивает Жоэль. – Сам овладел профессией. Но если хочешь знать, фотография не была для него ни профессией, ни хобби, это был его способ выжить. Еще будучи в интернате, он научился быть невидимым.
* * *
Мальчик из деревни, не знакомый с неписаными правилами детей буржуазии. Подростковые ритуалы, иерархия, войны на школьном дворе. Поначалу они смеялись над его кожаными штанами. Потом над его робостью. А когда он написал контрольную работу по французскому на высший балл, то последовала расплата. И в какой-то момент он – всегда один против всех – решил защищаться другим способом, не кулаками. Он научился ускользать, становиться для них невидимым.
Он не выказывал слабости, ибо слабость они чуют как собаки. Но уходил от любой борьбы и смотрел со стороны, как его одноклассники дерутся между собой. Он понял, что воюют только на верхней и на нижней ступеньках иерархической лестницы, – наверху бились за перевенство, а внизу толкались те, кто не желал быть слабейшим. Самое надежное место располагалось посередке. Там никому не бросаешься в глаза. Там не за что бороться, там ты не являешься объектом зависти или ненависти.
Он следил за тем, чтобы не получать ни слишком хороших, ни слишком плохих отметок, даже по языкам, к которым был особенно способным. Даже когда все знал, он намеренно делал ошибку, оберегая себя от высшего балла. Он достиг совершенства в искусстве не быть ни выскочкой, ни растяпой и испытывал тайное удовлетворение от осознания, что он не тот, за кого его принимают. На уроках он говорил, только когда его вызывали, не стремился никого опередить, поскольку сильнейшие на школьном дворе – это он быстро понял – были чаще всего не самыми умными в классе, и удары по самолюбию, какими их награждали учителя, дальше рикошетили по выскочкам.
Мориц научился обретаться там, где не было ни слишком яркого света, ни полной темноты. Местом его обитания стало серое. И еще он усвоил, что тот, кто умеет сдерживаться и не лезет на передний план, для всех – лучший друг: крикливым нравилось, что он их слушает, а тихони не видели в нем угрозы. И скоро он превратился в наперсника бывшим своим недругам. Так Мориц обрел свое предназначение в джунглях жизни. Он был оком, а не кулаком. Ухом, а не устами.
Что почти неизбежно привело его к фотографии. Ведь если не высовываешься, если ты всегда в стороне, то становишься внимательным наблюдателем. Всегда начеку, быстрый, точный, с хорошим инстинктом. Конформист во внешнем мире, внутри он развил свой особый взгляд на все. И только его снимки выдавали это, а их видел только он, в уединении темной фотолаборатории, когда в красном свете, в ванночке с проявителем, образы проступали из ничего, словно мысли, а потом медленно закреплялись.
Снимки были той точкой, где мир соприкасался с его представлением о нем. Мориц никому их не показывал. Однажды он совершил ошибку – показал девочке, в которую влюбился, ее фото. Снимок ей не понравился, хотя Мориц считал его удачным. Одного ее резкого замечания хватило, чтобы Мориц поклялся себе впредь никому не показывать фотографии.
После войны он во всех фотолавках искал подержанную камеру – такую же, что у него была первой. «Агфа», миниатюрная, складна́я, с выдвижным – на гармошке – объективом.
– Священник подарил ему такую на прощанье, знаешь?
Камера, которую я держала в руках не далее как вчера. Понятно, почему не вермахтовская камера. Мориц снимал фильмы для кинохроники, но у него был и личный фотоаппарат. Для снимков, недоступных цензуре. Я ощущаю легкий озноб. Ее отец, мой дед. Мори́с. Мо́риц. Рассказ Жоэль заполнял пустоты между нашими семейными фотографиями.
– Ты живешь здесь? – указывает она на Lido del Sole.
– Да. А вы?
– В одной жуткой дыре в порту. Вообще-то я тоже здесь хотела поселиться, но мне сказали, что все занято.
– Глупости. Он полупустой. Если хотите, я спрошу.
– Было бы хорошо. У меня с отелями какая-то плохая карма.
Она иронически улыбается. Я тяну ее к стойке. Разумеется, комната есть. Извините, синьора. Я не знала, что вы тоже в составе немецкой группы.
– Ты можешь спокойно говорить мне «ты». – Жоэль стоит уже с ключом в руке. – Ведь я тебе как-никак что-то вроде тетки. Смешно звучит, да? Я никогда не хотела быть теткой. Тетки старые и пахнут яблочным пирогом. Так что никогда не называй меня тетей. Зови просто Жоэль.
– Годится, Жоэль.
– Схожу за своим чемоданом. Отдохни, дорогая.
Мы обнимаемся, чуть неловко, но сердечно. Тело у нее женственное, теплое, живое. Но не родное. Радость, которую она излучает, проистекает не от легкой жизни, а из ее отношения к трудностям.
* * *
Когда перед ужином я рассказываю о ней Патрису, он злится.
– Что ты ей сказала?
– А что ты имеешь против нее?
– Она тут вынюхивает! И вчера тоже. Она мне сразу показалась подозрительной. У нее есть какие-то доказательства, что вы родственники?
– Нет, она только рассказала…
– Нина, не будь такой наивной! Она хочет у тебя что-то выведать!
– Я ей почти ничего о себе не сказала.
– Послушай, тут полно охотников за сокровищами и придурков, которые гоняются за снаряжением нацистов. Откуда она?
– Живет в Париже и в Хайфе.
– Она еврейка?
– Да, а что?
– Черт! Не смей больше с ней разговаривать, слышишь?
– Да что это с тобой? Ты стал параноиком?
Он крепко стискивает мой локоть и тихо спрашивает:
– Ты умеешь хранить тайны?
– Да.
Он выводит меня наружу. Уже стемнело. Слышен прибой, шелест ветра, шорох пальм. Патрис озирается – не видит ли нас кто.
– Ничего никому не говори, даже причастным. И разумеется, чужим, что шныряют и разнюхивают. Никому.
Я с самого начала знала, что ему есть что скрывать.
– Обещаю.
Мы спускаемся к пляжу.
– Écoute[27]. Несколько лет назад я искал клад у берегов Корсики. Местные уверяли, что на нем проклятие, но это, конечно, полная чушь. Нет никаких проклятий. Есть только люди, жадные до быстрых денег. И есть правительства. Секретные службы. Двое водолазов там погибли, и явно не случайно.
Я спрашиваю себя, уже не паранойя ли у Патриса.
– Не думаешь же ты, что эта милая пожилая дама…
– Все возможно. Я знаю одно, что речь идет о больших деньгах. Куда бо́льших, чем ты можешь себе представить. – Он понижает голос: – Этот клад на Корсике – одна из последних загадок войны. Клад, который пока никто не нашел. Сорок третий год. Армия Роммеля в Северной Африке. Всегда считалось, что это была честная война, рыцарская. Но СС по всему Тунису награбили золота и серебра. У еврейских семей. Давайте сюда драгоценности или мы вас расстреляем. Они собрали очень много. Запаяли в ящики от боеприпасов и погрузили в самолет.
Я начинаю догадываться, о чем он.
– Да вот только до Германии это золото не долетело. До сих пор считалось, что шесть запаянных ящиков были спрятаны в одном из монастырей на Корсике, а когда пришли войска коалиции, их утопили в море. И все их ищут – немцы, французы, корсиканская мафия. И бог знает кто еще. Несколько загадочных смертей. Но никто так и не нашел проклятые ящики. Я там годы проторчал. Но, возможно, Корсика была ложным следом. Или же они распределили добычу по нескольким транспортам. Известно лишь одно: эти скоты награбили достаточно, горы драгоценностей, и клад до сих пор не найден.
Эту историю я, конечно, слышала. Но никогда не связывала ее с моим дедом. Кинооператоры не были грабителями.
– Когда на Корсике ничего так и не вышло, я начал искать свидетелей. Солдат вермахта из Африканского корпуса. Можешь себе представить, какая это была работа, на годы, бесконечные архивы лагерей военнопленных, телефонные переговоры, безрезультатные визиты по найденным адресам, сомнительные типы, старики, которые вдруг принимались рыдать… Я нашел двоих, присутствовавших при сдаче Туниса седьмого мая сорок третьего. На аэродроме. Оба рассказали, независимо друг от друга, что видели, как офицеры СС грузили шесть запаянных ящиков в один из последних самолетов. Тяжелые ящики, приходилось каждый нести вдвоем. В последний день, понимаешь? Когда полагалось спасать своих людей. Но вместо пассажиров на борт грузили тяжелые ящики. В «Юнкерс Ju-52». Я прошерстил все сообщения о полетах и все радиопереговоры. Архивы в Риме, Берлине и Лондоне. Ни один «юнкерс» в тот день не летел на Корсику. Это слишком далеко. Все самолеты направлялись в Трапани. И один из них не долетел.
Я снова чувствую, как по спине пробегает холодок.
– Значит, мой дед был лишь предлогом. А на самом деле тебя интересовала…
– …ты. – Патрис улыбается.
Но мне сейчас не до его обаяния. В голове лишь одна мысль: был ли мой дед связан с этим делом?
– Жоэль говорит, что его не было в самолете.
– Откуда ей знать?
– Она говорит, он до сих пор жив.
– Может, это просто приманка для тебя? Красивая история. Маленькая психологическая игра с твоей надеждой. Но если ты хочешь знать, то за ней наверняка кто-то стоит. Может, Моссад, может, тайный спонсор, не знаю. Но она здесь точно не ради твоего деда. А ради клада.
Сомнение во мне набирает силу.
– А пассажиры могли выжить?
– Все, чем мы располагаем, не указывает на удачное приводнение. Иначе бы самолет остался цел. – Патрис достает из кармана морскую карту, разворачивает. – Посвети-ка мне мобильником.
Я включаю фонарик. Море перед Марсалой, расчерченное на квадраты.
– Вот тут мы нашли хвост. Вот здесь камеру, куски металла, каркас сиденья. Может, их подбили, может, просто неудачно приводнились. В любом случае не мягкая посадка. Если самолет сбили, то его обломки могли разлететься далеко. Ответ мы получим, когда найдем фюзеляж… с грузом.
Глаза у него блестят. Шесть ящиков, набитых золотом. Я же могу думать только о молодом немецком солдате, едва унесшем ноги от войск коалиции, он уже видел спасительный берег, но рухнул в море совсем неподалеку. Даже если упасть с высоты в двадцать метров, поверхность воды жесткая, как доска.
Пальцы Патриса двигаются по карте:
– Вот тут посадочный воздушный коридор, между Трапани и островом Фавиньяна. Эту зону мы уже просканировали. Остались только вот эти квадраты.
Ему потребуется много везения, чтобы закончить поиски до зимы. Или идеальная погода. Я вдруг ловлю себя на мысли, что не желаю, чтобы они его нашли. Я боюсь узнать, что делал мой дед.
– Поверь мне, – говорит Патрис. – И больше не разговаривай с этой женщиной.
* * *
Я лежу в постели без сна. Шум моря за окном, осенняя южная ночь. Встаю, открываю балконную дверь, ощущаю на коже прохладный воздух. Правду ли рассказала мне Жоэль? Или не всю правду? Ищет она своего отца или богатство? Почти невозможно ей не верить. Может быть и так, что история Ясмины вовсе никак не связана с историей Морица. В конце концов, он был лишь одним из сотен тысяч, что явились в страну, куда их никто не звал. А может, мы имеем в виду совсем разных людей. Мориц. Мори́с. Может, только мое желание верить придает этой истории правдоподобие?
Черно-белый снимок еврейских рабочих, идущих по Тунису с лопатой на плече. Я нагуглила его в смартфоне, когда не могла заснуть. Кто сделал этот снимок? Не Мориц ли? Может, есть еще и фильм? О чем он думал, глядя в видоискатель? Испытывал ли сострадание или его занимала лишь правильная экспозиция? Кого он видел в них – людей или унтерменшей? И кем был он сам, нажимая на спуск? Будучи невидимым наблюдателем, можно так сосредоточиться на объекте, что исчезнешь сам как субъект. Непричастный, невиновный, незатронутый.
Я представляю Морица идущим со своими людьми по кварталу Ясмины, с кинокамерой в руке. Может, они направлялись в кафе на прибрежном променаде, чтобы выпить. А в это время эсэсовцы выволакивали из дома мужчину. Он не хотел освобождать помещение. Или, как Виктор, увиливал от трудовой повинности. Они швырнули его о стену, бросили его на землю, били его сапогами, обзывали поганым жидом.
Мориц за стеклом. Мориц с бокалом в руке. Мориц без камеры. Мориц, который смотрит – на сей раз без заградительной линзы между глазом и несправедливостью. Мориц, погруженный в свои мысли, о которых он никому не скажет. Эсэсовцы бросают окровавленного мужчину в автомобиль и уезжают. Мориц выходит из тени и снимает пальмы.
* * *
Что есть правда? Пальмы существовали. Это факт, несомненно запечатленный на пленке. Но не творится ли за кадром жестокость? Пропаганду способны опознать лишь те, кто видит всю картину. Другие верят тому, что им показывают. Что хотят видеть.
Когда картина мира Морица дала трещину? Кто-то же рассказал ему историю, указавшую на его место в системе и придавшую смысл его присутствию в Африке? Более того: он и сам участвовал в создании этой истории. Верил ли он ей? Или знал, в отличие от зрителей, что действительность, снятая им, – лишь конструкция?
Когда он наводил свой объектив на происходящее, выбирал экспозицию, он видел лишь то, что попадало в видоискатель, или всю картину? Не только пальмы, но и окровавленного мужчину? Не только неутомимых медсестер, но и ночные судороги пациентов? Не только арабских мальчишек, что с ликованием бежали навстречу освободителям, но и двух женщин, что цедили пожелания чумы на головы оккупантов?
Он отбирал, что снимать, или же фотографировал все подряд, предоставляя окончательное решение служащим из министерства пропаганды рейха? Уверена, Мориц знал, что правда состоит из многих историй и что киножурнал рассказывает лишь одну из них. Его задача состояла в том, чтобы сделать эту историю громче других, ярче, убедительнее, чтобы истории противников показались фальшивкой, а его историю воспринимали как подлинную, как полную правду, хотя на самом деле все они были одним и тем же – пропагандой.
И когда Джанни говорил мне, что должен пойти на деловой ужин с шефом, это не было ложью. Деловой ужин действительно имел место. Но не до полуночи. И когда он говорил мне, что любит меня, это тоже не было ложью. Да, он любил меня, но в то же время любил и другую. Плохая ложь – наглая. Она сразу видна. Слишком бросается в глаза. А хорошая, обыденная, неявная ложь кроется не в том, что она говорит, а в том, чего недоговаривает. Правда всегда остается за кадром. Искусство обмана заключается в том, чтобы видимое сделать настолько привлекательным, что обманутому даже в голову не придет спросить, а что же там, за границей кадра. Так иллюзионист одной рукой отвлекает зрителей, а второй незаметно прячет монетку. Мы любим отвлекаться. Мы любим истории. Мы любим, когда нас одобряют. Я верила Джанни, потому что хотела ему верить.
Глава 13
Глубокая синева. Кажется, что наш катер парит высоко над бездной. Под килем, на пути от Сицилии, спят самолеты. Дюжины, по словам Патриса, сотни. Он рассказывает мне о маршрутах, о немецких и итальянских транспортных эскадрильях, об истребителях коалиции. День ясный, воздух мягок, мы скользим над пропавшими без вести. Мы нарушаем их покой, вглядываясь в глубину. Катер тянет за собой эхолот, торпеду сонара, посылающего на монитор изображение морского дна, черно-белую картинку в пикселях, чем дольше на нее глядишь, тем меньше понимаешь.
Прищуренные глаза Патриса ищут фюзеляж самолета, крылья или ящики – подозрительные холмики из осадочных отложений, рукотворной формы: прямые углы, балки, кубы. Мы столпились на тесном мостике, я стою под крышей, некоторые – перед открытой дверью, все молчат. Только дизель шумит, да радиостанция что-то обрывочно бормочет. Мне уже дурно от пристального вглядывания в экран, я выхожу на палубу и смотрю на горизонт, чтобы успокоить растревоженный вестибулярный аппарат.
Внезапно катер дергается. Патрис резко дает задний ход, чтобы остановить движение. Все содрогается и вздыбливается. Потом сильная качка, пока судно не успокаивается. Он что-то обнаружил. Какая-то форма, не больше, – прямоугольник на дне, природа не знает прямоугольников. Два водолаза готовятся к погружению. Патрис остается у руля. Каждый может совершить только одно погружение в день, двадцать минут на пятидесяти метрах. Мы стоим у поручней, когда они спускаются в воду, медленно, сосредоточенно и скоординированно. Водолазная беседка подвешена к крану. Сигналы рукой и приказы по радиосвязи. Водолазы скрываются в глубине. Ступень за ступенью, пока их тела привыкают к давлению, мы ждем, они опускаются глубже.
Я в такие моменты предпочитаю держаться в стороне, уступаю сцену профессионалам. Сама страшно не люблю, когда со мной заговаривают во время работы. На воде или на суше, раскопки требуют спокойствия и сосредоточенности. Но если на суше в нашем распоряжении целый день и враг лишь солнце, то у водолазов счет на минуты. Медленное нужно проделать максимально быстро. Когда через двадцать минут они поднимаются на поверхность, в руках у них ничего нет. То, что на мониторе выглядело как ящик с сокровищами, оказалось лишь старым холодильником. Кто, черт возьми, выбрасывает холодильники в море? Но водолазы не удивлены. Чего только они не находили. Контейнер. Каркас кровати. «Фиат-500».
Мы плывем дальше. Час спустя новая серия игры, но на этот раз они уже по монитору понимают, что это затонувшая рыбацкая лодка. Мы продолжаем кружить. Один квадрат за другим. Подводная археология не для нетерпеливых. Это как рыбалка во времени. Мы запускаем наши зонды в память моря. Вообще-то у Патриса неподходящий темперамент для этого, думаю я. Когда мы уже готовы развернуться, он вдруг глушит мотор.
– Вы это видите?
Никто ничего не видит. Если задействовать фантазию, то можно предположить одну правильную форму среди множества неправильных. Все теснятся перед монитором. Трезвость побеждает, в этой игре терпения нельзя питать ни слишком большие, ни слишком малые надежды. Патрис и Бенва совершают второе погружение. Проходит бесконечно долгое время, прежде чем мы можем разглядеть на мониторе детали. Крошечный круг света с нашлемной камеры Патриса ненадолго выхватывает что-то из темноты, и тут же это что-то снова погружается во мрак. Скалы и песок, водоросли и растревоженные рыбы, его рука на осадочном слое. И вдруг что-то вспыхивает, серебряное, плоское и угловатое. Небольшой ящик, вросший в морское дно, тронутый коррозией, но в основном целый.
Мы наэлектризованы. Я думаю о том, что мне доверил по секрету Патрис. Я верю в такие вещи только тогда, когда могу потрогать их руками. Но я желаю ему, чтоб это оказалось его сокровище. Мы сохраняем спокойствие и опускаем водолазную беседку все глубже. Ждем. Потом вытягиваем из глубины находку. Водоросли и ракушки облепили сундук, с него стекает вода, когда мы втаскиваем его на палубу. Мы осматриваем его еще до того, как Патрис и Бенва завершают свой медленный подъем. Надо быть осторожными при удалении ракушечных наростов, чтобы не повредить какую-нибудь эмблему. Но эта, впечатанная в металл, на удивление стойко выдержала испытание временем. Орел рейха, свастика, и затем я оттираю штампованную надпись. Министерство пропаганды рейха.
Меня охватывает неприятная смесь зачарованности и отвращения. Остальные ликуют, я молчу. Когда водолазы проходят декомпрессию, мы принимаемся открывать ящик. Он запаян герметично. Странно, что металлический корпус нигде не проржавел насквозь. Лежал в осадочном слое, а ракушки образовали органическую защиту. При помощи гибкой пластины Патрис осторожно подцепляет крышку.
Оттуда вырывается отвратительная вонь. Отшатнувшись, все цепенеют. Никакого золота, никакого серебра. Алюминиевые банки для кинопленки, размером с тарелку, этикетки разложились до полной нечитаемости. Мы осторожно извлекаем одну жестянку и открываем крышку. Едкая вонь заполняет все вокруг. Это не гниль, это яд. Внутри банки слипшаяся, бесформенная вонючая масса янтарного цвета, вязко растекшаяся и затвердевшая.
– Что это?
– Расплавленное дерьмо.
Нет, это целлулоид. Коричневые комья пленки. Целый ящик таких банок. Я пытаюсь прочитать этикетки, но их либо нет, либо они полностью расползлись. Герметично закупоренный яд на дне морском, пленки разрушились не от контакта с морской водой, а сами по себе. На этикетках различимы только несколько цифр: 122–4. 2600. PK HA W 347. Но ни фамилии, ни инициалов. Ничего, что бы указывало на оператора.
– HA означает «Группа войск Африка». РК – пропагандистская рота.
Эти пленки мог отснять мой дед. Но с таким же успехом – и любой другой кинооператор. Сколько их работало в Тунисе? И находился ли Мориц на борту вместе со своими фильмами или это был грузовой борт?
– Самолет вылетел в последний день. Обычно в такой момент думают о людях, а не о грузах.
– Разве что на этих пленках было что-то особо ценное.
Этого мы никогда не узнаем. Отснятый целлулоид, направлявшийся в лабораторию, все эти исторические съемки спеклись в коричневые комья. Может, и к лучшему. Это не просто документы времени, это кадры, отравленные ядом. Закрыв глаза, я так и вижу их. Эстетика Лени Рифеншталь, триумфальная музыка, пот, кровь и крики. Но хотелось бы мне взглянуть на отснятый, но не смонтированный материал, включая все отбракованные кадры: уличные сцены, прохожих, все второстепенное. Его мир и то, каким он его видел.
* * *
Патрис решает заночевать на катере. Растерянная, я сижу на кровати в своем номере и смотрю в ночь. Потом – в одну секунду – принимаю решение наплевать на советы Патриса. Это я-то, всегда лояльная. Я, не спускающая другим их нелояльность. Натягиваю кофту и осторожно выхожу в коридор. Все уже спят. Если остановиться, замереть, то слышно море.
К Жоэль меня влечет нечто большее, чем просто любопытство. Даже если ее Мори́с был совсем другой человек, чем мой Мо́риц, история ее матери затронула какую-то струну во мне. Не только что Жоэль рассказала, но и как, ее манера говорить о семье, которой мне так не хватает. Без умиления, легко. Запальчиво, однако не ожесточенно. Весело, однако в то же время с грустью. Но эта грусть отлична от печальной фоновой мелодии моей семьи, она не придавлена виной и упреками, а пронизана любовью между поколениями.
Из-под двери комнаты Жоэль пробивается полоска света. Постучавшись, я проскальзываю внутрь. Откинувшись на подушки, она читает книгу – будто в ожидании меня.
– Если ты не веришь, – говорю я, – что он лежит на дне моря, зачем ты приехала?
– Прочитав в газете о твоем друге, о том, что он собирает родственников погибших, я подумала, что это шанс встретиться с твоей матерью. Возможно, уже последний. Вдруг она знает, где сейчас наш отец.
Я долго молчу.
– Значит, ты не знаешь, где он? – спрашиваю я наконец.
– Одно время мы были неразлучны. Но потом мы… скажем так, потеряли друг друга из виду. Я думала, что он вернулся в свою прежнюю жизнь.
Его прежняя жизнь. То, что у него было с юной Фанни, и жизнью-то не назвать. Только прелюдия, преддверие жизни.
– Когда ты видела своего отца в последний раз?
Я сознательно выбрала формулировку, которая ставит под вопрос, один ли и тот же человек имеется в виду.
– В шестьдесят седьмом.
– Пятьдесят лет назад!
– С тех пор ни адреса, ни номера телефона, ничего.
– Но что случилось?
– Это долгая история. И не очень красивая, признаться.
– Тогда откуда тебе известно, что он еще жив?
– Я просто знаю.
Она сумасшедшая, думаю я.
Наверное, это хорошо – быть сумасшедшей.
– Раскрою тебе одну тайну. – Жоэль внезапно подается ко мне. – В день моего рождения каждый год я получаю с посыльным букет цветов. Знаешь, через службу рассылки цветов, отправитель анонимный. Ни карточки, ни имени, niente[28]. Курьерская служба информации не выдает. Я взбаламутила рай и ад, чтобы выяснить, кто за этим стоит, и узнала, что оплачиваются цветы с банковского счета в Швейцарии. И все, дальше этого я не продвинулась. Жестокое испытание, правда?
– Может, у тебя есть упорный поклонник?
– Поклонник рано или поздно проявился бы. А этот человек прячется.
– И как давно это длится?
– Пятьдесят лет. И в букете всегда три цвета: белый, красный и фиолетовый. Жасмин, цветы граната и бугенвиллеи. И цвета Туниса.
Я с трудом верю. Слишком уж красивая история, чтобы быть правдивой. Отцы не посылают цветов. Отцы забывают дни рождения.
Теперь я вижу, в чем Жоэль похожа на мою мать: обе одержимы пропавшим. У обеих фантомная боль. Мама до самого конца держалась за фантазию, что ее отец мог пережить войну. Всякий раз, натыкаясь в газете на историю про солдата, объявившегося спустя многие годы, она воодушевленно зачитывала ее мне. Безумная история, правда же? Морица она не упоминала. Но я-то знала, о чем она думала.
Жоэль будто читает мои мысли.
– Почему твоя мать не приехала с тобой?
– Она умерла.
Я стараюсь не думать о маме, чтобы меня не захлестнули воспоминания о ее последних месяцах. Чтобы вытеснить то странное чувство, что я с тех пор ношу в себе, – чувство, что я последняя в роду, последняя хранительница вопросов, на которые не получены ответы. По лицу Жоэль словно судорога пробегает. Будто они с мамой знали друг друга.
– Нет, не может быть. Когда?
– Два года назад.
К ее скорби я не готова. Справившись с собой, она берет меня за руку. Мягко, сочувственно.
– Мне очень жаль. А я-то всегда мечтала однажды ее встретить. Когда летала «Люфтганзой», всегда присматривалась к стюардессам и тешила себя надеждой, что одна из них, может быть, она. У тебя нет ее фотографии?
– Нет.
Разумеется, у меня в телефоне есть мамино фото. Но на снимках она уже исхудавшая, потухшая, тень себя самой, и я не хочу, чтобы Жоэль увидела ее такой. Во всяком случае, пока не буду уверена, что Жоэль и в самом деле ее сестра.
– Она была бы рада познакомиться с тобой.
– Расскажи мне о вас! Вы когда-нибудь задавались вопросом, нет ли у него других детей?
Что-то во мне тут же закрывается.
– Боюсь, не могу предложить тебе столь же волнующую историю, как твоя. Мориц в нашей жизни был большим пустующим местом. У меня ничего от него не осталось.
Про мои попытки заполнить эту пустоту я умалчиваю. Про все мои осторожные вопросы. Возвращаясь из рейса, мама часто перебирала старые фотографии. Но мое любопытство натыкалось не на гранит, нет, скорее, вязло в тумане. Я пыталась пробираться на ощупь в невысказанном. Никто не говорил о нем плохо. Но можно было догадаться, что за этим кроется нечто темное.
– Тогда расскажи о себе. Ты сегодня какая-то притихшая.
Я могу поклясться, что она почуяла находку Патриса. Но его имени не упомянула ни разу.
– У тебя есть муж? Или друг?
Я молчу.
– Или подруга?
– Нет. Я гетеро, если ты это имеешь в виду. И недавно развелась.
– Вот и поздравляю. – Она смеется. – И как долго ты пробыла замужем?
– Тринадцать лет.
– Дети есть?
Надо увести разговор в сторону.
– Нет. Лучше расскажи, что произошло тогда в Тунисе.
– Хорошо. Но завтра ты мне расскажешь о себе. Не о твоей матери, а о себе. Договорились?
Рассказывать о себе мне хотелось еще меньше, чем о семье. У моей семьи – история молчания. А у меня – история неудачи. Но если рассказы – наша валюта, то мне придется расплатиться ею.
– Договорились.
Мы спускаемся в пустой зал для завтраков, открываем маленькую кухню, включаем свет и готовим кофе. Черный, с сахаром. Уже глубоко за полночь. Закурив, Жоэль начинает рассказывать.
Глава 14
Латиф
Гость – это подарок Аллаха.
Арабская поговорка
Тунисская Медина представляла собой лабиринт, в котором можно было укрыться, устроить засаду, найти убежище. Медина запутывала, завораживала и меняла свое лицо в зависимости от того, кто в нее входил через старые ворота. Одного она принимала с щедростью как гостя, от другого отворачивалась, словно укутанная женщина, идущая мимо. Чужакам она внушала страх, увлекая в свое темное жерло эха, а своих детей обнимала, как ласковая мать. В ее переулках жили духи. Кто входил в Медину без почтения, на того они налагали проклятия; кто чтил предков, тому они предоставляли защиту. Французы, придя сюда, поняли, что всегда будут здесь чужими, и они засыпали море перед городскими воротами песком, чтобы построить новый город, по своей мерке – светлый, просторный, с голубыми ставнями на окнах и с названиями улиц, напоминающими им родину. Рю де Марсель. Проспект де Пари. Побеленная иллюзия – будто Европу можно взять с собой, куда бы ты ни пришел, бетонная крепость собственной культуры, в превосходстве которой они были уверены.
Арабы смотрели с крыш своих старых домов, как чужаки возводят новый город, и призыв муэдзина к молитве разносился от минарета Большой мечети, вонзавшегося в небо уже больше тысячи лет, окрашенного в цвета песка и заката, – величественное напоминание о временах, когда арабы завоевали Аль-Андалус, мусульманскую Испанию.
* * *
В Медине был и еврейский квартал Ла Хара, где в Шаббат царила тишина, тогда как двумя переулками дальше мусульманские торговцы громко нахваливали свой товар. Травы от ревматизма, черепахи, притягивающие в дом удачу, заговоры от неверности мужей. Кафе со сказителями, певцами и танцовщицами, театр с сицилийскими марионетками, кинотеатры, перестроенные из сараев, где крутили американские вестерны. Тысячи кошек, поющие молочники и рыжеволосая предсказательница, ходившая от двери к двери и читавшая судьбу по ладони каждому, кто не успевал вовремя отдернуть руку.
Названия улиц хранили память о сокровенных историях города: улица Огня, улица Дыма, переулок Безумных. Был и quartier close[29], где – за исключением пятниц и Рамадана – дамы с пышными именами принимали мужчин, религиозная принадлежность которых была им так же безразлична, как и их имена; равно как и мужчины не спрашивали у шлюх, заветы какого Бога они нарушают. Большая мечеть имела просторный внутренний двор, открытый и днем и ночью для всех – чтобы помолиться или просто поспать. Оазис среди базарного шума.
Там и стоял дом, в котором семья Сарфати нашла убежище.
* * *
Он располагался у сука Эль-Аттарин – рынка Ароматов, – самого внутреннего из всех рынков между городскими стенами. По всему периметру его тянулись лавки торговцев наименее утонченным товаром – мясников, торговцев домашней живностью, кожевенников. Дальше шли лавки кузнецов и сапожников, харчевни. В третьем круге – палатки итальянских торговцев платками и арабских шапочников – красные фески для мусульман, черные шапочки для иудеев – и ювелиров. А внутренний круг был отдан самым благородным торговцам – пряностями, книгами и парфюмерией.
За рынком, после сумрачного лабиринта крытых переулков, внезапно распахивалась светлая площадь под открытым небом, и ты оказывался перед старой стеной Зайтуны, Большой мечети, с ее университетом. Центр Медины. И рядом, в одном из неприметных проулков, находился дом с голубой деревянной дверью. Снаружи ничто не указывало на внутренний размах, ничто не должно было вызывать зависть соседей и привлекать внимание дурного глаза. Когда Ясмина впервые очутилась перед этой дверью, было темно и сыро, осколки лунного света мерцали холодной голубизной. Несмотря на комендантский час, они отправились на поиски убежища ночью, чтобы никто из соседей их не увидел и не смог выдать. Виктор вел их через лабиринт, Ясмина и мама брели следом, нагруженные чемоданами и одеялами, которые они успели спасти из конфискованного дома. Виктор остановился перед голубой дверью и тихо стукнул, трижды. Дверной колотушкой служила «рука Фатимы», дверь украшали кованые символы, понятные лишь посвященным, – опрокинутый крест, рыба, броши и стрелы. В большой двери открылась маленькая дверца, и Ясмина увидела добродушное лицо Латифа. Алан ва салан. Добро пожаловать в дом.
* * *
Чтобы войти, приходилось наклоняться. Дугой загибавшийся коридорчик защищал дом от жадных взглядов. А дальше – двери, и лестницы, и комнаты, где жили жена и дети Латифа, комнаты матери Латифа и комнаты, в которых жили духи. Темный закуток, откуда попадаешь в неожиданный простор внутреннего двора – арки и колонны, залитые лунным светом, потрескавшиеся плитки, мозаики и орнаменты. На полу расстелены белые платки, на которых сушится кускус. Над зарешеченными окнами с голубыми ставнями вьется жасмин.
Салон с тяжелыми коврами на старых плитках, кресла в стиле Людовика XVI, книжные полки и роскошная люстра. Золотые часы в стеклянном корпусе, серебряный чайный сервиз и мутное зеркало. Семейные фотографии и портреты – живые и покойные этого дома; прокопченные своды кухни; кованая угольная печь и толстые древние стены для защиты от зимних холодов.
На галерее, выходящей во внутренний двор, Ясмина заметила ласточкино гнездо. Из тени выступила старая женщина. Мать Латифа. Босые ступни и сухие ладони, беспрестанно перебирающие молитвенные четки, губы безмолвно шевелятся. Нельзя запирать птицу в клетку, сказала она, иначе в дом придет беда. А кто сохранит ее гнездо, того Аллах оградит от всякого зла.
* * *
Жена Латифа Хадийя освободила для них две комнаты в неиспользуемой части дома, где на галерее были сломаны деревянные перила; там обитали ящерки и стояли медные кастрюли, собиравшие дождевую воду, капавшую из прорех в прохудившейся кровле. Пахло сыростью, древесным углем и благовониями, здесь были расставлены кадила, тлеющие в темноте, – чтобы отпугивать джиннов.
– Наш дом – ваш дом, – сказал Латиф.
Мими приложила правую руку к сердцу, как это делают мусульмане, а Виктор достал из кармана серебряную цепочку и протянул Латифу в знал благодарности. Латиф обиженно отвернул голову и скупым жестом отстранил подарок, оскорблявший его гостеприимство. Хадийя принесла горячий чай с миндалем.
– Вы ели?
– Да, – солгала мама, грозно глянув в глаза Ясмине, умиравшей от голода.
Ясмина промолчала.
Они не должны быть хозяевам в тягость, а должны помогать в уборке и готовке – так мама внушала Ясмине по дороге сюда.
* * *
Позднее Ясмина увидела, как мама вручила Латифу фамильные драгоценности, спасенные из утраченного дома. Латиф завернул их в платок и перевязал бечевкой.
– После войны я верну вам все в целости и сохранности. Именем Аллаха клянусь на священном Коране.
Мама пожелала ему благословения Божьего. И он унес платок в чулан с припасами.
Серебро Сарфати разместилось среди зерна и оливок. Нет более надежного укрытия, чем арабский дом, сказал Латиф. В отличие от европейского дома он повернут к улице спиной. Фасады, облицованные кафелем и украшенные орнаментом, обращены во двор, а с улицы видны лишь неприглядные стены. Согласно заветам Пророка, каждый должен относиться к соседу с почтением, нельзя ничем мешать ему. Поэтому все окна в стенах прорезаны так, чтобы не докучать соседям и оберегать дом от чужих глаз. Пакт о ненападении взглядами.
* * *
В первую ночь Ясмина не могла заснуть. Слушала, как ветер сотрясает стекла, как ящерки снуют по балкам, как перешептываются духи. Присутствие Виктора рядом и успокаивало, и угнетало. Как она сможет пойти к нему в чужом доме, где ее могут увидеть хозяева?
И все же она встала, проскользнула мимо спящей матери, на ощупь прошла по галерее, ступая босыми ногами по холодным плиткам. Нашла его дверь, открыла и подошла к кровати. Постель была пуста, но еще хранила его тепло. Она села на краешек и вдохнула его запах от подушки. И вдруг услышала мелодию, чужую и в то же время знакомую, пение между сном и пробуждением, неземное и далекое и вместе с тем невероятно близкое. Она встала, нашла дверь, лестницу, потом еще одну дверь, и еще, прежде чем очутиться на крыше.
Мельтешили летучие мыши, синий свет заливал террасу. Между белыми куполами висели полотенца для хаммама, колеблемые легким бризом. Напротив, чуть ли не рукой подать, над равниной крыш взмывал вверх четырехугольный минарет Большой мечети. Силуэт муэдзина на фоне утреннего неба. Ла илляха илль алла. Нет бога, кроме Аллаха. От других минаретов, возносящихся над чащей домов, тоже неслось пение, звучавшее не синхронно – один голос только брал ноту, а другой уже заканчивал; многоголосый хаотичный канон взмывал из сумрака, накидывая завораживающий покров из звуков, торжественный и таинственный.
Босая Ясмина стояла на крыше, зачарованная, одинокая, и молитвы овевали ее как ветерок от движения этого покрова из звуков. В Piccola Сицилии была одна церковь, четырнадцать синагог и одна мечеть, и та находилась далеко от их дома. Теперь же Ясмина, дитя моря и простора, очутилась в самом сердце Медины, обращенной внутрь себя. Ее убежище, ее кокон, ее чрево кита. И тут она заметила Виктора. Он сливался с силуэтом купола, на внешнем краю крыши, как будто изготовившись к прыжку. Он слушал. Она направилась к нему. Он слышал ее шаги, но не оборачивался и не удивился, когда ее руки осторожно легли ему на плечи. Обернулся с улыбкой, приложил палец к губам. Не обнять его было нестерпимо тяжело, но она чувствовала вокруг тысячи бодрствующих глаз.