Читать онлайн Из пережитого в чужих краях. Воспоминания и думы бывшего эмигранта бесплатно
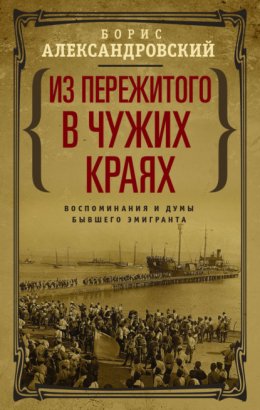
© «Центрполиграф», 2023
* * *
От издательства
О таких людях, как Борис Николаевич Александровский, говорят: человек сложной судьбы. Он родился в 1893 году в Москве, в небогатой интеллигентной семье (отец – врач, мать – учительница музыки). После ранней смерти отца семья с трудом сводила концы с концами, но все же мать сумела дать Борису хорошее образование. В 1916 году он окончил медицинский факультет Московского университета, однако на следующий же день после получения диплома был призван в армию в качестве военного врача – шла Первая мировая война. Дальнейшие события хорошо известны – революционный 1917 год, разложение царской армии, Брестский мир с Германией, Гражданская война…
В 1918 году вернувшийся в Москву Александровский мечтал заняться научными исследованиями в области медицины, но был призван в Красную армию. В 1919-м он попал в плен к белым и перешел в армию Деникина. Сам он утверждает, что это было подневольное решение, по собственным словам, Александровский служил «военнопленным врачом» – странная должность, хотя чего в годы Гражданской войны не бывало… Однако то, как он был принят в среде белого офицерства (как один из соратников-офицеров, а не как пленный «красный»), его широкие дружеские знакомства и деловые связи в период эмиграции показывают: он был своим в этой среде и переход его скорее был добровольным, чем вынужденным.
Как бы то ни было, оказавшись на положении военного врача у белых, он в ноябре 1920 года эвакуировался из Крыма вместе с разбитыми частями Врангеля, ставшего к тому времени главнокомандующим русской армией. Это был тяжелый период для белого офицерства. Упаднические настроения поразили всех, кроме немногих фанатиков белой идеи, уверенных, что еще возможно взять реванш.
Сам Александровский не раз жалел о решении покинуть родину. Он писал: «Да, посадка для медиков была принудительная, иначе и быть не могло при тех обстоятельствах. И все же, при наличии твердой решимости остаться во что бы то ни стало на родной земле, ее можно было избежать, даже принимая во внимание некоторый риск для жизни, обусловленный законами военного времени и приказами белого командования. Но именно решимости в тот момент у автора настоящих воспоминаний и не было. А не было ее потому, что в те времена он не был свободен от некоторых из интеллигентских шатаний, колебаний и сомнений…»
Неизвестно, как сложилась бы жизнь Александровского, останься он в Крыму – вошедшие на полуостров красные части сразу начали аресты и расстрелы оставшихся врангелевцев. Шла Гражданская война, и вражда между разными полюсами русского общества достигла предела. По данным советских историков, было расстреляно от 52 до 56 тысяч человек, но существуют предположения, что число казненных значительно превышало 60 тысяч.
Однако Бориса Александровского ждала судьба эмигранта послереволюционной волны с ее обычными вехами – турецкий Галлиполи, где встали лагерем военные беженцы, потом Болгария и, наконец, Франция… Долгие годы его жизнь была связана с эмигрантским «русским Парижем», быту, нравам и общественным связям которого и посвящена значительная часть воспоминаний бывшего военного врача. Александровский очень хорошо знал эту среду и коснулся самых разных тем – деятельности русских политических объединений, православной церкви за рубежом, русских музыкантов, художников и писателей, оказавшихся в изгнании, русских учебных заведений, открытых в Париже и других городах «русского рассеяния»… На страницах книги можно встретить знаменитые имена – Рахманинова, Шаляпина, Бенуа, Коровина, Билибина, Куприна и многих других «властителей дум», занесенных судьбой в эмиграцию. Автору есть что рассказать о жизни этих людей на чужбине. Наиболее емко общее настроение выразил Глазунов. Борис Александровский вспоминал:
«Друзья, знакомые, бывшие сослуживцы и репортеры без конца интересовались: „Чем объяснить, что неисчерпаемый родник его творческого вдохновения иссяк? Почему он больше ничего не пишет, находясь в расцвете своих творческих сил и возможностей?“
Глазунов словоохотливостью не отличался. Он всегда говорил мало и с длинными паузами, но когда начинал говорить, то говорил веско. Вот каким был его ответ, быстро облетевший весь музыкальный мир и перепечатанный десятками журналов и газет: „Для того чтобы написать что-нибудь, есть только одно средство: вернуться на берега родной Невы, коснуться родной земли и вдохнуть воздух родного города. Вновь вступить под своды Консерватории и Мариинского театра, встретиться с русскими артистами, музыкантами и русской публикой, встать за дирижерский пульт и взмахнуть палочкой. Тогда, и только тогда на меня вновь снизойдет вдохновение. Тогда, и только тогда я вновь буду способен к творчеству…“»
Сам Александровский настойчиво занимался медицинской практикой, несмотря на все препоны, чинимые французскими властями профессиональным врачам, не имевшим французского диплома, – дипломы других стран не признавались. Но русским врачам разрешалось оказывать помощь своим же собратьям-эмигрантам, в чем Александровский никому не отказывал, обычно бескорыстно, так как многие изгнанники жили в Париже на грани голода и нищеты. И эти стороны жизни белой эмиграции он показывает в своих мемуарах откровенно…
Как член Общества русских врачей им. Мечникова и Объединения русских врачей за границей, Б.Н. Александровский играл заметную роль в научно-медицинских сообществах эмигрантов. Но его мечтой всегда было возвращение на родину и возможность приложить знания и силы в своей стране…
Такая возможность представилась только по окончании Второй мировой войны. В числе других репатриантов Борис Александровский в 1947 году вернулся в СССР, проведя в изгнании 27 лет.
На радостной ноте возвращения и завершаются мемуары бывшего эмигранта. Но судя по личным отступлениям в разных главах книги, Александровский с благодарностью принял все, что ожидало его в России.
Из пережитого в чужих краях
Воспоминания и думы бывшего эмигранта
I
После крушения
В середине октября 1920 года положение Белой армии Врангеля сделалось безнадежным. Под натиском частей Красной армии она была вынуждена очистить весь Северо-Таврический плацдарм и укрыться в Крыму за юшуньскими и перекопскими укреплениями, которые белое командование задолго до этого объявило «неприступными».
«Неприступные» позиции были взяты Красной армией штурмом. Разбитая врангелевская армия покатилась к морю.
Имея за собой опыт предыдущей, так называемой новороссийской эвакуации, превратившейся за восемь месяцев до этого из-за недостатка морского транспорта в катастрофу для деникинских Вооруженных сил Юга России, Врангель за несколько недель до оставления Крыма отдал приказ о сосредоточении всех кораблей Черноморского торгового флота в портах Крымского полуострова.
В изданных им в эмиграции мемуарах несколько лет спустя после эвакуации Крыма он признался, что вся Крымская кампания, длившаяся восемь месяцев, была, по существу, не более как «гальванизацией трупа Белой армии» и что, приняв в марте 1920 года командование над остатками деникинской армии, он задался целью «спасти честь» этой армии и «показать миру, что она умирает, но не сдается». Игра же была окончательно проиграна, по его признанию, в момент разгрома деникинских Вооруженных сил Юга России. 14 и 15 ноября 1920 года остатки врангелевской армии грузились в Севастополе, Феодосии и Керчи под прикрытием боевых кораблей белогвардейского флота. Вместе с ними Крым покинули так называемые «гражданские беженцы», состоявшие из представителей финансовой, торгово-промышленной и дворянской знати, сбитой с толку интеллигенции, разночинцев и мещан.
Поздно вечером 15 ноября 1920 года последние корабли врангелевского флота вышли в открытое море. Эта армада, состоявшая из 135 вымпелов, увозила за границу 150 тысяч человек.
Причины поражения всех белых армий общеизвестны. Они полно и всесторонне освещены в нашей исторической, военной, политической и художественной литературе.
Останавливаться на них еще раз излишне. История уже вынесла свой приговор Белому движению.
Но не так думали поборники этого движения в описываемые мною годы. В течение долгих лет, находясь за рубежом, эта умирающая кучка теней прошлого с пеною у рта доказывала, что белые армии вышли бы победительницами в борьбе с советской властью, если бы…
Дальше шла полная разноголосица о причинах поражения и о том, как и чем это поражение можно было бы предотвратить.
Осколки рухнувшего в феврале 1917 года самодержавного строя причину всех несчастий видели в том, что народ поднял руку на «помазанника Божия» царя Николая.
Если бы, по их мнению, вожди белых армий объявили, что они ведут борьбу с советской властью во имя восстановления на престоле «законного царя из дома Романовых», то за ними пошло бы все крестьянство, и тогда бы «большевикам несдобровать».
Либеральная интеллигенция в свою очередь обвиняла белых вождей в том, что они своими диктаторскими замашками якобы «отпугнули от себя широкие массы населения». Если бы они послушались ее и во всеуслышание провозгласили демократические лозунги, то за этими лозунгами пошел бы «весь народ», и тогда «от большевиков ничего не осталось бы».
Некоторые очутившиеся в эмиграции белые стратеги считали, что игра проиграна только от неправильно выбранного главного операционного направления и больше ни от чего другого. Деникин сваливал всю вину на Врангеля, Врангель – на Деникина. Наступать нужно было не в тульском и рязанском направлениях, а в царицынском.
И целью наступления должно было быть не взятие Москвы, а соединение с армией Колчака. И тогда, конечно, не произошло бы всего того, что произошло, и, конечно, «большевикам совсем плохо пришлось бы».
Некоторые эмигрантские псевдоисторики Гражданской войны обвиняли во всем Антанту: она якобы недостаточно щедро и энергично поддерживала белые армии материально. А не поддерживала потому, что на их знаменах было написано: «Великая, единая, неделимая Россия», каковой Антанта боялась будто бы пуще огня. Окажи она им более энергичную финансовую и техническую помощь, «большевики были бы раздавлены».
Участник Белого движения Штейфон, Генерального штаба генерал-майор, бывший долгое время начальником штаба генерала Кутепова, а впоследствии командир гитлеровского «Охранного корпуса», уничтожавшего югославских партизан, в изданных им в эмиграции мемуарах выдвинул свою «теорию»: белые армии потерпели поражение только оттого, что в их организации не был соблюден принцип «регулярства», короче говоря, они не были свободны от «партизанщины». Будь они построены по образцу царской армии, столь любезной для его сердца, «от большевиков одно воспоминание осталось бы».
Невозможно перечислить все эти «теории», родившиеся в эмиграции и тщетно пытавшиеся вывернуть наизнанку историческую правду. Авторы их, исписавши многие тонны бумаги и опорожнив чуть ли не целые бочки чернил, ни на один миллиметр к этой правде не приблизились.
Настоящие мои воспоминания не имеют целью изложение истории эмиграции в целом и рассмотрение всех вопросов, относящихся к ее возникновению, долголетнему существованию и постепенному умиранию. Они только материал для этой истории.
Быть может, будущий историк найдет в них что-либо, заслуживающее его внимания:
- И, пыль веков от хартий отряхнув,
- Правдивые сказанья перепишет…
Поэтому я остановлю внимание читателя на том, из каких элементов состояла русская послереволюционная эмиграция, прошедшая перед моими глазами за 1920–1947 годы.
Первыми по времени появления за рубежом были те эмигранты, которые представляли собой обломки рухнувшего царского самодержавия, – петербургская и царскосельская титулованная аристократия и высшее чиновничество. К этой же группе можно отнести провинциальное дворянство и крупное провинциальное чиновничество. Эмиграция дворянской и феодальной знати, как известно, есть закономерное явление для всех революций вообще, начиная с Французской буржуазной революции 1789 года.
Вторым слагаемым в общей сумме русской послереволюционной эмиграции были представители торгово-промышленного и финансового мира. Появление их за рубежом было одним из специфических последствий Октябрьской революции, положившей конец эпохе капитализма в нашей стране.
Третьим слагаемым было офицерство. Оно, в свою очередь, делилось на две части, глухо враждовавшие между собой: старое кадровое офицерство царской армии и так называемые «офицеры военного времени», то есть недоучившиеся студенты и разночинцы со средним образованием, мобилизованные во время войны 1914–1918 годов и направленные в школы прапорщиков, откуда они выходили через четыре месяца с первым офицерским чином.
К концу Первой мировой войны их общее количество выражалось шестизначным числом, причем многие из них дослужились до чина штабс-капитана.
«Офицеры военного времени» составляли к концу войны основную массу командного состава действующей армии, занимая должности младших офицеров и ротных командиров, реже – командиров батальонов. Они-то и образовали в 1917–1920 годах ядро белых армий Алексеева, Деникина, Врангеля, Колчака, Каппеля, Миллера, Юденича и три года подряд «делали» Гражданскую войну.
А когда пришел закономерный конец этим армиям, бежали за границу и в течение четверти века были там наиболее активными антисоветскими элементами и тем резервуаром, откуда белые генералы Кутепов, Миллер, Туркул черпали людской материал для диверсионной и шпионской работы на территории СССР.
Появление в эмиграции этой категории военнослужащих не было неизбежным. Нельзя забывать, что лучшие представители старого офицерства и генералитета, а также офицеров военного времени отдали весь свой опыт и все свои специальные знания на службу молодой советской республике и с первых же дней рождения Красной армии сделали многое для ее организации и укрепления боевой мощи. Имена их хорошо известны советским людям.
Их было очень много. Но все же большинство царских кадровых офицеров армии и флота перешли после Октябрьской революции в стан ярых врагов советской власти и оставались в нем до бесславного конца своих дней на чужбине.
Что же отбросило их в этот стан?
На этот вопрос можно дать вполне определенный ответ: потеря ими специфических привилегий, присущих замкнутой офицерской касте царских времен. Каста эта почитала себя высшей из всех существующих. Превосходство ее над всеми остальными слоями общества вбивалось в голову будущим офицерам, начиная с начальных классов кадетских корпусов и юнкерских училищ.
Первый удар этой идеологии был нанесен Февральской революцией. Октябрьская революция прикончила ее.
Рука об руку с белым офицерством во все периоды Гражданской войны шла реакционная часть казачества.
Она, в свою очередь, пополняла ряды эмиграции, хотя и не проявляла такой политической активности, как предыдущая группа.
Но если революция нанесла сокрушительный удар привилегированному положению всех перечисленных категорий и отбросила их в антисоветский эмигрантский лагерь, то пребывание в нем представителей либеральной интеллигенции нельзя назвать иначе как недоразумением, притом таким недоразумением, которое было порождено только политическими ошибками этой интеллигенции и больше ничем.
Что заставило этих людей, идеология значительной части которых была построена до революции на служении народу, бежать от народа, когда он взял власть в свои руки? Как могло случиться, что земские врачи, агрономы, оперные и драматические артисты, учителя народных училищ, журналисты из провинциальных газет, инженеры, художники, музыканты, ученые, студенты очутились в том лагере, основная масса которого состояла из их вчерашних врагов?
Ведь подавляющая часть либеральной интеллигенции была пасынком дореволюционного общества и находилась под подозрением у носителей власти в эпоху царского самодержавия.
Единого ответа на эти вопросы дать нельзя, но указать на некоторые общие причины этого явления можно.
Все эти люди не поняли революцию. А не поняли они ее потому, что, будучи широко образованными во многих отраслях человеческих знаний, они были совершенными младенцами в одной из них, а именно в социологии. Эта часть интеллигенции, оставшаяся в стороне от истинного и подлинного революционного движения, не имела никакого представления о законах развития человеческого общества. Историческая закономерность классовой борьбы ей была неизвестна. Об учении Маркса она знала только понаслышке, а чаще совсем ничего не знала и не слышала о нем. В революции эти интеллигенты увидели нечто вроде «очередной смены министерства» по образцу западноевропейского парламентаризма. Распропагандированные вожаками буржуазно-демократических партий, они поверили, что длительность жизни этого «министерства» измеряется неделями, самое большее месяцами, и что потом «все придет в норму».
Они бежали от голода, холода, разрухи, потери минимального комфорта городской жизни, сделав ложный вывод, что эти бедствия составляют специфическую особенность революции, не отдавая себе отчета в их подлинных причинах и в том, что сами они своим неприятием революции только способствуют затяжному существованию этих бедствий.
Не меньшее, если не большее значение для тогдашней психологии этих людей имело и то обстоятельство, что с революцией они утеряли свое положение «интеллектуальной аристократии». Ведь они самонадеянно полагали, что именно им принадлежит монопольное право духовного руководства русским народом. Делиться этим правом с народом они не пожелали.
Но конечно, не беспомощность в теоретических вопросах социологии была главным фактором, приведшим эту часть интеллигенции к эмиграции. Ведь добрая сотня миллионов людей из всего трудового населения бывшей Российской империи была в этих вопросах еще более беспомощна, а кроме того, малограмотна или даже совсем безграмотна. И тем не менее с первых же дней революции трудовой народ уверовал в нее и безошибочно определил, где и на чьей стороне историческая закономерность и правда, а где безумные попытки повернуть вспять ход истории.
Было еще одно обстоятельство, которое привело определенную часть интеллигенции в 1919 и 1920 годах к пристаням Севастополя, Одессы, Архангельска, Владивостока.
Заключалось оно в том, что значительные ее слои при всем своем либерализме и демократической настроенности были гораздо крепче связаны с буржуазией, чем с подлинным народом, то есть с рабочими и крестьянами. Многие представители интеллигенции находились в прямой материальной зависимости от крупной буржуазии и государственного аппарата царской России. Поэтому Октябрьский переворот они восприняли как катастрофу и для себя.
При этом они сделали совершенно ложный вывод, будто бы переход власти в руки народа угрожает не только их благополучию, но и самому их существованию, и сразу же бросились в объятия белогвардейщины, видя в этом варианте контрреволюционной борьбы единственную возможность избавления от созданных их испуганным воображением несуществующих бед, якобы уготованных им в случае окончательной победы революции.
Несколько забегая вперед, я скажу, что эта часть интеллигенции, испив до конца горькую чашу испытаний, выпавших на ее долю во время долголетнего пребывания за границей, первой во всем русском зарубежье полностью осознала всю нелепость своего отрыва от родного народа, первой полностью признала свои ошибки. Многие из них, окончательно порвав с прежними колебаниями и сомнениями, воссоединились с родной землей и родным народом.
Тут я должен сделать некоторое отступление. Поставив своей целью при опубликовании настоящих воспоминаний рассказать советскому читателю о всем том, что за 27 лет моего пребывания за рубежом в качестве эмигранта глаза мои видели и уши слышали, я менее всего хотел при этом говорить о себе самом, полагая, что ни моя персона, ни моя личная судьба не могут представлять для читателя какой-либо особенный интерес. Тем не менее полностью обойти молчанием эту тему нельзя, так как иначе многое в моем дальнейшем повествовании будет для читателя неясным, а частично и совсем непонятным.
Поэтому я прерываю рассказ о севастопольской эвакуации 1920 года и приступаю к изложению кратких сведений о себе.
Моя колыбель – в Москве, на Первой Мещанской, в детской больнице Святой Ольги, где мой отец состоял врачом и где я провел первые шесть лет своей жизни.
Идут последние, заключительные годы прошлого века.
После смерти отца, которого я потерял, будучи шестилетним ребенком, начались скитания по частным квартирам и жизнь бедной интеллигентской семьи, кормившейся за счет скудного заработка моей матери, учительницы музыки в двух московских женских институтах.
Вскоре после этого – московская 6-я гимназия, наградные книги при переходе из класса в класс «за отличные успехи и отличное поведение» и золотая медаль при окончании.
Потом – медицинский факультет Московского университета: Моховая, Девичье поле, университетские клиники.
Весной 1916 года – диплом «лекаря с отличием».
На следующий день после получения диплома и подписания так называемого «факультетского обещания» (письменная врачебная присяга) – отправка на фронт. Леса и болота Белоруссии, окопная жизнь, работа полкового врача и – в конце войны – сухая и лаконичная запись в послужном списке: «В составе полка участвовал во всех походах и боях против австро-германских войск с такого-то числа по такое-то…» Там же на фронте – Февральская и Октябрьская революции. Демобилизация. Снова Москва. Экстернатура в одной из университетских клиник. Как будто осуществление юношеской мечты: клиническая и научная карьера в родном и любимом городе, среди друзей и подруг детства, отрочества, юности и рядом с родными могилами предков, таких же коренных москвичей, как и я сам.
Однако дальше жизненный фильм начинает крутиться совсем не так, как это рисовалось юношескому воображению.
В самом конце 1918 года – врачебная мобилизация в Красную армию и отправка на Южный фронт в группу войск Курского направления. Как в калейдоскопе проходят Воронеж, Валуйки, Купянск, Сватово, Луганск, Донбасс.
Я прикреплен к 4-й красной партизанской дивизии имени Дыбенко, сначала в качестве главного врача полевого подвижного госпиталя, которого еще нет и который нужно создать, позже в качестве помощника дивизионного врача.
Постепенно партизанский облик группы, отражавший революционный пафос беднейших крестьян Курской, Воронежской, Харьковской губерний и донбасских горняков, начинает заменяться организационными нормами регулярной армии. Группа переименовывается в 10-ю армию, а 4-я партизанская дивизия – в 42-ю стрелковую дивизию. Но в военном отношении она еще не успела окрепнуть.
Деникин и Краснов нажимают с фронта и флангов.
Белые дивизии, обильно оснащенные английской техникой, вытесняют нас с подступов к Ростову и из Донбасса. Во фронте образуются бреши. Английские полевые гаубицы деникинских артиллеристов косят красных бойцов.
Конница Улагая, Шкуро и Мамонтова заходит глубоко в тыл отступающих красных дивизий. Дальше – утеря связи со штабом дивизии и с соседними частями, окружение и плен.
Всю вторую половину 1919 и 1920 год вплоть до эвакуации из Крыма я провожу на территории юга России, занятой деникинской, а затем врангелевской армией, в качестве военнопленного врача. Меня прикрепляют то к лечебным учреждениям военных контингентов этих армий, то для лечебной и профилактической работы среди гражданского населения.
Когда Красная армия в конце октября 1920 года прорывает горлышко «крымской бутылки» и начинается агония врангелевской армии, белое начальство объявляет принудительную посадку на корабли всего находящегося в его распоряжении медицинского персонала для сопровождения раненых и больных белых офицеров и солдат, несколько тысяч которых грузят на какие попало суда, чуть ли не на шхуны, для эвакуации в Константинополь.
Наступает 15 ноября 1920 года. Последний взгляд на Севастополь, Сапун-гору, Малахов курган, Северную сторону и… палуба «Херсона».
Надолго ли я покидаю родную землю?
В тот момент казалось – ненадолго, на каких-нибудь пять-шесть недель.
Вместо этих пяти-шести недель – двадцать семь лет…
Вот и вся краткая фактография первых двадцати шести лет жизни автора настоящих воспоминаний. Читатель вправе задать себе вопрос: объясняет ли она сама по себе неизбежность вышеописанной посадки и сам факт эмиграции?
Нет, конечно, никак не объясняет.
Да, посадка для медиков была принудительная, иначе и быть не могло при тех обстоятельствах. И все же, при наличии твердой решимости остаться во что бы то ни стало на родной земле, ее можно было избежать, даже принимая во внимание некоторый риск для жизни, обусловленный законами военного времени и приказами белого командования.
Но именно решимости в тот момент у автора настоящих воспоминаний и не было. А не было ее потому, что в те времена он не был свободен от некоторых из тех интеллигентских шатаний, колебаний и сомнений, о которых сказано выше. Эти колебания были порождены всем миросозерцанием той среды, в которой он родился, и той атмосферой, в которой он рос и воспитывался. На этом миросозерцании и на этой атмосфере следует задержать внимание читателя.
Еще в самые ранние детские годы я всегда находился под впечатлением той особенности нашей жизни, что каждый раз, когда старшие собираются вместе – или у нас в доме, или в гостях, или на прогулках, или еще где-нибудь, они непременно начинают что-то страстно обсуждать, спорить, волноваться, шуметь и кричать до хрипоты.
Вскоре я постигаю и смысл этих бурных словоизвержений: все члены нашей семьи и все, кто бывает в нашем доме и у кого мы сами бываем, ругают царя и царское правительство, словесно разносят в пух и прах самодержавный строй, произносят страстные речи о необходимости свергнуть это правительство, созвать какую-то непонятную «учредиловку» и устроить какую-то мудреную «конституцию», при которой все будут свободны, счастливы и довольны.
Это длилось годами. Однако дальше громких и прекрасных слов дело не шло. Во всем моем тогдашнем окружении, состоявшем исключительно из представителей столичной интеллигенции – врачей, педагогов, музыкантов, адвокатов, журналистов, не было ни одного человека, который на деле включился бы в активную революционную борьбу и оказал бы какие-либо реальные услуги революционному движению.
Декабрьские события 1905 года застали меня во втором классе гимназии (соответствующем четвертому классу советской средней школы). Речи вокруг меня сделались еще более громкими и зажигательными, противоправительственный пафос – еще более сильным. Когда была созвана Первая Государственная дума, мы, 12-летние подростки, уже читали газеты «от доски до доски», восхищаясь противоправительственными речами оппозиционных лидеров, имели среди них своих любимцев, сами лезли в примитивные политические дискуссии с инакомыслящими сверстниками, если они изредка попадались в нашей среде.
Последующие годы столыпинской реакции еще более подогрели эти настроения.
В этой атмосфере ненависти к самодержавному строю, царившей в нашей семье и окружавшей меня среде, прошли мои детство, отрочество и юность. Но за этим совершенно искренним пафосом отрицания существовавшего строя и за идущей от чистого сердца идеологией бескорыстного служения народу не крылось никакой позитивной программы. Считалось, что единственной политической целью данной эпохи должно быть свержение самодержавия и созыв Учредительного собрания.
А дальше?
Предполагалось, что дальше сами собою потекут молочные реки в кисельных берегах и что мы, подобно чеховским героям, «увидим небо в алмазах».
Ну а как же все-таки быть с народом – слово, которое не сходило с уст либеральных глашатаев народных свобод.
С тем самым народом некрасовской Руси, а потом столыпинской России, над печальной судьбой которого мы совершенно искренне проливали горькие слезы?
С народом, как нам тогда казалось, все будет обстоять отлично: хозяйственным мужичкам надо будет прирезать некоторое количество удельной и помещичьей земли и открыть для них чайные без подачи спиртных напитков, а для рабочих построить бесплатные амбулатории и устраивать воскресные чтения на темы, что такое электричество, молния и гром, в чем заключались реформы Петра Первого и какие растения произрастают под тропиками.
Вот и все, что требовалось для народного счастья, по понятиям той политически пассивной части интеллигенции, о которой я веду речь. Вот и вся позитивная программа прекраснодушия российских Маниловых, составлявших очень значительную часть либеральной интеллигенции, в среде которой я родился, воспитывался и вырос, верхушка которой была для меня и моих сверстников и сотоварищей по воспитанию и образованию высшим политическим авторитетом.
Истинных желаний, надежд и чаяний народа мы не знали, хотя мысли наши были обращены к этому народу ежедневно и ежечасно. В подавляющем большинстве мы даже и разговаривать-то с ним как следует не умели. И это несмотря на то, что сами мы в конечном счете вели свое происхождение из толщи этого самого народа и что никто из нас, наших родителей и наших предков никогда не был ни помещиком, ни фабрикантом, ни торговым предпринимателем или еще кем-либо, эксплуатирующим чужой труд.
Громадному большинству этой части интеллигенции, стоявшей в стороне от подлинных революционных борцов – марксистов, было присуще некоторое самолюбование и гордое сознание того, что она – «элита» и что только с ее помощью народ добьется своего освобождения. А о том, что народ в один прекрасный день завоюет свободу совершенно самостоятельно, не спрашивая разрешения у «элиты», и будет устраивать свою судьбу так, как найдет нужным, никто из этой «элиты» не думал. В ее среде казалась ересью мысль, что народ имеет равные с «элитой» права на Бетховена, Чайковского, Рембрандта, Шекспира, Дарвина, Ломоносова, на все завоевания человеческого гения, на все достижения науки и техники.
На таком фоне у этой части интеллигенции и выросли в эпоху Октябрьской революции сомнения в том, не зашла ли революция чересчур далеко и не угрожает ли она ей, «элите», в ее «монопольном праве» на руководство духовной жизнью народа, а кстати, и самому ее существованию?
Эти сомнения и колебания, подогреваемые и раздуваемые вождями либерально-буржуазных партий, и привели в конечном счете многие тысячи российских дореволюционных интеллигентов к эмиграции.
Чтобы закончить повествование о причинах, по которым в эмиграции наряду с махровыми реакционерами из аристократического, чиновничьего и торгово-промышленного мира очутились представители либеральной интеллигенции, я замечу, что среди массы интеллигентов-эмигрантов была одна группа, которую никак нельзя втиснуть в категорию «эмигрантов по недоразумению».
Это главари дореволюционных левых партий: кадетов, эсеров и меньшевиков, а также их ближайшие помощники и единомышленники, то есть прямые враги победившего в октябре 1917 года политического и общественного строя.
В годы Гражданской войны они развили бешеную антисоветскую деятельность, и поэтому в факте бегства их за границу в финале этой войны не было ничего удивительного. К их политической деятельности за рубежом мне придется вернуться в соответствующей главе.
Итак, я стою на палубе «Херсона». В памяти остались на всю жизнь те тяжелые, безотрадные и мучительные минуты, когда от моего взора постепенно скрывались в морской дали контуры Крымского полуострова, а на борту «Херсона» я увидел в обстановке неизжитых противоречий людскую кашу из самых разнообразных элементов тогдашнего буржуазного, чиновничьего, военного и интеллигентского общества, постоянно враждовавших между собою и очутившихся теперь у разбитого корыта на одинаковом положении и в одинаковых условиях.
Рядом с жандармским полковником сидел на узлах и чемоданах старый земский врач с семьей, которого, может быть, еще вчера этот полковник допрашивал «с пристрастием», в качестве обвиняемого по очередному делу о «потрясении основ». Около есаула Всевеликого войска Донского, еще недавно во главе сотни казаков с нагайками в руках разгонявшего толпу демонстрантов, можно было увидеть в полумраке трюма фигуру недоучившегося «вечного студента», быть может, участника этой демонстрации. Редактор архичерносотенной газетки, еще вчера призывавшей к погромам, пререкался с одесским биржевиком-евреем в битком набитой каюте, где яблоку негде было упасть. Чиновники деникинского Освага, сидя на свернутых в кормовой части палубы корабельных канатах, переругивались с бывшими репортерами эсеровских и меньшевистских газет. А я, представитель младшего поколения дореволюционной московской интеллигенции, сын врача и сам врач, стоял, тесно зажатый в сгрудившейся толпе бывших царских и белых офицеров, то есть той касты, которая во все этапы моей жизни глубоко презиралась мною и всеми моими сверстниками и сотоварищами по происхождению, образованию и воспитанию.
Но если спросить, было ли что-либо общее у всех этих людей вышеперечисленных социальных категорий, то ответ можно дать только такой: уверенность в том, что советская власть есть явление временное и что через несколько месяцев или самое большее через год на смену ей придет что-то другое – что именно, никто из них не знал. Эта уверенность объединяла всю разнородную людскую массу, заполнившую 135 кораблей врангелевского флота, плывшего по водам Черного моря в грядущую неизвестность.
II
По Черному морю. Константинополь
Капитаны, штурманы и команды кораблей врангелевского флота едва ли видели когда-либо за всю свою мореходную карьеру переход, подобный тому, который происходил в эти ноябрьские дни в Черном море.
Часть кораблей была совершенно не приспособлена для перевозки пассажиров; другая часть имела поврежденные машины и двигалась со скоростью нескольких узлов. Все палубы, каюты, коридоры, трюмы кораблей были забиты людской массой всех возрастов, обоих полов, различного социального положения и различных убеждений. Багажа ни у кого не было. Его и нельзя было брать, если бы он и был. Запасы продовольствия были исчерпаны в первый же день. Воды в перегонных кубах не хватало и на десятую часть пассажиров, никем и никогда не предусмотренных. На кораблях воцарился режим голода и жажды.
В пути люди рождались и умирали. С первого же дня плавания то с одного, то с другого корабля, груженного ранеными и тифозными больными, опускали в море трупы умерших. На «Херсоне», «Саратове» и других крупных судах было зарегистрировано несколько рождений.
Около трехсот врачей и свыше тысячи сестер милосердия, привлеченных к этой невиданной массовой эвакуации большей частью насильственно, обслуживали эту полуторастатысячную людскую массу.
Двигаясь черепашьим шагом и в состоянии частичной аварийности, корабли достигли Константинополя лишь через несколько суток.
Яхта Врангеля «Лукулл» в это время уже стояла в бухте Золотой Рог, а сам он на положении «бедного родственника» вымаливал у полновластных хозяев побежденной в Первой мировой войне Турции – представителей англо-французского командования на Ближнем Востоке – право убежища для остатков своей разгромленной армии и «гражданских беженцев», разделивших судьбу этой армии.
Ужасный вид представляла многотысячная масса обезумевших людей, переполнивших сверх всякой меры плывшие по Черному морю в направлении Константинополя корабли. Оборванные, месяцами не мывшиеся, заросшие щетиной, грязные, вшивые, голодные, осунувшиеся от бессонных ночей, стояли эти люди, тесно прижавшись друг к другу, на палубах, в каютах и трюмах. Большинству из них негде было сесть.
Но сколь бы ни была подавлена всем происшедшим их психика, они шумели, спорили, кричали, проклинали кого-то…
Слухи рождались ежечасно. Они быстро обходили закоулки каждого корабельного отсека. Осмыслить неизбежность всего происшедшего никто из беглецов не мог.
Печальная действительность рождала грезы, фантазии, бредовые мечты…
В одном углу «Саратова» или «Херсона» передавали, что на западе Белоруссии и в Польше генерал Перемыкин формирует грандиозную армию, которая не сегодня завтра двинется на Москву.
В другом говорили об англо-франко-американском десанте, который высадится завтра одновременно в Крыму, Одессе и на Кавказе, и о том, что «союзники» уже вынесли решение, касающееся всех белых, плывущих сейчас по Черному морю: они составят ядро будущей противосоветской армии.
В третьем горячо обсуждали неизвестно откуда пришедшее известие о каких-то невиданных и неслыханных грандиозных крестьянских восстаниях, о том, что восставшие окружили Москву и что «большевики уже улепетывают во все лопатки».
Каждый грезил и скрашивал печальную действительность как умел. И даже те, кто не были склонны верить ни в Перемыкина, ни в десанты, ни в крестьянские восстания, все же считали, что происшедшая катастрофа поправима, что «большевизм в России – явление мимолетное» и что вообще особенно беспокоиться нечего, через несколько недель или месяцев «все придет в норму».
Что же касается того, какую форму будет иметь эта «норма», мнения расходились.
Никогда эти люди не спорили так шумно и страстно, как сейчас, качаясь на волнах Черного моря. Они обвиняли друг друга; досылали проклятия всем и каждому, кто был с ними не согласен в оценке происшедшего; клялись расправиться с кем-то, кого они считали виновниками только что случившейся катастрофы; ссылались на историю, Священное Писание, речи «вождей», пророчества партийных лидеров. Кричали и спорили долго – до седьмого пота и до хрипоты.
И только один вопрос, самый актуальный из всех, не занимал ничьего внимания: что ждет их завтра после высадки на чужую землю и в какой роли и на какие средства они будут существовать далее, живя у чужих людей?
Этот вопрос не возник ни у кого даже и тогда, когда на горизонте показалась туманная полоса турецкой земли и когда несколько часов спустя врангелевские корабли стали на якорь в быстротекущих водах Босфора – узкой водяной змейки, отделяющей вместе с Мраморным морем и такой же змейкой Дарданеллами – Европу от Азии.
Незабываемую и неповторимую по своеобразной красоте картину представляет Константинополь!
Тысячи нагроможденных друг на друга домов – частью каменные громады дворцов и современных построек, частью сколоченные из досок хибарки и хижины; сотни мечетей с византийскими куполами-полушариями и остроконечными шпилями, уходящими в небо; среди этих мечетей – древняя Айя-София, бывшая в далекие века святыней для всего христианского Востока, а за последующие пять веков вплоть до наших дней – такая же святыня для мусульманского Востока. Людской муравейник на площадях, улицах, улочках, в переулках, закоулках.
Рядом – лазурь Мраморного моря, тысячи парусных лодок, фелюг, шхун, катеров, пароходиков и пароходов, а поодаль – мрачные, грозные силуэты английских и французских дредноутов, охраняющих интересы тех, кто в те дни был хозяином положения на Ближнем Востоке.
Рыбачьи фелюги и лодки пронырливых торговцев облепляют прибывшие корабли. Пожива будет богатая.
Никому она раньше и не снилась. Полтораста тысяч измученных и голодных людей отдают последнее, чтобы утолить голод и жажду. За одну жареную рыбешку и пару апельсинов с борта корабля спускается на веревочке плата – золотое обручальное кольцо. За три пончика, жаренных на бараньем жире, и за полфунта халвы – бирюзовые серьги.
А у борта одного из кораблей иная сцена: на веревочке спущены карманные серебряные часы. Юркий торговец-грек, вместо того чтобы привязать к ней сторгованную связку инжира, хватается за весла и, работая ими изо всех сил, быстро удаляется от корабля. Вслед гремит пистолетный выстрел владельца часов. Грек роняет голову на грудь, руки его виснут как плети, по рубашке сочится кровь, а тело грузно опускается на дно лодки.
Кругом – ни испуга, ни смятения. Торговля есть торговля. Всякое бывает… Лови момент!
Торговцы с удвоенной энергией поднимают на борт корабля коробки фиников, рахат-лукум, инжир, лимоны, апельсины, халву, лепешки, пончики, куски жареного барашка, рыбу… Вниз на веревочках спускаются кольца, брошки, амулеты, браслеты, шелковые платки, запасные пары ботинок (у кого они случайно оказались) и многое другое, что можно еще снять с себя и превратить в еду.
Денег у нахлынувшей массы людей нет. Вчерашние, имевшие хождение в Крыму кредитные билеты, не покрытые никаким золотым обеспечением, теперь могут служить лишь для оклейки комнат. О турецких лирах, греческих драхмах, фунтах стерлингов, франках и долларах можно лишь страстно и бесплодно мечтать. У приехавших их нет и быть не может.
Наступает ночь. Панорама виднеющегося вдали города принимает волшебный вид. Город загорается сотнями тысяч огней. На рейде – иллюминация на англо-французских дредноутах. Полная луна отражается в водах Босфора. На врангелевских кораблях томятся в неизвестности десятки тысяч людей. Слухи плодятся и множатся…
Утром следующего дня начинается по распоряжению англо-французского командования выгрузка раненых и больных. Вместе с ними выгружена и часть медицинского персонала. Другая часть задержана на кораблях и должна сопровождать основную массу так называемых «беженцев» вплоть до мест окончательного их расселения.
В последнюю категорию попадает и автор настоящих воспоминаний. Никакого карантина, санитарных и дезинфекционных мер провести невозможно: вместо выгруженных тяжелобольных, почти сплошь инфекционных, тотчас появляются вновь заболевшие. Каюты, отведенные под лазареты, заполняются в первый же день после выгрузки.
По решению союзного командования остатки разбитой армии будут расселены в лагерях Галлиполийского полуострова и островов Эгейского моря. Очевидно, командование имеет на них какие-то виды. «Гражданские беженцы» должны быть высажены в Константинополе.
Но разобраться в этой людской каше – кто «армейский», а кто «гражданский» – невозможно. У сгрудившихся на кораблях людей одно желание: сойти во что бы то ни стало на берег, выбраться из того ада, в который превратились палубы, каюты и трюмы кораблей врангелевской армады.
Но это не так просто: генералы Кутепов, Витковский, Скоблин, Туркул, Манштейн и другие пресловутые «герои» Гражданской войны выставляют у трапов караул и сами решают, кто должен быть задержан на пароходах, как материал для будущих авантюр, и кто может быть спущен на берег. Стоящие рядом французские офицеры безучастно наблюдают за распределением.
Десятки тысяч людей сходят на берег.
С этих дней начинается «константинопольский» период в жизни русской послереволюционной эмиграции.
Все перемешалось в заполнившей константинопольские набережные разношерстной толпе, говорящей на русском языке. Бывшие губернаторы, прокуроры, акцизные чиновники, мелкопоместные дворяне, генштабисты, гусары, уланы, драгуны, лейб-казаки, артиллеристы, юнкера, редакторы газет, репортеры, кинооператоры, певцы, артисты, музыканты, художники, врачи, инженеры, агрономы, классные дамы, фрейлины, офицерские жены – калейдоскоп всех слоев дореволюционного русского буржуазно-дворянского и интеллигентского общества. И – как исключение – отдельные, затерянные в этой массе ремесленники, хлеборобы, рабочие.
Они рассеялись по всему городу, и перед каждым из них во весь рост встали те вопросы, над которыми до этого момента никто из них не задумывался:
Что делать дальше?
Куда идти?
Где и под какой крышей преклонить голову?
На какие средства существовать?
В первые дни на базары и толкучие рынки относилось все то немногое, что еще не было снято с себя. Дальше прибывшие «беженцы» вновь становились лицом к лицу с прежними мучительными и неразрешенными вопросами.
Вчерашние «превосходительства», «сиятельства», «господа офицеры», «дамы общества», не имеющие никакой специальности и не знавшие, что такое труд, превратились в никому не нужных нищих.
Лишь единицы из них смогли временно устроить свою судьбу более или менее сносно: одним помогли старые заграничные знакомства, другим – мимолетные связи, третьим – знание в совершенстве иностранных языков, в частности английского и французского. Кое-кто попал в расставленные искусной рукой сети иностранных разведок, продал свою честь за фунты, франки, доллары и зажил привольной для «беженца» жизнью.
Некоторые – единицы – из «беженцев» сразу оказались при деньгах. Они скупали за гроши на толкучках золотые портсигары, табакерки, фамильные бриллианты, разбазариваемые их соотечественниками, и в тот же день продавали их втридорога иностранцам. На вырученные деньги открывали притоны, кабаки, «обжорки», устраивали «тараканьи бега», торговали своими женами и дочерьми, прогорали, вновь бросались в омут спекуляции, рвачества, обмана, азарта, вновь составляли себе в несколько дней «оборотный капитал» и снова пускали его в ход, устраивая разные дела, почти всегда темные.
Появилась русская газетка. В ней – зазывающие объявления специалистов по венерическим и мочеполовым болезням, акушерок, «дающих советы секретно беременным», зубных врачей, портных из Петербурга, Киева, Одессы, реклама ресторанов, комиссионеров. И – отдел розысков.
«Разыскиваю Петра Ивановича Доброхотова, штабс-капитана 114-го пехотного Новоторжского полка. Сведений о нем нет со времени первой одесской эвакуации. Просьба писать по адресу…»
«Знающих что-либо о судьбе Шуры и Кати Петровых 17 и 19 лет из Новочеркасска срочно просят сообщить их матери по адресу…»
«Сотоварищей по второй новороссийской эвакуации и по верхней палубе парохода „Рион“ прошу срочно сообщить свои адреса по адресу…»
«Шурик, откликнись! Мама и я получили визу в Аргентину. Пиши по адресу…»
Виза! Какое манящее и многообещающее слово! Оно раньше не было известно почти никому из этой массы выброшенных за борт жизни людей. Теперь его узнали все.
Это – улыбка судьбы, подающая надежду получившему ее на какую-то лучшую жизнь вне константинопольского ада.
Для детей, ежедневно слышащих это волшебное слово, оно что-то вроде сказочной принцессы или доброй феи, которая одарит их щедрыми дарами и игрушками, а маму и папу осыплет благоухающими цветами и вместе со всеми членами семьи укажет им путь прямо в земной рай.
Но как получить визу? Как добиться, чтобы какое-нибудь иностранное консульство в Константинополе поставило на паспорте заветный штамп, дающий право на въезд в выбранную просителем страну? Где, как и откуда взять паспорт этой беспаспортной массе оборванных, нищих, голодных людей? Кому они нужны? Какая страна пустит их в свои пределы?
Вопросы эти остаются без ответа.
«Беженцы» по-прежнему заполняют константинопольские панели, набережные и площади. Они ютятся в трущобах, развалинах домов, щелях, хижинах, часто ночуя под открытым небом.
В жизнь многоязычной столицы Оттоманской империи, в которой уживались на протяжении веков турки, греки, армяне, евреи, вклинились пришельцы с севера, говорящие на никому не понятном языке и живущие своей обособленной, столь же никому не понятной жизнью.
Но иностранные разведки не дремлют. Некоторые категории русских «беженцев» представляют для них большой интерес. Кое-кого из них они завлекают в свои сети для «текущей работы» по доставке им точных сведений о настроениях, мыслях и чаяниях русской эмигрантской массы. Кое-кто, может быть, пригодится им в будущем для более сложных поручений: ведь обстановка в Восточной Европе неясная. Нельзя дать себя застигнуть врасплох. Нужно держать наготове нити для плетения будущих политических узоров и хитроумных комбинаций.
В частности, у второго бюро Центрального управления французской разведки есть и более неотложная забота: в спешном порядке организовать «улов» среди нахлынувших на Ближний Восток «беженцев» для Иностранного легиона. Щупальца второго бюро проникают во все уголки капиталистического мира. Каждый раз, когда где-либо появляются массы или отдельные группы психически шокированных людей, спасающихся от судебных и административных кар у себя на родине и не знающих, куда себя девать на чужбине, тайная агентура сманивает их, вербуя как пушечное мясо специальной армии, призванной защищать интересы финансовой олигархии в подопечных Франции заморских территориях.
Во всех местах массового скопления безработных как в самой Франции, так и в ее «сферах влияния» в те времена можно было увидеть расклеенные на стенах домов и заборов красочные плакаты, призывавшие молодых людей добровольно вступать в ряды этой армии. На плакате – изображение земного рая. Синее море и лазурное небо. Яркое солнце. Песчаный пляж с растущими поодаль стройными пальмами. На этом фоне – солдат Иностранного легиона. На лице его – выражение счастья и восторга. Надпись: «Записывайтесь в самый прекрасный из всех полков мира!» Что же это за «самый прекрасный полк»? – спросит читатель.
В описываемые годы он состоял из пехотных, кавалерийских, артиллерийских, саперных и бронетанковых частей. Все вместе они более всего подходят под понятие соединения, именуемого в военное время армией (номерной).
Все солдаты и частично сержанты легиона – из иностранцев. Командный состав – только французы. Служба – по контракту, подписываемому в так называемом добровольном» порядке на пять лет.
Основной контингент этих невольных «добровольцев», воинов-рабов – уголовные преступники всех стран, если только им удалось бежать со своей родины от судебных и полицейских преследований и очутиться на чужой территории в сфере видимости тайных агентов второго бюро.
Поступление в Иностранный легион освобождает их от выдачи государству, откуда они происходят.
С того момента, когда убийца, грабитель, насильник, бандит, вор, растратчик иностранного происхождения поставил свою подпись под контрактом пятилетней службы в Иностранном легионе, он делается недосягаемым для полиции, администрации и суда. О его прошлом при поступлении в легион никто не спрашивает. С момента зачисления в солдаты легиона он теряет свое прежнее имя, фамилию, звание, национальность и получает только индивидуальный номер. С этого момента он больше не человек, а только номер.
Дисциплина – палочная. За малейшее неповиновение – расстрел. Место службы – колонии тропического пояса: Западная и Экваториальная Африка, Мадагаскар, Индокитай, Марокко, Алжир, Тунис, Сирия, Ливан.
Многие сотни русских эмигрантов подписали контракты, обрекавшие их на эту пятилетнюю военную каторгу.
Больше половины из них сложили свои головы в знойных пустынях Северной Африки, джунглях Индокитая и Мадагаскара, сраженные меткой пулей арабов, сенегальцев, аннамитов, мальгашей. Другие умерли на госпитальной койке от тропических болезней, солнечного удара, укусов ядовитых змей.
Едва ли нужно говорить, что в 1920–1923 годах в Константинополе второе бюро собрало обильный людской урожай для «самого прекрасного полка в мире».
В течение последующих лет, проведенных мною в Париже, мне неоднократно приходилось встречаться и беседовать с эмигрантами, уцелевшими на этой военизированной каторге и отслужившими пятилетний контрактный срок в «самом прекрасном полку в мире», оставившем в памяти всей эмиграции зловещее воспоминание.
«Константинопольский» период жизни эмигрантов, эвакуировавшихся в 1919 и 1920 годах, продолжался около трех лет.
Возникшее в Турции мощное национально-освободительное движение, возглавленное Кемалем Ататюрком, вынудило Антанту эвакуировать свои сухопутные и морские силы из пределов этой страны.
Оккупация кончилась. Вместе с ней кончилось и пребывание в Константинополе русских эмигрантов.
Большинство из них было выслано в 1923 году из страны и перебралось в Болгарию, Югославию, Грецию, Чехословакию и Францию.
Следует отметить, что вышесказанное относится к категории «гражданских беженцев» и к тем бывшим военнослужащим врангелевской армии, которые сразу же после севастопольской эвакуации перешли на положение гражданских лиц, то есть не были связаны с сохранившими воинскую организацию основными кадрами разгромленной армии. Эти последние, как читатель узнает из следующей главы, были размещены в подавляющей своей части вне Константинополя и его окрестностей. Для них «турецкий» период, который иногда неправильно называют «константинопольским», окончился раньше – еще в конце 1921 года, когда их остатки были перевезены в Югославию и Болгарию.
III
«Долина роз и смерти»
Теплое ноябрьское утро 1920 года встретило в Мраморном море флотилию из нескольких десятков судов, развозивших по местам окончательного назначения врангелевские контингенты и «гражданских беженцев».
По распоряжению англо-французского командования на Ближнем Востоке основная часть разбитой врангелевской армии была дислоцирована в Галлиполи, казачьи части – на острове Лемнос, остальные численно незначительные контингенты – в окрестностях Константинополя и на островах Мраморного моря. «Гражданские беженцы» в большей своей части выгрузились в том же Константинополе, в меньшей – были направлены в Пирей, Бейрут и Александрию, моряки военного флота – в Бизерту. Ядром этой разношерстной людской массы были те родившиеся в процессе Гражданской войны белые полки и дивизии, которые в течение трех лет «делали» эту войну и составляли остов основанной генералами Алексеевым и Корниловым Добровольческой армии, потом – деникинских Вооруженных сил Юга России и в заключение – врангелевской армии.
Руководствуясь своими соображениями, французское и английское правительства дали директивы своему командованию на Ближнем Востоке сохранить разбитые врангелевские дивизии.
Англия, оказывавшая мощную финансовую и материальную поддержку Деникину, окончательно отказалась к тому времени от дальнейшей помощи белым армиям, по-видимому считая ее совершенно бесполезной.
Франция, наоборот, официально заявила, что берет под свое покровительство русских «беженцев» и что делает это якобы из чувства «гуманности», о чем французские власти неоднократно оповещали население эмигрантских лагерей. «Гуманность» эта была, впрочем, довольно своеобразная: французское правительство распорядилось выдать своим новым подопечным – «беженцам» – оставшиеся от Дарданелльской операции 1915 года старые палатки, залежавшиеся банки мясных консервов и превратившуюся чуть ли не в камень фасоль, а в виде платы за все это забрала угнанные Врангелем боевые корабли Черноморского флота и целиком весь торговый флот, сосредоточенный к моменту эвакуации по приказу Врангеля в портах Черного моря.
В те же руки попало и все ценное имущество, которым были нагружены эти корабли. Не нужно быть экономистом и статистиком, чтобы понять, что «гуманности» в этом бизнесе очень мало.
В ноябре 1920 года 30 тысяч офицеров и солдат врангелевской армии – алексеевцев, корниловцев, марковцев, дроздовцев и других – вместе со штабами, интендантствами, госпиталями и вспомогательными учреждениями высадились на пустынном европейском берегу Дарданелльского пролива, около маленького городка Галлиполи. Это было то самое место, где в 1915 году англо-французские морские силы и наземные войска тщетно пытались штурмовать турецкие береговые укрепления; где погибло в турецком плену множество офицеров и солдат русской армии, начавшей в 1877 году военные операции против Турции, за освобождение единоплеменной Болгарии; где еще раньше сложили свои головы запорожцы, воевавшие с турецким султаном, и где, по преданию, в глубине веков грозный Ксеркс велел «высечь море»…
В те же самые дни на столь же пустынные берега острова Лемнос были выгружены 15 тысяч донских казаков из той же врангелевской армии. Один из многочисленных островов Эгейского моря, Лемнос, не мог похвастаться столь богатым историческим прошлым, как Галлиполийский полуостров. В 1915 году здесь в глубоких бухтах укрывались боевые корабли союзного флота, предназначенного для операции по овладению Константинополем и проливами.
Врангелевский военный флот в составе одного линейного корабля, одного крейсера, шести миноносцев и ряда вспомогательных судов получил приказ идти в тунисский порт Бизерту. Там его разоружили, а личный состав вместе с воспитанниками Морского корпуса был списан на берег, где он и прожил около года вплоть до расселения по разным городам и департаментам Франции.
Я провел в Галлиполи девять с половиной месяцев на положении врача одного из лечебных учреждений, расположенного на территории белогвардейского лагеря, и имел возможность наблюдать за повседневной жизнью этого своеобразного мирка, отгороженного от остального мира не только географически, но и психологически.
Стояла ясная, солнечная и теплая погода. Зима в этих широтах наступает поздно. Тихий и заброшенный турецкий городок Галлиполи на каменистом и пустынном берегу Дарданелл, в то время представлявший собою, как и большинство турецких городов, груду сбитых в кучу деревянных, убогих лачуг с редкими каменными домами и мечетями среди них, не видел за все свое многовековое существование такой массы пришельцев с непонятной, громкой и певучей речью. Они за два-три часа заполнили все его набережные, улочки и переулки.
В веками сложившуюся медлительную жизнь Востока, с его неподвижными людскими фигурами и лицами с застывшей мимикой, вклинилось что-то новое, чужое, необычное… Прибывшая масса людей, обросших щетиной, грязных, в обтрепанных шинелях (подарках его величества английского короля), бурлила, шумела, спорила, размахивала руками. Это были незадачливые воины Белой армии, которую русский народ и история выплеснули на чужие берега, где она бесславно окончила свое никому не нужное существование.
Но не так думали сами прибывшие. И тогда в Галлиполи, и много лет спустя заброшенные в иные страны, они продолжали верить в свою миссию «освободителей» и строителей «великой, единой, неделимой России». Они окружили самих себя ореолом геройства, а убогий турецкий городишко сделали символом не прекращавшейся за рубежом борьбы с «мировым злом – большевизмом». Они создали легенду о «галлиполийском сидении», разнесли ее по всем углам русского зарубежного рассеяния, а себя украсили нагрудным железным крестом с начертанным на нем словом «Галлиполи».
Три с лишним десятка лет после этого они жили мечтою о грядущем «весеннем походе», о нанесении ими сокрушающего удара по «мировому злу – большевизму» и о победоносном своем возвращении на родину. Жили, верили, надеялись, незаметно старились, дряхлели… и постепенно вымирали.
В первые же дни после высадки разбитой Белой армии в Галлиполи и на Лемносе находившийся в Константинополе Врангель отдал свой первый зарубежный приказ.
Ему нужно было как-то сохранить свое лицо и вдохнуть в приунывших после крымской катастрофы подчиненных какую-то надежду. В высокопарных выражениях приказ упоминал об историческом предопределении расселения Белой армии на землях около древней Византии с ее храмом тысячелетней древности – Святой Софией; на тех самых землях, где покоятся кости воинов Олега, запорожских сечевиков, некрасовских беженцев-казаков, русских пленных балканской армии…
В описываемое время он старался прежде всего сохранить военные кадры, не допустить их растворения в массе «гражданских беженцев». Сам он на это уже не был способен: авторитет его среди белого офицерства был поколеблен. Нужны были новые люди. Нужен был, с его точки зрения, человек, который смог бы восстановить нарушенный порядок в разгромленном белом воинстве, с сильно разболтанной дисциплиной, собрать это воинство в кулак для будущих военных авантюр. Выбор его пал на генерала А.П. Кутепова, одного из высших военачальников руководимой им в Крыму армии.
Формально Врангель продолжал возглавлять военные контингенты разбитой армии вплоть до своей смерти, последовавшей в Брюсселе в 1928 году. В свою очередь, эти контингенты продолжали считать его главнокомандующим тоже формально и тоже до этой даты. Но истинным выразителем дум и чаяний белого офицерства и его душою уже в ту пору сделался Кутепов, к которому после смерти Врангеля перешло автоматически командование этой призрачной армией.
Кутепов, уроженец одной из крайних северных губерний бывшей Российской империи, не был ничем примечателен ни в Первую мировую войну, ни в Гражданскую.
Он имел неполное гимназическое образование, затем прошел курс юнкерского училища, откуда был выпущен подпоручиком в один из армейских полков. После Февральской революции, нанесшей удар аристократической касте гвардейских офицеров, его перевели в старейший гвардейский полк старой армии – Преображенский. В Первую мировую войну Кутепов решительно ничем не выделялся из остальной офицерской массы. Вместе с другими контрреволюционно настроенными офицерами он в конце 1917 года пробрался на Дон, где в то время формировалась Добровольческая армия, и в качестве командира роты одного из офицерских полков совершил вместе с Корниловым так называемый Ледяной поход.
В Гражданскую войну офицерская карьера в Белой армии часто делалась с головокружительной быстротой. Поэтому нет ничего удивительного, что, быстро пройдя должности командира батальона, полка и начальника дивизии, он к моменту занятия деникинской армией Юга России летом 1919 года был уже командиром корпуса. Но ни в тот период, ни в последующие вплоть до окончательного разгрома Белой армии он не пользовался среди боевой части белого офицерства большим авторитетом. В противоположность белым генералам Туркулу, Манштейну, Скоблину за ним не числилось ни одного крупного боевого успеха. Зато в тыловой жизни он был грозою всего подчиненного ему офицерства и генералитета.
Для поставленной Врангелем цели это был самый подходящий человек. В первом же своем слове, обращенном к деморализованным офицерам и солдатам, обитателям Галлиполийского лагеря и города Галлиполи, Кутепов заявил, что ничего особенного не случилось; что крымская катастрофа – сущий пустяк; что вскоре последует десант и вновь начнется прерванная на короткий срок борьба с ненавистной советской властью; что в успехе этой борьбы нет и не может быть никакого сомнения; что вскоре в армии вновь будут, как и в царские времена, 52 номерные дивизии…
А сейчас – прежде всего такая же воинская дисциплина, как и в благословенные царские времена. Никому никаких поблажек. За малейшее нарушение ее – арест и содержание на гауптвахте, за более крупное – разжалование в солдаты, за очень крупное – расстрел.
В каждом своем приказе, в речах на парадах, в беседах с офицерами он вбивал им в голову любезные их уму и сердцу идеи, что военная каста – высшая из всех существующих в человеческом обществе; что они – корниловцы, марковцы, дроздовцы, алексеевцы – «соль земли» и что с великодушной помощью этой «соли» Россия и русский народ будут спасены от «порабощения большевиками».
Авторитет Кутепова стал быстро расти. Для деморализованной и претерпевшей психический шок белой офицерской массы он сделался идеалом военачальника, а в будущем – диктатора России. К концу «галлиполийского сидения» он был в глазах этой массы естественным главой всего зарубежного белого воинства. Таким он в ее представлении остался вплоть до его исчезновения в Париже в 1930 году.
Кутепов рьяно принялся за устройство галлиполийской лагерной жизни. Сам он расположился со своим штабом на городской территории Галлиполи. Для размещения многочисленных штабных отделов и подотделов были сняты частные помещения. У Врангеля для этой цели денег было достаточно: казна его, питавшаяся в свое время фунтами стерлингов, сыпавшимися в изобилии с Британских островов, еще не опустела. Там же, в городе, расположились вывезенные вместе с остатками разбитой армии шесть юнкерских училищ всех родов оружия (хотя и безо всякого оружия), технический полк, три офицерские школы, железнодорожный батальон, госпитали, хозяйственные и подсобные учреждения.
Для основной массы эвакуированных на Галлиполийский полуостров врангелевских контингентов французское командование отвело пустынную долину в семи километрах от города. Здесь в первые же дни после высадки вырос целый город белых палаток, выделенных, как было выше сказано, в порядке «гуманности» по распоряжению французского правительства французскими интендантами.
Странное было время! На турецкой территории с преобладающим греческим населением хозяйничали победители – англичане и французы. Территория Галлиполийского полуострова оказалась подчиненной французам. В городе был расквартирован полк чернокожих сенегальских стрелков, а в бухте стоял французский контрминоносец с наведенными на русский «беженский» лагерь жерлами орудий. На всякий случай… Так спокойнее. Кто их знает, этих беженцев, что у них на уме! Ведь они как-то ухитрились протащить с собою на пароходах и выгрузить на сушу некоторое количество винтовок, пулеметов и патронов. С ними надо быть начеку. Ближний Восток – классическое место для всякого рода политических сюрпризов и авантюр.
Высадившиеся на полуострове врангелевские соединения были сведены в единицы более мелкого порядка. Армия превратилась в корпус, который получил громкое название – 1-й армейский корпус русской армии. Белая идеология не могла обойтись без увязывания всякой новой своей авантюры с именем России.
Корниловская, Марковская, Дроздовская и Алексеевская дивизии превратились в полки тех же названий. Они составили 1-ю пехотную дивизию. Белая кавалерия (кроме донских казаков, высаженных на остров Лемнос, и кубанских и терских казаков, расселенных около Константинополя) была сведена в четырехполковую 1-ю кавалерийскую дивизию. Коней у этих кавалеристов, конечно, не было, но за былые офицерские традиции старых кавалерийских полков они держались крепко.
Вся врангелевская артиллерия (кроме казачьей) была сведена в шесть дивизионов, составивших артиллерийскую бригаду 1-го армейского корпуса. Пушек, конечно, тоже не было, но артиллерийский «дух» дивизионов и батарей царской армии усиленно культивировался в рядах белых артиллеристов.
О чем думала эта 30-тысячная масса выброшенных за борт жизни людей, не занятая никаким производительным трудом? Какие мысли бродили в голове у всех этих пехотинцев, кавалеристов, артиллеристов, саперов, военных железнодорожников и юнкеров?
Прежде всего воспоминания, воспоминания и воспоминания…
Ими жили в последующую четверть века не только галлиполийцы, но и вся эмиграция. Время как бы остановилось для этой эмиграции. Реальная жизнь для эмигрантов кончилась в тот момент, когда они сели на корабли в Севастополе, Одессе, Новороссийске, Феодосии, Архангельске, Владивостоке.
Дальше начался сон, кошмарный сон. Но сон этот, конечно, скоро кончится…
Отсюда – вторая половина духовной жизни эмиграции – надежды, надежды и надежды…
На что надежды?
На то, что реки потекут вспять, что солнце взойдет завтра на западе, а зайдет на востоке и что колесо истории покатится в обратном направлении.
Повседневная жизнь этих 30 тысяч бездельничавших людей, прозябавших во французских палатках на заплесневелом хлебе, консервах пятилетней давности и гнилой фасоли, сводилась к передаче лагерных слухов, ласкавших воображение и окрылявших обитателей его новыми надеждами, и к пережевыванию все одних и тех же воспоминаний о лихой юнкерской жизни, чинах, орденах и служебных продвижениях, о боевых эпизодах и походах и о том, что главной ошибкой была чья-то непростительная мягкость. Надо было в свое время «перевешать и расстрелять всех проклятых слюнявых интеллигентов с Милюковым и Керенским во главе». Не будь их, ничего бы и не было, «сидели бы мы сейчас спокойно в Москве и Петербурге».
От слухов в лагере некуда было уйти: «Франция признала армию… Через два месяца десант… Армия покатится к Москве, как снежный ком… В три месяца с большевиками будет покончено…», «Президент Вильсон официально заявил, что он оставляет большевикам еще только шесть недель жизни…», «Англия согласилась на военную диктатуру. Кутепов уже назначен диктатором. Его будущая резиденция – Московский Кремль…», «Каждый месяц галлиполийского сидения приравнен к году службы. Уже заготовлен приказ о производстве в следующие чины всех господ офицеров…», «Франция предлагает нам почетную службу охраны новой французской границы на Рейне… Установлены высокие оклады. Отправка – через две недели…».
А пока – пустынный и безотрадный Галлиполи, «голое поле», как его называли обитатели лагеря, брезентовые палатки, одеяла и чашки американского Красного Креста, гнилые консервы, кутеповская игра в солдатики, маршировка, гауптвахта за неотданное воинское приветствие или нечеткий ответ начальству, а для поднятия «духа» – развлечения: футбол, самодеятельный под открытым небом театр без декораций и костюмов, лагерная газетка «паршивка», «объединения» офицеров за чашкой разведенного спирта, юнкерские песни канувших в вечность времен…
Но Кутепов крепко держал лагерь в своих руках. Недовольству не должно быть места. О настроениях обитателей лагеря его информирует в секретном порядке созданная им контрразведка. Неблагополучия быстро устраняются. Под подозрение взят бывший начальник Дроздовской дивизии, а ныне командир Дроздовского полка генерал Туркул: перед его палаткой на лагерной линейке – клумба со сложенным из мелкого камня изображением двуглавого орла – о, ужас! – без короны.
Но это еще не все. Информаторы сообщают, что в его штабной палатке поздно вечером собираются и о чем-то шепчутся преданные ему дроздовцы. Вскоре они выясняют предмет этих шептаний: перехвачено его письмо в Париж к лидерам эмигрантских республиканских кругов.
Выдвинут новый лозунг: «Довольно монархий! Даешь республику!» Туркул вызван к Кутепову. Он понимает, чем пахнет такое дело. Бесславно окончить свои дни в застенке галлиполийской кутеповской контрразведки он не хочет. Он приносит публичное покаяние. К двуглавому орлу на лагерной линейке в расположении Дроздовского полка спешно приделывается корона. Кутепов заключает раскаявшегося генерала-бунтовщика в свои объятия.
Буря в стакане воды окончена. Мир на галлиполийской земле восстановлен.
К концу «галлиполийского сидения» из обитателей лагеря Кутеповым была создано сплоченное и послушное орудие для будущих авантюр, посеяны семена РОВСа – Российского общевоинского союза.
Официальное рождение РОВСа относится к 1924 году.
Именно тогда в точности определились его организационная структура, права и обязанности членов, устав и прочие подробности юридического и организационного порядка. Но зародыши его идеологии относятся именно к «галлиполийскому» периоду, а творцом этой идеологии и вдохновителем будущего РОВСа был и остался, как я уже упоминал, командир 1-го корпуса русской армии и будущий диктатор Российского государства генерал Кутепов.
Галлиполийский лагерь просуществовал примерно год.
Основная масса его обитателей покинула его летом и глубокой осенью 1921 года.
Некоторая часть лагерников отсеялась в первые месяцы после его основания. Она была представлена теми элементами, до сознания которых дошла вся нелепость кутеповской игры в солдатики и полная бесперспективность галлиполийского ничегонеделания. С ведома и согласия французских властей эти люди перешли на положение «гражданских беженцев», с тем чтобы покинуть лагерь и самостоятельным трудом добывать себе средства к существованию на территории Турции и Греции. Многие из них, соблазнившись посулами бразильских плантаторов, обещавших им золотые горы в Бразилии, уехали в эту далекую страну, где, попав на кофейные плантации штата Сан-Паулу в качестве чернорабочих, фактически перешли на положение полурабов и в большинстве окончили там свои дни.
Кутепов предал анафеме «гражданских беженцев», нарушивших единство кадров будущего РОВСа, но задержать их в лагере не мог: французские власти весьма недвусмысленно дали ему понять, что он является хозяином лагеря лишь постольку-поскольку. Все основные вопросы жизни лагеря решают они.
Склонные к опоэтизированию безотрадной действительности своего «сидения», галлиполийцы окрестили отведенную им между каменистыми холмами площадь «Долиной роз и смерти». Никаких роз там, правда, не водилось, смерти тоже не было, так как никогда никто в этой долине не жил. Но это название «звучало», и к ореолу «галлиполийских сидельцев» прибавляло, с их точки зрения, лишний луч сияния.
Утром и вечером, на зимнем ветру и летнем солнцепеке можно было видеть одинокие фигуры лагерников, стоящих на холмах, обступивших с двух сторон «Долину роз и смерти», и с тоской смотрящих вдаль. Перед ними по узкому водному коридору Дарданелл плыли морские гиганты под флагами всех стран, привозящие в Константинополь, Бургас, Варну и Констанцу и увозящие оттуда людей всех наций.
За водами пролива – Малая Азия с цепями гор, белых зимою, зеленых весною и летом, желтых поздней осенью.
Налево – гладь Мраморного моря с еле виднеющимися на горизонте контурами холмистых островов. За ними – невидимые для глаза Босфор, Константинополь, Святая София, Черное море, родная земля…
Нередко случалось, что одна из этих фигур вынимала из кармана обгрызенный карандаш и клочок бумаги, нервно писала на нем что-то, а потом, достав из другого кармана револьвер и приставив его к своему виску, спускала курок. А на следующий день после захода солнца выстроенным на линейке офицерам и солдатам 1-го армейского корпуса русской армии читался приказ по корпусу: «Покончившего жизнь самоубийством поручика такой-то роты такого-то полка (или дивизиона) исключить из списков…» Рядом с «Долиной роз и смерти» образовалось и росло с каждым днем русское лагерное кладбище. Не проходило ни одного дня, чтобы в галлиполийский грунт не опускали несколько гробов. Сыпной, возвратный и брюшной тиф косил истощенных и морально подавленных людей.
Окруженное воображаемым ореолом славы, «галлиполийское сидение» требовало каких-то внешних форм выражения этой «славы».
По приказу Кутепова приступили к постройке памятника на кладбище. Каждый галлиполиец был обязан принести туда один камень весом не менее десяти килограммов. Через несколько дней на высшей точке одного из холмов, господствующих над «Долиной роз и смерти», образовалась грандиозная груда камней, из них в течение ближайших после этого недель был воздвигнут памятник, который, по мысли Кутепова, должен был олицетворять мужество и аскетическую жизнь «галлиполийских сидельцев». Это был больших размеров каменный цилиндр, на котором покоился такой же конус. Высеченная на камне надпись гласила, что «сей памятник воздвигнут на месте упокоения воинских чинов 1-го армейского корпуса русской армии, их предков – запорожцев, а также офицеров и солдат, умерших в турецком плену».
Тогда по почину того же Кутепова было введено ношение нагрудного значка всеми участниками превознесенного им до небес «галлиполийского сидения». Каждый из них получил при этом именную грамоту такого содержания: «В воздаяние беспримерного мужества, проявленного в борьбе с большевиками в исключительно трудных условиях пребывания 1-го армейского корпуса русской армии в городе Галлиполи и галлиполийском лагере, дано сие удостоверение такому-то на право ношения нагрудного галлиполийского значка номер такой-то…»
Желающие «сидельцы» могли, сверх того, носить на любом пальце железное кольцо с тем же словом: «Галлиполи».
Значками и кольцами Кутепов старался закрепить единство выпестованных им кадров будущих диверсантов и антисоветских активистов.
Врангель приезжал в Галлиполи только один раз. Французские власти признали нежелательными повторные посещения. Встречали его галлиполийцы без особого энтузиазма. На их глазах появился и вырос новый «бог» и будущий «диктатор государства Российского» – генерал Кутепов. Врангель остался для них только неким символом антисоветской борьбы. Реального значения он уже не имел.
Но по мысли Кутепова, встречу ему устроили формально как царю. На его приветствие выстроенным в «Долине роз и смерти» белым полкам и дивизионам: «Здорово, орлы!» – «орлы» после традиционного «Здравия желаем, ваше высокопревосходительство!» кричали «ура!» – почесть, оказывавшаяся по давней традиции только царям.
Высокий, худой, со сдвинутой на затылок папахой, стоял Врангель перед строем остатков своей разбитой армии. Свою речь он поминутно прерывал возгласом: «Держитесь, орлы!» Когда в покрывавших небо тучах образовался разрыв и глянул луч солнца, он театральным взмахом руки показал на него и воскликнул: