Читать онлайн Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы бесплатно
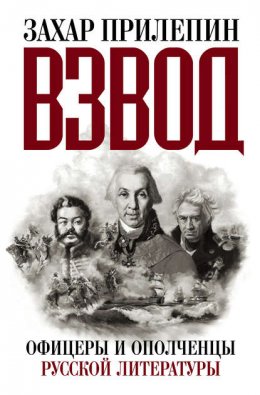
Предисловие
Различимые силуэты
Ещё полвека назад они были близко.
Писавший о людях Золотого века вглядывался в склянку тёмного стекла из-под импортного пива – и вдруг, как ему казалось, начинал различать людей и ситуации.
Державина мохнатые брови, глаза его стариковские и подслеповатые. Шишков сжимает строгий рот. Давыдов не хочет, чтоб его рисовали в профиль – нос маленький. Потом смотрится в зеркало: да нет, ничего. Глинка печально глядит в окно; за окном – тверская ссылка. Батюшков пугается один в тёмной комнате, резко выбегает в зал, еле освещаемый двумя моргающими свечами, шёпотом зовёт собаку – если собака придёт, значит… что-то это значит, главное – вспомнить её имя. Эй, как тебя. Ахилл? Пожалуйста, Ахи-и-ил. Пытается свистеть, кривит губы – забыл как. Вернее сказать, никогда не умел. Катенин наливает полстакана, потом, так и держа бутылку наперевес, задумывается и, спустя миг, быстро доливает всклень. Вяземский с трудом сдерживает ухмылку. Вдруг выясняется, что у него ужасно болит сердце. Он сдерживает ухмылку, потому что, если засмеётся в голос, – упадёт от боли в обморок. Чаадаев скучает, но он уже придумал остроту и лишь ждёт удобного момента, чтоб устало её произнести. Раевский злится и беспокоен. Играет желваками. Всё внутри у него клокочет. Несносные люди, несносные времена! Бестужев разглядывает дам. Дамы разглядывают Бестужева: Вера, я тебя уверяю, это же тот самый Марлинский.
Наконец, Пушкин.
Пушкин верхом, Пушкина не догнать.
Склянка тёмного стекла, спасибо тебе.
Им было проще, жившим тогда, в середине прошлого века: Булату, Натану или, скажем, Эмилю – кажется, кого-то из них звали Эмиль, их всех звали редкими именами. Золотой век они описывали так, словно рисовали тишайшими, плывущими красками: всюду чудился намёк, мелькало что-то белое, бледное за кустами.
Обитатели Золотого века, согласно этим описаниям, ненавидели и презирали тиранов и тиранию. Но только нелепые цензоры могли подумать, что речь идёт о тирании и тиранах. Разговор шёл о чём-то другом, более близком, более отвратительном.
Если вслушиваться в медленный ток романов о Золотом веке, можно различить журчание тайной речи, понятной только избранным. Булат подмигивал Натану. Натан подмигивал Булату. Остальные просто моргали.
Но в итоге многое оставалось будто бы неясным, недоговоренным.
Блестящие поручики отправлялись на Кавказ – но что всё-таки они там делали? Да, вели себя рискованно, словно кому-то назло. Но кто в них стрелял, в кого стреляли они? Что это за горцы такие? С какой они горы?
С кавказской горы горцы – опасные люди. Михаил Юрьевич, вы бы пригнулись. Не ровен час в Льва Николаевича попадут.
Иногда поручики воевали с турками, но зачем, отчего, с какой целью – снова никто не понимал. Что, в конце концов, им было нужно от турок? Наверное, турки первые начали.
Или, скажем, финны – чего они хотели от финнов, эти поручики? Или – от шведов?
А если, не приведи Господь, поручик попадал в Польшу и давил, как цветок, очередной польский бунт – об этом вообще не было принято говорить. Поручик наверняка попадал туда случайно. Он не хотел, но ему приказали, на него топали ногами: «А может, тебя, поручик, отправить во глубину сибирских руд?» – кажется, вот так кричали.
Авторы жизнеописаний поручиков щедро делились со своими героями мыслями, чаяниями и надеждами. Ведь авторы были искренно убеждены, что мысли, чаяния и надежды у них общие, будто и не прошло полтора века. Иногда даже могли сочинить вместе с ними (а то и за них) стихотворение: какая разница, когда всё так близко.
А что – рукой же подать: авторы жизнеописаний родились, когда ещё был жив Андрей Белый, а то и Саша Чёрный. Ахматову и подавно видели своими глазами. А ведь от Ахматовой полшага до Анненского, и ещё полшага до Тютчева, а вот уже и Пушкин показался. Два-три рукопожатия.
К склянке тёмного стекла свою согретую рукопожатием ладонь прижал: пока тепло её таяло, успел разглядеть линии других рук. А если к ней ухо приложить? Там кто-то смеётся; или плачет; а вот и слова стали разборчивы…
Сейчас, в наши дни, одному руку сожмёшь, другому – ничего не чувствуешь: даже от Льва Николаевича не слышны приветы – куда там к Александру Сергеевичу или Гавриле Романовичу дотянуться.
Для нас живые, свойские – Маяковский, Есенин, Пастернак: та же смуть, те же страсти, тот же невроз. Не жалею, не зову, не плачу, свеча горела на столе, ведь это кому-нибудь нужно. Они нашими словами говорили, ничем от нас не отличались: дай обниму тебя, Сергей Александрович; дайте лапу вашу сжать, Владимир Владимирович; ах, Борис Леонидович, как же так.
Серебряный век – ещё близкий, Золотой – почти недосягаемый.
Для путешествия в Золотой век склянка тёмного стекла нынче уже не подходит. Вертишь её в руках, крутишь, трёшь – тишина. Да и жил ли там кто в ней?!
На Золотой век надо долго настраивать разноглазый радиоприёмник, вслушиваться в дальний, как с другой звезды, шип, треск, трепетанье.
Вдруг различить прерывающийся голос: «…склоняся на щиты… стоят кругом костров… зажжённых в поле брани… простёр… на арфу… длани…»
С кем это? О ком? Кому?
Разглядывая Золотой век, приходится наводить в его сторону длинную, как каланча, загибающуюся подзорную трубу. До зуда во лбу всматриваешься в сочетание звёзд, поначалу кажущееся спонтанным, случайным, рассыпанным.
…А потом вдруг различаешь анфас, посадку головы, руку.
В той руке – пистолет.
Державин невольно зажмурился, ожидая выстрела, но пушка всё равно ударила нежданно; он вздрогнул и тут же раскрыл глаза. Все вокруг закричали: «Атамана… их атамана убили!., сволочь побежала!»
Шишков ехал в повозке вдоль стены, выложенной из заледеневших трупов. Стена не кончалась. Мысленно он прикидывал: вот эта, забыл как, улочка, ведущая к Неве, – она же короче? Нет, точно короче.
Давыдов привстал на стременах, выискивая взглядом Наполеона. Он однажды встречался с ним глазами – в день заключения Тильзитского мира. Но то был совсем другой случай, тогда Давыдов и помышлять не мог, что может увидеть его так – будучи на коне, с саблей наголо, во главе отряда головорезов, получивших приказ «С пленными не возиться, детушки мои».
Глинка удивлялся сам себе: в детстве его мог до ужасного сердцебиения напугать внезапно налетевший шмель. Теперь, минуя неприятельские позиции, он даже коня пришпоривал без остервенения, жалел – при том, что по Глинке сейчас били даже не ружейным огнём – попасть в скачущего всадника из ружья не так просто, – а картечью.
Некоторое время Батюшков думал, что он умер и погребён. И его разрывают, чтобы переложить надёжней, удобней. И землю не роют, а будто бы сносят, стягивают слипшимися тяжёлыми пластами. Наконец, догадался, что лежал под несколькими трупами, заваленный. Когда Батюшкова подняли на руки, он успел увидеть одного из придавивших его: тот лежал на боку со странным лицом – одна половина лица была невозмутима и даже умиротворённа, другая – чудовищно искривлена.
Катенин смотрел в спину своему знакомому – в своё время блестящему офицеру, теперь разжалованному в рядовые. Его Катенин когда-то хотел убить на дуэли. Теперь тот, не пугаясь выстрелов, высокий, на голову выше Катенина, побежал вперёд с ружьём наперевес. Катенин подумал: «А может, застрелить его?» – но эта мысль была несерьёзной, злой, усталой. Катенин сплюнул и поднял своих в атаку. Чего лежать-то: холодно, в конце концов…
Вяземский вслушивался в грохот сражения и с удивлением думал: а ведь есть люди, которые, в отличие от меня, слыша этот грохот, понимают, из чего и куда стреляют, и для них всё это столь же ясно, как для меня – строение строф и звучание рифм. Но ведь это невозможно: «…этот грохот лишён какой бы то ни было гармонии!..» – и вслушивался снова.
«Всё-таки тяжёлая эта пика…» – отстранённо, как не о себе, решил Чаадаев, и в тот же миг отчётливо увидел – хотя, казалось бы, не должен был успеть, – что человек, получивший удар пикой в грудь, был явственно озадачен. Мысль, мелькнувшая в его лице, могла быть прочитана примерно следующим образом: «…о, что же это со мной, отчего больше нет земли под ногами, и почему такой долгий полёт? Такой приятный, и только совсем чуть-чуть неудобный из-за острой тяжести в груди, полёт…» Лошадь Чаадаева пронеслась мимо. Пика стояла горизонтально, как дерево, готовое распуститься. Был март.
Артиллеристы Раевского выкатили орудие на дорогу, он побежал в близкий перелесок – помочь выкатить второе, и вдруг увидел вдалеке, на той же дороге, целую толпу неприятелей. Они тоже увидели его. Надо было понять: тащить ли второе орудие, или вернуться к первому. Среди неприятелей виднелось несколько конных. Успеют, нет? «Заряжай!» – закричал он, оглянувшись к своим ребятам. Напугавшись крика, взлетела птица с ветки. Раевский побежал к орудию, чертыхаясь и едва не падая. Было какое-то удивительное и странное чувство, что эта птица и была его голосом… и сейчас его голос улетел. А как он отдаст следующую команду?
Продираясь сквозь заросли, Бестужев-Марлинский поймал себя на том, что в который раз точно знает, откуда вот-вот прозвучит выстрел, через сколько шагов он достигнет последнего из отступавших и заколет его ударом штыка, и ещё что слева, на дереве, удобно сидит стрелок. Сейчас стрелок прицелится в Бестужева… и промахнётся. «А следом я выстрелю, и попаду», – не молниеносным ощущением, а раздельными, спокойными словами сообщил себе Бестужев. Прицелился, выстрелил, попал.
…И Пушкин, конечно. Пушкин верхом. Пушкина не догнать.
У нас возникло тайное ощущение, что всех этих людей никогда не было: потому что кто так может жить – с войны на войну, с дуэли на дуэль.
Нет, так не могло быть, всё это – придуманные персонажи какого-нибудь древнего, слепого, полумифического сочинителя поэм: разве в них можно поверить?
Сейчас так никто не делает; по крайней мере – из числа пишущих.
Тем не менее, они жили – настоящие, истекавшие кровью, болевшие, страдавшие, пугавшиеся раны, плена, гибели.
Их мир не был чёрно-белым, выцветшим, осыпающимся. Нет, он тоже имел цвета и краски.
Пушкин был светлокожий, с годами русевший волосом всё более. Пока был тёмный – смеялся куда заразительней. Чем больше русел, тем меньше улыбался.
Вяземский не искал карьеры, но она его настигала; дураки обвиняли его в том, что он куплен государем, на то они и дураки – едва ли в России был человек, которому было так мало дела до всей этой суеты.
Чаадаев, кажется, в Польше имел дело с проституткой: ушёл, пожав плечами. Это показалось нелепым и бессмысленным – что-то вроде дуэлей, которых, впрочем, он не пугался, как и смерти вообще. Путешествия очень скоро приелись; вино – тем более. По здравом размышлении в конце концов оставались: он сам, Родина, Бог. Тасовать эти карты, только эти карты тасовать.
Раевский изменился характером, когда оставил юношескую привычку выпячивать челюсть, что делало его некрасивым. Но перестал выпячивать – и что-то потухло в глазах. Старший его сын ещё помнил отца с таким лицом, словно тот пугает кого-то или играет с кем-то, а младшие – уже нет.
Бестужев был ласкун, мать его обожала, могла прижать к себе и гладить по голове, ему нравилось. Такой ласковый, что вообще не должен был бы воевать. Но у Бестужева имелась одна аномалия: он был лишён чувства страха. То, что другие преодолевали, он проходил сквозь. Потом уже, болея всем подряд, Бестужев закусывал руку от желудочных болей и рычал: к чёрту бы это всё, к чёрту, – совсем не страшно, но ужасно колет в животе.
У Катенина сложилось так: он куда больше думал о культуре, о театре, о поэзии, чем о себе. Но мир настолько не отвечал ему взаимностью, что о чём бы он ни говорил – всегда получалось, что о себе, о своём раздражении. Это многим не нравилось, но не Пушкину. Пушкин всё понимал в Катенине. На свете так и не родился человек, который мог бы оценить Катенина в той же мере, как Пушкин.
Батюшков боялся спать и, когда просыпался, ещё не открыв глаза, проверял состояние своего рассудка, называя предметы, стоящие в комнате, и вспоминая их местоположение. Всё время забывал один подсвечник, в самом углу, совершенно там не нужный.
Глинка всерьёз считал, что сны его столь же полноценны, как реальность. Нет, с какого-то дня они стали даже более полноценны. Он написал о них больше, чем о тюрьме.
Давыдов был на редкость здравомыслящий человек – один из самых здравомыслящих и спокойных людей в русской литературе. Денис Васильевич и стихи писал редко в силу своего умственного здоровья: зачем? ну, будет ещё один стишок – я же в позапрошлом году написал два, куда столько… Сейчас бы в атаку, конную, нежданную – вот забава была бы по душе.
Шишкову смертоубийство казалось чудовищным и невозможным; куда лучше есть себе конфеты, или, к примеру, изюм. Но Отечество? Отечество казалось ему живым до такой степени, что хотелось напоить его горячим молоком, укутать, спрятать. Чувство к матери, которую так редко видел и так видеть хотел, наложилось на чувство патриотическое.
А Державин? Державин к себе относился хорошо, потому что знал себе цену. Погибнуть на войне – это было с его точки зрения неразумным расходом человеческого материала.
В какой-то момент – наверное, это ещё в Преображенском полку было – он с удивлением обратил внимание, что все люди вокруг него – глупей его. Не то чтоб они вообще глупы, но их мотивации и поступки чаще всего предсказуемы. Это его удивило, но не очень сильно: быстро привык.
Он не был амбициозен. Просто знал, что достоин очень многого.
Державин не был из тех, кто искренне верит, что говорит с Богами. Он был первым в противоположном смысле: осознавшим немыслимую огромность расстояния до Бога. Однако надежды загнать это расстояние в строку не оставлял.
Ещё он оказался одним из первых в нашей поэзии, кто точно знал вес, цену русских слов и, кажется, даже их цвет. Это были не просто слова с их значениями – в их звучании таилась незримая сила, их неожиданные сочетания высекали искры. Державин строил речь и вёл её, заставляя вверенные ему слова громыхать, вскрикивать, издавать писк, маршировать, петь хором, размахивать знамёнами.
По сути своей Державин не был военным, но смысл войны понимал на уровне не только политическом, но и музыкальном.
…Ещё он с годами стал прижимист, полюбил говорить о себе, своих достоинствах. Так и слушал бы, как его хвалят, так и слушал бы.
Все они, все были просто людьми. Можно набраться смелости и позвать их в гости.
Державин топает в прихожей, сбивая снег. Шишков подъехал к соседнему кварталу и решил оттуда пройтись пешком. Давыдов видит шампанское и чувствует себя отлично. Глинка всем рад. Батюшков уже хочет уйти. Катенин вообще не придёт, пока здесь Вяземский. Вяземский никак не решит, чего в нём больше: раздражения на Давыдова или любви к этому невозможному, светлому, бесстрашному человеку. Чаадаев сказался больным. Раевский далеко, но прислал подробное письмо. Бестужев ещё дальше, но тоже пишет.
Наконец, Пушкин.
Скоро явится Пушкин.
«С нами Бог, с нами; чтите все росса»
Поручик Гаврила Державин
- О росс! О род великодушный!
- О твердокаменная грудь!
- О исполин, царю послушный!
- Когда и где ты досягнуть
- Не мог тебя достойной славы?
- Твои труды – тебе забавы;
- Твои венцы – вкруг блеск громов;
- В полях ли брань – ты тмишь свод звездный,
- В морях ли бой – ты пенишь бездны, —
- Везде ты страх своих врагов.
- <…>
- Как воды, с гор весной в долину
- Низвержась, пенятся, ревут,
- Волнами, льдом трясут плотину,
- К твердыням россы так текут.
- Ничто им путь не воспящает;
- Смертей ли бледных полк встречает,
- Иль ад скрежещет зевом к ним, —
- Идут – как в тучах скрыты громы,
- Как двигнуты безмолвны хо́лмы;
- Под ними стон, за ними – дым.
Стихи – державинские.
Гаврила Романович Державин – десять лет в солдатах, и ещё четыре года – в офицерах. Такие здравицы произнося, понимал, о ком вёл речь, и сам за себя мог выпить, договорив.
Державин – равно как Денис Давыдов и, согласно семейным преданиям, Константин Батюшков, а также Александр Суворов и Михаил Кутузов, – происходил из татарского рода.
Фраза «Потри русского – обнаружишь татарина» не имеет никакого отношения к простонародью. Славянские полонянки, которых увозили в Орду, – рожали татарчат. Скорей уж ордынские народы стоит потереть на предмет обнаружения славянских кровей. «Потри татарина – обнаружишь русского» – так эта фраза вполне может звучать тоже.
А досужее предложение потереть русского, дабы обнаружить татарина, родилось, скорее всего, в связи с обрусением многочисленных знатных ордынских родов, пополнивших русскую аристократию. То есть, по сути, ничего унизительного для русского человека в этой поговорке нет, потому что смысл её примерно такой: потрёшь иного русского дворянина – обнаружишь татарина, когда-то пришедшего служить русскому царю. Юсуповы, Шереметевы, Ростопчины – всё это потомки мурз.
Впрочем, сколько ни разглядывай портреты Державина – ничего татарского там не обнаруживается. Видимо, стёрлось за столетия службы.
Между тем, сам он часто называл себя «мурзой». Из его стихов:
- Я пел, пою и петь их буду
- И в шутках правду возвещу;
- Татарски песни из-под спуду,
- Как луч, потомству сообщу.
То, чем Блок впоследствии будет пугать (скифия и азиатчина в русском характере), у Державина присутствовало пока ещё в ироническом контексте. Но шутки эти имели генеалогические обоснования.
Давнего его предка – мурзу Брагима – действительно крестил князь Василий II Тёмный. В крещении Брагим стал Илией, получив вотчины под Владимиром, Новгородом и Нижним Новгородом. От сыновей Брагима произошли разные фамилии, в том числе Нарбековы. У одного из Нарбековых был сын по прозвищу Держава. От него пошли Державины.
«Земли, однако ж, дробились между наследниками, – пишет Владислав Ходасевич в книге «Державин», – распродавались, закладывались, и уже Роману Николаевичу Державину, который родился в 1706 году, досталось всего лишь несколько разрозненных клочков».
Рождённый 3 июля 1743 года Гаврила Романович Державин был наречён в честь архангела Гавриила, празднуемого 13 июля. Место рождения: Казанский уезд, деревня то ли Кармачи, то ли Сокуры; сам считал, чтоб не мелочиться, родным городом – Казань. Мурза ж!
О себе Державин пишет: «В младенчестве был весьма мал, слаб и сух, так что, по тогдашнему в том краю непросвещению и обычаю народному, должно было его запекать в хлебе». (в силу того что жизнь свою он прожил здоровым, трёхжильным человеком, видимо, всё-таки запекли: хотелось бы на это моргающее мучное изделие взглянуть.)
Читать выучился в четыре года; скоро овладел немецким (ас французским так и не справился за всю жизнь); очень любил рисовать – с особой страстью изображая, по собственному признанию, русских богатырей.
Всё детство протаскался за отцом по военным гарнизонам (Яранск, Вятка, Ставрополь-на-Волге, Оренбург); с тех пор служивая жизнь его не пугала. Но и не скажем, что он к ней сильно стремился.
Отец поэта в отставку вышел подполковником, и через год умер. У матери, Фёклы Андреевны (тоже дочери военного), осталось на руках трое детей, одиннадцатилетний Гаврила – старший.
Жили скудно; 15 рублей долга, оставшихся по смерти отца, выплатить первое время было совершенно невозможно; много судились с алчными и заглядущими соседями. Крепостных имела семья – десять душ.
Учился Гаврила в Казанской гимназии. По многим предметам (кроме математики) был одним из лучших учеников; университетская газета писала о нём. Там же произошло обескураживающее, покорившее слух и разум, знакомство с русскими пиитами: большеголовый Ломоносов («Шумит с ручьями бор и дол: / “Победа, росская победа!” / Но враг, что от меча ушёл, / Боится собственного следа»), следом породистый Сумароков («Разверзлось огненное море, / Дрожит земля и стонет твердь, / В полках срацинских страх и горе, / Кипяща ярость, казнь и смерть. / Минерва росска громы мещет, / Стамбул во ужасе трепещет»), – с таких од начиналась наша поэзия.
Поэтическое русское слово (мы говорим, конечно, о светской поэзии) возникло не как лирическое журчание, а как победный – в честь ратной, наступательной, победительной славы – салют.
Из гимназии в 1762 году, в возрасте восемнадцати лет, Державин был переведён в Преображенский полк, в Санкт-Петербург, рядовым. Служил вместе с рекрутами, набранными из крепостных, и жил, по бедности, в одной казарме с солдатами (три женатых и два холостых, считает важным упомянуть Державин в своей автобиографии).
Ходасевич: «Его облачили в форму Преображенского полка. То был кургузый тёмно-зелёный с золотыми петлицами мундир голштинского образца; из-под мундира виднелся жёлтый камзол; штаны тоже жёлтые; на голове – пудрёный парик с толстой косой, загнутой кверху; над ушами торчали букли, склеенные густой сальной помадой».
Сам Державин: «Странный наряд казался весьма чудесным, так что обращал на себя глаза глупых».
Далее он из ложной скромности пишет о себе в третьем лице: «…приказано было флигельману учить ружейным приёмам и фрунтовой службе… по ночам, когда все улягутся, читал книги, какие где достать случалось, немецкие и русские, и марал стихи без всяких правил, что, однако, сколько ни скрывал, но не мог утаить от компаньонов (имеется в виду: однополчан. – З.П.), а паче от их жён; почему и начали они его просить о написании писем к их родственникам в деревни».
(Нравы в российской армии не меняются, как мы видим, столетиями.)
Уважение к Державину в солдатской среде было высоко настолько, что, когда слуга его однополчанина украл державинские деньги, преображенцы «бросились по всем дорогам и скоро поймали вора, который на покупку кибитки и лошадей успел несколько истратить денег».
Но только в солдатской среде. Офицеры его за ровню принимать никак не могли.
К тому времени относится забавный случай: выполняя должность вестового, зашёл рядовой преображенец Державин к своему сослуживцу, князю и поэту Фёдору Козловскому, которого в то время ставил даже выше Тредиаковского и Ломоносова. Козловский как раз читал вслух сочинителю Василию Майкову свою трагедию. Естественно, Державин остановился в дверях послушать, на что Козловский, досадливо сморщившись, сказал: «Братец, поди, всё равно ничего не смыслишь!».
Случай этот Державин не забыл и Майкову потом, войдя в славу, припомнил; тот был сконфужен. Напомнил бы и Козловскому – но он погиб в Чесменском бою во время очередной русско – турецкой.
28 июня 1762 года был низложен император Пётр III, и на престол взошла императрица Екатерина II.
В мае 1763 года Державин получает первый чин: капрал.
Едет в отпуск в Казань, там заводит интрижку с одной легко-нравной девицей – между прочим, любовницей бывшего директора Казанской гимназии, где учился Державин. Директор жил в одной квартире с женой и любовницей; а тут и двадцатилетний Гаврила ещё! Декамерон по-казански.
Девица была столь очаровательна, что помнил её Державин целую жизнь, но, как сам признаётся, «…при том как должен был по приказанию матери ехать в Шацк… то сии кратковременные шашни тем и кончились: ибо более никогда уже не видал сего своего предмета».
В дороге случилось другое приключение: сломалась ось у повозки, «приказал переделывать оную», отправился погулять и, «перешед маленький кустарник, увидел вдруг стадо диких… кабанов с маленькими поросятами. Боров матёрый, черношёрстый, усмотря его, тотчас от табуна отделился. Глаза его как горящие угли заблистали, щетина на гриве дыбом поднялась, и из пасти белая пена потекла струёю».
Кабан сорвался с места и сшиб Державина с ног: такой зверь может запросто убить человека. Державин успел вскочить, с собою у него, на счастье, было ружьё, и он выстрелил, предотвратив вторую атаку. Стрелял мелкой утиной дробью, но зато попал в сердце.
«Тогда же сам, – пишет Державин, – почувствовав слабость, упал и взглянул на левую ногу, увидел икру, почти совсем от берца оторванную, и кровь, ручьём текущую».
«Нельзя в сём случае не признать чудесного покровительства Божия», – резюмирует Державин и перечисляет, почему так думает: и первая рана, нанесённая кабаном, была не такой страшной – поэтому смог подняться, и ружьё выстрелило, и попал прямо в сердце.
Вернувшись в Санкт-Петербург, он переселяется в офицерские казармы для младших командиров; в 1767 году получает сержанта.
Начинается традиционная офицерская жизнь: разгул, девки, эпиграммы, кутежи, манеж, стрельба… И стихи – Державин пишет много стихов; в том числе, как сам признаётся, «непристойных». Вина не пьёт вовсе, но понемногу начинает поигрывать в карты.
Державин в эти годы одержим желанием попасть на какую-нибудь войну. Он знает, что подняться по иерархической лестнице он может, лишь свершая героические поступки.
В 1768 году начались масштабные боевые действия в Польше: конфедераты выступили против короля, поддерживаемого Россией. Из нынешнего времени наверняка многим покажется, что Россия терзала ни в чём не повинную Польшу, но ситуация ровно обратная: императрица Екатерина усмиряла местных магнатов и служившее им запорожское казачество, воевавших против «легитимной власти». То есть, по факту, Россия выступала в качестве спасительницы польской аристократии и еврейского населения этой страны – в ходе погромов погибло около 30 тысяч евреев. Показательно, что в помощь конфедератам направила свои войска Франция. Австрия и Пруссия также не остались в стороне. В итоге в 1772 году по инициативе Пруссии состоялся раздел Польши. Россия, сколько могла, разделу противилась, но, так как сохранить Польшу шансов уже не было, императрица пошла на это, имея цель простейшую: ослабить влияние Франции в этом регионе. Польский король и сейм договор ратифицировали.
«Преображенский полк не участвовал в войнах, – пишет биограф Арсений Замостьянов. – Державин мог бы отправиться туда волонтёром, но проклятое безденежье не позволяло ступить на эту стезю».
«Безденежье» было всё-таки относительное, потому что тогда же, согласно запискам Державина, мать дала ему поручение купить «небольшую деревенишку душ 30», – мать, видно, была оборотистой, хоть и неграмотной.
С другой стороны, материнские деньги считать не след; она сколько даст – столько и имеешь.
Посему – карты. Иного варианта быстро разбогатеть не было.
Или разориться.
Здесь начинается авантюрная биография Державина.
Деньги, переданные ему матерью на покупку деревни, он тут же проиграл. В кои-то веки семья решила встать потвёрже на ноги – и тут такое. Иди и стреляйся из ружья утиной дробью в сердце.
Державин занимает деньги у знакомого, покупает деревню. Но сразу же и эту деревню, и материнское имение закладывает на имя того, кто ссудил денег.
Теперь надо выпутываться из новой ситуации. Иначе однажды придётся сказать: «Матушка, я всех нас продал, мы – разорены».
Державин знакомится с шайкой шулеров. Найдя с ними общий язык, учится у них всем шулерским премудростям: подбор и подделка карт, затягивание новичков в игру и прочим, как сам выражался, «игрецким мошенничествам».
К этим проблемам добавляются новые: семья приходского дьякона подаёт на Державина в суд за то, что он якобы изнасиловал их дочку. Неделю Гаврила сидит за решёткою, однако никаких доказательств не имеется, а сама девица отказывается свидетельствовать против него. Державина выпускают на волю, но и в полковую канцелярию сообщают.
Следом он ссорится с мошенником, занимавшимся подделкой векселей. Тот заманивает Державина в гости с целью избить или убить, для чего за ширмой держит трёх незнакомцев. Державин с этим мошенником начинают ругаться; в конце концов подаётся знак людям за ширмой, чтоб они вступали в дело, но вдруг один из незнакомцев говорит хозяину:
– Знаешь, Державин прав, а ты нет. и ежели кто из вас его тронет, я вступлюсь за него и переломаю вам руки и ноги.
Нежданный спаситель – поручик Пётр Гасвицкий.
В следующий раз Гасвицкого выручил уже Державин: видя, что шулера обыгрывают поручика в бильярд, используя поддельные шары, он коротко шепнул ему про обман и тем спас от огромного проигрыша.
Сам Державин в те годы обманывать людей не стеснялся, да и не оставалось у него особенного выбора: пользуясь шулерскими приёмами, он понемногу отыграл все свои долги. В итоге выкупил из залога и «деревенишку», и материнское имение и, наконец, собрался возвращаться в Санкт-Петербург, подальше от московских злачных мест.
В дорогу взял у приятеля матери 50 рублей взаймы: чист же, можно новую жизнь начинать.
И начал.
Встретил в Твери приятеля по картёжничеству – и эти 50 рублей прокутил. Занял у другого знакомого ещё 50, терпел до Новгорода, но там снова уселся за игорный стол – и опять проигрался в прах. Так Боженька наказывал нерадивого: сколько ж тебе помогать, Гаврила Романович, – и с кабаном, и с дьячковой дочкой, и с мошенниками и шулерами всех мастей… Может, остепенишься?
Дико было бы предположить, что из этого молодого человека может выйти что-то путное.
По дороге в Санкт-Петербург началась эпидемия чумы. Державина тормозят и сообщают: две недели придётся посидеть в карантине. А у него состояние – один рубль-крестовик, который взял у матери на счастье. Можно с голоду околеть за это время. Державин умоляет его пустить. Ему говорят: жги свои вещи, тогда пустим.
Делать нечего: он сжигает сундук со всеми своими стихами и рисунками: плоды многолетних трудов! Ужас как обидно.
…В Санкт-Петербурге пришлось начинать всё сначала: перезанял 80 рублей, выиграл у одного несчастливца разом 200 и долги свои вернул.
«В 1771 году, – рассказывает о себе Державин, – переведён в 16-ю роту, в которой отправлял фельдфебельскую должность в самой её точности и исправности; так что, когда назначен был в том лете лагерь под Красным Кабачком, то капитан Василей Васильевич Корсаков, никогда не служивший в армии и нимало не сведущий военных движений, возложил всё своё упование на фельдфебеля».
Державин признаётся, что и сам на тот момент был в военных науках не столь силён, как хотелось бы, посему учился у старых солдат, переведённых в гвардию из армейских полков, – и скоро проявил себя как образцовый младший командир: «заслужил, – скромно отчитывается Державин, – уважения от всех офицеров и унтер-офицеров, которые избрали его в хозяины…».
В 1772 году Державин получил прапорщика; в Польше война уже завершилась, но шла турецкая кампания. Державин раздумывал, как бы ему попасть под командование генерал-фельдмаршала Петра Румянцева, однако воевать пришлось не в краях далёких, а возле родимого дома.
В ноябре 1772 года беглый солдат казачьего происхождения и отъявленный авантюрист Емельян Иванович Пугачёв в Яицком городке рассказал казаку Денису Пьянову, что он есть чудом спасшийся император Пётр III. Пьянов тайну хранить не стал; поползли слухи.
Задержанный за смутные речи, Пугачёв полгода, с начала января по конец мая 1773 года, провёл в казанской тюрьме, откуда в конце концов сбежал и в августе 1773-го сообщил ту же новость нескольким казакам, которые сразу же догадались, что Пугачёв вводит их в заблуждение, но обмануться были рады и поддержали его. 17 сентября мятежники взяли Наганский форпост. Начался Пугачёвский бунт.
Обойдя слишком хорошо укреплённый Яицкий городок, пугачёвцы захватывали одну за другой крепости на Яике.
К 5 октября окружили Оренбург.
Спустя полторы недели в Санкт-Петербург пришли известия о разгоревшейся смуте.
Войсками, посланными на подавление бунта, командовал генерал-майор Василий Алексеевич Кар. По дороге он писал государыне: «Опасаюсь только того, что сии разбойники, сведав о приближении команд, не обратились бы в бег…»
Рано бахвалился; в первом же бою с пугачёвцами Кар со своим отрядом потерпел сокрушительное поражение.
Обуреваемый стыдом и ужасом, он уехал в столицу с просьбой дать ему гусарский полк, и артиллерии побольше, но его уволили, а Екатерина велела генерал-майору даже на глаза ей не показываться.
Только тогда стали обозначаться масштабы происходящего: русская армия – сильнейшая на тот момент в Европе: била поляков, била турков, била кого угодно, – и тут её разнесли в пух и прах чумазые бунтовщики. После поражения Кара стало понятно, что это – настоящая война, к тому же распространявшаяся с огромной скоростью: только в Оренбургской губернии в бунте примет участие до двухсот тысяч человек (из пятисот тысяч там живущих).
Кара сменил на посту главнокомандующего генерал-аншеф Александр Ильич Бибиков, герой Семилетней войны, непосредственный начальник Суворова в недавней польской кампании. Усмирять восставших крестьян на Яике ему в своё время тоже приходилось.
Екатерина наделила Бибикова чрезвычайными полномочиями, повелев духовным, гражданским и военным властям беспрекословно ему подчиняться. В Санкт-Петербурге Бибиков начал сбор офицеров.
Державина на войну никто не приглашал, но он сам туда рвался. Едва ли он мог испытывать хоть какие-то сложные чувства по отношению к бунтовщикам. Причины просты: Державин был военным, патриотом своего отечества и дворянином. Пугачёв же велел «ловить, казнить и вешать» дворян. (И за время бунта их перебьют около полутора тысяч.)
Войско Пугачёва охотно пополняли ссыльные польские конфедераты, а основную массу бунтовщиков составляли казаки-раскольники, башкиры, калмыки, беглые каторжники, всякая прочая голь, или, как выражался казанский губернатор, «сущая сволочь». Державин не имел с ними ничего общего.
Если и было что общее у Пугачёва и Державина, так это мотивация. Уже после своего пленения, на допросе, рассказывая о первопричинах своих поступков, приведших к бунту, Пугачёв сказал: «… лутче умереть на войне… так похвальней быть со славою убиту!». Легко вообразить себе и Державина, произносящего подобное.
Вдохновлённый идеей попасть на войну, Державин всеми правдами и неправдами добивается аудиенции у Бибикова: возьмите, батюшка, к себе в войска.
– Сожалею, но я уже набрал офицеров, мне известных, – ответил генерал-аншеф.
Нужно было уходить, но Державин исхитрился и на десять минут увлёк Бибикова разговором; явив живой и острый ум, отдельно нажимая на то, что бунт происходит в родных его местах и там он точно сумеет быть полезен…
Бибиков, несколько часов подумав, взял-таки Гаврилу Романовича в дело.
Под Оренбургом Пугачёв подзадержался – в ноябре они всё ещё штурмовали город; Державин тем временем, не мешкая, прибыл в Казань: на месяц раньше Бибикова.
Амбиции у него играли: получивший звание подпоручика Державин всерьёз воображал, что лично пленит Пугачёва и доставит в клетке императрице. И уж тогда о молодом офицере и поэте все заговорят! Ведь в том же 1773 году у Державина вышла первая книжка (пусть и состоящая из единственного стихотворения). Одно ж к одному! Господь уберёг от кабана, не дал разорить семейство за игорным столом, – неужели ж не пособит взять самозванца?
Между тем, в Казани стояло всего три гарнизонных батальона (тогда как у Пугачёва было уже два десятка полков: яицкий, оренбургский, башкирский, калмыцкий, татарский, рабочий и т. д., не считая тысяч и тысяч восставших по краю).
О жителях казанской губернии Яков фон Брант, местный губернатор, писал: «Земледельцы разных родов, а особливо помещичьи крестьяне, по их легкомыслию, в сем случае весьма опасны, и нет надежды, чтобы помещики крестьян своих с пользой могли употребить себе и обществу в оборону».
Член следственной комиссии Савва Маврин, приехавший в Казань почти одновременно с Державиным, докладывал, что страх и растерянность среди горожан велики настолько, что Пугачёв может взять город с тремя десятками казаков.
«Державина включили в своего рода спецслужбу – в секретную комиссию, которая предназначалась для разведки и пропаганды», – пишет Арсений Замостьянов.
Работа открывалась огромная.
Мало того, что пугачёвцы били правительственные войска на поле брани, но и в пропаганде Пугачёв безусловно обыгрывал власть. По остроумному выражению писателя Алексея Иванова, автора книги «Вилы» («Увидеть русский бунт»), «в пугачёвщину вся Россия от императрицы до холопа читала только два вида текстов: Часослов и манифесты Пугачёва».
Составленные пугачёвскими помощниками, манифесты работали точечно.
«Пугачёв в первом же манифесте обозначил, что “яицким казакам надобно”: реки и моря, крест и бороду, – пишет Иванов. – …соблазнял пахарей “всякими вольностями” от заводской работы… Башкир призывал к тому, к чему они и сами стремились два века – вернуть себе древнюю традицию полукочевья: “будтте подобны степным зверям!”»
«Манифесты Пугачёва стали первой информационной войной в истории России, – утверждает Иванов. – За чтение манифеста полагался кнут, за переписку и передачу – каторга. Палачи публично сжигали манифесты у позорных столбов. Засекречены были и копии для суда над мятежниками, и даже разрешения на копирование…
Для идеологической победы власть не сумела найти аргументов».
С другой стороны, если пугачёвцы писали оренбургскому губернатору Ивану Рейнсдорпу письмо, где сообщали, что тот «из бляди зделан», – что им ответишь?..
Бибиков прибыл в Казань 25 декабря, 28 декабря у него был с докладом Державин: «В 60 верстах от города толпы вооружённых татар и всякая злодейская сволочь. Надо действовать!».
Бибиков и сам понимал, что бунт расширяется с каждым днём, но «войски», как он выражался, ещё не подошли, а на маленький казанский гарнизон надежды не было.
«Бибиков наделил Державина (и не его одного, разумеется) полномочиями контрразведчика, – пишет Арсений Замостьянов. – В этой ситуации лейб-гвардии подпоручик, будучи членом секретной комиссии, стал поважнее иных полковников».
Через неделю Державина с двумя пакетами направили в Симбирск, а следом – в Самару.
До Симбирска – тридцать вёрст, с постоянным ощущением, что тебя в любую минуту могут поймать, и шансы на то преотменные.
Шедших навстречу крестьян, уже неподалёку от Симбирска, Державин спросил: бунтовщики уже в городе или ещё нет? Мужики и сами не знали, какая там власть. Сказали: у постовых штыки на ружьях – «каковых у сволочи быть не могло», заключил для себя Державин.
Опасения Державина были обоснованными. Оставаясь под Оренбургом, Пугачёв повсюду рассылал свои отряды. 25 декабря 1773 года атаман Илья Арапов взял Самару. В малые сроки бунтовщики могли оказаться где угодно: край полыхал весь, пугачёвцы полностью владели инициативой, а правительственные силы сидели в городах и молились, чтоб их миновало (показательно: казанский губернатор фон Брант отправил свою семью подальше от беды в Козьмодемьянск).
В пакетах, переданных Державину, были прописаны указания: «Найти идущие из Польши около тех мест 22-ю и 24-ю лёгкие полевые команды; о марширующих из Белоруссии 23-й и 25-й, буде можно, разведать, где они и скоро ли будут, а равно и о генерал-майоре Мансурове; также и о из Сызрани командированных бахмутских гусарах – трёхстах человеках, на которых и сделать примечания, надёжны ли они…»
«Буде можно, разведать». А буде нельзя?!
Далее приказ гласил, что в Самаре надо «найти, кто из жителей первые были начальники и уговорители народа к выходу навстречу злодеев со крестами». В той самой Самаре, что под пугачёвцами.
Державина всё равно что заслали в тылы противнику – потому что противник был везде. Несложно представить ощущения подпоручика: катишь себе на повозке, из вооружения – пистоль и шпага, в любую минуту ожидаешь, что навстречу явятся сто бородатых дьяволов, и хорошо, если сразу застрелят, – могут ведь и страшными пытками замучить, попутно выспрашивая, с какими поручениями и куда двигался ты, шпион.
Иной, пожалуй, заехал бы куда-нибудь на постоялый двор и на конюшне зарылся бы в сено на неделю-другую, но Гаврила Романович был другого душевного склада.
Он катил по тряским и ледяным дорогам навстречу своей долгожданной славе.
В Симбирске Державина ожидало хорошее известие: из Самары повстанцы выбиты отрядом майора Карла Муфеля. Он немедленно отправляется в Самару, чтобы на месте выяснить, кто именно из числа местного духовенства ответственен за то, что пугачёвцев встречали колокольным звоном.
Оказалось, что иные священники перепугались, другие искренне были убеждены, что это действительно войска Петра III. Державин не стал арестовывать провинившихся батюшек, отписав Бибикову: «Ежели их забрать под караул, то, лиша церкви служения, не подложить бы в волнующийся народ, обольщённый разными коварствами, сильнейшего огня к зловредному разглашению, что мы, наказывая попов, стесняем веру».
Из города Державин отправился прямиком в бой с отрядом бунтовщика Арапова – хотя это никак не входило в его должностные обязанности.
Кровавое дело завязалось 11 января в крепости Алексеевской под Самарой.
О своих подвигах Державин не хвастается, но отписывал Бибикову о геройстве других: «Что же принадлежит до гг. офицеров, то они все показали достойную душу храбрых Ея Императорского высочества войск; а особливо 24-й полевой команды г. капитан и кавалер Станкевич своею расторопностию и отважным одобрением солдат преимуществует пред всеми своими собратьями; также находившийся при артиллерии поручик Жадовский; а особливо последним на горе выстрелом, сказывают, ранил атамана Арапова, кончил в нашу пользу сражение, обратив в бегство дерзостное мятежническое скопище».
В январе 1774 года с отрядом подполковника Гринёва Державин идёт налётом на взбунтовавшихся калмыков, стоящих в Красном Яре. Калмыки эти отличились тем, что, проезжая город Ставрополь, взяли там в плен воеводу и всех начальников и увезли с собою, продев кольца в носы… Был бой, калмыков перебили, пушки у них отобрали, у тех, кто из числа ставропольских несчастных ещё остался жив, вытащили кольцо из носа.
Помня о должности своей, Державин не только воюет шпагой, но и приступает к собственно пропагандистским обязанностям – в частности, пишет обращение к калмыкам.
«Кто вам сказал, что государь Пётр Третий жив? После одиннадцати лет смерти его откуда он взялся? Но ежели б он и был жив, то пришёл ли б он к казакам требовать себе помощи?.. У него есть отечество, Голштиния, и свойственник, великий государь Прусский, которого вы ужас и силу, бывши против его на войне, довольно знаете. Стыдно вам, калмыкам, слушаться мужичка, беглого с Дона казака Емельяна Пугачёва, и почитать его за царя, который хуже вас всех для того, что он разбойник, а вы всегда были люди честные».
Ну да, особенно в Ставрополе они себя проявили…
Если всерьёз: Державин работает не хуже пугачёвских агитаторов, давит на родовые представления, на логику, на «мужичка», которому не по праву командовать вольным и честным народом.
Послание распространяют от имени генерала Мансурова, возглавлявшего царские войска под Красным Яром.
Бибикову державинский текст понравился настолько, что он отправил его Екатерине II, указав автора. Так государыня впервые услышала имя Державина…
Державин в ту минуту мог бы подумать: может, и не зря он трясся в повозке, ежеминутно ожидая смерти, и стрелял по бунтовщикам, рискуя получить ответную пулю.
На счастье своё он не знал, что императрице послание не понравилось: ей показалось совершенно ненужным упоминание Голштинии и государя прусского.
Возможно, она была права: есть свидетельства, что русские крестьяне, которым это послание тоже попало в руки, поняли его смысл так, что Пугачёва приказано называть «голштинским князем» и с ним пришли «тысячи голштинской пехоты».
Державин возвращается в Казань и составляет многочисленные отчёты о проделанной им работе. Попутно Бибиков назначает его старшим по местной агитации.
«Несколько раз Державин выступал перед казанскими дворянами, – пишет Арсений Замостьянов, – призывая их браться за оружие и помогать обороне деньгами. Помещики решили выставить по одному ополченцу с каждых двухсот крепостных душ… Узнав об этом порыве, императрица назовёт себя “казанской помещицей” и в ответ выставит по одному рекруту с каждых двухсот душ царских крестьян губернии. В ответ на эту царскую милость Державин организовал восторг подданных и написал речь, которую продекламировал перед портретом государыни».
Речь эту опубликовали «Санкт-Петербургские ведомости»: с этим сочинением ему точно повезло больше.
Неизвестно, кому – Бибикову или Державину – пришла в голову ещё одна оригинальная идея.
У Пугачёва остались на Дону жена Софья и малолетние дети. С началом бунта их разыскали и перевезли в Казань. В какой-то момент было решено выпускать Софью на улицу: она рассказывала горожанам, что является женой Пугачёва – и, следовательно, он самозванец, а не царь. (У Софьи на Пугачёва имелась объяснимая обида: он не просто оставил её с детьми без средств к существованию, но и женился (уже во время бунта) на семнадцатилетней казачке Устинье Кузнецовой.)
Державин мечется из Казани в Саратов и назад – у него есть цель, которую пока не удаётся реализовать: создание собственного отряда.
В январе повстанцы осадили Екатеринбург и центр Пермской провинции – город Кунгур; захватили Челябинск. Бибиков пребывал в ужасной тревоге (отписывал жене, что ситуация здесь много хуже, чем была не так давно в польской войне). Хвататься приходилось за любые возможности; одну из них вдруг предложил Державин.
В Казани Гаврила Романович встретил своего московского знакомого по шулерскому прошлому Ивана Серебрякова. Случись такое в романе, автора попрекнули бы, что он слишком вольно верстает сюжет, – но жизнь куда непритязательней: игорный стол, поэт Державин, шулер Серебряков, Москва, Казань – всё клеится.
Серебряков был по происхождению крестьянином, в своё время занимался расселением польских раскольников на Иргизе, сидел в тюрьме за разные махинации… Он изложил Державину свою идею поимки Пугачёва. После первого же поражения, утверждал Серебряков, Емелька Пугачёв непременно появится на Иргизе, где у него оставались друзья-раскольники. А у Серебрякова проживал в тех местах давний знакомый – помещик Максимов. Надо толком расставить сети и с его помощью обезвредить Пугачёва.
Бибикову идея показалась резонной; он отправил Державина к месту возможного пленения Пугачёва – в раскольничий посёлок Малыковка – вербовать штат тайных осведомителей.
Этим Державин и занялся, попутно собирая свой отряд: если не удастся затея шулера Серебрякова, надо исхитриться и пленить самозванца лично!..
В тот момент Державина, наконец, перевели в поручики (старшие лейтенанты).
Но здесь случилась беда нежданная: 9 апреля 1774 года, подцепив холеру, скоропостижно умер Бибиков, ему было 44 года. Никто, кроме него, не знал о мужестве и расторопности Державина. И что теперь? Заново кому-то рассказывать, сколько тут проделано разной работы – военной, пропагандистской, разведывательной? (И – среди прочего – административной: Державин составлял списки наиболее пострадавших от пугачёвщины местных жителей.)
Нужно было совершить поступок, заметный всем.
Имея к тому моменту в управлении двести гарнизонных солдат и сто пятьдесят ополченцев-крестьян, при двух орудиях, поручик Державин, проведя разведку, решается идти на Яицкий городок, чью крепость Пугачёв безуспешно пытался взять которую неделю.
О, это была бы встреча! Но, кажется, она завершилась бы печально для русской словесности.
По пути Державин узнаёт, что Яицкий городок освободил генерал Мансуров, а Пугачёв со своей шайкой куда-то запропал.
Что, впрочем, оставляло надежду однажды его изловить. Но пока надо было завершить дела близ Малыковки. Ситуация в тех местах сложилась такая, что пленить Державина там могли с куда большей вероятностью, чем Пугачёва.
Предоставим слово Пушкину, и процитируем его «Историю Пугачёвского бунта»: «Державин, приближаясь к одному из сёл близ Малыковки с двумя казаками, узнал, что множество народу собралось и намерены идти к Пугачёву. Он приехал прямо к сборной избе и требовал от писаря Злобина… изъяснения, зачем собрался народ и по чьему приказанию. Начальники выступили и объявили, что идут соединиться с государем Петром Фёдоровичем, – и начали было наступать на Державина».
Всё могло окончиться здесь же: два казака и поручик против толпы – их могли растерзать.
Пушкин уверяет: Державин грозил, что за ним «идут три полка». Своё подразделение у Державина уже было, но здесь он блефовал – никто к нему не шёл.
Однако толпа подалась, и, видя это, Державин приказал двоих смутьянов немедленно повесить. Что и сделали. Следом – с двумя-το казаками! – приказал принести плетей и всех самых буйных пересёк.
Откуда что взялось в этом картёжнике и сочинителе!
Пугачёв тем временем потерпел очередное поражение в бою с войсками князя Петра Голицына, основная часть восставших была рассеяна, сам он бежал с несколькими сотнями казаков; но в Малыковке так и не появился.
Возникло ложное ощущение, что бунт теперь пойдёт на спад; впрочем, не у Державина. Он, человек здравый, как раз в те дни докладывал начальству, что не только своеволие всякой сволочи служит причиной бунту, но и мздоимство, лихоимство и неустанное воровство всяческого начальства.
Новым командующим войсками стал князь Фёдор Щербатов.
Уверенность государыни, что самое страшное уже позади, выразилась ещё и в том, что Щербатов не имел тех абсолютных полномочий, что покойный Бибиков: гражданские и административные дела вернулись к губернаторам.
Но не тут-то было. К маю у Пугачёва снова была целая армия в десять тысяч человек.
В том же мае Пугачёва снова разбили, причём дважды подряд; но что это меняло? – пока самозваный император был жив, он стремительно находил себе новых сторонников. Россия полнилась злыми и оскорблёнными.
В июне Пугачёв во главе своей вновь собравшейся шайки взял Красноуфимск, а 11 июля во главе двадцатитысячного войска оказался под Казанью. Город взяли с налёта; уцелевший гарнизон спрятался в крепости.
«Когда брали Казань, – пишет Ходасевич, – державинский дом был разграблен, сама же Фёкла Андреевна попала в число тех “пленных”, которых башкирцы, подгоняя копьями и нагайками, увели за семь вёрст от города, в лагерь самозванца. Там поставлены были пленники на колени перед наведёнными на них пушками. Женщины подняли вой – их отпустили».
Пока грабили город, обнаружили и ту самую, первую жену Пугачёва, с тремя его детишками: две дочки и сын Трофим. Пугачёв, ввиду того, что он теперь был Пётр III, жену не признал, но и не погнал, а сказал во всеуслышанье, что это не его супруга, а донского казака Емельяна Ивановича, погибшего за своего императора. То есть, за него. И поэтому он их будет держать возле себя. Жена его ненавидела, но перечить не могла.
Без лишних глаз он пообщался с детьми и женой только через несколько дней. Не от неё, так от других Пугачёв узнал, чем она занималась в Казани. Возможно, что она знала фамилию Державина и могла рассказать, кто был причиной её унижения. По крайней мере, последующие события дают некоторые основания предполагать, что к Державину Пугачёв имел свои счёты.
Державин пребывал тогда в тяжелейшем настроении. В какой-то момент самозванец стал казаться неуничтожимым: сколько уже поражений потерпело его войско – и что? Вот он вновь здесь, он берёт один из крупнейших городов России – только и жди, что двинется дальше на Нижний Новгород; а там и до Москвы рукой подать.
- Пустыни вретищем покрылись,
- Весна уныла на цветах;
- Казань вострепетала в сердце;
- Потух горящий воев дух.
- <…>
- Расстроилось побед начало;
- Сильнее разлилася язва;
- Скрепился в злобе лютый тигр[1].
Державин ждал Пугачёва в засаде, но оказался в нелепом положении: отправлял его в Малыковку Бибиков, новое начальство понять не могло, что он вообще там делает; приходилось долго и нудно объясняться.
15 июля Пугачёв был разбит под Казанью отрядом Ивана Михельсона и, прихватив жену и детей, бежал. С ним, впрочем, осталось до трёх тысяч человек, и он был уверен, что это ещё не конец его дела.
И не ошибался: во второй половине июля пали перед бунтовщиками Цивильск, Курмыш, Алатырь, Саранск, 1 августа Пугачёв взял Пензу и двинулся на Саратов.
Державин направился навстречу супостату. В Саратове он пытался растормошить местное начальство, не способное ни к каким действиям и парализованное самим фактом приближения самозванца. В своих воспоминаниях Гаврила Романович пишет, что сумел собрать горожан на укрепление города, и они «оказали ревностное желание к работам».
«Однако на другой день комендант по упорству своему, – продолжает Державин, – призвав полицеймейстера, приказал объявить жителям, что они на работу не наряжаются».
Хорошо, сказал Державин, давайте тогда соберём и пошлём навстречу Пугачёву отряд.
«Но как предводительствовать оным никто от начальников не выбирался и не вызывалося никого к тому своею охотою, то и принял он на себя совершить сие предприятие», – повествует о себе в третьем лице Державин.
Тогда с ним приключилось видение: разговаривая с местным бригадиром и прочим начальственным людом, Державин взглянул нечаянно в окно и увидел там голый череп, хлопающий костяной челюстью.
«Сие он хотя в мыслях своих принял за худое предвещание; но, однако же, в предпринятый свой путь без всякого отлагательства поехал», – признаётся Державин.
Конечно же, ему было жутко: вдруг оказаться один на один с бешеным смутьяном, погубившим бессчётное количество людей, взявшим столько городов и несколько раз удачливо побеждавшим царские войска.
На что надеялся Державин, с сотней казаков выходя против Пугачёва, понять сложно; но в любом случае в мужестве поэту не откажешь.
Державин выдвинулся в сторону Петровска.
Сложилось так, что бунтовщики двигались ровно навстречу – и сам Пугачёв находился в первых рядах своего войска. Тут они, к обоюдному удивлению, и столкнулись: пугачёвские молодчики и державинские казаки во главе со своим поручиком.
Приданные Державину казаки тут же сдались: «Ты как хочешь, барин, а мы переходим под руку императора».
Державин с Пугачёвым видели друг друга глаза в глаза.
Принимать сражение Державину оказалось не с кем – можно было лишь принять смерть.
Но одно дело – геройски погибнуть в бою, а другое – быть зарезанным, как овца.
Державин выбрал побег: пришпорил коня и помчался; его гнали несколько вёрст. В той погоне он мог бы поседеть.
…Кому, какими словами молился, пока летел по степи? что обещал за своё спасение?..
В Саратов возвращаться было нельзя: позор же – всех разбередил, а сам потерял отряд. Никому ж не докажешь, что казачки отказались сражаться.
К тому же, 6 августа город был взят Пугачёвым. Так что и доказывать что-то было уже некому.
Но именно саратовское бесславное поражение станет причиной того, что за все труды при подавлении пугачёвщины Державина так и не отблагодарят.
Другой бы на месте Державина удавился бы со стыда в те дни, но Гаврила сцепил зубы и продолжил своё безнадёжное, казалось бы, дело.
Пугачёв оценил старания Державина, пообещав за его голову десять тысяч рублей. Впрочем, вполне возможно, что этот факт поэт выдумал позднее. Сойдёмся на том, что – мог пообещать (всё равно бы не отдал никому таких денег). В любом случае, погоню за Державиным Пугачёв организовал. Причины?
Наверняка перешедшие на сторону Пугачёва казаки сказали имя наглеца, отправившегося на самого «императора» с ничтожною сотнею. Кроме того, разговорился взятый в плен слуга Державина, который знал о хозяине многое. Слуга был из польских гусар. Державин относился к нему почти как к равному (это «почти» и добивало польского гусара) – а слуга тем временем только искал возможность хоть как-то этой татарской роже отомстить.
Добравшись до поселений немецких колонистов в Заволжье, неугомонный Державин начал агитировать их на борьбу с Пугачёвым. Поляк знал об этих планах, и в подробностях пересказал пугачёвцам, где искать поручика.
Спасли поэта немецкие колонисты. Может быть, достойное знание немецкого языка Державиным тут сыграло свою роль.
Выучил бы французский вместо немецкого – и колонисты ещё подумали бы, выручать ли.
Державину шепнули, что пугачёвцы, приехавшие за ним, остановились подкрепиться в ближайшей колонии, всего за пять вёрст, и, едва завершат трапезу, явятся, чтоб его убить. Державин вскочил на лошадь и проскакал девяносто вёрст до самой Сызрани.
У парома через Волгу он столкнулся с завербованным на присмотр за порядком крестьянским караулом из двухсот человек – им тоже надо было на другую сторону. Крестьяне его знали – они были из близлежащих к Малыковке деревень. Но мужики эти, скоро догадался Державин, решили не караул нести, а перейти на сторону самозванца.
…Беда в том, что догадался он об этом, уже будучи на пароме!
Хитрые крестьяне тоже быстро смекнули, что являться с пустыми руками к «императору» нехорошо, и попытались взять поручика в плен.
То было томительное путешествие. Благо, они ещё не были вооружены, а у Державина имелся пистолет.
Весь путь на пароме он простоял лицом к изменникам. Думается, здесь имела место весьма увлекательная игра в «гляделки»: наглые, ощерившиеся морды «сущей сволочи» – и 31-летний поручик, держащий белую руку на рукояти пистолета и всем своим видом выказывающий, что выстрелит в лоб любому, кто сделает к нему шаг.
Из двухсот так никто и не решился.
На берегу Державина преследовать не стали.
Прибыв в селенье князя Петра Голицына, Державин всякими уговорами сподобил некоего Былинкина, «человека смелого и проворного», отправиться в стан Пугачёва и самозванца убить.
Старому своему знакомому – тому самому, с кем играл в карты и собирался взять в плен Пугачёва на Иргизе, пройдохе и держателю сети лазутчиков Серебрякову – Державин отдал приказание направиться к генералу Мансурову: зазвать того спасать Саратов. Но это оказалось последним предприятием Серебрякова – по пути его, ехавшего вместе с сыном, поймали пугачёвцы и, после недолгого допроса, убили обоих.
В Малыковке, на которую Державин истратил столько времени, сил и, между прочим, переданных ещё Бибиковым финансов, местные жители снова решили переметнуться к бунтовщикам. Когда явились два пугачёвца, малыковские им так обрадовались, что самых верных Державину людей повесили, а потом, для пущей верности, ещё и расстреляли. Оставленного Державиным казначея убили, жену его изнасиловали, а потом тоже убили, и малых детей их порешили – за ноги и головами об угол избы. Два пьяных пугачёвца только смотрели и посмеивались, и снова просили водки принести.
10 августа под Сызранью, в селе Колодне, Державин присоединился к отряду генерала Петра Голицына, некоторое время назад назначенного Екатериной II главнокомандующим вместо Щербатова, который явно не справлялся.
(Затем Голицына сменил Пётр Иванович Панин. Более того, в какой-то момент государыня хотела лично возглавить войска, чтобы не дать самозванцу явиться в Москву: её еле отговорили. Однако это даёт понять, каков был масштаб явления! Ни война с польскими конфедератами, ни турецкая война подобных желаний у Екатерины II не вызывали.
…И в свете всех этих кадровых решений вновь обратим внимание на амбициозного поручика Державина, который месяц за месяцем не терял надежды переиграть генералов и князей и пленить либо умертвить самозванца лично.)
К несчастью для пугачёвцев – а то неизвестно, сколько бы они ещё прокуражились, – Русско-турецкая война закончилась победой России, был заключён мирный договор, и войска с турецкого фронта под руководством Александра Суворова направились теперь давить пугачёвщину.
21 августа Пугачёв подошёл к Царицыну, но взять город не смог.
Державину к августу наконец удалось собрать собственный отряд. Голицын ему дал 25 гусар и одну пушку, а дальше Державин справился сам: призвал несколько верных казаков, полторы сотни немецких колонистов и полторы сотни местных крестьян.
В первых числах сентября он наведался в Малыковку – то, что местные там взбунтовались и державинских людей перебили, вовсе не означало отмену плана: Пугачёв действительно мог там появиться.
В наказание за предательство Державин устроил показательную жуть – согнал всех жителей Малыковки и окрестных деревень, выявил трёх злодеев и, обрядив в саваны, повесил. В действе принимали участие семь священнослужителей в ризах, которые отказать Державину не смогли.
Не успокоившись на этом, Державин приказал ещё и выпороть те самые двести человек, что едва не пленили его на пароме.
Когда их пороли, Державин ходил туда и сюда, наблюдая экзекуцию. Крестьяне должны были всякий раз при его приближении кричать: «Виноваты», а на вопрос: «Будете ли верны государыне?» отвечать: «Рады служить верою и правдою!».
Нет, пропагандист Державин всё-таки был отменный. Да и театральный постановщик тоже.
После экзекуции он повелел местным заготовить ему провианта на долгий поход и снарядить конных ратников. Противиться никто не посмел: в кратчайшие сроки пригнали телеги с провиантом и явилось семьсот бойцов.
Державин приступил к организации натурального фронта – своего собственного; а то ждать ещё вашего Панина из Санкт-Петербурга.
Представим себе на миг этого поручика, взирающего на сотни вооружённых и подчиняющихся ему людей. О, час поражения или великой славы, – ты близок!
Войско своё Державин переправил через Волгу. На другом берегу Волги двести человек разделил он на четыре форпоста и подчинил каждый форпост начальникам колоний; расставил на возвышенностях маяки с тремя караульными возле каждого.
Далее цитируем самого Державина: «От нечаянного нападения не привыкшие к строю крестьяне чтоб не пришли в замешательство и робость, то из ста телег с провиантом построил вагенбург, в средину которого поставил сто человек с долгими пиками, а 400 остальных, разделя на два эскадрона и разочтя на плутонги, из гусар назначил между ими офицеров и унтер-офицеров; поставил на флигелях в передней шеренге пушку под прикрытием 20 фузилёр, составил свою армию и пошёл прямо через степь…»
Ну, просто римский консул какой-то!
Первой целью Державина было усмирение восставших казахов (киргиз-кайсаков, как их тогда называли), терроризировавших немецкие колонии и теперь вознамерившихся соединиться с Пугачёвым.
В идеале же он рассчитывал на новую встречу с Пугачёвым и реванш.
То, что вокруг Пугачёва собиралось до двадцати тысяч бунтующей черни, Державина не пугало: у Михельсона, разбившего самозванца под Казанью, в отряде было немногим больше тысячи солдат. Впрочем, у Михельсона было вымуштрованные и обстрелянные бойцы, а тут ещё надо было посмотреть.
И посмотрел.
Державин со своей, как он выражался, «армией» атаковал двухтысячное войско бунтующих казахов (свистели стрелы над головою! раздавались крики раненых! грохотало возбуждённое сердце!) и обратил их в бегство.
Казахи потеряли 48 человек убитыми. В плен к Державину попали два молодых вельможи. Трофеи Державин получил более чем убедительные: всякое казахами наворованное добро, скот, но самое главное – казахи держали в плену 811 европейских колонистов и 700 малоросов и русаков. И всех их освободил наш поэт.
«Подайте сюда Пугачёва!» – мог он воскликнуть в те минуты.
Впрочем, к месту бунта прибыл уже с турецкого фронта Александр Суворов со своими молодцами – и совершил несколько карательных рейдов, поражавших всех своей победительной скоростью; вступать с ним в соревнование в случае поручика Державина было всё-таки самонадеянно, хотя у него имелся воинский дар и определённая, не лишняя в этом деле, удачливость.
Зато Державину пришла тогда в голову другая идея.
Гоняться со всей своей разномастной армией за бунтовщиками смысла не было – в очередной раз разбитый под Царицыном Пугачёв ни в какие сражения уже не вступал, а где-то прятался. Куда проще, решил Державин, взять его обманом.
Поэт вернулся к своей уже давшей плоды тактике, замешанной на устрашении и пропаганде. Он отобрал из бывших при нём малыковских крестьян сто человек, а детей их и жён взял в заложники, чтоб мужики, если что, не разбежались. Раздал всей этой сотне по пять рублей и пообещал отблагодарить многократно щедрее в случае удачи. Крестьянам следовало догнать бежавших казахов и пристать к ним под видом людей, желающих перейти к Пугачёву. И, уже попав в расположение бунтовщиков, взять самозванца в плен.
«Дабы придать более отряду важности, – признаётся в своих мрачных делах Державин, – и вперенным в мысли их ужасом отвратить от малейшего покушения в измене, приказал… собраться в полночь в лесу на назначенном месте, где, поставя в их круг священника с Евангелием на налое, привёл к присяге…»
Но что присяга без казни? – и тут же, в присутствии священника, приказал повесить ещё одного малыковского злодея, недавно попавшегося в плен. После чего поэт «дал наставление, чтоб они живого или мёртвого привезли к нему Пугачёва, за что они все единогласно взялись и в том присягали».
Трудно предположить, чтоб кто-то после такого полуночного представления отказался.
Поэт Иван Дмитриев скажет потом, что Державин вешал людей «из поэтического любопытства», а Пушкин его слова процитирует в своей «Истории Пугачёва». Ну, едва ли. То была жуткая война, где сгорали целые города, а к бунту склонялись не тысячи, а сотни тысяч людей; ограбленным, убитым, замученным, казнённым счёт шёл на десятки тысяч, и взаимное остервенение после целого года войны достигло степеней небывалых.
Между прочим, новая затея Державина едва не увенчалась успехом: то ли вдохновлённые, то ли насмерть перепуганные мужики обнаружили пугачёвскую стоянку, взяли в плен его полковника… но самого Емельяна Ивановича какими-то часами раньше повязали свои же казаки, разуверившиеся в удаче.
Державинские разведчики пришли к ещё не потухшему костру, у которого последний раз трапезничал на свободе великий самозванец.
Державину в те дни – с превеликим уважением, как к равному, – писал сам Суворов: «О усердии к службе Ея Императорского величества вашего благородия я уже много известен; тоже и о последнем от вас разбитии киргизцев, как и о послании партии для преследования разбойника Емельки Пугачёва…»
Суворов направился к Яицкому городку, куда отвезли пленённого Пугачёва. По пути встретился с недобитыми Державиным киргиз-кайсаками, принял бой, потерял адъютанта и нескольких человек убитыми, смял сопротивление – и, сделав ряд стремительных переходов по разбитым дорогам, принял Пугачёва от коменданта городка.
Державину оставалось только одно: первым направить сообщение о пленении самозванца. Курьер его долетел до Павла Потёмкина, а тот уже отписал императрице в Петербург: «…получил я от поручика Державина… наиприятнейшее известие… изверга и злодея Пугачёва на Узенях поймали…»
Державин явился к главнокомандующему Панину, чтоб отчитаться о многообразной своей работе.
Панин спросил: «Видел ли ты Пугачёва, поручик?»
Державин скромно ответил: «Видел, на коне»; не рассказывать же в подробностях, как мчался от него через степь.
Ввели самозванца: в оковах и в засаленном тулупе.
«Лишь пришёл, то и встал перед графом на колени, – описывает Державин ту встречу. – Лицом он был кругловат, волосы и борода окомелком, чёрные, склоченные; росту средняго, глаза большие, чёрные на соловом глазуре, как на бельмах. От роду 35 или 40 лет».
– Здоров ли ты, Емелька? – спросил Панин.
– Ночей не сплю, всё плачу, батюшка, – сказал Пугачёв.
– Надейся на милость императрицы, Емелька, – сказал Панин.
Державин предположил, что эту сценку Панин разыграл для него: ловил ты, поручик, ловил смутьяна – а он вот где, предо мной на коленях стоит.
Ни Державину, ни Суворову наград за бессонные дни и ночи, мытарства и риск от государыни не последовало. Сосчитать даже сложно, сколько раз за эти месяцы могли Державина застрелить, растерзать, удавить, размясничить, – и вот что в итоге.
Не от обиды, но от жуткого переутомления Державин слёг, и три месяца пролежал, борясь сразу со всеми хворями, обрушившимися на него.
Но вынес, выполз, выздоровел.
В январе, 10 числа, Пугачёва казнят на Болотной площади в Москве, но до июля 1775 года Державин будет гасить и вытаптывать остатки пугачёвщины.
Зададимся вопросом: был ли он закоренелым крепостником, и знать не желающим об истинных причинах бунта? Нет, конечно. В те же дни Державин напишет:
- Емелька с Каталиной – змей;
- Разбойник, распренник, грабитель
- И царь, невинных утеснитель, —
- Равно вселенной всей злодей.
Имения его – и казанские, и оренбургские – были разорены, а мать едва не погибла: он вполне мог возложить вину за случившееся исключительно на Пугачёва. Но у поэта хватило разума понять, что вина за бунт – общая: и распренников, и утеснителей. Он поднялся над своей личной бедой и уравнял бунтовщика и царя.
В 1776 году выходит книга Державина «Оды, переведённые и сочинённые при горе Читалагае 1774 года». Гора Читалагай находилась близ одной из немецких колоний, верстах в ста от Саратова, на левом берегу Волги: места, памятные для Державина.
Пугачёвщины эти стихи напрямую, как правило, не касались, за исключением «Оды на смерть генерал-аншефа Бибикова»:
- Воззрев на предстоящих слёзных:
- «Не жаль отца, жены и чад:
- Воздать любящая заслугам,
- Российска матерь призрит их;
- Мне жаль отечество оставить!».
- Ты рек, и рок сомкнул вздыханья.
«Гиперболизм и грубость» – основные два качества, которые Ходасевич увидел в тех стихах Державина. Именно они и станут характеризовать его последующую поэзию. Ходасевич решил, что эти черты Державин унаследовал из прочтённой им тогда книжки «Разные стихотворения» Фридриха II, короля прусского.
Но разве русский бунт не учит именно этому: гиперболизму и грубости?
В феврале 1777 года Державина переводят с военной службы на статскую с чином коллежского советника. Он получает должность в Сенате и женится на шестнадцатилетней Екатерине Яковлевне Бастидон, дочери бывшего камердинера Петра III португальца Бастидона.
Позади – картёжные приключения, годы солдатской и офицерской службы, война.
В эти годы начинается Державин как огромный поэт: для русской поэзии это серьёзный заступ – ему было за 35, добрая половина русских классиков в эти годы уже подводила итоги…
Но он искал интонацию; он точно понял, что не умеет писать как Ломоносов – безупречно выдерживая строй возвышенной речи, – но своей манеры ещё не придумал.
Надо сказать, что Державину элементарно не хватало образования. Но именно это и пошло, как ни странно, на пользу его стихам.
Державин воспринял поэзию не как пышный и утомительный церемониал – он вёл себя с языком так, будто ему нужно объездить коня. Он привил поэзии некоторую даже вульгарность – потому что формировался не при дворе, а в казармах. Державинская поэзия – мясная, прямолинейная, звучная.
В 1779 году Державин пишет классическое «На смерть князя Мещерского»:
- Глагол времён! металла звон!
- Твой страшный глас меня смущает,
- Зовёт меня, зовёт твой стон,
- Зовёт – и к гробу приближает.
В этом стихотворении есть строчка «скользим мы бездны на краю» (от неё рукой подать до таких, казалось бы, далёких вещей, как песня «Кони привередливые» или «Над пропастью во ржи», не говоря уже о пушкинском «Есть упоение в бою, / И бездны мрачной на краю»). Сложилась бы эта строчка без той погони под Саратовом, когда Державин уносил голову от пугачёвцев?
И не в продолжение ли темы Емельки и Каталины сказано там:
- Ничто от роковых когтей,
- Никая тварь не убегает:
- Монарх и узник – снедь червей,
- Гробницы злость стихий снедает.
Но до удачи, определившей судьбу Державина, оставалось ещё три года. В 1782-м была им написана «Фелица», посвящённая государыне Екатерине II:
- Богоподобная царевна
- Киргиз – Кайсацкия орды!
И хотя державинская «Фелица» апеллирует к сказке, сочинённой Екатериной, где киевский царевич попадает к казахскому хану в плен, явление казахов (киргиз-кайсаков) во второй же строке имеет и биографический смысл: ведь именно над их воинством Державин одержал свою самую серьёзную победу.
Так что, вознося оду императрице, он хоть бы и для собственного удовлетворения, но напоминал, что часть орды была приведена в подданство автором оды.
Стихотворение это даже по нынешним временам слишком вольно по отношению к царствующему лицу:
- Мурзам твоим не подражая,
- Почасту ходишь ты пешком,
– пишет Державин, называвший себя, напомним, «мурзой» (к тому времени он получил уже чин статского советника и пешей ходьбой себя не утруждал).
В случае с «мурзой» венценосная его читательница могла понять это определение как обобщающее всю знать. Доказывая, что сравнение происходит исключительно с ним самим, Державин завершает следующую строфу очередным сомнительным комплиментом:
- Подобно в карты не играешь,
- Как я от утра до утра.
И далее:
- А я, проспавши до полудни,
- Курю табак и кофе пью.
А что ты ещё делаешь, Гаврила Романович? Может, зря тебе дали статского советника, компенсации за разграбленные пугачёвцами деревни и 300 душ в Белоруссии?
Не стесняясь, он продолжает явку с повинной: «шампанским вафли запиваю» – раз, «на бархатном диване лежа, младой девицы чувства нежа» – два, «за Библией, зевая, сплю» – три; ну и так далее.
В «Объяснениях на сочинения Державина», данных автором собственноручно, он напишет, что под «мурзой», обожающим наряжаться, имелся в виду Потёмкин, следом шёл неутомимый охотник Панин, забавлявшийся, согласно оде, «лаем псов», а за Библией спал не сам Державин, а князь Вяземский… Но мы всё равно понимаем, что в первую очередь автор в виду имел себя и тем самым хитро ставил собственную персону вровень не только с первыми лицами государства, но и с императрицей: потому что, даже возвеличивая Екатерину, – Державин её очеловечивал; спустя несколько лет он напишет ещё прямей и жёстче:
- Цари! Я мнил, вы боги властны,
- Никто над вами не судья,
- Но вы, как я подобно, страстны,
- И так же смертны, как и я.
Ода «Фелица» сначала разошлась в списках, затем вышла в журнальном виде, и, наконец, попала в руки императрице.
Она прочитала – и разрыдалась.
- Из разногласия согласье
- И из страстей свирепых счастье
- Ты можешь только созидать.
- Так кормщик, через понт плывущий,
- Ловя под парус ветр ревущий,
- Умеет судном управлять.
Державин догадался, что лучшие комплименты в адрес женщины начинаются с подробного и вдохновенного самоуничижения.
Дальше начались чудеса.
Обедал как-то Державин у того самого Вяземского, что имел обыкновение дремать за чтением Библии, и тут приходит посылка, где начертано: «От Киргизской царевны к мурзе».
Сердце так и упало – или, верней, вознеслось: Гаврила Романович всё понял в первый же миг.
Вскрыл: там золотая табакерка, усыпанная бриллиантами, а в ней – 500 червонцев. Всё вместе – на три тысячи рублей! (Поменьше, чем Пугачёв предлагал за голову Державина; но самозванец хотел голову на один раз, а тут история обещала разнообразные продолжения.)
Через несколько месяцев Державин получит чин действительного статского советника.
Не почивая на лаврах, он продолжает доблестную службу в Сенате: к примеру, пересчитав табели о предполагаемых доходах на грядущий 1784 год, он разыскал затерявшиеся по разным статьям… 8 миллионов рублей.
Однако, чтоб люди, уже тогда имевшие привычку погреться близ казны, не сжили его со света, Державин в 1784 году вышел в отставку.
В том же году он был назначен первым гражданским губернатором только что образованной Олонецкой губернии, а через год – губернатором Тамбовской.
Управленец Державин был достойный: без сна и покоя, маниакально честный, принимающий посетителей с утра до вечера. Привлекал меценатов и сам меценатствовал, открыл в Тамбове четырёхклассное училище, выписал учителей из Петербурга и каждому выделил по квартире. Следом появились двухклассные училища в каждом крупном городке губернии: Елатьме, Козлове, Лебедяни, Липецке, Моршанске, Спасске, Темникове… Создал детский хор и, умевший петь, некоторое время самолично обучал певческий класс вокалу.
В 1787 году за труды праведные был награждён орденом Святого Владимира 3-й степени.
Но при всех своих достоинствах, Державин был ещё и амбициозен, и неуживчив, и своенравен; в итоге у него начался конфликт с местной знатью.
Дошло до того, что Державина принимала императрица, заинтересовавшаяся, как этот мурза умудряется ругаться буквально со всеми, с кем сталкивает его государственная работа. Державин отвечал ей бойко и уверенно, в своей правоте убеждённый и виноватыми видевший всех остальных.
Екатерина, впрочем, рассудила иначе: «Надобно искать причину в себе самом».
Державина с губернаторского поста убрали, но спустя какое-то время пожалели об этом. «Стали говорить, что прежний губернатор был горяч и крут, но честнейший человек и умел веселить общество», – писал современник.
Два года Державин ждал следующего назначения. Но поэзии это шло на пользу, тем более, что воспевать было что.
В августе 1787 года началась очередная Русско-турецкая война: на кону оказались Дунай, Кубань, Кавказ, присоединённый в 1783 году Крым.
Турция осадила российскую крепость Очаков, где развернулись страшные бои с участием давнего знакомого Гаврилы Державина – Александра Суворова.
Державин пишет «Осень во время осады Очакова» (1788):
- Огонь, в волнах не угасимый,
- Очаковские стены жрёт,
- Пред ними росс непобедимый
- И в мраз зелёны лавры жнёт;
- Седые бури презирает,
- На льды, на рвы, на гром летит,
- В водах и в пламе помышляет:
- Или умрёт, иль победит.
Жрёт, росс, мраз, рвы: пр-р-родирает!
В стихотворении чередуются рифмованные и нерифмованные строфы, и это создаёт особое ощущение: теряя рифму, слух словно перенастраивается; потом снова находит опору в рифме, и следом опять теряет; Державин нарочно бередит читателя:
- Мужайтесь, росски Ахиллесы,
- Богини северной сыны!
- Хотя вы в Стикс не погружались,
- Но вы бессмертны по делам.
- На вас всех мысль, на вас всех взоры,
- Дерзайте ваших вслед отцов!
Нарочитые грамматические перестановки создают неожиданно торжественный и убедительный эффект. Державинский стих обладает сразу двумя противоположными свойствами: он настойчиво увлекает читателя – и одновременно своей семантической алогичностью принуждает останавливаться.
Это поэтические горки: бешеный разгон – и тут же, вдруг, с лязгом полозьев, торможение.
Времени, в котором он жил, Державин был адекватен как никто иной.
В самый разгар Русско-турецкой войны, летом 1788-го, Швеция объявила войну России, решив захватить Петербург и вернуть себе российские владения на берегах Балтийского моря (Англия и Пруссия тайно поддерживали Швецию; ну и Турцию тоже – буквально навязывая России переговоры с ней). Но двухлетняя война не принесла Швеции ничего: Россия устояла, воюя на два фронта.
Если губернаторская деятельность Державина была предметом споров и даже тяжб с соперниками, то поэтический дар Державина стал вскоре неоспоримым: он был признан при дворе и по праву занял место первого поэта империи. И какой империи! – находившейся в зените своего могущества.
Вот как видел Державин российскую географию в стихотворении «Изображение Фелицы» (1789):
- Престол её на Скандинавских,
- Камчатских и златых горах,
- От стран Таймурских до Кубанских
- Поставь на сорок двух столпах;
- Как восемь бы зерцал стояли
- Её великие моря;
- С полнеба звёзды освещали,
- Вокруг – багряная заря.
Екатерина II возвращает благосклонность Державину: он получает должность кабинет-секретаря императрицы, и, всем известный своим упрямством и почти невозможной честностью, ведёт сложнейшие финансовые расследования по делам и особам, приближённым ко двору.
«Высокий, жилистый, узколицый, шагом солдатским, а не придворным проходил он в её причудливые покои», – метко опишет Державина Ходасевич.
Нити финансовых махинаций приводят так близко к царской фамилии, что державинские доклады часто превращаются в перебранку с государыней. Однажды он так разгорячился, что схватил её за край одежды, и Екатерина приказала Державина вывести – «а то руки распускает». В другой раз она, взбешённая, прокричала: «Пошёл вон!» на него; но после всё равно вернула.
В 1790 году Державин упрочит своё положение, создав ещё один милитаристский шедевр – «На взятие Измаила» (превращённый немецкими и французскими инженерами в неприступную крепость с 35-тысячным гарнизоном, Измаил был взят 31-тысячной российской армией; потеря Измаила вызвала в Европе шок и растерянность – было очевидно, что столь сильной армии нет ни у кого):
- Везувий пламя изрыгает,
- Столп огненный во тьме стоит,
- Багрово зарево зияет,
- Дым чёрный клубом вверх летит;
- Краснеет понт, ревёт гром ярый,
- Ударам вслед звучат удары;
- Дрожит земля, дождь искр течет;
- Клокочут реки рдяной лавы, —
- О росс! таков твой образ славы,
- Что зрел под Измаилом свет!
Росс, согласно Державину, «…в Европе грады брал, тряс троны, / Свергал царей, давал короны / Могущею своей рукой».
- О кровь славян! Сын предков славных!
- Несокрушаемый колосс!
- Кому в величестве нет равных,
- Возросший на полсвете росс!
Державин натурально упивается величием Отечества. Геополитические планы росса, по Державину, простираются дальше, чем на «полсвета»; тем более, что полсвета нами и так уже покорены:
- Ничто – коль росс рождён судьбою
- От варварских хранить вас уз,
- Темиров попирать ногою,
- Блюсть ваших от Омаров муз,
- Отмстить крестовые походы,
- Очистить иордански воды,
- Священный гроб освободить,
- Афинам возвратить Афину,
- Град Константинов Константину
- И мир Афету водворить.
Под Омаром имелся в виду зять Магомета, который, завоевав Александрию, сжёг библиотеку. Афет же – сын Ноя, которому досталась Европа. То есть, по сути, Державин определял судьбу России как хранительницы Европы; и, пожалуй, был недалёк от истины. Екатерина, по воспоминаниям Державина, была настроена вполне радикально: «Ежели б я прожила 200 лет, то бы, конечно, вся Европа подвержена б была Российскому скипетру». Она строила Третий Рим, и внука своего назвала Константином не случайно – он должен был стать наместником отвоёванного у турок Константинополя.
Стихотворение «На взятие Измаила» тогда обрело оглушительную известность – выпущенное отдельной книжкой, тут же разошлось тиражом в три тысячи экземпляров: огромные цифры по тем временам; Екатерина вновь одарила мурзу дорогими подарками.
Григорий Потёмкин в своём дворце, который позже получит название Таврического, устроил бал в честь победы; в подготовке торжества участвовал Державин, написавший тексты для исполнявшихся хоров.
Праздник удался; присутствовала императрица, восьмилетний Васенька Жуковский был на всю жизнь потрясен звучавшими тогда строфами Державина.
Полные яств столы, описываемые Державиным, – и те будто бы отражают огромность и победительность России.
- Богатая Сибирь, наклоншись над столами,
- Рассыпала по них и злато, и сребро;
- Восточный, западный, седые океаны,
- Трясяся челами, держали редких рыб;
- Чернокудрявый лес и беловласы сзтепи,
- Украйна, Холмогор несли тельцов и дичь;
- Венчанна класами, хлеб Волга подавала,
- С плодами сладкими принёс кошницу Тавр,
– это империя, это её размах.
Державин не столько описывает раблезианские пиршества, сколько сама Россия у него выглядит как скатерть-самобранка.
«Какая перемена политического нашего состояния! – писал о свершившейся победе Державин. – Давно ли Украйна и Понизовые места подвержены были непрестанным набегам хищных орд? Давно ли? – О! Коль приятно напоминание минувших напастей, когда они прошли, как страшный сон. Теперь мы наслаждаемся в пресветлых торжествах благоденствием».
Торопиться, впрочем, не стоило. Напасти вовсе не заканчивались: английские корабли готовились к походу на Кронштадт, к западной границе России выдвинулась прусская армия, – ведущие европейские игроки не желали смириться с падением Измаила; и самый рост, как на дрожжах, России их нервировал и пугал.
Ещё один державинский шедевр – «Заздравный орёл» – написан в безусловно востребованном временем жанре, на мотив солдатских песен:
- О! исполать, ребяты,
- Вам, русские солдаты,
- Что вы неустрашимы,
- Никем не победимы:
- За здравье ваше пьём.
- Орёл бросает взоры
- На льва и на луну,
- Стокгольмы и Босфоры
- Все бьют челом ему.
Орёл – это, естественно, Россия, её герб. Лев и луна – соответственно, гербы Швеции и Турции, многовековых и на тот момент главных врагов России, с которыми только что завершились очередные войны.
С 1791-го по 1794-й Державин работает над огромным стихотворением «Водопад», где вновь возникает грохочущее, как водопад, бытие: всё, казалось бы, течёт, всё вспенивается и пропадает; но лишь в свершениях великих, ратных Державин находит смысл и надежду.
«Водопад» – своего рода надгробная песнь главнокомандующему русской армией на юге в минувшую Русско-турецкую, фавориту матушки государыни, фельдмаршалу Григорию Потёмкину, скоропостижно скончавшемуся в октябре 1791-го:
- Не ты ль, который орды сильны
- Соседей хищных истребил,
- Пространны области пустынны
- Во грады, в нивы обратил,
- Покрыл понт Чёрный кораблями,
- Потряс среду земли громами?
- Не ты ль, который знал избрать
- Достойный подвиг росской силе,
- Стихии самые попрать
- В Очакове и в Измаиле
- И твёрдой дерзостью такой
- Быть дивом храбрости самой?
- Се ты, отважнейший из смертных!
- Парящий замыслами ум!
- Не шёл ты средь путей известных,
- Но проложил их сам – и шум
- Оставил по себе в потомки;
- Се ты, о чудный вождь Потёмкин!
Известен анекдот, когда ненавидевший фаворита своей матери император Павел I воскликнул: «О, как нам поправить зло, нанесённое Потёмкиным России?» – на что получил дерзкий ответ: «Нет ничего проще: отдайте туркам Крым, Новороссию и берег Чёрного моря».
Водопад, давший название стихотворению, Державин наблюдал в Олонецкой губернии. И от этого водопада он словно бы прочерчивает линию к чудесам и красотам отвоёванных черноморских побережий, скрепляя края огромной державы.
- Но в ясный день, средь светлой влаги,
- Как ходят рыбы в небесах
- И вьются полосаты флаги,
- Наш флот на вздутых парусах
- Вдали белеет на лиманах,
- Какое чувство в россиянах?
- Восторг, восторг – они, а страх
- И ужас турки ощущают;
- Им мох и терны во очах,
- Нам лавр и розы расцветают
- На мавзолеях у вождей,
- Властителей земель, морей.
Екатерина II раздумывала, не взять ли Державина в секретари по военной части: было очевидно, что бывший боевой офицер, блистательный поэт и въедливый сановник проживает каждую военную компанию, ведущуюся Россией, как личное событие, досконально изучая каждую сводку с места боёв и глубоко понимая европейские реалии.
Год 1794-й дал ему очередные поводы и для печали, и для восхищений: в Польше началось антироссийское восстание.
В Краков прибыл Тадеуш Костюшко – легендарный польский генерал, воевавший за независимость американских колоний в войсках Джорджа Вашингтона. 6 апреля взбунтовалась
Варшава, глава российских войск барон Игельстром едва спасся, вырвавшись из города с пятью сотнями людей.
«Войска наши, в Варшаве пребывающие, почти все перебиты, в плен захвачены и весьма малое количество оных осталось, – докладывали Екатерине. – Вся канцелярия барона Осипа Андреевича Игельстрома взята и до миллиона суммы захвачено. Три племянника его убиты, а сам он неизвестно куды девался».
За ночь в Варшаве было убито четыре тысячи российских военных. Вскоре вспыхнула вся Польша, в том числе – поднялись польские части, взятые на русскую службу. Требования были просты – вернуть территории, потерянные в результате первого и второго разделов Польши, 1772 и 1793 года: Правобережную Украину, большую часть Белоруссии, часть Литвы – то есть, по большей части, когда-то ранее потерянные Россией собственные земли.
Стремительным рейдом явившийся к театру войны корпус Суворова в первые же пять дней выиграл четыре сражения подряд у превосходящих количеством и отлично мотивированных поляков, взял Брест, а затем, в жесточайшем бою, предместье Варшавы. Вскоре Суворову пришло предложение о сдаче города.
Уже в те дни Державин напишет о Суворове:
- Пошёл – и где тристаты злобы?
- Чему коснулся, всё сразил!
- Поля и грады стали гробы;
- Шагнул – и царство покорил!
Суворов, более чем польщённый, отвечает Державину письмом, и тоже стихотворным:
- …О вы, Варшавские калифы!
- Какую смерть должны приять!
- Пред кем дерзнули быть строптивы?
- Не должно ль мстить вам и карать?
– но сам себя тут же оспаривает: «Карать оставим Провиденью». И, обращаясь к Державину уже прозой, добавляет: «Гомеры, Мароны, Оссианы и все доселе славящиеся витии умолкнут пред вами».
Но с этим стихотворением Державина случился казус – несказанно обеспокоенную уже случившейся к тому времени французской революцией Екатерину возмутила в державинской оде строчка «трон под тобой, корона у ног». И хотя обращена она была к Суворову, а трон имелся в виду польский, всё это показалось императрице некоторым даже святотатством. В общем, отпечатанная отдельной книжкой ода осталась во дворце и к читателям не попала.
Зато Державин и Суворов вдруг стали приятелями.
Когда Александр Васильевич вернулся в Петербург во всём блеске своей славы, к нему едва ли не очереди выстраивались на визит, однако полководец разнообразными и весьма эксцентричными способами встреч со знатью избегал. Зато Державина, в первый же ознакомительный заезд, продержал до вечера, не без весёлой нарочитости отлынивая от встреч со всё новыми и новыми визитёрами.
Державин узнал тогда иного Суворова: аскетичного, женщин не державшего даже в прислужницах, знающего семь языков, ценящего словесность и, в частности, поэзию, из яств предпочитавшего щи и редьку, религиозного, соблюдавшего все посты, не исключая среды и пятницы, всерьёз собиравшегося уйти в монастырь – в Нилову Новгородскую пустынь. Отсюда державинские стихи:
- Суворов! страсти кто смирить свои решился,
- Легко тому страны и царства покорить!
В 1795 году Державин напишет стихотворение «Флот» – в связи с отбытием российской эскадры:
- Водим Екатерины духом,
- Побед и славы громкий сын,
- Ступай ещё и землю слухом
- Наполнь, о росский исполин!
- Ты смело Сциллы и Харибды
- И свет весь прежде проходил:
- То днесь препятств какие виды?
- И кто тебе их положил?
- Ступай, – и стань средь океана,
- И брось твоих гортаней гром:
- Европа, злобой обуянна,
- И гидр лилейных бледный сонм
- От гроз твоих да потрясётся…
В данном случае под Европой имелась в виду Франция (в её гербе – изображения лилий), но Державин ни малейших иллюзий и по поводу всей остальной Европы не питал, уже тогда догадываясь: никаких друзей у России нет. Но нет и никакой силы в мире, что может остановить Россию.
Следующий год – ода «На покорение Дербента», обращённая к Валериану Зубову, получившему в управление армию в 25 лет:
- Екатеринины лучи
- Умножил ты победой новой;
- Славнее тем венец лавровой,
- Что взял Петровы ты ключи.
(Тогда ходила легенда, что ключи от города передал Зубову тот же человек, что вручал их 74 года назад Петру Великому; сомнительно, однако все верили.)
Годом позже Державин создаёт оду «На возвращение графа Зубова из Персии»:
- О юный вождь! Сверша походы,
- Прошёл ты с воинством Кавказ.
- <…>
- По духу войск, тобой веденных,
- По младости твоей, красе,
- По быстром персов покореньи
- В тебе я Александра чтил!
Валериан Зубов, что бы там ни говорили, таких од стоил – место своё в истории он заработал вовсе не тем, что брат его Платон был очередным фаворитом императрицы. Героический участник штурма Измаила и двух русско-польских войн, потерявший ногу от взрыва ядра, Валериан Зубов был высоко почитаем Суворовым и обожаем в армии. Персидский поход Зубов подготовил и провёл безупречно.
Россия воспроизводила греческую и римскую историю не только на уровне метафорическом, но и в прямом смысле: русские шли по следам Македонского и были столь же неудержимы.
Державин тем временем рос в своих постах: получив должность президента Коммерц-коллегии, он продолжал заниматься, в числе прочего, расследованиями различных махинаций – императрица называла его «следователем жестокосердным»; третью свою награду, к слову сказать, Державин получит от императрицы не за стихи, а за разработанные им тарифы.
Правда, уже после её смерти: 6 ноября 1796 года императрицу нежданно хватил удар.
При восшедшем на престол Павле I положение Державина не пошатнётся, и даже напротив: за несколько лет новый император успеет наградить сановника и поэта больше, чем его матушка за два десятилетия.
Державин получает место государственного казначея, опровергая миф, что поэты не умеют считать деньги.
Со специальными поручениями Державин несколько раз посещал Белоруссию, где обнищавшие вконец крестьяне находились в неподъёмных долгах у местных торговцев и хозяев винокурен. Там он открыл несколько лечебниц и закупил на собственные деньги хлеба для жителей двух самых бедных имений. В Витебске Державин написал «Мнение об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев, об их преобразовании», где в числе прочего предложил уничтожить кагалы.
Ну и, конечно же, за всей этой работой нисколько не ослабевало пристальное державинское внимание ко всем воинским удачам россов.
К 1799 году французы захватили большую часть итальянских государств, восточное побережье Адриатики, Мальту, земли германских государств в Швейцарии, Голландию, – молодой и непобедимый Наполеон мечтал идти до Индии, а пока воевал в Египте. Европа оказалась бессильной пред ним.
И здесь был вызван в действующую армию Суворов. «Бог в наказание за грехи мои послал Бонапарта в Египет, чтобы не дать мне славы победить его», – печалился Александр Васильевич.
Итальянский поход Суворова был триумфальным: русские не дошли до Генуи и Ниццы лишь потому, что английские дипломаты, доселе боявшиеся французов, теперь были озадачены тем, что Россия силой своего оружия может, наконец, занять центральное положение в Европе.
В 1799 году появятся ликующие стихи Державина «На победы в Италии», проводящие прямую линию от Рюрика до Суворова, словно говоря: прошлого нет, россы идут по своим следам, и в этом движении – наша отрада:
- Так он! – Се Рюрик торжествует
- В Валкале звук своих побед
- И перстом долу показует
- На росса, что по нём идет.
- «Се мой, – гласит он, – воевода!
- Воспитанный в огнях, во льдах,
- Вождь бурь полночного народа,
- Девятый вал в морских волнах,
- Звезда, прешедша мира тропы,
- Который след огня черты,
- Меч Павлов, щит царей Европы,
- Князь славы!» – Се, Суворов, ты!
Суворова тем временем переправили в Швейцарию.
В том же 1799 году Державин пишет оду «На переход Альпийских гор» – о том самом беспрецедентном суворовском походе, когда Петербург несколько раз был уверен, что Суворов разбит и пленён:
- Чело с челом, глаза горят —
- Не громы ль с громами дерутся? —
- Мечами о мечи секутся,
- Вкруг сыплют огнь, – хохочет ад.
- Ведёт туда, где ветр не дышит
- И в высотах, и в глубинах,
- Где ухо льдов лишь гулы слышит,
- Катящихся на крутизнах.
- Ведёт – и скрыт уж в мраке гроба,
- Уж с хладным смехом шепчет злоба:
- «Погиб средь дерзких он путей!»
- Но россу где и что преграда?
- С тобою Бог – и сил громада
- Раздвиглась силою твоей.
Страшнейший и мучительный переход, похожий вовсе не на известную картину Сурикова, а куда больше на стихи Державина с его хохочущим ледяным адом, надломил здоровье Суворова. Будучи пожалованным в генералиссимусы всех российских войск, спустя два месяца он заболел, и больше не выправился. Суворов умер 6 мая 1800 года.
В том же мае Державин сочинит своё классическое:
- Что ты заводишь песню военну
- Флейте подобно, милый снигирь?
- С кем мы пойдём войной на Гиену?
- Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
- Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
- Северны громы в гробе лежат.
Тридцать с лишним лет назад Державин впервые услышал имя Суворова; четверть века назад, в Пугачёвский бунт, Суворов услышал имя Державина – и писал ему, общаясь как с равным военачальником; четыре года назад они наконец встретились – знакомство обещало долгую дружбу. И вот.
Державин осознавал величие Суворова; но мы помним, что и Суворов искал дружбы Державина, тоже понимая его масштаб.
Военный гений узнал гений поэтический: это была славная встреча, во многом определяющая звучание русской поэзии.
Здесь пришло время сказать самое главное.
Влияние поэтов преддержавинской и постдержавинской поры чаще всего точечно и фрагментарно. Державинское влияние – абсолютно, в этом смысле сопоставим с ним только Пушкин.
Достаточно вспомнить, что Державин первым внёс в русскую поэзию образ автора и пейзаж. (И первую усадьбу в русской литературе – тоже описал он.) Только вообразите, какие врата были распахнуты настежь.
Державинское влияние разлито в русской поэзии как эфир.
Баратынский, Языков, Грибоедов, Лермонтов, Вяземский, Тютчев, Георгий Иванов, Брюсов, Белый, Блок, Ходасевич, Хлебников, Цветаева, Ахматова, Луговской, Заболоцкий, Вознесенский, Парщиков, Юнна Мориц, Амелин – все перечисленные и множество неназванных имели сотни пересечений и перекличек с Державиным.
(При всём том, что Белинский, восхищавшийся Державиным, считал его «невежественным»; и в чём-то был прав, но Державин был ведом немыслимой силой интуиции куда более, чем знаниями.)
«Разбухшая метафора» (определение Л.Я.Гинзбург) Владимира Бенедиктова, звуковые повторы и корнесловие в его поэзии, – наследие Державина.
Цыганские мотивы Аполлона Григорьева были предвосхищены «Цыганской пляской» Державина.
Все водопады в русской поэзии, от Вяземского и далее, сочинялись с оглядкой на державинский водопад.
Кубофутуристы топотали наглыми ногами, сбрасывая всех подряд с «парохода современности», им подвывал эгофутурист Игорь Северянин: «Для нас Державиным стал Пушкин» (в том смысле, что Пушкин устарел так же, как давно позабытый Державин), – но при этом все они грохотали сплошь и рядом на державинский манер – и Давид Бурлюк, и Каменский, а порой даже и Северянин (куртуазность которого тоже из русского XVIII века – он просто не знал языков, чтоб учиться этому у французов).
Дело не только в том, что Державина, как и кубофутуристов, можно читать под барабан. Дело не в нарочитом косноязычии и речевых ошибках (характерных для Державина) – из чего футуристы сделали предмет стиля (на самом деле им всем – кроме Бенедикта Лившица – часто не хватало, как и Державину, элементарного образования; но задорное футурьё догадалось, что можно это не скрывать, а навязчиво выказывать).
Дело в том, что Державин как никто другой научил их разговаривать громко. (Орать не учил, но этому они сами выучились.)
И это вам не восклицательные знаки русской гражданской поэзии «шестидесятников» XX века, вытягивающих свои тонкие птичьи горла: это крик бывшего Преображенского офицера, который мог барабаны перекричать.
Если идти далее, то даже имажинистская привычка Шершеневича, Мариенгофа и Есенина опускать предлоги – и та державинская.
Обэриуты выбрались из этой, Гавриила Романовича поразившей, тарелки с кашей, как русская проза из одной шинели:
- Каша златая,
- Что ты стоишь?
- Пар испущая,
- Вкус мой манишь?
- Или ты любишь
- Пузу мою?
Или из его же чудесной эпитафии «На памятник прекрасного пуделя»:
- Под камнем сим Милорд, кудрявый пёс прекрасный,
- Почиет погребён, счастливейший из псов:
- Он ел, он пил, он спал, он вёл век свой сладострастный,
- Деля жён множеству нежнейшую любовь…
И где-то здесь, в этом регистре, понемногу собирается с мыслями русская детская поэзия. Отсюда же, через обэритутов, идёт путь к российскому концептуализму.
Державин – огромен.
У М.Н.Эпштейна есть важная мысль о том, что Державин и Лев Толстой – «корневые явления русской литературы, самые мощные и жизнеспособные выходы её из народной почвы».
Державинский стих – это животворный хаос, это сталкивающиеся стихии, это мир, ещё не получивший своих окончательных очертаний, населённый титанами и тиранами, пугающий, поражающий.
Всякий описывающий подобный мир в русской литературе, или пытающийся преодолеть его, подпадал под державинское влияние: вот, навскидку, Осип Мандельштам.
- Глазами Сталина раздвинута гора
- И вдаль прищурилась равнина.
- Как море без морщин, как завтра из вчера —
- До солнца борозды от плуга-исполина.
- Он улыбается улыбкою жнеца
- Рукопожатий в разговоре,
- Который начался и длится без конца
- На шестиклятвенном просторе.
- И каждое гумно и каждая копна
- Сильна, убориста, умна – добро живое —
- Чудо народное! Да будет жизнь крупна.
- Ворочается счастье стержневое…
Сколько бы Эдуард Лимонов ни пытался провести меж собой и русской поэтической классикой разделительных линий, но, едва запел он погребальную песню памяти своего партийца, так сразу и зазвучал – сквозь времена и просторы – державинский голос:
- Долматов! Боже мой, Долматов!
- Конструктор боевых ракет,
- Сказал он чужеземцам «нет»!
- Погиб в руках у супостатов…
Но если б только в поэзии так забавно преломлялось его влияние.
Влияние Державина на Гоголя и Салтыкова-Щедрина – отдельные темы.
Зримо и незримо Державин оказывается востребован всякий раз, когда возникает вихревой хаос, – и тогда он обнаруживается в прозе так же полновластно, как и в поэзии: у таких, к примеру, разных сочинителей, как Андрей Платонов, Борис Пильняк, а то даже и Алексей Чапыгин. И, конечно же, в передовицах, очерках и романах Александра Проханова.
Убеждённость в неисчерпаемости бытия и нерасторжимый с этим чувством ужас назойливой смерти, клокотание и бурление жизни, слом языка, перенасыщенность метафорического ряда, ироническое отстранение при полном ангажированном личном растворении в теме, – это Державин.
Одно из наиважнейших достижений его в том, что он придал патриотизму звучание абсолютное.
Патриотизм мог тогда носить религиозный характер – приверженность вере православной, мог иерархический – приверженность русскому царю, мог родовой – любовь к отеческим могилам, мог – обрядовый, песенный, языковой… Державин сплёл всё это в единый венок: историю, государственничество, религиозность, верность престолу, верность культурным кодам, гражданское чувство, чувство моральное и чувство воина, росса-победителя.
(Само звучание фамилии его знаково: виднейший русский поэт действительно являл собой воплощённое державное чувство. Вдвойне забавно, что сражался он с бунтовщиком Пугачёвым. Судя по этим фамилиям, перед нами – нравоучительная пьеса эпохи классицизма, а не реальная историческая эпоха.)
Если называть вещи своими именами: Державин – певец экспансии.
Разнообразные его уроки были учтены почти всей русской поэзией, но в данном смысле стоит назвать как минимум три имени, берущие начало в державинских одах: конечно же, Пушкин, безусловно, «грубый» и «гиперболичный» революционно-военный Маяковский и, со всей очевидностью, Бродский – с одой Жукову; хотя точно не только с ней.
- Вижу колонны замерших внуков,
- гроб на лафете, лошади круп.
- Ветер сюда не доносит мне звуков
- русских военных плачущих труб.
- Вижу в регалии убранный труп:
- В смерть уезжает пламенный Жуков.
- Воин, пред коим многие пали
- стены, хоть меч был вражьих тупей,
- блеском манёвра о Ганнибале
- напоминавший средь волжских степей.
- Кончивший дни свои глухо, в опале,
- как Велизарий или Помпей.
- Сколько он пролил крови солдатской
- в землю чужую! Что ж, горевал?
- Вспомнил ли их, умирающий в штатской
- белой кровати? Полный провал.
- Что он ответит, встретившись в адской
- области с ними? «Я воевал».
- К правому делу Жуков десницы
- больше уже не приложит в бою.
- Спи! У истории русской страницы
- хватит для тех, кто в пехотном строю
- смело входили в чужие столицы,
- но возвращались в страхе в свою.
- Маршал! поглотит алчная Лета
- эти слова и твои прахоря.
- Всё же прими их – жалкая лепта
- родину спасшему, вслух говоря.
- Бей, барабан, и, военная флейта,
- громко свисти на манер снегиря.
Не высказанный напрямую, но безусловно осязаемый завет Бродского заключается в том, что, говоря о самых важных вещах – в числе которых было и весьма весомое в его поэтическом мире понятие «империя», – он не видел ни одной причины ссылаться на такие понятия, как «прогресс», и прочую ложную «моральность» новых времён. «На смерть Жукова» вопиет о другом: нет никакого смысла менять интонацию (и даже стихотворный размер), говоря о русских победах полтора века спустя после написания державинского «Снигиря»: вокруг нас – те же самые античные герои.
Победы и смерть героя, говорит Бродский, подлежат лишь Господнему суду; суетливому человеческому суду всё это не подсудно. Ибо кто тут вправе оспорить сказанное героем: «Я воевал». А то, что герой в аду, – так кто из вас уверен, что попадёт в рай? Судя по всему, там и ад особый, солдатский: сухой и выжженный, как отвоёванная степь.