Читать онлайн Волчья хватка-2 бесплатно
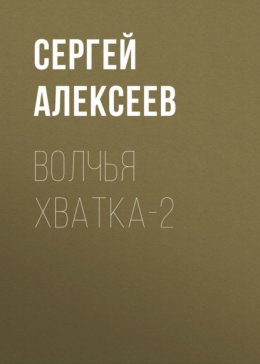
1
Сирое Урочище располагалось в северных Вещерских лесах и, несмотря на близость к обжитым землям, даже среди старых араксов считалось самым потаенным из всех иных урочищ воинства. Многие поединщики, будь то вольные или вотчинные, получив поруку, под любым предлогом оказывались в районе места схватки, дабы отыскать дубраву, прочувствовать силу, исходящую от земляного ковра, и приготовиться к поединку. И редко кто из них по доброй воле отправлялся на Вещеру, чтоб отыскать это мрачное, с дурной славой Урочище; все знали, что попасть в монастырский скит возможно лишь по приговору суда Ослаба и после обязательного послушания, которое длилось не меньше девяти месяцев.
Ровно столько, сколько требуется для зачатия и рождения нового человека.
По рассказам Елизаветы, если кто-то из поединщиков, разочаровавшись в мирской жизни и презрев обычаи, приходил в Вещерские леса, то мог блуждать здесь хоть до смерти, безрезультатно исхаживая пространство вдоль и поперек. Чаще всего люди теряли рассудок и ориентацию, хотя пытались двигаться по солнцу, звездам или компасу. Можно было, например, зайти с одной стороны и неожиданно оказаться совсем в другой, эдак за полсотни километров. Особо упрямые исследовали лес шаг за шагом, от дерева к дереву, даже нитки натягивали, но все равно блуждали и, кому удавалось вернуться, говорили потом, что в некоем месте слышали голоса, крики, мычание скота, лай собак, стук топора, даже чуяли дым, запах свежеиспеченного хлеба и отчетливо видели летающих пчел – одним словом, полное ощущение человеческого жилья.
У всех, кто хаживал в недра Вещерских лесов, в том числе и у местных жителей, существовало поверье: если забрел далеко и вдруг услышал треск сороки или назойливую кукушку, готовую сесть на голову, в тот же миг разворачивайся и пулей назад. Промедлишь – и непременно заблудишься, или найдет помрачение ума, внезапное затмение, и очнешься потом неизвестно где и неизвестно кем: люди забывали, кто они, как их зовут, и не узнавали своих родственников.
Врачи называли это амнезией и полагали, что болезнь – заразная и передается неведомым путем…
Кстати, местные жители особенно здесь боялись сорочьего стрекота и не любили забираться далеко в лес; грибы, ягоды и прочие дары леса собирали поблизости от деревень и, когда ходили в его чащобные глубины по необходимости, говорили, будто там леший водит. И были уверены, что, кроме метеостанции, поставленной здесь еще с дореволюционных времен, в Вещерских лесах уже давно нет ни деревень, ни людей, ни тем паче монастыря. Да и самих метеорологов давно нет, поскольку из-за малозначительности результатов наблюдения попали под сокращение.
Когда-то здешние глухие леса были разделены просеками на три части, назывались дачами и принадлежали трем помещикам. Двое из них заготавливали древесину, сплавляли ее по речкам и продавали купцам, а третий жил за счет пахотных земель, леса не рубил, слыл человеком набожным и странноватым, ибо к сорока годам все еще не женился. Соседи давно уговаривали его продать им свою дачу, и будто бы помещик почти согласился и поехал со своим объездчиком посмотреть угодья, чтобы назвать цену. Где уж он ездил и как, никто не знал, но вернулся только через два месяца, говорят, молчаливым и отрешенным, переоделся и, не сказав ничего своим домашним, тут же отправился в город. Сначала подумали, к нотариусу, оформлять сделку, однако прошла неделя, другая – забеспокоились и бросились на поиски. И обнаружили помещика лишь через два года в одном из северных монастырей, которому он отписал свою лесную дачу, а сам уже был иноком, принявшим обет молчания.
Обо всем этом поведал Ражному словоохотливый и веселый калик, коему было поручено сопроводить осужденного к одному бренке, обитающему возле Сирого Урочища.
Всякий воин Засадного Полка с раннего детства слышал о бренках и знал почти всё; ими пугали, как пугают потусторонним адом, и разница состояла лишь в том, что чистилище для грешника начиналось после смерти и спровадить туда был во власти лишь суд Божий. В сиротство же можно было угодить при жизни и по суду живого и реально существующего, хотя и ослабленного человека – Ослаба. И адские страдания приходилось испытывать не бестелесной душе, а конкретному живому телу, чувствительному, болючему и довольно малоприспособленному для мук.
Однако, глядя на каликов, Ражный сильно сомневался, что в этом монастырском ските так уж уродуют тело. Сирый, что вел его на Вещеру, выглядел, как сдобный румяный калач, только что вынутый из печи. Всю дорогу он отчего-то похохатывал, откровенно радовался жизни и балагурил без конца о низменности мирского существования, задавая риторические вопросы.
Изредка он останавливался, отскакивал назад и прислушивался.
– Слышь, воин? – спрашивал потом. – Тебе не кажется, кто-то за нами идет?
– Не кажется, – бездумно бросал Ражный.
Калик грозил пальцем:
– Нельзя в Сирое дорогу показывать!
– Да нас по следам вычислят, кому надо.
– А где ты видишь следы?
На северной Вещере выпал снег и уже не таял, хотя земля еще не промерзла. Ходить в такую пору бесследно уже не удавалось, но когда Ражный оглянулся назад, то увидел, как стремительная, курчавая поземка заметает сдвоенные отпечатки ботинок.
– Это я задуваю, – удовлетворенно похвастался калик. – А вот если кто прется сзади в пределах видимости, тогда плохо дело. Например, Сыч выследит, и будет нам наказание.
– Кто такой – Сыч?
– Ты что, не слыхал про него? У-у-у, лучше с ним не встречаться. Зверь! Говорят, совсем одичал, клыки выросли, когти…
– Да кто он такой?
– Аракс сумасшедший. Давно уж на Вещеру пришел и бьет всех, кто не понравится. Ему что калик, что послушник – не одного уж порвал. Требует дорогу указать в Сирое. Вздумал поживиться за счет сирых, ума-разума поднабраться.
– Что же его в вериги не обрядят?
– Попробуй, поймай его, если озверел! – как-то восторженно сказал калик. – Хотели заковать, но ведь Сыч – птица ночная и летает бесшумно. Да и настоятель ему потакает.
– Это еще зачем?
– Скажу по секрету: чтоб послушники не расслаблялись. А то ведь думают, коли свели на Вещеру, можно делать все что захочется. Иные чуть ли не вертепы тут устраивают. Мало того, что женщин воруют в окрестных селах, – несчастных сорок обижают, кукушкам проходу не дают. Они, горемычные, вынуждены по деревьям прятаться, в дуплах отсиживаться. Сыч, он у настоятеля вместо нештатного надзирателя и палача. А в Урочище все равно пройти не может. Но если кто вольно или невольно дорогу ему покажет!.. Самый бедный будет на Вещере. В цепях сгноят заживо.
– Тебя сгноят, не меня, – отмахнулся Ражный. – Я дороги в Урочище не знаю.
Сирый откровенно захохотал:
– Разве можно наказать… ой, не могу!.. уже наказанного?! Ну ты чудило!
– А тебя за что упекли?
Калик остановился, поднял палец и вымолвил искренне, со слезой в трепетном голосе:
– Ни за что! Всю жизнь был чист и безгрешен, как ангел!
Узнать, за какую провинность он попал в Сирое Урочище, было невозможно даже под пыткой. И это говорило о его приверженности Сергиеву воинству, несмотря на то что калик бесконечно валял дурака.
Всю дорогу он не один раз пытался искусить Ражного, обращаясь мелким бесом: сначала намекал, мол, делать в Сиром нечего, тем паче холостому, на что тратить-то лучшие годы? На сидение в лесу, среди осужденных араксов, считай, зеков? Среди безвольных, лишенных своего «я», а то и сумасшедших людей, прикованных к камням? И повиноваться настоятелю, который ну просто зверь и еще страшнее Сыча? Будто бы каждый день он выходит из своей кельи и бьет железным посохом сирых, и ладно, если попадет по мягким местам, а то всем строптивым достается по лбу навершием. А навершие кованое, в виде желудей и дубовых листьев, поэтому на коже остается печать. И чем чаще попадает тебе от настоятеля, тем больше шишка, так что у иных ослушников эти желуди уже на лбу растут.
Ражный даже не откликался на его речи и вообще шагал за каликом молча, как и положено приговоренному, пока этот болтливый конвоир не потерял терпение.
– Ты хоть понимаешь, что осудили тебя не по справедливости? – остановившись, спросил он. – Или голова у тебя не варит? Не соображаешь, что это – заказ?
– Какой заказ? – Ражный тут же пожалел, что не сдержался.
– А такой! Как сейчас заказывают?
– Хватит брехать, сирый…
Тот огляделся и склонился к уху:
– Как ты думаешь, Колеватый обиделся на тебя?.. Тото!..
– Хочешь сказать, Ослаб заказы принимает?
Калик слегка отшатнулся:
– Я этого не сказал. Но Ослаб, да будет тебе известно, из ума выжил. Колеватый челом ударил и оговорил тебя.
Ражный вспомнил последнюю встречу с генералом в Министерстве обороны и ухмыльнулся:
– Ну ты интриган!.. По башке тебе дать, что ли?
– Можешь, конечно, – согласился сирый. – Раз дашь – не встану…
– Колеватый – не тот поединщик, чтоб заниматься мерзостями!
– Ладно! Согласен!.. А если боярин тебя заказал? Пересвет наш любимый? Почуял, на пятки ему наступаешь, и вывел из игры? Ведь года через два-три ты бы двинул на боярское ристалище? Силами с Воропаем помериться? Он же твоего отца изувечил и шапку отнял. Да ты ведь устраивал с ним потешный поединок! Говорят, чуть только не уложил. Говорят, пожалел в последний миг… Это правда?
Редкостный калик попался, прозорливый: даже если смутить хотел, то недалек был от правды или по самой ее грани ходил, как эквилибрист, ибо Ражному приходили такие мысли…
– Жалко мне тебя, Ражный, – пользуясь молчанием, уже с тоской заговорил сирый. – Не по правде тебя осудили. За что?.. Ярое Сердце утратил?.. А кто его не утратил, если столько лет нет войны? Начнется война, и загорится сердце. Первый раз, что ли?..
– Молчи, калик!
– Ты погляди, как подло тебе поединок устроили? С волком свели, которого ты вырастил! Которому был вожак стаи! Растравили зверя, сволочи, железом отпежили, глаз выбили и свели! И это все опричники Ослаба! А они без приказа…
– Да заткнись ты! – рявкнул Ражный и пошел вперед.
Калик догнал, заступил путь:
– Я-то заткнусь, но об этом сейчас все воинство говорит! Даже иноки недовольны, ворчат…
– Что ты хочешь? Тебе что нужно?
– Ну на хрен тебе в Сирое, сам подумай, а? – вдруг возмутился сирый, забегая то с одной стороны, то с другой. – Я же тебя не держу, да ты и помоложе, поздоровей меня… Плюнь ты на это дело, разворачивайся и дуй на все четыре стороны. Знаешь, сколько ныне проживает в Урочище и мытарится? Ё-ё-ёп!.. Сроду столько не было! Двести сорок восемь засадных душ, милый мой! Да еще нас, каликов, два с половиной десятка. Это я не беру в расчет еще одну категорию насельников…
– Какую?
– Немазаную-сухую!.. Скоро весь Засадный Полк будет сидеть в Сиром! В Урочище места не хватает, по чердакам живут. Две казармы срубили, заселили под завязку и уже третью заложили!.. Я уже водить вас устал. Каждую неделю вожу по одному такому, как ты! А Ослаб все судит, судит…
Ражный слушал его вполуха, но названные цифры сложились в уме сами собой и заставили остановиться.
– Сколько сейчас в Сиром?
– Должно быть, двести семьдесят четыре с тобой будет. И с нами…
– Ничего себе…
– Это за два года, Ражный! – загорячился сирый. – Причем самых лучших араксов!.. Вольных скоро совсем на воле не останется, половину сюда загнали. Теперь вот и за вотчинников принялись…
– Погоди, а за что?
– Была бы шея! Петля найдется!.. Кого за что: занялся, например, банковским бизнесом без благословления Ослаба – изменил воинству, нельзя деньги в рост давать. Один такой банкир уже на Вещере отдыхает. Драч – слышал? За несколько лет такие деньги сделал! Считай, можно было весь Засадный Полк содержать. Нет же, сюда спровадили… За жестокость, например, в поединке или, наоборот, как тебя, за утрату Ярого Сердца… Да что там! За прижитых на стороне детей стали в Сирое загонять! А ведь разумные Ослабы когда-то даже поощряли за такое, чтоб кровь народа омолодить кровью араксов. После войны, помню, был тайный указ молодым засадникам вдовушек ласкать… И мы ласкали! А что их не ласкать-то, страдалиц? Какие потом ребятишки выросли! Посмотреть любо-дорого…
– И скольких же ты уговорил не ходить в Сирое? – в упор спросил Ражный.
Калик отступил:
– Одного все-таки уговорил. Потому что умный оказался, а остальные дураки, как ты.
– И всего-то?.. Тогда лучше молчи.
– А ты теперь посчитай, на сколько разделят тебя? Что будет представлять твое «я», сообразил?.. Или не врубаешься в тему? Ты что, на гражданке не найдешь себе применения? В спортсмены иди, завоюешь кучу олимпийских медалей, бабок нарубишь прорву, в загранку махнешь, какой-нибудь замок купишь или дворец! Ну что тебе делать в этом скиту? Тем паче холостой, а ведь у нас никогда не женишься!
Ражный шел вперед не оглядываясь, сирый забежал с другой стороны:
– Смотри, дальше: лет через десять при самом хорошем раскладе тебя обратят в калики. Ну и что? Будешь ходить и разносить араксам поруки? Да это же тебе, вотчиннику, западло должно быть! Тем паче ты в Свадебном поединке уделал самого Колеватого! Ничего себе, планку взял!.. Теперь что? В калики после этого, в рабы? Чтоб все над тобой потешались, помыкали?.. Ну, если даже оценят твои способности – ты ведь у нас Ражный! – и поставят на ветер, разве это жизнь?
– Что значит «поставят на ветер»? – без интереса спросил он, хотя никогда не слышал такого выражения.
Калик понял, что сболтнул лишнее, и замялся:
– Потом все узнаешь, после покаяния. Дело неблагодарное и неблагородное… Подумай, воин! Что тебя ждет?
Ражный шел, опустив голову, как и положено осужденному араксу, а калик стрелял в него цепкими глазками и продолжал развивать тему:
– Я б на твоем месте враз слинял. Что ты держишься за воинство? Кому мы нынче нужны? Отечеству? Или самим себе только?.. Нравы, обычаи – все старье, хлам. А посмотри, какая жизнь вокруг? Если жить с умом…
– Иди и живи. Ты-то что не уходишь?
– Не дети, давно бы ушел, – вдруг искренне признался калик, хотя в искренность этих сирых верить было нельзя. – Четыре сына у меня, по возрасту такие, как ты… Гнал их – не идут, на что-то еще надеются… А один уже в Сиром отдыхает.
И показалось, голос калика треснул и размяк от внутренних слез. По крайней мере, он замолчал, обогнал осужденного и часа полтора без оглядки шел впереди – возможно, плакал про себя, и от этого Ражный поймал себя на мысли, что еще не верит сирому, но очень хочет верить, поскольку и сам давно почувствовал некое странное брожение внутри Засадного Полка.
Что-то и в самом деле происходило в Сергиевом воинстве, скрытое от глаз самих араксов. Опричник Радим впрямую говорил: уходи в мир, а вернешься – другой Ослаб будет, суда избежишь… И несостоявшийся тесть Гайдамак намекал на некие события, творящиеся и среди иноков, и в окружении Ослаба, в тайной опричнине…
Что-то взбаламутило привычную жизнь засадников, и особенно жизнь стариков, задачей которых было обустраивать будущее существование воинства, заботиться о продлении своих родов, женить внуков, правнуков и выдавать замуж внучек-правнучек, следить, чтоб мир был в молодых семьях, мир и дети. Если через девять месяцев после женитьбы не рождался наследник, старики себе места не находили, устраивали строгий спрос с молодого аракса, мол, что, внучка моя – бесплодная, коль не беременеет? Или ты никуда не годен?
Молодые обязаны были доказывать плодоносность своих родов, и если оказывалось, что жена и впрямь не может понести дитя, старики сами забирали ее от аракса и уводили в Вещерские леса, где несчастная потом жила в одиночестве и называлась сорокой. А засаднику приводили другую невесту, и все начиналось сначала…
Так рассказывала кормилица Елизавета…
Почему Гайдамак не захотел отдать в жены свою внучку, с которой Ражный при его участии был обручен? С которой по его же воле отпраздновали восторженный праздник Манорамы… Прощения попросил, но не снял своего вета, не взял назад свои слова и невыполнимое для аракса условие – встать на колени и просить руки невесты, зная, что он никогда этого не сделает…
А потешный поединок с Пересветом – не причина, чтоб лишать правнучку женской судьбы, чтоб она до смерти куковала в Вещерских лесах…
Почему инок не захотел связать свой род с достойным ловчим родом Ражных?
А потому, что знал судьбу жениха, знал о предстоящем Судном поединке! Гайдамак знал все! И не он ли увел Молчуна в тот вечер, возле дома Оксаны, чтоб вернуть его в звериный образ и выставить против Ражного на Судном поединке?
Что-то происходит в Сергиевом воинстве, и калик, похоже, не искушает, не врет…
Однако тот вдруг остановился, обернулся веселый и хитро прищурился.
– Слушай, Ражный, давай так, – сказал с задором. – Я тебя подведу к нормальному бренке. К знакомому, который меня уважает, а значит, и моих клиентов. Жалеть не будешь, и послушание пройдет на ять. А ты сейчас же напишешь мне дарственную на все свои сбережения и недвижимость. Бумаги у меня заготовлены, только подмахнуть. Я потом заверю у нотариуса… Согласен? Ну, если ты такой упертый, зачем тебе земное?
И этой привычной для каликов меркантильной речью враз перевернул все мысли Ражного.
Бренками назывались старцы, под водительством которых проходило девятимесячное послушание, – эдакие духовные наставники осужденных, коим предстояло потом вступить в лоно Урочища. Поскольку скитское существование сирых было тщательно закрыто от остального воинства, то послушание было своеобразным курсом молодого бойца, где учили правилам монастырского общежития, а проще говоря, с потом и кровью отдирали от горделивой, самодостаточной личности аракса его «я», а вместе с ним и имя, данное от рождения.
Ражный молчал, и калик расценил это как колебание:
– Думаешь, мне лично твои деньги нужны? Да все на благо любимого тобой воинства! Наши банкиры-то в Сиром! И я ведь за свой счет хожу и езжу из конца в конец страны! Ну, если где выпью рюмку на казенные, так это и все. Да сколько их, казенных-то, дают? В один конец не хватает. Что мне, с шапкой стоять в подземном переходе? А тебе деньги вообще теперь не нужны! Выскочить из Сирого ты сможешь лет через десять, не раньше. За это время случится не один дефолт или еще что… У тебя есть сбережения?
– Нет.
– Как же нет? Ты бизнесом занимался, иностранными охотами! У тебя бабок должно быть немерено!
– Не заработал…
– Врешь, Ражный! К тебе крутые ездили, буржуи…
– Можешь проверить счета…
– И недвижимости нет?
– Охотничью базу забирай, если Пересвет отдаст тебе Ражное Урочище.
Калик только сплюнул:
– А ты не ехидничай! Хлебом не корми, дай над бедным каликом посмеяться…
И обиделся уже до конца пути.
Некогда осужденные и обращенные в каликов араксы, казалось бы, лишались всякой воли, имени и прав воина Засадного Полка, однако при этом никогда не выглядели несчастными и раздавленными. Да, они вечно жаловались на свою судьбу, клянчили денег и ерничали, но трудно было сыскать веселее человека, принадлежащего к Сергиеву воинству, чем калик, и объяснялось это довольно просто: вместо славы и чести поединщика осужденный получал способности и качества, не доступные ни вольным, ни вотчинным араксам, – легко проникать в Сирое Урочище и возвращаться назад, когда вздумается. И не только! Калики обладали умением пускать пыль в глаза и проходить через любые посты, заслоны и, говорят, если надо, то даже сквозь стены. А способностями – расположить к себе человека, войти к нему в доверие и погадать судьбу – они могли тягаться с цыганами или профессиональными гипнотизерами.
Калики существовали в воинстве как профессиональные лазутчики и, обладая талантом лицедеев, психологов и лекарей, зная языки, а то и не по одному, легко проникали в стан противника. Бывало, по многу лет жили за границей, сами превращались в иностранцев с непривычными манерами, но стоило кому из них вернуться на Вещеру, вновь натягивали маску болтливых и лукавых каликов.
Вероятно, все эти качества и почти неограниченные возможности отчасти заменяли им прошлую славу побед, и они скоро привыкали к новому состоянию, как всякий осужденный привыкает к лишению воли и тюремным стенам.
Везде жизнь…
Конечно, говорили, что в Сиром находились и те араксы, кто, единожды вкусив состояния Правила, не мог выйти из него и был опасен не только для мира, но и для араксов, как, например, верижник Нирва, с которым был обещан Судный поединок. Поэтому их содержали прикованными к неподъемным, чаще всего зарытым в яму, камням, чтоб они постоянно заземлялись. И это были действительно несчастные араксы. Однако Ражный знал, что его минует такая участь, поскольку его провинность была прямо противоположной – утрата Ярого Сердца.
Если бы он не спас волка, заправив ему кишки в полость и зашив берестяной ниткой, а догнал и разорвал его надвое, то победу в поединке зачли бы ему и сейчас он не шел бы за говорливым каликом в добровольное заточение.
Ражный не испытывал ни страха, ни особого разочарования в предстоящей судьбе. Никто из его рода никогда не попадал в Сирое Урочище, и было даже любопытно познать, что это такое. Едва ступив в эти леса, он ощутил сильнейшее напряжение пространства, и казалось, достаточно вспомнить чувства, испытанные на прави́ле, как в тот же час можно приблизиться к состоянию Пра́вила. И если не взлететь, то сделать весьма ощутимый холостой выхлоп энергии, способный поджечь сырое дерево. Единственным, что повергало его в состояние короткого шока, как после прямого удара в переносицу, и до боли тянуло в солнечном сплетении, было воспоминание об обязательном условии, которое выполнял приговоренный в период послушничества под руководством бренки.
Он должен был сделать достоянием Сергиева воинства все личные приемы ведения поединка, в том числе волчью хватку и наследственные способности вхождения в раж.
Бренка обязан был вывернуть его наизнанку, как пустой мучной мешок, и выбить всю пыль.
Сами эти старцы, по преданию, живущие в лесах гдето возле монастырского скита, были не менее таинственными, чем само Урочище. Некоторые поединщики говорили, что это и есть те самые опричники, другие же утверждали, что бренками становятся буйные араксы, просидевшие на цепях много лет, но не смирившие своего буйства, а сумевшие перевоплотить неуправляемую энергию Правила в некую иную, духовную. И были еще те, кто доказывал, будто они в прошлом вообще не имели никакого отношения к Засадному Полку, а принадлежали к некой особой касте, поскольку ни с того ни с сего оказывались при дворах князей и государей в качестве воевод и послов, если говорить современным языком, по особым поручениям, вызывая раздражение у придворных.
В общем, толком о них никто ничего не знал.
Бренка буквально означало – звук, издаваемый костями, бренчащий скелет, гремящие останки человека. По рассказам кормилицы Елизаветы, так оно и было: старцы считались великими постниками, пили только воду и настолько иссыхали, что в прямом смысле бренчали костями. Однако при этом были очень подвижны и активны, поскольку для поддержания жизненного тонуса черпали энергию напрямую от солнца, и если было несколько дней пасмурно, то они становились вялыми и лежали, пережидая ненастье. Говорят, их в разное время было от трех до семи и они во главе с настоятелем управляли всей жизнью Сирого Урочища. Но каждый сам по себе значил очень мало, ибо и их личность также была поделена на количество старцев.
Однако если старцы собирались вместе, то могли рукоположить избранного иноками духовного предводителя Сергиева воинства, для чего в их присутствии подрезали сухожилия и тем самым ослабляли. Поэтому Ослаб, взошедший на свой престол, почитал иноков, но признавал и уважал власть и силу бренок, наведываясь к ним для исповеди, или чтоб получить решающие советы по сложным вопросам духовной жизни воинства.
Скорее всего, отсюда и возникла молва, что они и есть опричники.
Калики, прошедшие через их чистилище, то ли не любили вспоминать, то ли не имели права разглашать подробности существования старцев и сам обряд послушания. Однако при этом хвастались своими знакомствами и некими близкими отношениями с каким-нибудь бренкой.
Так же, как и у всех обитателей Сирого Урочища, у них не было имен…
Сирый привел Ражного на бугор, напоминающий курган, обрамленный по подножию старыми соснами, остановился на середине поляны и беспомощно огляделся:
– Во дела! Обычно в это время на своем ристалище сидит!
– Это что, ристалище? – спросил Ражный.
– Такое ристалище, – злорадно захохотал калик, – каких ты сроду не видывал! Покатаешь земельку лопатками… – Он походил взад-вперед, обошел курган по опушке, вздохнул разочарованно: – Да, времена настали!.. Раньше бренки выходили встречать вашего брата. А теперь и старцев не хватает, у каждого чуть ли не по четыре десятка послушников!
Он оставил Ражного, а сам побежал в сторону высокого и густого бора, желтеющего в закатном солнце. В какой-то момент, хорошо видимый, он вдруг исчез, и там, где был в последний миг, осталось зеленовато-багровое пятно, похожее на очертания человека, которое впоследствии постепенно истаяло.
Вообще пространство здесь было странным: без ветра воздух колебался, отчего деревья слегка изламывались, как в горячем мареве, и создавалось ощущение призрачности окружающего мира. Поначалу Ражный думал, что это от температуры, поднимающейся из-за необработанной раны на предплечье, и пытался сморгнуть поволоку с глаз, однако марево лишь усиливалось по мере того, как они приближались к этому бугру.
Отсутствовал сирый около четверти часа и вернулся несколько обескураженным:
– Так и знал! Мой бренка принял еще одного бедолагу и теперь отдыхает. Про Калюжного слыхал?
Вольный засадник с таким именем, аракс казачьего рода, был известен, пожалуй, каждому поединщику, поскольку три года назад, вне всяких правил, дерзко вызвал на ристалище Пересвета, чтоб отнять у него боярскую шапку. Боярин мог бы отказаться и, мало того, лишить аракса поединков на несколько лет, однако принял вызов. Их схватка была зримой, длилась около двух суток, и двухметровый, богатырского роста Калюжный был побежден Воропаем в сече, после чего боярин еще прочнее закрепил за собой титул.
– Теперь Калюжный будет твоим соседом слева, – с неким удовольствием сообщил калик и показал рукой: – Километрах в пяти отсюда берлогу копает. Уже по пояс зарылся… А справа у тебя Вяхирь поселился, месяц назад привел… Да ты его не знаешь, не гадай. Он из белорусского урочища. И молодой еще бульбаш, всего-то седьмой десяток разменял…
– Это хорошо, – отозвался Ражный.
– Чего хорошего-то?
– А что Калюжный сосед. Приятно…
– Пересвет обиду затаил на него, вот и упек… А на что обижаться? И хрен бы с ним, но Ослаб каков? Им крутят, как хотят. Духовный предводитель…
– Не верю тебе, сирый.
– Твое дело, – отмахнулся калик. – Что будем делать?
– Смотри сам, – безразлично обронил Ражный.
– Может, пойдем поищем другого бренку? Часов семь ходу, а то и больше…
– Как хочешь.
– А вдруг и тот кого-нибудь принимает? Или вовсе ушел? Столько дней солнца нет, старцы квелые стали. Тебе-то все равно к которому?
– Все равно…
– И кушать очень хочется! – посожалел калик. – Если еще столько топать, кишки ссохнутся, как у бренки. Ты-то как?
Сирые были вечно голодными и отличались сумасшедшим аппетитом.
– Я не хочу, – сказал Ражный, хотя не ел уже несколько дней.
– Ну да, приговоренные, они терпеливые, им не до жрачки. А я-то на службе!
– Ешь…
Калик торопливо сбросил вещмешок, рассупонил его, выхватил горбушку хлеба и стеклянную баночку с остатками меда.
– Эх, хмельного бы, – вздохнул. – Сейчас пару глотков, и был бы Ташкент… Нам положено потреблять от усталости и для сугрева. Для нас хмельное – это пища. – Он примерился к краюхе, благоговейно откусил и замер с набитым ртом. Потом выплюнул на ладонь кус и попросил: – Слушай, слушай! Ты же охотник! У тебя слух должен быть!..
– Что слушать-то?
– Будто шаги… Идет кто-то! Во!.. Вроде ветка треснула! Неужто Сыч?
– Никого нет, – наугад сказал Ражный. – Это тебе мерещится.
– Звук слышишь? Кто-то воет…
Иногда Ражному чудился какой-то звук, похожий на плач, возникающий то в одной стороне, то в другой, но, скорее, это кричала птица, а не зверь или человек.
– А что, Сыч воет?
– Вроде нет, но говорят, кричит, как птица. Это, кажется, волк воет. Уж я-то их послушал и повидал!.. Но опять же, в Вещерских лесах этих хищников никогда не бывало… – Калик вдруг про пищу забыл. – Слушай, Ражный! Тот зверюга, которого на тебя спустили… сдох?
– Не знаю…
– Жалко, если сдох, – загоревал калик. – Выходит, старец и волка засудил. А он – ты погляди! Харакири себе сделал!.. Может, у него совесть проснулась?
Сразу же после Судной схватки Ражный настиг уползающего Молчуна, скрутил, сострунил его, зашил брюхо берестяным кетгутом, опалил огнем раны ему и себе и сел рядом: с собой в Сирое волка не взять, а развязать путы и оставить здесь – разорвет швы и сдохнет. В это время к нему и подъехал отец Николай, вотчинник Вятскополянского Урочища, бывший зрящим на Судном поединке. Он молча присел с другой стороны, потрепал холку зверя.
– Возьми его, Голован, – попросил Ражный. – Это же мой дар, помнишь?..
– Как взять, если он сам к тебе вернулся? – вздохнул тот. – Грешным делом подумал, ты сманил его… Прости уж.
– Увези к себе в вотчину, теперь приживется…
– Скажи мне, Ражный… Это что? Пробуждение разума? Зарождение души?
– Тебе лучше знать, ты священник…
– У людей проявляются звериные чувства, у зверей – человеческие… Чудны твои дела, Господи.
Голован взял волка на руки.
– Ты его пока не развязывай, – предупредил Ражный, – чтоб швы не порвал. Кишечник у него целый, так что можешь кормить.
– Во второй раз принимаю дар, и опять раненого. Теперь он и стреляный, и битый, и рваный…
– И слепой…
– А совесть не потерял. – Вотчинник понес Молчуна к машине. – Если опять вернется, я не в обиде!
– Теперь ему возвращаться некуда…
Пуще огня и смерти волки боялись Вещерского леса, ибо по своей вольной, независимой природе они могли быть серыми, но не сирыми и убогими. На самом деле тонко чувствующих и осторожных хищников отпугивала источаемая верижниками энергия, и считалось, что если волки пришли в Урочище, значит, там нет ни одного буйного аракса.
Сейчас Ражный вспомнил Голована и сказал калику:
– Если у зверя однажды проснулась совесть, это на всю жизнь.
– Значит, он оборотень, – уверенно заключил тот.
– Он зверь от рождения.
– Ты что, видел, как он родился?
– Можно сказать, пуповину ему перерезал…
Калик посмотрел на него внимательно, поверил и стал есть.
– Тогда ладно… А правду говорят, ты сам можешь волком оборачиваться?
– Нет.
– Почему же слух такой?
– Врут.
– Ну ты ведь догоняешь волков? Ходишь по следу?
– Хожу.
– Значит, у тебя нюх особый, как у зверя? Или что?
– Интуиция.
– Это ты не ври! – засмеялся и погрозил пальцем калик. – За тобой ведь давно наблюдают!
Он опять проговорился. Никто, даже Пересвет, отвечающий за мирскую жизнь вотчинников, не имел права по-воровски следить за ними. Если такая слежка велась, то с благословления либо по поручению самого Ослаба, непременно с помощью незримых опричников и с далеко идущими целями.
На сей раз Ражный будто бы не заметил ничего.
– Есть всякие охотничьи приемы, – стал увиливать он. – Тебе-то какой интерес?
– Да я же вечно по лесам и полям брожу, столько волков перевидал – страсть! Раза два так чуть не съели, ножиком отбивался.
– Волки боятся человека.
– Меня не боятся!
– Значит, ты не человек, – вставил Ражный. – Или врешь как сивый мерин.
Калик захохотал, чтоб уйти от ответа, дожевал хлебушек, набросал в банку снега и тщательно вычистил длинным гибким пальцем стенки.
– Только червяка и заморил… Холодно будет спать. Вот бы рогны чуток!..
Ражный молчал, еле сдерживая озноб: на ходу было тепло, стоило сесть, и морозец начал буравить легкую куртку, надетую поверх рваной, с зияющими дырами, борцовской рубахи.
Калик это заметил и вдруг предложил:
– Хочешь, научу, как спать на морозе? До сорока градусов? Мы же ходим чуть ли не до Полюса, спим под открытым небом, и еще ни один не замерз. Хочешь?
Калики просто так своих тайн не открывали, и следовало подождать, что он попросит взамен. На сей раз сирый ничего не попросил, а устроил бесплатную демонстрацию: широкими движениями разделся до пояса, сел на снег и собрался в комок, замкнув руки под коленками.
– Теперь сыпь снег на спину, – сдавленно проговорил он через минуту.
Ражный набрал пригоршню жесткого и колючего снега, высыпал на голую, натянутую кожу…
И зашипело, будто снег попал на раскаленную сковородку! Капли воды кипели и с шипением стекали на землю, топя снег, а от спины поднялся столб пара.
– Атомная станция, – хмуро похвалил он.
– Мы просто умеем перерабатывать мед в тепло, – одеваясь, похвалился сирый. – Как пчелы. Видел же, вроде насекомые, а мороз терпят. Мало того, хладнокровные существа и вырабатывают тепло!.. А ты умеешь готовить рогну?
– Умею.
– Да ладно! – не поверил и засмеялся калик. – Самую лучшую рогну готовлю только я! Одного кусочка со спичечную головку хватает на сутки, будто полпуда мяса съел. Хочешь, научу?
– У тебя что, есть мозговые кости? – ухмыльнулся Ражный.
– Нету, но ты же охотник! Добудь кабанчика, а я научу. И мяса поедим! А, Ражный? Ты потом с рогной-то любой мороз выдюжишь!
– Где ты на Вещере видел кабанов? Сколько идем – следа нет…
– Да, не повезло тебе, – посожалел сирый. – Зверья тут и в самом деле мало. Как ты станешь жить – не знаю. С голоду опухнешь… Постой-ка! Чем это пахнет? Тухлятиной?
– Ничего не чую…
– Потому что нюха нет! Это у тебя рана воняет!.. Снимай рубаху!
Ражный оголил предплечье, замотанное бинтом, и только тогда ощутил неприятный запах начинающегося гниения. Калик же размотал повязку, надавил возле глубоких ран, оставленных волчьими клыками и теперь забитых пробками гноя и спекшейся крови, покачал головой:
– Хреново дело… Сам-то не чуешь, что ли? Температура есть?
Ражный всю дорогу чувствовал, что в предплечье начинается процесс разложения тканей, зараза попала из волчьей пасти – наверняка перед схваткой накормили тухлым мясом, и инстинктивно искал глазами муравьиные кучи. И находил их, но зазимок и мороз загнали насекомых вглубь и там они лежали сейчас в анабиозе и практически обездвиженные. Это летом муравьи, когда они живые, голодные и потому шустрые, обработали бы рану лучше, чем любой искусный врач.
– Пока бренку приведут, ты кони бросишь, – стал рассуждать калик. – Мне отвечать придется… Ладно, слушай меня. Тебе ведь долго здесь кантоваться, верно? Ты парень молодой и холостой, без женского общества с ума сойдешь, в Сиром их ведь нет. Только запомни: что касается интима – ни-ни! Даже не намекай, с этим здесь строго. А поговорить, расслабиться, медовушки выпить… может, даже за попку ущипнуть – это пожалуйста.
Калик определенно что-то придумал и теперь затеял торговлю.
– Ну, дальше что? – спросил Ражный.
– Давай так: я тебя сейчас сведу к сороке, познакомлю – все как полагается. Она и рану почистит, и боль снимет, и утешит, если понравишься. – Он хихикнул с намеком. – Сорока-то здесь молодая, лет шестьдесят всего… Да и поспим в тепле!
– А я тебе должен?..
– Должен! Научишь оборачиваться волком. Это мне во как надо! Я бы тогда не по железным дорогам рыскал! А напрямую….
О женском населении Вещерских лесов – сороках и кукушках – Ражный слышал с детства. О них рассказывали печальные и светлые сказки, и было трудно представить, что это может быть в реальности. Сороками по доброй воле становились молодые вдовы араксов, не пожелавшие жить в миру, и насильно – бесплодные жены после трехлетнего бездетного замужества.
– Добро, научу, – согласился Ражный. – Но за то, что ты мне расскажешь, как проходит послушание. Что следует говорить, как вести себя, ну и так далее. В деталях. А кроме того, тайно сводишь в Сирое Урочище и все там покажешь: буйных араксов, бренок и всех прочих. Чтоб я сделал выбор.
Калика это сильно смутило.
– Ражный, ты же нормальный поединщик, – серьезно проговорил он. – Конечно, ты романтик и дурень без тяму в голове, но не рвач и не прохиндей. Что не могу, то не могу. Тем паче показывать Урочище.
– А мне сейчас это интересно.
– Да я бы с удовольствием! Но мне башку снесут, если до срока свожу в Сирое! Сразу же станет известно!
– Ладно, не води. Открой тайны послушания.
– Не знаю я тайн! Бренки, они настолько изобретательны, что двух одинаковых послушаний не бывает. Мы же толкуем между собой… Одного по головке гладили и выворачивали, другого чуть ли не плетями или искушали… А то хуже того, усылали куда-нибудь… У каждого аракса свое «я», и разорвать его на двести семьдесят три части?.. Целая наука! Как из меня, вольного аракса с двадцатью четырьмя победами и одним поражением, калика сотворили?.. Нет, я сейчас доволен… Но соображаешь, как старец меня брал? Это неповторимо! У тебя все впереди, увидишь еще…
– Что нужно сделать, чтоб меня не разорвали на части?
Сирый аж застонал, словно от зубной боли:
– Знаю!.. Но тебе это не подходит!
– Говори. А подходит или не подходит, мне решать.
– Зарежь меня – не скажу! Лучше от твоей руки сгинуть, чем потом…
Он что-то вспомнил, потупился, и глаза подернулись поволокой. Через минуту оживился и подпрыгнул:
– Слушай, Ражный! Давай я тебя познакомлю с какой-нибудь кукушкой? Могу даже сходить поискать и привести сюда. Сороки, они что, хоть и обходительные, да старые и для меня. А вот кукушки!.. – Он заговорил шепотом: – Они же бывают такие ласковые! Просто им в жизни не повезло, а они, дуры, в лес подались. Правда, говорят, все они страшные кикиморы, да с лица воды не пить. Одна не понравится – другую найду! Я слышал, нынче их штук пять здесь и есть ну совсем свеженькие. Прямо бутончики!..
Не в пример сорокам, кукушки исключительно добровольно покидали мир, чтоб не терпеть позора, поскольку так назывались засидевшиеся в невестах девственницы, по разным причинам не вышедшие замуж. Чаще всего нареченные женихи отрекались от них из-за вздорного нрава и внешней уродливости. Оксану, если бы она захотела, ждала такая же участь, но, судя по сильному, дерзкому характеру и красоте, роль кукушки ей никак не подходила. Этими девами-птицами, как их ласково именовали засадники, могли стать только покорные, склонные к одиночеству и целомудрию, чуткие и по-кукушечьи печальные застаревшие девушки эдак лет в двадцать пять. Они селились на гранях Урочища и, если верить легендам, предупреждали о приближающейся опасности. Кроме того, с точки зрения мирских людей, девы-птицы и были теми предсказательницами, что угадывали, сколько лет жить человеку, и одновременно их считали кикиморами, которые могли водить чужака по лесам и болотам многие сутки. А когда у несчастного начиналось помрачение рассудка, они являлись в своем истинном образе, чаще в обнаженном виде, щекотали и окончательно сводили с ума.
И все-таки кукушками их называли не за это. Среди араксов бытовало утверждение, что эти безвинные девы довольно часто рожали детей, а чтобы сохранить о себе славу целомудренных, подбрасывали их в чужие, чаще всего обыкновенные крестьянские семьи. Таких кукушат, говорят, принимали с великой охотой, кормили, поили, растили, чтобы потом отдать в солдаты. Говорят, у кукушек богатыри рождались.
– Ну, давай думай, шевели мозгами! – торопил сирый. – Я тебе дело предлагаю! Соглашайся!
– Не за кукушкой сюда пришел, – тоскливо пробурчал Ражный, чтоб не выдавать чувств.
– Да ты постой! – Калик огляделся и сунулся к уху: – Так и быть, открою тебе одну тайну… Только смотри, проболтаешься – мне хана!
– Открывай.
– Поклянись, что не выдашь бренку!
– Слово аракса.
– Но сначала научи оборотничеству.
– Нет, сначала открывай тайну.
– Э-э, не пойдет! Я тебе открою, а ты скажешь: «Я не умею волком оборачиваться!»
– В самом деле не умею.
– Да ты просто жмот! Скупердяй! Тебе жалко поделиться своей наукой! Ты даже готов судьбу свою изломать от жадности!
– Беда в том, что я не оборотень.
Сирый недоверчиво ухмыльнулся:
– Все Ражные умели оборачиваться, а ты нет?
– Болтовня.
– Так и так узнаю! Чего скрывать? Бренка из тебя все вытряхнет, а я у него потом спрошу свою долю.
– Ну спроси…
Калик завязал свою котомку и забросил за плечи.
– Ох, и упертый же ты! Зачем я вызвался вести тебя? Думал, ну хоть что у тебя выманю. И не для себя, не для своей выгоды!.. Добро, пошли к сороке так, бесплатно. Рана-то гноится…
2
Голован вез Молчуна в багажнике, чтобы не привлекать к себе внимания, всю дорогу навязчиво думал о волке и просил у него прощения, как у человека. Он не рискнул снимать с него пут, а лишь чуть ослабил их на лапах и развязал зверя уже в своей вотчине, когда принес в сарай.
– Только не надо мстить людям… – В последнюю очередь он разрезал веревку, стягивающую пасть, и выскочил из сарая.
Волк выплюнул палку, заложенную между челюстей, и наконец-то задышал вольно, вывалив мешающий язык. После чего дотянулся до раны на брюхе, полизал коросту, побродил, слепо тыкаясь в стены, и лег на солому. Понаблюдав за ним сквозь щель, Голован успокоился и, поскольку мяса у него не было – из всей домашней твари держал лишь курочек да пчел, – сварил зверю каши на сухом молоке.
– Придется тебе попоститься, – сказал, подсовывая миску под дверь. – Я потом съезжу на ферму и привезу дохлого теленка.
Молчун даже не понюхал пищи, а может, запаха не почуял, поскольку из носа все еще текла сукровица с гнойными сгустками, которую он пытался выбить, часто чихая.
Голован осмелел, вошел к волку и подставил миску поближе:
– Давай ешь. Надо жить…
Зверь отвернулся, лег на бок и позволил осмотреть себя. Конечно, ему было не до еды: кроме мокнущей раны на брюхе, была еще одна, посерьезнее – пустая, забитая коростой, глазница. Второй глаз совсем затянулся бельмом и, что как-то неприятно потрясло священника, кровоточил, напоминая о кровавых слезах и муках.
Голован никогда не занимался лечением, тем паче животных, если не считать святой воды, за которой приходили к нему дачники и старушки из ближних деревень. Промывать раны и окроплять ею зверя отец Николай посчитал за кощунство, равно как и молиться за его здравие, поэтому привез колхозного ветеринара, бывшего теперь на пенсии. Тот хоть и с опаской и с помощью Голована, но все-таки осмотрел Молчуна и даже в вытекшем глазу поковырялся.
– Откуда у тебя волк-то? – спросил.
– Да приблудился… – В общем-то это была святая ложь. – Пришел за помощью…
– А кто же ему брюхо зашил?
– Я и зашил…
– Первый раз вижу – берестой…
– Ну не нитками же зашивать?
– Знаешь что, батюшка, – огорченно сказал ветеринар, – пожалуй, я принесу ружье. Нечего тут лечить…
И тотчас оба, услышав тихий, гортанный рык, ретировались за дверь. Пенсионер ничего не понял, вернее, расценил это как непредсказуемость дикого зверя, однако Голована охватило холодком.
– Не надо ружья…
– Сдохнет… У него огромный гнойник в черепной коробке, поэтому из носа течет.
– Как уж Богу угодно будет, – положился на небесную волю отец Николай.
– А что, батюшка, ты считаешь, и дикие звери под Богом ходят? – усмехнулся ветеринар.
– Кто создал тварь, под тем она и ходит…
Голован отвез пенсионера домой и, вернувшись, сразу же пошел в сарай к Молчуну.
– Неужто ты, брат, и речь человеческую понимаешь? – спросил, присев возле него. – Не пугай меня, лучше уж оставайся зверем, раз в зверином облике.
Волк обернулся на его голос и тихо заскулил.
Два дня он лакал только воду, изредка зализывал рану на брюхе и скулил у двери, царапал ее когтями – просился на волю. Должно быть, ветеринар был прав, зверь гнил заживо и все чаще тряс головой, пытаясь избавиться от боли, и все реже вставал, но страдал как-то молча, невыразительно, и поэтому его муки не воспринимались так остро, как если бы на его месте было домашнее животное. Вначале Голован не хотел отпускать волка, опасаясь, что тот пойдет в деревню, напугает людей или попадет под выстрел зайчатников, которые по выходным охотились в окрестностях. Но потом вдруг подумал, что зверь, возможно, сам отыщет необходимую лечебную траву, корешки, и однажды открыл ему дверь. Молчун вяло побродил возле сарая, то и дело натыкаясь на деревья, прошел по дубраве, затем нагреб кучу листвы и, покрутившись волчком, лег на пригорке возле церкви.
Отец Николай решил, что волк просился из темного сарая, чтобы умереть на воле, пусть и под тусклым, осенним, но солнцем, и не стал ему мешать.
Несмотря на предзимнее безлюдье и отсутствие прихожан, Голован каждый день утром и вечером открывал храм и служил в одиночку, исполняя обязанности звонаря, дьякона и священника, поскольку из-за скудости прихода таковых ему не полагалось. Лампадки продолжали гореть до самой весны, поэтому он сам подливал масло, зажигал перед службой и тушил потом свечи, раскуривал кадило, подметал каменный пол в холодном храме и протирал пыль – пока с первыми проталинами не появлялся народ, среди которого было достаточно пожилых пенсионерок, добровольно прислуживающих и считающих это за особую честь. Единственными событиями, как-то нарушающими этот зимний ритм жизни, были в основном причащение тяжелобольных, а потом отпевание и похороны, когда умирали местные старики и старушки; отец Николай давно никого не крестил, тем паче новорожденных младенцев – рожать уже некому было.
И вообще никогда не венчал.
Если не считать благочинного, который наведывался всего раз перед Великим постом, то получается, всю зиму Голован разговаривал только с Богом.
Волк пролежал до вечера без всякого движения, однако когда отец Николай открыл церковь и стал готовиться к службе, вдруг услышал скрябанье в железную дверь. Он не собирался впускать волка, поэтому вышел в притвор, чтобы отвести его на ночь в сарай, но едва открыл створку, как Молчун неожиданно проворно заскочил в храм и лег сразу же у входа. Причем не на бок, а на свой раненый живот и смиренно положил голову на лапы.
– Ты что это, брат? Давай иди отсюда, – вытаскивать насильно он не решился, – нельзя тебе…
Волк поднял на него бельмастый глаз и вновь потупился. Головану охолодило спину.
– Мне ведь после тебя храм придется освящать… Не положено, ступай-ка в сарай.
Молчун подполз к стене и уткнулся в нее лбом, как кающийся великий грешник.
– Ладно, – с щемящим душевным страхом обронил отец Николай. – Иногда ведь в храм истинные звери ходят – ничего, терпим…
Он начал службу и, как всегда, забыл обо всем, но в какой-то момент услышал, а точнее, ощутил, что его собственный голос становится мощнее, как если бы кто-то в унисон вдруг запел вместе с ним. Голован так привык к акустике храма, что улавливал любой посторонний звук и точно угадывал его природу вплоть до треска и угасания плохих свечей. Не прерывая пения, он оглянулся на волка, но тот по-прежнему неподвижно лежал в смиренной позе.
И потом еще несколько раз он ощущал это усиление голоса, а когда обернулся к несуществующей пастве с поклоном, заметил, как волк привстал на передних лапах и вроде бы тоже склонил голову.
Закончив службу, отец Николай потушил свечи, оставив одну поближе ко входу, чтобы загасить ее последней.
– Ну, пошли, – сказал он волку.
Зверь как-то нехотя встал, пошел в открытую дверь, а на улице сразу же направился в сарай.
Наутро же, когда Голован вышел из дома, Молчун уже лежал возле церкви на куче листвы, и стоило лишь брякнуть навесным замком, как он на правах прихожанина поднялся на паперть.
– Не знаю, брат, как и поступить, – сказал священник. – Собак и прочих животных принято гнать из храма. А что с волками делать, ничего не сказано…
Молчун однако же встал рядом и изготовился войти в двери.
– И то рассудить, ты ведь не собака, – поразмыслил Голован. – Раз тебя тянет сюда – иди. Вроде бы тоже божья тварь…
Волк лег на вчерашнее место, замер, и Голован, готовясь к службе, чувствовал на себе его бельмастый взгляд – должно быть, зверь все-таки немного видел или просто реагировал так на звуки передвижения. Пока отец Николай читал по требнику молитвы, зверь молчал, но едва священник запел, как отчетливо различил вплетенный посторонний голос и оборвался на полуслове.
Молчун пел! Не выл, не скулил, а именно пел, бессловно повторяя мелодию «Херувимской».
Хорошо это или дурно, отец Николай в тот же миг сообразить не мог, ибо нельзя было прерывать службу, а волк теперь и не скрывал своего участия и, если вчера лишь подпевал, то сегодня вторил, будто хорист, и разве что слова не выпевал, при этом вскидывая голову.
– Ты у меня так скоро и креститься запросишься, – запирая храм, шутливо проговорил Голован. – Чудны твои дела, Господи…
В то же утро, еще до восхода, он ушел на озеро ставить зимние сети, которые потом проверял со льда. Там его и разыскал калик, что обычно разносил поруки, закричал с берега, замахал руками:
– Причаливай, Голован! Я к тебе с поручением!
Отец Николай в это время сеть на дно опускал – не бросишь на середине.
– Ну, говори! – отозвался. – Пусто кругом.
– Меня старец за волком прислал, – сообщил он. – Велел привести к нему в Рощу.
Голован опешил:
– Что же это, Ослаб у меня дар отнимает?
– Почему дар-то? Ты же сам увез его из Судной Рощи?
– Мне этого зверя Ражный преподнес еще перед схваткой со Скифом, – объяснил отец Николай. – Но тогда Молчун жеребенка зарезал и сбежал. А сейчас, выходит, вернулся.
– Это ты со старцем разбирайся! – отмахнулся калик. – Мне велено забрать и доставить.
– Да ведь волк-то не драгоценный дар, чтоб в казну сдавать!
– Ты, батюшка, лучше не противься, отдай зверя, да и дело с концом, – посоветовал сирый. – Последнее время Ослаб гневный, не потерпит ослушаний и в Сирое загонит.
В последние годы от этого Урочища зарекаться было нельзя…
– Его опричники и так зверя измордовали, – однако же возмутился священник. – Он вон кровавыми слезами плачет… Теперь-то на что старцу волк потребовался?
– Сам спроси, я не знаю. Говорят, он был потрясен… Дикий зверь, а не пошел против хозяина. Должно быть, верность понравилась.
Отец Николай кое-как поставил сеть и причалил к берегу:
– Пойди и передай: я чту правую волю старца и перед подвигом ослабления преклоняю голову. Но волка не отдам.
– Ох, зря ты так, батюшка, – пожалел сирый, повздыхал и ушел ни с чем.
Головану не то чтобы тревожно стало, а как-то неуютно от несправедливого требования Ослаба. Обычно старцы старались ладить с вотчинниками, поскольку Сергиево воинство в мирное время во многом существовало за их счет. А тут сразу вспомнился Ражный, через Судный поединок лишенный вотчины, и были слухи, еще двух поместных араксов старец свел в Сирое. Дела и помыслы старцев обсуждению не подлежали, ибо все это наверняка имело глубокую и очень важную цель, пока что не объявленную и недоступную, однако несколько дней Голован ходил расстроенным, не покидал вотчины и часто глядел на дорогу. У него и мысли не было, что Ослаб теперь взялся за него и вздумал лишить вотчины; отец Николай настолько строго придерживался устава воинства, что был неуязвим и к тому же отличался добрым и покладистым характером во внутренних отношениях засадников.
Так прошла неделя, старец никаких знаков недовольства не подавал, и Голован успокоился, к тому же однажды после утренней службы, когда они с Молчуном вышли из храма, заметил, что он не плетется, как всегда, а трусит к своему сараю, причем ни на что не натыкаясь.
Дождавшись, когда рассветет, отец Николай тщательно осмотрел волка и обнаружил, что бельмо на глазу почти рассосалось, появился живой и реагирующий на свет зрачок, а еще недавно только назревающий гнойник в глазнице вышел, и теперь под рваным веком образовалась розовая, еще нежная кожистая пелена.
И рана на брюхе хотя еще и мокла кое-где, однако начала рубцеваться, и можно было снимать швы…
– Да ты, брат, молиться научился! – обрадовался Голован. – И Господь тебя слышит. А то как бы прозрел?.. Ну-ка, вторь мне: «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: вонми гласу моления моего, внегда воззвати ми к Тебе!»
Волк поднял голову и в точности повторил пение, разве что вместо слов у него получались льющиеся и неожиданно звонкие для звериной глотки звуки.
– А дачники не умеют молиться и чуда ждут! – засмеялся священник. – Оно же вот! Благодарю тебя, Господи! Ты и к зверю бываешь милостив.
На следующий день Молчун наконец-то стал есть, и поскольку за время болезни исхудал так, что напоминал велосипед, постной кашей его было не поправить. Отец Николай поехал на колхозную ферму за дохлыми телятами, а когда вернулся, застал у себя Скифа, о коем говорили, будто он опричник Ослаба. Старый поединщик приехал на машине, и не один – с двумя отроками, вероятно отданными ему в учение. Сам он, как и положено вольному, скромно сидел на верхней ступеньке крыльца, не смея войти в избу, а отроки разгуливали по дубраве и вроде бы собирали желуди.
Существовало поверье: если юному араксу до всех пиров посчастливится угодить в Рощу, набрать там желудей и, прорастив их, высадить где-нибудь в потаенной части леса, то это принесет быстрое взросление и победу в Свадебном поединке…
– Скоро мы с тобой свиделись! – вроде бы обрадовался Скиф. – Вот, ехал мимо, дай, думаю, навещу вотчинника!
Привыкший побеждать в кулачном зачине, он не любил тянуть схватку и доводить ее до сечи, поэтому и разговаривать с ним следовало соответственно.
– За Молчуном приехал? – в лоб спросил Голован.
– Да вот хотел взглянуть поближе, что за зверя помиловал Ражный. – Скиф озаботился при внешней веселости. – А он из-под носа ушел!
– Это не зверь. – Отец Николай мысленно порадовался. – Разве что обличьем…
– Тебе, конечно, виднее, но ублажи старика, покажи тварь.
– Коли убежал, как же покажу?
– От нас убежал, а к тебе-то придет.
– Могу дать послушать, – сказал Голован и пропел: – «Радуйся, благодатная Богородице Дево, из тебя бо возсия Солнце правды!»
Глотки в роду священников Голованов были луженые, в прошлую пору, чтобы на колокольню не подниматься и не звонить к заутрене, деды созывали народ с паперти – говорят, в деревнях за три версты у подсолнухов головки отлетали, а за семь у баб, словно ветром, подолы задирало.
Волк ответил низким и гулким баритоном, и Скиф в первый момент решил, что это всего лишь эхо.
– И что, придет? – спросил он.
– Не знаю. Он у меня вольный аракс…
Молчун же, услышав голос Голована, сам запел аллилуйю, и только тогда опричник сообразил, кто отзывается в лесу.
– Да он у тебя вместо дьякона! – засмеялся Скиф и подал знак отрокам.
Те помчались на волчье пение.
– Старцу-то зачем этот волк? – спросил отец Николай, но Скиф будто и не расслышал, предавшись философии.
– Неужели не держит на людей зла?
– Не держит, – с гордостью подтвердил Голован.
– Тогда это оборотень какой-то…
– У животной твари сознание другое, и мыслит она иначе.
– Да вроде бы тварь-то бессмысленная? Может, он боли не почуял?
– Все почуял. И потрясение испытал, и шок, как человек…
– Чем же мы отличаемся? – не поверил опричник.
– Памятью, – слушая волчье пение, объяснил Голован. – Мы думаем, неразумные они твари, поскольку нет у них заднего ума. Или, как теперь говорят, параллельного мышления, как у человека. Мы-то понимаем, не каленый прут виноват или палка, а тот, у кого она в руках. А зверь капкан грызет, пулю выкусывает… Не может он запомнить, от кого исходит зло, потому и самого зла не помнит. Это я так думаю.
Волк внезапно замолчал, не окончив псалма на фразе: «Да исправится молитва моя…»
– Поймали! – определил Скиф. – Отроки у меня проворные…
– Это они Молчуна пежили перед поединком? – будто между прочим спросил Голован, но опричник прикинулся глуховатым.
– А что ты, вотчинник, в дом-то не приглашаешь? – вспомнил он. – Что мы на улице стоим, словно калики?
Отец Николай открыл дверь:
– Мог бы и сам войти, я только храм запираю…
По правилам гостеприимства он посадил Скифа за стол и принялся угощать, однако тот не радовался ни меду, ни домашнему теплу, а все поглядывал в окна. Его отроки явились спустя часа полтора и, чинно поздоровавшись, виновато остались у порога. Кроме раздутых от желудей карманов, у них ничего не было. Скиф по виду испытывал гнев, однако при посторонних смолчал и только спросил у Голована:
– Не надо ли тебе, батюшка, дровец на зиму заготовить?
Это означало, что гости останутся в вотчине на столько, на сколько захотят – но только до весны, даже если не поймают Молчуна.
– А ладно бы было, – согласился Голован, ибо приютить у себя вольных, а тем паче таких почетных араксов, как Скиф, считалось за честь.
Отроки попросили топоры и удалились.
Волк не пришел на вечернюю службу, а лишь отозвался где-то в лесу верст за пять.
А когда Голован стал служить заутреню, то уже более не услышал эха своего голоса…
Если бы Ражный оказался здесь в одиночку, то решил бы, что у него высокая температура или заболели глаза: чем дальше шли они, тем более увеличивалось напряжение пространства и сильнее колебалось марево, отчего лес уже плавал и изламывался, будто отраженный в воде. Все выглядело реально – снег на земле и ветках, отдающий прелой листвой запах первого зазимка, приглушенные звуки шагов, звонкий стук дятла, долгий и тоскливый крик синиц. И одновременно все это воспринималось отстраненно, словно он находился в замкнутом пространстве и смотрел на мир сквозь волнистое стекло.
– Что, сирый, трясет тебя? – вдруг поинтересовался калик, оглядываясь на ходу. – Здесь без привычки всех трясет…
– Я еще пока не сирый, – отозвался он.
– Но потряхивает?
– Нет…
– Ну ты поперечный! – изумился тот. – Идет – качается, а признаться не хочет!
Ражному казалось, что он идет ровно, а колеблется окружающее пространство…
– Вот и пришли, – наконец-то прошептал калик, выглядывая из-за дерева. – Там сорока живет… Зря ты не согласился на кукушку. Сейчас бы к какой-нибудь деве закатились!
– Почему не согласился? Я был «за». Это ты не захотел секретов выдавать.
– Ага, знаю я! Выманил бы тайну и взамен гроша не дал. Теперь вот сорокой утешайся, скопидом.
Между трех высоких сосен, кроны которых смыкались высоко в небе, стоял старый, почерневший рубленый домик на три окна с резными наличниками, двускатная крыша покрыта замшелой, едва присыпанной снегом дранкой, впереди небольшой палисадник с замерзшими кустами георгинов. Похоже, здесь была кержацкая деревня: на зарастающей сосенками поляне виднелись остовы сгоревших изб, остатки изгородей и даже пара накренившихся электрических столбов с оборванными проводами. Домик сороки оказался последним сохранившимся строением и среди мерзости запустения выглядел оазисом торжества жизни: снег разгребен, крылечко выметено, а половичок, что лежал у входа, тщательно вычищен, выбит от осенней грязи и повешен на косое прясло.
Было в этом что-то уютное, домашне-теплое и дремотное. Сразу представилась чопорная бабуся в очочках – неизвестно, чьей вдовой в миру была, может, какого-нибудь туза или светского льва.
– Сорока! – панибратски окликнул сирый и постучал посохом по изгороди. – Оглохла или спишь?
Зимние, мерцающе белые из-за снега и трепещущие сумерки были долгими и тихими, как шелест листвы. Пора бы уже зажечь свет, какой есть, хоть лучину, однако окошки отсвечивали черным, а на крыльце никто не появлялся.
Всю дорогу смелый и самодовольный, калик здесь отчего-то сробел:
– Что, сами зайдем, непрошеными, или пойдем восвояси?
– Зайдем, – отозвался Ражный.
Проводник ступил на крыльцо, медленно и боязливо, будто подозревая растяжку, приоткрыл дверь, однако окликнул весело:
– Сорока!
Было уже ясно, что в избе никого нет, если не считать звуков во дворе, за перегородкой сеней: там переступали козьи копытца, пели и всхлопывали крыльями куры и вроде бы даже хрюкал поросенок – сороки отличались хозяйственностью, но и прижимистостью тоже.
Сирый шел, словно каждое мгновение ожидал выстрела, и следующую дверь открывал с не меньшей осторожностью.
В лицо пахнуло теплом, и, пока калик зажигал спичку, Ражный затворил за собой дверь. В избе было чисто, ухожено и приятно, как у всякой одинокой, излишне ничем не обремененной вдовы на Руси. На столе, в переднем углу, лежали недовязанный шерстяной носок с клубком ниток и очки – единственное, что оставлено в беспорядке.
– Куда-то улетела сорока! – обрадовался и раскрепостился сирый, зажигая лампу, висящую в простенке. – Интересно, а пожрать что оставила, нет?
Он тут же загремел заслонкой русской печи, брякнул ухватом, и через мгновение раздался торжествующий и окончательно расслабленный возглас:
– Живем! Борщец по-белорусски, со слабо выжаренными шкварками! А хлебушко еще горячий!.. Меня ждала, знает, что люблю, старалась угодить.
Ражный отряхнул ботинки у порога и, не раздеваясь, присел на лавку. В помещении марево вдруг улеглось и предметы обрели реальные очертания. Тем временем калик скинул модный длиннополый черный плащ, кожаную кепку с ушами и принялся греметь посудой. Через три минуты тарелки с борщом исходили паром на столе, а сирый, хитро подмигивая, поднимал крышку подпольного люка:
– Мед хмельной должен быть! У нее три колоды пчел летом стояло! Иначе она – не сорока.
Выполз он расстроенный, с миской соленых огурцов:
– Не сорока – ворона она! Хоть бы ма-аленький логушок завела для каликов!
От запаха пищи Ражного мутило. Он с трудом хлебнул три ложки и отодвинул тарелку:
– Не идет…
– Ешь через силу! Неизвестно, когда придется в следующий раз. Народ здесь негостеприимный, а бренка ведь тебя кормить-поить не станет. Будешь сам добывать… хлеб насущный. – Сирый беспокойно оглядывался, не переставая хлебать борщ, но вдруг положил ложку, побегал от окна к окну и сказал в сердцах: – А ведь не нам борща-то наварили… По вкусу чую. Должно, к сороке бульбаш прилабунился. Вяхирь, по Суду привели. Шустрый, болтают, жмотистый, как ты, а говорит, истину искать пришел.
Потом он долго и сиротливо смотрел в окно и, когда обернулся к Ражному, был уже страдальчески тоскливым.
– Ну что такое? – слабо возмутился калик. – Люди идут в Урочище, хоть кто бы стрекотнул. Приходишь к сороке, а ее и дома нет… Вот тебе и птицы, мать их… А балаболят: у нас все надежно, мышь не проскочит!.. Воинству конец приходит, Ражный. Можешь даже бренке не показываться. Просто дергай назад поутру. В райцентре больница есть, хирург – мужик замечательный. Он мне один раз вот такую занозу из ноги вынул!
Провокации продолжались.
– Не пойду, – отмахнулся Ражный.
– Дурак… А заражение крови начнется? Чем помогу? Мы медицинским наукам не обучены.
Сирый накинул еще пузатую поварешечку, но сразу есть не стал, а утер вспотевший лоб, без удовольствия отвалился к стене:
– Зело!.. Хоть и не для нас сварено.
И замер настороженно. Через мгновение он бросился к окну, прислушался и засуетился, беспомощно глядя на стол.
– Летит!.. Летит, чую… – Выскочил на улицу и вернулся обескураженный, но счастливый. – Нет никого… А слышал, вроде бы летела.
Ложку он не взял, а выпил через край борщ, закусил хлебом и стремительно убрал посуду, наскоро ополоснув под рукомойником. После чего заметнул чугунок в печь, вытер стол и положил вязку – как было. Остальное Ражный не помнил, ибо повалился на лавку, а сирый успел подложить ему подушку. В тот же миг изба закачалась, словно и она, основательная, срубленная из столетних сосен, не устояла в зыбком пространстве…
Ражный очнулся от визгливого, взвинченного женского крика и сразу понял, кто это стрекочет.
– …Я тебе что говорила? Чтоб зенки свои бесстыжие зажмурил и стороной обходил! А ты еще какого-то мужика притащил за собой!
Кажется, сирый обрел голос:
– Что ты мелешь, сорока? Да знаешь, кто это? Это же сын боярина Ражного!
– Мне хоть разбоярина! Убирайтесь отсюда!
– Сергея Ерофеича сын!
– Не знаю никакого Ерофеича! Выметайтесь!
Кажется, покладистость и чуткость сорок, отмеченные в сказках, сильно преувеличивались, либо у этой был просто вздорный нрав. Ражный ощущал неловкость, будто присутствовал при некоем семейном скандале, и потому делал вид, что спит, глядя сквозь ресницы.
Озираясь на него, сирый пытался говорить шепотом – не получалось:
– Да я его по суду Ослаба веду!.. Пожалела бы, молодой поединщик, недавно Свадебный Пир сыграл с Колеватым! Жениться не успел и уже в Сирое загремел! Холостой аракс, сорока!
Она несколько снизила голос и напор, хотя еще слышался медный звон в ее стрекоте:
– Ну ведь брешешь, а? Такой же, поди, как ты, холостой. А у самого семеро по лавкам!
– Между прочим, у него рана нарывает! – вспомнил и обрадовался калик. – Ты бы не стрекотала, а почистила да заговорила.
Сорока и тут не преминула огрызнуться:
– Думала, от тебя гнилью несет…
Она приблизилась к Ражному, и он ощутил ее ледяную ладонь на своем лбу.
– Горит… Ладно, вставай, хватит прикидываться.
Он с трудом оторвал голову от подушки и сел. Голос вдовы и манера говорить не соответствовали ее внешнему облику: пожилая и миловидная женщина с отблеском прошлой светской жизни в высокомерном и чуть презрительном взгляде синих глаз.
Руки были такими же бесцеремонными, когда она стаскивала рваную рубаху и сдирала бинт с предплечья.
– Кто тебя так? – спросила без интереса.
– Волк! – радостно произнес сирый. – У него был Судный поединок со зверем! Мечта любого засадника!
– Что ты мелешь-то? Мечта… – сердито застрекотала сорока. – Доставай кипяток из печи, будешь помогать!
Она ощупала жесткими пальцами коротко стриженную голову Ражного, затем несильно стукнула по темени; он был в сознании, все слышал и видел, но тело утратило чувствительность и стало деревянным, как после травы немтыря. Вводить таким способом в своеобразный наркоз умели многие женщины воинства, но у сороки получилось как-то очень легко и изящно.
Хотя говорила она жестко и голос звучал неприятно:
– Черти вас носят… В миру им не живется, все чего-то ищут! Нашли где искать – в Сиром Урочище… До утра оставайся, а утром чтоб духу не слыхала!
…На исходе следующего, солнечного и морозного дня бренка оказался на своем месте. Со стороны он напоминал причудливо изогнутый и замшелый корень дерева, почему-то вышедший из земли на свет. Вероятно, он совсем не боялся холода, поскольку прохаживался по своему ристалищу в одной старческой рубахе под широким мягким поясом, словно к поединку изготовился, однако же в портках и валенках. На непокрытой голове торчали ершиком седые и совсем не стариковские жесткие волосы. Причем густые черные брови напоминали изогнутые совиные крылья, и правое было высоко вскинуто, тогда как левое опущено, словно птица вошла в крутой вираж. Его фигура и лицо действительно напоминали скелет, обтянутый кожей, однако он не походил на заморенного и иссохшего; чувствовалось, что в этих мощах и косом, пристально-недоверчивом взгляде скрыта неожиданная сила. Если не считать сердечной мышцы, в нем практически не осталось сырых жил, которые требовали тепла и питания.
Человек обязан был хотя бы раз в день поесть, то есть найти топливо и бросить его в свой ненасытный котел. Внутренние органы, и особенно желудок с кишечником, от бесконечной работы изнашивались, в лучшем случае в течение одного века, и человек погибал раньше собственного тела. Всякое теплокровное существо в первую очередь искало пищу, для того чтобы продлить жизнь, но она, эта пища, разрушала само существо и прекращала жизнь. Сухая жила и костяк, единожды развившись с помощью сырых жил, существовали малой толикой, которую можно было легко получать из воды, от солнца и воздуха, не прикладывая изнуряющего труда.
Мало кто знал, сколько жили бренки, рассказывали, что по двести и триста лет, но если говорить о бессмертном существовании человека, то это возможно было лишь в такой плоти, где уже нечему изнашиваться, болеть и выходить из строя.
Любопытство Ражного не осталось незамеченным, бренка оперся на высокий посох, прямо посмотрел на яркое солнце и улыбнулся, показывая беззубые, детские десны.
– Да! – бодро сказал он. – К этому надо привыкнуть.
Несмотря на худобу, лицо у него было живое, подвижное и по-старчески розоватое, а желтоватая от седины недлинная борода аккуратно подстрижена и ухожена.
Никакого особого обряда для такого случая Ражный не знал, потому лишь склонил голову, как положено перед старостью:
– Здравствуй, бренка. Воин Полка Засадного… – И не удержался, на мгновение взлетел нетопырем, закружившись над седой головой старца: он источал розовый и длинный язык пламени с зеленоватыми протуберанцами, что означало невероятное спокойствие и самоуверенность.
– Погоди, – оборвал его старец и вскинул голову, глядя над собой – почувствовал! – Кто там летает?
– Я, – признался Ражный.
Бренка выгнул брови к калику, стоявшему поодаль:
– Ты зачем привел его?
– По суду Ослаба! – доложил тот со скрытой опаской. – Этот аракс утратил Ярое Сердце…
– Утратил? – изумился старец. – Да ты посмотри, как он глядит!
– Упертый он, бренка, поперечный – страсть! – нажаловался сирый.
– Да у него взор волчий! Ты говоришь, утратил…
– Это не я сказал – Ослаб!
– Ему, конечно, виднее, – заворчал бренка, никак не выдавая чувств. – Но отрока этого в пору хоть на цепь сажать…
– У Ражных вся порода такая! – подыграл сирый.
– Не возьму я его на послушание! – Старец капризно отошел и сел на замороженный голый камень. – Так и будет кружиться над моей головой…
– Что же мне делать-то, бренка? – засуетился калик. – Куда я теперь с ним? И что Ослабу сказать? Он ведь спросит!
– Следует помиловать отрока и отпустить. Нечего ему делать в Сиром! Сколько народу вы наводили сюда? Куда их всех определить? В калики? Но какой из этого аракса калик?.. Посадить рубахи да пояса шить вместе с ослабками?
– Нельзя! – со знанием дела сказал сирый.
– В том-то и дело! Все, этого я не принимаю!
И тут калик осмелел, подошел и, склонившись к уху, зашептал – лицо бренки не отражало никаких чувств. Выслушав, он утвердительно качнул головой:
– Ну, добро…
Сирый и вовсе воспрял духом, приобнял старца и теперь зашептал в другое ухо, отбивая некий такт своим словам вытянутым указательным пальцем. Вероятно, кроме официального приговора, существовали некие тайные инструкции Ослаба либо его пожелания, и потому бренка слушал внимательно и брови его слегка выровнялись. Он изредка кивал, но когда калик оторвался от уха, сурово мотнул головой, встал, издав едва слышный костяной стук:
– Он единственный аракс в роду Ражных?
– Единственный…
– И холостой?
– Холостой. И жениться не хочет!
– А если захочет?..
Калик ухмыльнулся:
– Да на ком тут? Ну если только на сороке…
Бренка взломал свою бровь, и сирого словно выключили.
– Я тебе сейчас покажу сороку! И не уговаривай! Не возьму я его. У меня тридцать два послушника, не успеваю! Какое это послушание – сами себе предоставлены, живут как хотят. Обойти всех за неделю не так-то просто! Вот и передай Ослабу мое слово.
Сирый снова прильнул к уху бренки и минут пять что-то шептал, вращая глазами. И вроде бы опять убедил.
– Что с ним делать-то? – спросил тот растерянно. – Куда приставить? Без дела-то он станет по лесам болтаться, как Сыч.
– Давай покажем ему Урочище? – уже панибратски предложил калик. – Пусть сам посмотрит, может, что и понравится.
Старец прищурился:
– На экскурсию сводить?
– Что-то вроде этого… Показать ему тех, кто на ветру стоит.
– Ты его в санаторий доставил? Или на казнь?
Калик дернулся было к его уху, но тот отстранился.
– У тебя-то какой интерес хлопотать за него? – спросил старец.
– Да никакого, – заюлил сирый. – Какой у нас интерес, бренка? Все ради воинства… Я блюду интересы Ослаба.
– Вижу, ты что-то хочешь. Говори!
– Ну, добро, есть, конечно, интерес. Что тут скрывать? – нехотя признался сирый. – Хотелось бы получить кое-что от Ражного.
– Ступай себе, калик…
– Как же так, старче? По обычаю, сень его знаний должна пасть и на меня. Пусть всего одна двести семьдесят третья часть, но положено. А знаешь, сколько в нем набито всяких тайных премудростей? Я же не прошу его научить волчьей хватке! Мне это даром…
– У тебя есть, что он просит? – вдруг устало спросил бренка.
– Нет, – отозвался Ражный.
– Как нет? – уцепился калик. – Ты сейчас только взлетал и кружил над головой старца. Он почувствовал! Ты же кем-то оборачивался? Значит, можешь и волком!
– Можешь? – спросил старец.
– Я могу входить в раж, оборачивать свои чувства. Это не то, что он хочет.
– Ладно, снимай с него свою добычу и ступай! – поморщился от назойливости сирого бренка и махнул посохом.
Калик с сожалением подступил к Ражному:
– Давай пояс. Что с тебя еще взять?
– Пояс? – отступил тот.
– И рубаху бы с тебя снял, да рваная она, – ухмыльнулся сирый. – Сам донашивай. А пояс мне по закону положен. Тебе-то на что он в Сиром?
Ражный положил руку на пряжки и глянул на бренку.
– Сними с него пояс! – прикрикнул старец. – Некогда мне…
– Извини, – повинился калик. – Правило такое… Ты ж военный человек, знаешь. Даже на губу сажают, и то без ремня. А тут в Сирое… – Он расстегнул пряжки, снял пояс и тут же, расстегнув пальто, подпоясался сам. – Моя добыча…
– Ослабу скажи, я принял отрока, но с условием раннего вече, – сказал ему бренка. – Девять месяцев носить это бремя не стану. Этому одного хватит, если не сбежит.
Обиженная согбенная фигура сирого еще долго мелькала среди деревьев, пока от него не осталось пятно в этой странной, зыбкой атмосфере. Но и оно потом истаяло, как парок, а старец все еще неподвижно стоял и смотрел ему вслед, спокойствием своим напоминая сфинкса.
– Что я должен делать? – притомившись от долгой паузы, спросил Ражный.
– А вот думаю, – отозвался бренка. – Возбудить ходатайство о помиловании или услать тебя в мир, на волю судьбы… У тебя не пропало желание выйти из лона воинства?
– У меня не было такого желания.
– Ты готов нести все тяготы и лишения своего сирого существования?
– Они мне приятнее, чем жить в мире.
– За что же ты так возненавидел его?
– Нет, старче, я люблю мир. Мне доставляет удовольствие жить среди простых людей, говорить с ними… Он мне ближе, чем Сирое Урочище.
– Тогда что же не уходишь?
– Мир стоит на пути безумства. Сосуществует то, что не может сосуществовать, – высокие технологии и людоедство. Навязчивое желание продлить жизнь, используя стволовые клетки, препараты из человеческой плоти, и жажда расширить пищевой рацион, нарушив табу.
– А если это будущее человечества?
– Тогда я не желаю принадлежать к такому человечеству.
– Да-а, – протянул старец. – Вот отчего этот волчий взор… Тебе следует успокоиться, отрок, погасить гнев. Иначе ты не увидишь тонкости и сложности сегодняшнего мира.
– Веди меня, старче. Я готов к послушанию.
– Нет, ты не готов, – неожиданно заключил старец. – Поживи здесь, остуди голову. Найду тебя, как время будет. Знаешь, сколько у меня таких гордых да гневных?.. Запомни единственное правило послушания: бо́льшим пожертвуешь – больше и самому воздастся.
И ушел, оставляя за собой расплывчатый, белесый и уже бесцветный след, едва видимый на фоне леса.
Едва бренка скрылся из виду, как из молодых ельников вывернулся калик, с оглядкой подбежал к Ражному:
– Ну, понял, что тебя ждет?
– Не совсем…
– Тебя бренка на произвол судьбы бросил! Бессрочно. Хоть ты и упертый, но мне жаль тебя…
– А что значит – раннее вече?
– Будешь жить в лесу без крыши над головой, без жратвы и теплой одежды, – с некоторым удовольствием сказал сирый. – Лучше девять месяцев послушания в тепле, чем месяц на морозе под открытым небом. Оглядись – снег кругом! Каково тебе будет в одной рубашонке да куртешке на рыбьем меху? Это, брат, такая школа выживания!.. Через неделю сам покаешься и в мир убежишь!
– Да я уже проходил такую школу, – задумчиво проговорил Ражный.
– Такую не проходил! Это тебе не вотчина, жилья тут не сыщешь! Вон твои соседи берлоги роют… Попробуй-ка день и ночь на холоде и с пустым брюхом!
– Месяц вытерплю…
– Если даже вытерпишь, бренка обязательно еще время назначит. Вот тогда начнется настоящее выживание. Такая борьба за жизнь! Или озвереешь, как Сыч, или сбежишь.
– Что ты хочешь? Пояс и так тебе достался…
– Да я-то ничего уже не хочу! Тебя жалко, за что страдания такие?
– Не искушай, сирый…
– Значит, слушай внимательно… – Он огляделся. – Из тебя начнут выколачивать твое «я», понял?
– Давно понял.
– А как – знаешь?.. Вот!.. Если выживешь первый месяц, на второй бренка сведет тебя с каким-нибудь вольным араксом, в одну нору затолкает – еще через месяц вы друг другу глотки перегрызете! Потому что двум медведям в одной берлоге не лежать.
Кажется, он действительно начал открывать некоторые тайны послушания.
– Как это – сведет? – спросил Ражный.
– А не знаешь, как они сводят? – изумился сирый. – Подберет тебе брата, по характеру прямо противоположного. И станете вы друг друга сначала словом цеплять, потом и до кулачной дойдет. День и ночь будете давить друг друга и при этом называться братьями. А тем самым выдавливать из себя гордыню!.. Один кто-нибудь не выдержит, уйдет, а бренка тебе нового напарника сыщет, еще покруче. И независимо, уживетесь вы с братом, нет, тебе придется делиться с ним своими родовыми тайнами! Слышал, что старец сказал? Бо́льшим жертвуешь, больше и воздастся. А всем известно, у Ражных много чего накопилось. Никто из вашего рода еще в Сиром не бывал и не делился… Вот и станешь раздавать свое «я» одному, другому, третьему, пока тебя не растащат… Нет, разорвут на части, Ражный! Такое послушание выйдет! И мир после него ласковым покажется… Но ты сначала выживи первый месяц! Да еще силенки сбереги, чтоб потом с араксами хлестаться.
– Если что, пойду к вдове…
– Ох и наивный же ты, брат! Ну сходи, сходи, коль ума нет. – Сирый как-то обреченно пошел в ельники, потом обернулся: – Забыл, как принимала?.. Покровителей в Вещерских лесах не бывает! Послушникам и куска хлеба не дадут без воли бренки или настоятеля. Я даже не могу научить, как от мороза спасаться! Потому что голодный ты все равно не спасешься! Хоть трижды волком обернись! – Он постоял, качая головой, затем сдернул котомку, достал веревку и бросил Ражному: – На! Хоть этим подпояшешься… А если что, и удавиться можно на горькой осине.
Через минуту его следы на снегу заровнялись поземкой, и Ражный остался один. Он поднял веревку, подпоясал рубаху и побродил по кургану, все сильнее ощущая знобкое одиночество. И уже на закате солнца направился к сороке, ибо не найти было иного ночлега, а к вечеру примораживало так, что защелкали деревья.
Вдова встретила его равнодушно, хотя уже не ворчала, как вчера, сдержанно спросила о ране, мимоходом кивнула на лавку, где он спал прошлую ночь.
Не баловали здесь приговоренных лаской и вниманием, но в чужой монастырь со своим уставом не ходят, поэтому Ражный попил воды и лег.
– Поединщики ропщут, – вдруг сказала сорока, когда он уже засыпал, паря сам над собой летучей мышью. – Пересвету челом бьют, считают, Ослаб слишком строго с тобой обошелся, неправедно осудил. Сам-то как считаешь?
Вольные вдовы могли обсуждать все, что происходило в Полку, и перемывать косточки, невзирая на личности. Что с них взять? На то они и сороки…
Ражный молчал, а она не унималась:
– Года два назад еще в лесах пусто было, живую душу не встретишь. А теперь сколько вашего брата нагнали! И откуда берутся только?.. Неужели все такие грешные, что сразу в Сирое надо? Поговоришь с араксами – вроде не буйные, не злобные и без воинства жить не могут… Ох, не зря говорят, Ослаб не только телом, но и разумом ослабел…
Обсуждать с ней разум духовного предводителя Ражному не хотелось еще и потому, что после спроса под древом Правды в Судной Роще у него сложилось совершенно иное убеждение – ум и суждения Ослаба показались ясными, пронзительными и даже провидческими.
– Да ты и сам непутевый, зверя дикого пожалел, а себя нет, – уже ворчливо заговорила сорока. – Говорят, на Свадебном Пиру добро погулял, а не женился. Поди, суженая есть? А ей каково, подумал? Хочешь, чтоб кукушкой летела по лесам да куковала по милому?
Ему показалось, что за синими, сумеречными окнами в морозной тишине послышался звук, напоминающий пение. Он знал, что это всего лишь обман слуха, психологическое воздействие сорочьего треска, поэтому не придал значения.
– Ты вот что, аракс… Послушай совета мудрой вдовы, иди-ка из лесов, бери невесту и к Пересвету. Пускай найдет подходы к Ослабу. Боярину сейчас не слишком-то весело, шум по всему воинству идет… Говорят, он даже побежденного соперника своего… Погоди, как имя-то ему? С которым в последний раз на ристалище сходился?..
– Калюжный, – подсказал Ражный.
– Вот-вот… И Калюжного этого по навету боярина осудили и будто в Сирое пригнали. Что творится?.. Так пусть теперь Пересвет похлопочет перед старцем, чтоб допустил. А как допустит, тут уж не теряйся…
Сквозь это сорочье подстрекательство Ражный вновь услышал переливчатый звук и теперь уже точно определил, что это человеческий, тоскующий голос, только странный, похожий на церковное пение. Осторожно освободив второе ухо от подушки, он прислушался, но звук оборвался каким-то неясным всхлипом.
– Мне чудится, будто волк воет. – Сорока, видно, тоже прислушивалась. – Слушаю и радуюсь.
– Откуда здесь волки? – после паузы спросил Ражный.
– В том-то и дело… Мне волчий вой как музыка. Пусть поют!
– Обычно женщины боятся, – сказал он, а сам ужаснулся зловредности этой сороки.
– Боятся… Я тоже боюсь. Но если они придут на Вещеру, это мне знак будет!
– Какой знак?
– Тебя ведь сначала хотели с Нирвой свести… – заговорила она с бабьей тоской. – Калики уж сюда на лошади с клеткой приехали, чтоб вывезти его из Сирого. Я обрадовалась и молилась, чтоб ты его одолел на Судном поединке… Да передумал ослабленный старец, волка натравил. Должно быть, пожалел тебя. А если б с буйным свел?
– А что тебе Нирва сделал?
– Завтра утром собирайся и уходи, – вместо ответа строго треснула сорока. – Нечего тут делать. Нет в Сиром ни счастья, ни истины. Так что не ищи.
Ражный еще долго прислушивался к пространству за окнами, но отмечал лишь частый треск деревьев, напоминающий далекую и ленивую перестрелку.
Рано утром, когда хозяйка принялась растапливать печь, он тихо встал, оделся и попросил топор. Она взглянула на него оценивающе, и в голосе послышалась угроза:
– Коль со своей судьбой вздумал потягаться, без топора проживешь. Ступай, и чтоб духу твоего не было!
Ражный вспомнил предупреждения калика, поблагодарил сороку и вышел на крыльцо: в небе еще мерцали звезды – единственные неподвижные детали этого колеблющегося пространства, а от изламывающихся деревьев, покрытых инеем, исходил морозный шорох…
3
Хронический недосып мучил Савватеева вот уже четвертый месяц, с тех пор как родилась дочка. Поздняя беременность у жены проходила трудно, она дважды лежала на сохранении и, хоть кесарево сечение делали в Кремлевке, все равно операцию перенесла тяжело, и сейчас требовались покой и хороший сон, чтоб сохранить молоко. Ребенок был первый, поздний, долгожданный, но когда Олег Иванович взял его на руки, ничего не ощутил – ни волнения, ни каких-то особых отцовских чувств или радости.
И потом, когда это крохотное существо поселилось в квартире и сразу же завело свои, не совсем приемлемые порядки, Савватеев почувствовал даже некоторое раздражение. Особенно его доставал крик, звучавший среди ночи, как тревожная сирена, и заставлявший вскакивать и суетиться. Он терпел, думал, что это все пройдет, начнется эффект привыкания, однако при этом ловил себя на мысли, что когда смотрит на дочку, то ищет черты сходства с ним.
И не находит! Почему-то нос крупный, не савватеевский, волосики жгуче-черные, разрез глаз не его и не жены – скорее типичный восточный. Так бывает в смешанных браках, когда к устоявшемуся, например, славянскому типу примешивается кровь инородца, способная доминировать два-три поколения, и прежде всего это заметно по цвету волос и разрезу глаз. В антропологии он кое-что понимал по долгу службы, как, впрочем, и в других науках, связанных с физиологией и психологией человека.
Савватеева это как-то однажды и сразу оглушило, и он молчал, с затаенным ужасом взирая, как все более развивающиеся расовые признаки выстраивают стену между ним, женой и новорожденной дочкой.
В первое время он еще посмеивался над собой, мол, хорошо, что ребенок не африканец какой-нибудь, однако все анекдоты на эту тему ему показались грустными, когда он почувствовал полное отчуждение и понял, что никогда не будет любить это дитя. Жена все чувствовала или догадывалась о его сомнениях и исподволь пыталась убедить, что девочка – вылитая прабабушка Нина, которую Савватеев никогда не видел, но знал, что будто бы в ее жилах текла кровь кавказской княжны.
Однажды у них все-таки состоялся доверительный разговор, и он открылся жене, пожаловался, мол, это странно, однако он пока не испытывает отцовских чувств к девочке, хотя ждет их. И предположил, дескать, не потому ли, что ему уже сорок и перегорел, переступил некую черту, за которой уже поздно искать юношескую яркость чувств.
Назвать истинную причину он не мог, ибо в тот же час последовала бы смертельная супружеская и материнская обида со стремительной развязкой.
– Тебе нужно больше общаться с дочерью, – определила Светлана. – А ты все время в командировках! Нужен постоянный контакт, забота, зависимость от ребенка, чтобы пробудить чувства.
И Савватеев решил их пробудить в полной уверенности, что справится и с этой задачей. Он знал, достигнуть можно всего, если проявлять последовательное и все возрастающее упорство, если, невзирая ни на что, стоять до конца. Он освободил жену от ночных бдений, вызвавшись укачивать девочку и вставать к ней, если проснется и заплачет, взял на себя молочную кухню, стирку и прочие памперсы. Поначалу роль ночной няньки и кормилицы доставляла Савватееву некое удовлетворение: он вскакивал по первому сигналу, брал девочку на руки, нежно баюкал, мычал колыбельные, если нужно, менял пеленки, разогревал в теплой воде и давал молоко или сок, правда, по-прежнему не испытывая радости от этого, поскольку еще пристальнее стал вглядываться в черты лица дочери.
А потом однажды вгляделся в лица детей азербайджанской семьи, купившей квартиру в их доме, и все потуги тотчас же пошли насмарку.
Ситуация была обескураживающая и постыдная – прожить вместе пятнадцать лет в ожидании этого дитя, чтоб потом, когда оно явится на свет, все разом оборвалось. Конечно, следовало бы прямо спросить жену, кто отец ребенка, но это привело бы к разводу. А от неминуемой ссоры пропадет бесценное материнское молоко: в последний год Светлана и так пережила много стрессов.
Оставалось одно – молча собрать вещички, выпросить у руководства зарубежную командировку и исчезнуть на несколько месяцев. И это будет «бархатный» вариант расставания, поскольку жена давно привыкла к его внезапным и длительным поездкам в никуда.
А руководство же, наоборот, старалось его особенно не тревожить и, словно в насмешку, всякий раз интересовалось здоровьем матери и дочери, что-то советовало и намекало, что на целый будущий год он освобожден от внезапных и долгосрочных поездок. Даже окончательно решившись уйти из семьи, Савватеев несколько дней оттягивал драматический момент и все-таки рискнул провести тайную генетическую экспертизу. А это оказалось не так-то просто, и самое главное, нужно было взять у девочки кровь, и пока Савватеев все это устраивал, создалось полное ощущение, будто он совершил нечто постыдное, мерзкое или вымазался в грязи.
Несмотря на то что негласный анализ, сам того не подозревая чей, делал Крышкин – человек из своего родного ведомства, все равно результат обещали лишь через две недели. И поторопить его было никак нельзя, чтобы не заподозрил некой личной заинтересованности, кроме того, весь этот срок надо было прожить так, словно ничего не происходит.
В первый же день, как только он вернулся домой, жена сразу заметила его странное состояние, начала приставать с расспросами, и Савватеев чуть не взвыл и не выдал себя. Выход был один – идти к руководству и просить командировку, однако все получилось само собой. Мерин сам вызвал к себе на конспиративную дачу в Лесково, за семьдесят километров от Москвы, хотя в том не было никакой нужды. Бывший милиционер страдал заболеванием – тяжелейшей формой комплекса неполноценности, и этот его тайный диагноз был неизвестен лишь ему одному. Он еще не наигрался в конспирацию и теперь изображал из себя резидента, делая значительное событие из каждой встречи со своим подчиненным. При хорошем течении дел Мерин довольно убедительно играл мягкого, обаятельного кота, однако же готового в любой момент выпустить когти. Подводила только его вечно красная, выдубленная на холоде и ветру физиономия гаишника, на которую уже было невозможно напялить ни одну маску, и еще словарный запас, в экстремальных ситуациях становящийся весьма узким, специфическим и конкретным.
Едва Савватеев переступил порог, как стало ясно, почему встреча назначена на этой даче: уединившись, Мерин здесь пил, чего раньше за ним не замечалось, и теперь, утром, несмотря на непроницаемое лицо, явно страдал с похмелья, хотя побрился, надушился, нарядился в слепящую от белизны рубашку и делал вид, что его распирает от счастья.
– Почему у тебя глаза красные? – встретил он Савватеева прямым намеком. – Пьянствовал, что ли, на радостях?
– Родительские заботы, – в сторону сказал Савватеев.
Мерин выставил на стол рюмки, коньяк и блюдо с фруктами.
– Все это проходили… Ночные колики, газы мучают, пупочная грыжа… Как давно это было! И вы потом забудете. В памяти останется все прекрасное.
В первый момент Савватееву показалось, что пригласили его на конспиративную дачу в качестве собутыльника. Однако после второй рюмки Мерин достал из сейфа опечатанный футляр, сдернул шнурки и извлек толстую папку.
– Поэтому и знаю, о чем мечтает… молодой родитель. – Юрий Петрович подсунул бумажку: – Распишись и приступай. Заодно и отдохнешь от семейных забот… вдали от дома.
Савватеев даже не поверил в такое предложение, расписался и открыл папку – дело по розыску без вести пропавшего гражданина США, материалы собирала милиция и прокуратура под началом ФСБ.
– А не много ли чести этому гражданину? – разочарованно спросил Савватеев.
– Каймак Михаил Идрисович, VIP-персона, – отчего-то брезгливо объяснил Мерин. – Большие заслуги перед родиной… Узник совести, за что получил аж двойное гражданство! А защитник прав человека… так сказать, в мировом масштабе. Но вот надо же, без вести пропал. Тринадцать месяцев назад.
– И только хватились?
– Да и то не наши – америкосы наконец-то зачесались. Ну и как всегда подозревают российские спецслужбы, не доверяют Генпрокуратуре…
– А чего же они раньше молчали?
Мерин открыл было рот, но, кажется, вспомнил приказ по поводу ненормативной лексики, изданный чуть ли не специально для него, и неожиданно рассмеялся, чего раньше с ним не бывало.
Этот железный человек даже улыбался редко, и то обычно скептически, а эмоции выражал в основном грубым матом, придавая ему разные оттенки.
Дело в том, что непосредственный начальник Савватеева всю свою жизнь работал в МВД, в смутную пору занял высокий пост, а после вынужденной отставки за особые заслуги его трудоустроили, назначив начальником Управления, которое занималось спецоперациями, – случай, конечно, беспрецедентный. Вместе с этим милиционером в замкнутую на себя и весьма дипломатичную языковую атмосферу ворвались жаргон, косноязычие и откровенный мат. От его ментовских привычек сначала морщились и шарахались, но Мерин из-за своей поддержки сверху был очень влиятельным, а сами его привычки оказались не только прилипчивыми, а, как радиация, проникающими и поражающими сознание.
После приказа Мерин сам начал делать замечания подчиненным и искоренять сленг.
– Мы думаем, он в США, там думают – у нас, – как-то беззаботно и открыто заговорил он, делая паузы, чтоб не озвучивать запрещенные слова. – Знаешь, как в анекдоте про неуловимого Джо. На самом-то деле он… никому не нужен, но зато какой предмет для спекуляций и скандала! Этим… Идрисовичем я занимался по личному поручению шефа целых полтора месяца. Родом он не из бандитов, конечно, и сел на нары, может, даже за чужой грех. На его служебном ротапринте… тиснули брошюру о нарушении прав человека в СССР, тиражом в сорок экземпляров. Сам он или нет – дело темное. Но схлопотал четыре года с высылкой… Зато эта строка в биографии потом стала его судьбой и определила, так сказать, положение в обществе.
Мерин неожиданно замолчал, словно прислушиваясь к своему организму и, должно быть, вспомнив собственную биографию, отдаленно похожую: решение о силовой ликвидации восставшего Верховного Совета принималось президентом, а он прикрыл его, взял ответственность на себя, то есть пострадал за другого, и в результате сел на «нары» Управления – тоже вроде бы узник совести…
Он налил себе коньяку, однако посмотрел в рюмку и вновь рассмеялся каким-то своим, видимо, приятным мыслям.
Савватеев решил, что таким образом у него проявляется похмельный синдром.
– Сейчас плотно завязан с авторитетами и олигархами на грязных деньгах, – стараясь быть серьезным, продолжил Мерин. – Точнее, был завязан… В основном занимался отмывкой капиталов за рубежом, прокачивал десятки миллионов через оффшоры. Но это сейчас все делают… Кроме того, пользуясь неприкосновенностью, ввозил наличку простым багажом и финансировал… некоторые сомнительные проекты, в том числе и политические. Должно быть, америкосам опять нужно обострить тему прав человека и судьбу правозащитников в нашем многострадальном государстве. Вот и хватились…
– Может, ихним салом по мусалам? – простовато предложил Савватеев, чтоб начальнику было понятнее. – В ответ на происки сделать предъяву на нашего дорогого… Идрисовича? Он ведь наполовину и наш гражданин.
– В этот раз не проходит! – Мерин выпил залпом. – Кто первый заявил, тот и прав… Зато наводку дам, целую версию. Конечно, работать по событиям годичной давности тяжко, но кое-что есть. По моему убеждению, борца с правами человека похитили или грохнули свои же. Может, не поделился, может, украл много… Накануне исчезновения он выезжал со своими бандитами на одну охотничью базу. Скорее всего, там собирался большой сходняк. База эта странная, как и ее хозяин, не исключено, принадлежит к бандитской группировке…
Он на минуту задумался, вспомнил что-то смешное и вдруг стал рисовать на листке, стягивая губы, чтоб не расхохотаться. Савватеев чуть склонил голову и вытянул шею…
Начальник Управления рисовал ромашковую полянку с пятнистой коровкой. Этот суровый человек мечтал о чем-то веселом и в такие мгновения мог забывать о деле. А поскольку ничего подобного быть не могло в принципе, то его столь неожиданное поведение иначе как сумасшествием назвать было нельзя…
– Потом Каймак внезапно оказался в Москве. – Мерин скомкал листок и со вздохом облегчения бросил в корзину. – Слетал в Нью-Йорк на один день и снова уехал на ту же базу. А вот вернулся ли оттуда, неизвестно, по крайней мере, его больше никто не видел. Жизнь он вел одинокую, скрытную, хотя был публичным человеком, посещал… гей-клуб и прочие элитные притоны. О его передвижениях знал только личный телохранитель. Вероятно, Каймака на сходняке и замочили.
Он достал из бара пачку редкостных теперь и непопулярных папирос «Казбек», закурил, но тут же загасил в тарелке – вспомнил запрет врачей…
– И что интересно! – оживился в мгновение. – Телохранитель остался жив! Но не скажешь, что здоров, – до сих пор находится в Кащенко. Мания величия, представляется верховным жрецом какой-то новой цивилизации. Специалисты диагноз подтверждают, так что на него времени не теряй. Зачищай охотничью базу. Три дня тебе хватит, при особых полномочиях.
Савватеев сидел в сутулой позе скорбящего Христа.
– У тебя семейные проблемы, – догадался Мерин.
– Там все прекрасно…
– А что стряслось?
– Да я, Юрий Петрович, перестаю понимать, где работаю. И на кого.
– Ты не думай об этом. Задача поставлена – надо выполнять.
– Мы уже теперь вместо милиции. Ищем пропавших граждан на своей территории. Больше нечем заниматься…
Управление в полную силу работало только во времена холодной войны, но после поражения в ней, а вернее, добровольной сдачи позиций сверхдержавы, спецоперации за рубежом стали великой редкостью и непозволительной роскошью. Якобы не хватало денег. На самом деле был страшный дефицит специалистов, ума, таланта и, главное, желания…
– Ладно, не ворчи как дед! – засмеялся начальник. – Ты же еще молодой отец… Наше ведомство теперь у америкосов самое честное и не ангажированное! Можно хоть этим погордиться…
– Пусть его ЦРУ и ищет.
– Думаешь, не ищут? Не сами, конечно, подрядили ФБР… Только хрен им с маслом.
– А они знают, что Конституцию нарушать нельзя?
– Ихнюю нельзя – нашу можно. Говорят, если вы в Чечне работаете, так уж найдите заодно нашего гражданина на своей территории. Он, видите ли, американец. А это звучит гордо.
– Вы же практически нашли его? Осталось проверить базу и доложить.
Внутреннюю веселость Мерина не могла скрыть даже выдубленная красная маска на лице, не приспособленном для положительных эмоций.
– Базу я проверить не успел и доложил то, что тебе докладываю сейчас. Нормальная текущая работа!.. А шеф был не в духе. Или его уже достали с этим… Идрисовичем. Если бы кто слышал, как он орал!..
– На вас?
– На меня! – расхохотался Мерин. – На кого же еще?
– Если на вас орали – мне молча оторвут голову, – изумляясь его настроению, мрачно проговорил Савватеев.
– Отрывают, когда мало знаешь, но берешься рассуждать. Когда много и молчишь – берегут. Тебе нужно доказать непричастность спецслужб. И найти хотя бы концы, чтоб америкосам доложить. На бандитской ли разборке замочили, по пьянке ли утонул и не нашли – все годится.
– Тогда трех дней мало. Без подготовки такую операцию не провести.
– Ты сможешь, не прибедняйся, тем более внутри своей родной страны.
– Мне легче работать за ее пределами.
– Вот как? – чему-то изумился Мерин. – Я всегда считал, наоборот…
– Все так считают.
Савватеев захлопнул дело, встал и молча поплелся к двери. Слышно было, как Мерин отъехал от стола в своем кресле:
– Погоди, родной! А ты когда пригласишь на крестины? Я ему предложил услуги крестного отца – он не зовет…
Светлана категорически запретила приводить в квартиру посторонних – невзирая на личности, мол, чтоб бактерий не заносили, и Савватеев был рад этому обстоятельству: он всячески оттягивал тот час, когда пришлось бы предъявить сослуживцам свою дочь, которая вышла ни в мать, ни в отца… И еще он не знал, как отказаться от услуг Мерина, целящего на место крестного папы.
– Теперь после командировки, – вяло пообещал он. – Если получится…
– Тогда за дело! Очень уж погулять хочется! Никогда не был крестным отцом… Это налагает какие-то обязанности?
– Говорят, только приятные…
– Чего же ты сидишь? Вперед! Испытаю еще почетное звание – и можно умирать!
Судя по его внутреннему состоянию восторга, этого начальника уже не пережить никогда…
– Возьмешь группу Варана, – благосклонно позволил Мерин, – и отработаешь эту базу по полной программе. И пригласи экспертов толковых – стариков, что сейчас от безделья страдают. Чую, там лежит… плоть Идрисовича! Материал для генетической экспертизы имеется.
– А что же вы-то не добрались до его плоти? – после паузы спросил Савватеев. – Странно…
– Для тебя берег, родной, в качестве подарка. Мы кто с тобой будем? Кумовья? Так что прими, кум, не отказывай!
– Спасибо. – Савватеев взглянул на веселящегося начальника. – Но труп двойного гражданина слишком щедрый подарок, не могу принять.
– Смилуйся уж, прими! – Мерин поставил перед ним рюмку и плеснул чуть на донышко. – Служить бы еще мог лет двадцать… Сердце бьется, голова светлая, и сил хватило бы, да больше не хочу.
Савватеев обескураженно молчал. Мерин звякнул рюмкой, победно поднял ее над головой.
– Знаешь, приятно осознавать, – с торжественной расстановкой проговорил он, – что есть в мире другие сердца, головы… И иная сила! Неистребимая! Можно уходить на покой. Так что докладывать шефу уже будешь ты.
– Вы что хотите сказать?..
– А то, что ты подумал, Олег Иванович. Мне предложили назвать только одну кандидатуру. Я назвал… Вот за это и выпьем!
На изучение исходных материалов времени почти не оставалось, чтобы только прочитать документы, собранные оперативно-следственной бригадой милиции, прокуратуры и ФСБ, требовалось часов пять. А тут еще из головы не выходило странное, непривычное поведение Мерина с его речами и заявлениями, расценить которые можно было пока что неопределенно: внутри ли ведомства, в душе ли самого начальника Управления, но что-то произошло, если не великое, то потрясающее. А когда происходит подобное в закрытой и засекреченной организации, то ожидать можно все что угодно – от какой-нибудь новой перетряски в государстве до эпохи перемен.
Савватеев лишь пролистал бумаги, отмечая фамилии действующих лиц и исполнителей, и в начале споткнулся о название охранного предприятия – «Горгона». В оперативной справке значилось, что эта змея вылупилась из яйца простейшей преступной группировки, организованной спортсменами, легализовалась и стала обслуживать крупнейшие банки и известные фирмы. А фактически управлял ею в прошлом многократный чемпион СССР и Европы, известный мастер спорта международного класса, заслуженный тренер по вольной борьбе Георгий Поджаров, которого Савватеев знал лично.
В пору, когда неистовые демократы губили собственную разведку, ему поставили задачу обеспечить канал и вытащить из-за границы тех законспирированных агентов, кого уже сдали, но из-за шокового состояния спецслужб Запада не успели арестовать и упрятать в тюрьму. Причем сделать это надо было оперативно и скрытно, чтоб свое родное государство ничего не заметило.
Если в пору «холодной» войны Управление вытаскивало из-за кордона врагов, фашистских преступников, бывших полицаев, предателей и лиц, интересующих разведку, то теперь приходилось спасать своих от своих…
Такой канал был найден через спортивные организации, которые имели возможность разъезжать по всему миру, пользуясь «зелеными коридорами», и по которым в Россию, почти без прикрытия, въезжали десятки разведок даже из самых ленивых стран. Поскольку многие спортсмены занимались незаконным оборотом валюты, допинговых средств, наркотиков и просто контрабандой, завербовать тех, у кого рыльце в пушку, не составляло труда. Поджаров был взят на валюте, дал согласие на сотрудничество и с помощью своих связей в спортивном, и не только, мире вывез несколько наших разведчиков вместе с семьями, за что получил денежную премию, благодарность от руководства и «постоянную прописку» в картотеке.
После этой операции Савватеев больше с ним не встречался, но Поджаров вряд ли был выпущен из поля зрения, и если он до сей поры жив и здоров да еще служит в «Горгоне», то по старой дружбе может много чего рассказать о Каймаке. Сборная тройка оперативников, искавшая правозащитника, разумеется, не знала всех подробностей о жизни известного чемпиона, а Мерин имел возможность проверить по картотеке, однако из-за своей ментовской несообразительности не проверил.
Особые полномочия позволяли Савватееву мгновенно получать любую, даже самую засекреченную информацию без дополнительных виз и разрешений. И он ее получил: Кабан – такой псевдоним носил Поджаров – действительно работал финансовым директором «Горгоны», однако связей с ним больше не осуществлялось, и, кроме всего, была милицейская справка, что он пропал без вести год назад и находится в розыске по заявлению родственников.
Это могло означать, что правозащитник покинул сей мир не в одиночку. Кто-то попросту обезглавил «Горгону», заманив ее, например, на ту же охотничью базу, причиной чего мог стать примитивный передел собственности и влияния на определеннные отрасли бизнеса.
Только на основе этого можно было до блеска вычистить мундир спецслужб и показать его американцам, но взгляд Савватеева зацепился за сводное медицинское заключение, где значилось, что во время проведения оперативных мероприятий в районе той самой охотничьей базы пострадали пятеро из девяти ее участников. Две травмы были не совместимы с жизнью: один офицер спецназа упал с высокого дерева и сломал шею, второй погиб от поражения электрическим током, остальные получили бытовые ранения и увечья, как то: переломы и вывихи, связанные с неосторожным передвижением по захламленному лесу.
В столь примитивное объяснение Савватеев не поверил: непосредственный руководитель операции, подполковник ФСБ Озорной, один из немногих, кто не пострадал, и теперь рьяно пытался скрыть причины провала. И делал это не без участия Мерина, поскольку тот был тайным вдохновителем вылазки на природу. По крайней мере, бойцы спецназа ломали себе шеи и лезли на оголенные провода совсем недавно – две недели назад, то есть когда бывший милицейский чин по распоряжению шефа лично занимался розыском Каймака.
Теперь ясно, за что наорал на него непоколебимый и дипломатичный шеф…
Но что же так взвеселило и вдохновило всегда мрачного Мерина, если его буквально распирало от радости?
Уж никак не скорая отставка и пенсия…
Времени на обстоятельную беседу с Озорным почти не оставалось, поэтому Савватеев заехал к нему по пути на базу группы Варана. Сразу же после неудачной операции подполковнику наверняка посоветовали написать рапорт об увольнении, и теперь он проходил обследование в госпитале.
Внешне он показался заторможенным, задумчивым – скорее всего, еще переживал случившееся или робел перед невеселым будущим: до пенсионной выслуги ему не хватало десяти месяцев.
– Я все описал. – Озорной не хотел разговаривать. – В деталях, с подробностями. Читайте!
Его объяснений в деле по розыску Каймака, разумеется, не было, а искать материалы служебной проверки уже было некогда, да и толку от них мало: Мерин явно выводил себя из-под удара, и подполковник писал то, что ему велели.
– Теперь я могу оказаться на вашем месте, – признался Савватеев. – Подскажите, как не сломать шею?
– Соблюдайте элементарную технику безопасности, – посоветовал Озорной. – Что еще скажешь?
– Но ваши люди не из детского сада…
– Крутизна еще хуже ребячества. Один залез на дуб и рухнул, второй на провода наступил…
– На базе нет электричества…
– Брошенная линия оказалась под напряжением… Бесхозяйственность!
– Ну а что остальные? Тоже несчастные случаи?
Подполковник тоскливо посмотрел по сторонам:
– Трудно поверить… Но это так. Иначе просто чертовщина какая-то. Человек спотыкается на ровном месте, падает – перелом шейки бедра. Второй тащит его к машине, чтоб оказать помощь, и ломает ногу аж в двух местах… У меня в Чечне столько потерь не было, как здесь! И все в один день!
– Как же вы-то уцелели?
– А я не ходил в дубняк.
– В какой дубняк?
– В лес дубовый. Все мои люди пострадали там.
– Проклятое место?
– Что хотите, то и думайте… Но мой совет: не суйтесь туда, что-то там не чисто. – Глаза Озорного болезненно заблестели. – Не знаю, полтергейст, энергии или еще какая дурь… Но там человека охватывает непонятный навязчивый страх…
Похоже, он проходил обследование на предмет психического здоровья.
– На самой-то базе есть люди? – спросил Савватеев, чтоб отвлечь его от неприятных воспоминаний.
– Вроде бы только сторожа, пенсионеры. Ждут открытия какого-то сезона сбора грибов… Мы толком не отследили, не успели.
В полдень Савватеев выехал из Москвы в сопровождении микроавтобуса с группой Варана и джипа, где сидели опера, криминалист и судмедэксперт – старики, рекомендованные Мериным. Все были экипированы походной одеждой, корзинами, рюкзаками: по подсказке Озорного изображали грибников, организованно выехавших на природу, хотя Савватееву бы и в голову не пришло устраивать такое прикрытие, поскольку на дворе был октябрь и уже выпадал снег. Но оказывается, в это время там начинается выброс позднего опенка и все безработное местное население, в том числе и городское, бросается в леса с надеждой заработать хоть какие-нибудь деньги.
Искать другую причину появления значительной группы людей в районе базы было некогда, да и в целом операция была не продумана до деталей, не подготовлена и все теперь отдавалось на откуп импровизации, технической оснащенности и оперативному чутью.
За шесть часов в дороге Савватеев не ощутил ни свободы, ни отдохновения от семейных проблем и чувств, с ними связанных, поскольку, пересаживаясь из машины в машину, инструктировал на ходу свою команду, изучал район операции по карте, разбивал ее для удобства на квадраты, ставил приблизительные задачи и даже не пытался дозвониться жене, чтобы предупредить о командировке, при этом ощущая тихую месть.
Теперь ты возбуди в себе и потренируй материнские чувства!
С Вараном было проще всего: диверсионно-разведывательная группа, натасканная для работы на чужой территории, умела тупо и точно выполнять определенные функции, а больше от них ничего не требовалось. Другое дело оперативники: привыкшие к своей штучности и элитарности, владеющие языками, утонченными манерами аристократов, они, кажется, вообще не понимали, куда их везут и зачем. Или не хотели понимать, брезгуя примитивной работой внутри страны. Получив особые полномочия, Савватеев отобрал двух, что попроще и уже адаптированных Чечней оперов, третьего предложил Мерин, и все равно не особенно-то полагался на их изысканные привычки.
Когда кавалькада машин свернула с нагруженной трассы, сначала на гравийку, потом и вовсе на проселок, а за окнами замелькал осенний березовый лес, Савватеев испытал некое общее расслабление. Он выезжал на природу только по службе, никогда не имел дачи, не любил охоту, тем паче сбор грибов и свободное время проводил на стадионах, ипподроме и последнее время на ставших модными теннисных кортах. И все-таки незаметно для себя утихомирил чувства и в какой-то миг неожиданно подумал, что мелкая месть жене – это отвратительно, как генетическая экспертиза, и надо бы ей все-таки позвонить.
На подъезде к охотничьей базе он приказал загнать машины в лес, группе Варана и операм спешиться, перекрыть ходы-выходы, обнаруженные на местности или обозначенные на карте, чтоб незаметно отследить все передвижения. Экспертам же, кроме лукошек, велел взять трупоискатели и, не привлекая к себе внимания, обследовать прилегающую к базе территорию на предмет обнаружения захоронений. Конечно, не имея никакой привязки к конкретным фактам, искать труп на обширном пространстве было почти бессмысленно, и оставалась единственная надежда на острый глаз и опыт двух старых ветеранов, несколько лет назад возвращенных с пенсии на службу.
Еще по пути, инструктируя медэксперта – непосредственного начальника и наставника лейтенанта Крышкина, Савватеев еле сдерживался, чтобы не задать вопрос относительно генетической идентификации. Он верил, а точнее, не задумывался о ее непогрешимости, когда такую экспертизу проводили по оперативной необходимости, но сейчас вдруг усомнился и даже напугался.
А если произойдет ошибка?!
Любая – технологическая, лабораторная! Окажется не стерильно чистой какая-нибудь пробирка, инструмент, руки лаборанта?! Да и эта наука, генетика – темная, недоступная, виртуальная какая-то, как и сами молекулы ДНК, которые не увидеть простым глазом и, тем более, не пощупать руками…
Спросить он не решился – медик отчего-то ехал безрадостный, кряхтел и массировал шею, и потому отягощенный сомнениями Савватеев надел рюкзачок, прихватил бинокль, радиостанцию и с пакетом в руке пошел почти открыто по дороге.
Кроме мухоморов, других грибов он не знал и не отличал, поэтому собирал все подряд – лишь бы видно было, что пакет не пустой. Полкилометра зарастающего, песчаного проселка по смешанному, потерявшему половину листвы и потому светлому лесу окончательно расслабили его, и когда он оказался перед глухими воротами, остановился и на миг забыл, зачем сюда пришел.
Правда, всего на миг, поскольку на базе залаяли собаки, и Савватеев тотчас отступил в лес. До поры до времени он не хотел обнаруживать ни себя, ни начало операции, рассчитывая посмотреть со стороны за жизнью охотников, и, если понадобится, то не раскрываться вообще, пока не будет точной информации о Каймаке – живом или мертвом. Иногда скрытое наблюдение за замкнутым, автономным объектом давало информации больше, чем допросы и прочие розыскные действия, – это если работать по горячим следам; что можно получить спустя тринадцать месяцев после предполагаемых событий, он не имел представления и надеялся только на случайность. Намного легче было отыскать в стане вероятного противника носителя гостайн, похитить его, выпотрошить, накачав спецсредствами, а потом привести в чувство и передать товарищам по службе для дальнейшей работы, чем, собственно, и должен был заниматься Савватеев.
Но «холодная» война благополучно была проиграна, а здесь, кажется, и похищать было некого…
Около часа он медленно и осторожно шел по лесу вдоль сетчатого полутораметрового забора, держа в зоне видимости большую часть базы, и не обнаружил там никакого движения. Казалось, ни в двухэтажном новом теремке, ни в старом крестьянском доме, ни в хозяйственных постройках никого нет, и если бы не лай собак в вольере и крупной рыжей овчарки, бросающейся на сетку, то можно подумать, что база отчего-то вообще заброшена: вся территория, в том числе внутренняя дорога и даже просторная беседка, заросли травой, густой крапивой и лопухами выше изгороди. Протоптаны лишь узкие тропинки, ведущие от избы к калитке, выходящей на реку, к терему, вольеру и воротам.
По справке, полученной Мериным, охотничий клуб не закрывался, продолжал принимать иностранцев, а в межсезонье – городских рыбаков и просто состоятельных отдыхающих. Его владелец, уроженец этих мест, бывший прапорщик пограничного спецназа Ражный, вышедший на пенсию по ранению, получил льготы и практически не платил налогов, так что узнать даже приблизительный оборот оказалось невозможно. Однако, судя по тому, что все здания, постройки и двухкилометровый забор были возведены заново или отремонтированы, деньги тут крутились неплохие и бросать прибыльный бизнес просто так никто бы не стал. Тем паче прапорщик, хоть и с инвалидной, но нищенской пенсией.
Савватеев вышел к реке и тут увидел дюралевую лодку с мотором: нет, какая-то жизнь на базе теплилась, вот на причале торчит пучок удилищ, развешаны сети и кто-то недавно жег на берегу костер… Оглядевшись, он спустился к воде, и в этот момент пискнула рация.
– По направлению к базе движется человек с корзиной, – доложил оперативник по кличке Тарантул.
– Как выглядит? – спросил Савватеев.
– Пенсионного вида, – был ответ. – С клюкой и, похоже, инвалид. Ноги подогнуты как-то странно…
– Что в корзине?
– Не вижу… Наверно, грибы.
– Пропусти и тихонько иди за ним. Я его встречу, а ты оставайся в лесу.
Савватеев поднялся на берег и заспешил назад, к воротам, поскольку Тарантул держал под наблюдением дорогу. Он углубился в лес, чтоб остаться незамеченным с базы, если там кто-то оставался, и побежал спортивной рысью, однако через две минуты вызов повторился.
– На связи Финал! – отчего-то взволнованно произнес опер. – Вижу человека, идет в вашу сторону. На вид – лет за семьдесят, в руках палка и корзина.
– Погоди, ты где находишься? – Савватеев остановился.
– В квадрате четыре, на старой дороге к разрушенному мосту, – доложил опер. – По вашему указанию.
– Инвалид? С ногами у него все в порядке?
– Да вроде бы. Несет пестерь и огромную корзину грибов…
С Финалом уже приходилось работать в Чечне, где они удачно выкрали полевого командира вместе с важными бумагами и видеоматериалами, поэтому Савватеев доверял ему более, чем остальным.
– Попробуй войти в контакт, – распорядился он. – Спроси, как да что, можно ли переночевать на базе, где водки купить. Будь попроще, молоти, что в голову придет, но разузнай про гостей охотничьего клуба, которые приезжали прошлым летом.
– Понял. – Финал отключился.
Появление двух одинаковых стариков с корзинами, причем в одно и то же время возвращавшихся из леса, как-то смутно насторожило. Одного еще можно было бы принять за сторожа, но почему здесь второй? Не дом престарелых все-таки – охотничья база для иностранцев…
До главных ворот оставалось метров сто, когда Савватеев увидел старика с корзиной, ковыляющего уже по территории базы – неужели опоздал и не успел перехватить?
Савватеев привстал и вскинул бинокль: старик поставил корзину на стол беседки, достал нож и начал чистить какие-то мелкие грибы.
Третий, что ли?!
Он хотел вызвать Финала, однако вовремя вспомнил, что тот, возможно, уже в контакте с объектом, а хоть и негромкий, писк рации может испортить дело. В это время в эфире объявился опер по кличке Коперник.
– Сейчас боец доложил, видит двух старух в третьем квадрате, – сообщил он, – с корзинами… Идут в сторону базы.
Офицеры-диверсанты были на связи у оперов и им подчинялись.
– Передай, пусть идут. Ничего не предпринимать.
– У одной, что помоложе, ружье за плечами.
– Какое ружье?
– Двустволка.
Коперник был любимчиком у Мерина, который считал его самым толковым. Однако Савватеев сразу же заподозрил, что бывший милиционер рекомендовал этого опера, чтобы иметь в группе своего человека.
Решение созрело мгновенно.
– Передай бойцу, пусть попугает немного, – приказал он. – Изобразит маньяка, погонится за ней… Посмотрим на реакцию.
– А если стрелять начнет?
– Значит, у нас будут естественные потери.
Коперник уловил язвительный тон и отключился.
Между тем солнце опустилось за реку и в течение нескольких минут скрылось в густых ивняках, отчего на этом берегу сразу стало сумеречно и холодно. Перебравшись поближе к воротам, Савватеев выбрал позицию на земляном отвале, чтоб видеть дорогу и территорию базы, устроился поудобнее и затаился с биноклем в руках.
Сначала пришел дедок, которого «вел» Тарантул, – худой, сутулый, и ноги уже не распрямляются в коленях, отчего походка напоминала пляску вприсядку. Он также вошел в беседку и сразу же заговорил со стариком, что чистил грибы, при этом все время показывая рукой в лес. Несколько минут они что-то живо обсуждали, затем сели рядом и занялись грибами. В это время из лесу неожиданно появились две старухи, и Савватеев понял, что офицер Варана сработал хорошо, но нервы у местного населения оказались железными: стрельбы не последовало, ружье по-прежнему висело за спиной, а вот корзин не было – вероятно, бросили в лесу.
У ворот они перешли на торопливый шаг, с ходу проскочили через калитку и устремились к беседке, где сразу же начался негромкий, но возбужденный разговор. Один старик начал вроде бы успокаивать женщин, а другой воткнул нож и пляшущей походкой смело направился в лес, по их следам.
– На связи Финал, – послышалось в наушнике. – Входил в контакт с объектом. На базе живут грибники.
– Я это понял. О гостях что выяснил?
– Объект ничего не знает. Это пенсионеры из соседних деревень. Приходят сюда на неделю, подзаработать. Какой-то бизнесмен скупает у них опята целыми тоннами. Но шляпка должна быть не более одного сантиметра.
– Какая шляпка?
– Грибная.
– И что это значит?
– Наверное, европейское качество. В ресторанах подают потом.
– Ладно, оставайся на месте.
Савватеев вызвал Коперника.
– Вроде все нормально, – безрадостно доложил тот. – Женщины бросили лукошки, убежали.
– Сейчас туда идет старик, наверное, за корзинами. Пусть твой боец прикинется пьяным и наедет на него. Ты в это время подтянешься к ним, на разборку. Мне нужен скандал с местным населением.
– Зачем? – тупо спросил Коперник.
За такие вопросы даже толковых любимчиков начальника следовало увольнять сразу же после операции. Правда, тогда не с кем бы стало работать.
– Надо, – так же тупо ответил Савватеев. – Старика не отпускайте, ждите меня.
Грибники работали, о чем-то переговаривались и беззаботно смеялись, словно забыв, куда ушел их товарищ. Вечерний прозрачный воздух стал звонким, и все равно нельзя было разобрать ни слова. Ожидая сигнала от Коперника, Савватеев вспомнил, что ни разу еще не связывался с экспертами, рыщущими по окрестностям в свободном поиске.
– Как грибы? – коротко спросил он, переключившись на частоту эксперта-медика.
– Пока ничего. – Голос у пожилого криминалиста был с одышкой. – Дохлые вороны, лосиные черепа и всякая мелочь. Свежих раскопов тоже нет.
– Свежих и не будет.
– Я понимаю…
– Хорошо, что понимаете.
– Кроме ворон в шестом квадрате обнаружил еще и воронку, – не терял чувства юмора старый эксперт. – Примерно годичной давности.
– Что за воронка?
– Ну, эдак килограммов на пятьдесят в тротиловом эквиваленте, не меньше. Похожа на след взрыва тяжелой авиабомбы.
– Вояки потеряли?
– Возможно… Слегка замаскирована, забита чурками. Березовыми… Такое ощущение, собирались уголь жечь.
– А не труп?
– Нет, трупом не пахнет…
– Тогда что вы мне тут!.. – Савватеев ушел со связи.
Сигнала от Коперника все еще не было, и через пятнадцать минут вечерней тишины Савватеев услышал гул автомобиля, а вскоре на дороге показался микроавтобус с местными номерами. Перед ним торопливо распахнули ворота, машина въехала на базу и остановилась возле беседки. Вышедшие из нее две молодые женщины достали коробки и принялись ссыпать грибы, а мужчина взвешивал их и загружал в багажник – картина была деловитая и вполне мирная, однако стало тревожно и показалось, в наушнике тонко и надсадно запел комар.
Еще не понимая причины, Савватеев огляделся и увидел пляшущего старика с двумя лукошками, который вышел далеко от того места, где заходил, и теперь спокойно вышагивал вдоль забора – похоже, не удалось спровоцировать его на скандал. Савватеев послал вызов Копернику и ответа почему-то не получил.
Внезапно за спиной послышался веселый и задиристый голос, заставивший вздрогнуть от неожиданности:
– Здорово, мужик!
Савватеев обернулся: в двух метрах от него стоял улыбающийся мужчина в камуфляже, с карабином на плече и полевой сумкой в руках.
В зарубежных командировках, когда проводились похожие операции, этого не могло произойти в принципе. Руководителя операции обязательно кто-нибудь прикрывал и не позволил бы приблизиться на выстрел. Иначе бы этот выстрел давно прогремел или Савватеев давно бы парился на каких-нибудь мягких импортных нарах.
Дома же, всегда казалось, и стены помогают…
– Здорово, – будто бы равнодушно отозвался Савватеев.
– Чего тут сидишь?
– Природой любуюсь.
– А-а!.. За опятами приехал? – Мужчина бесцеремонно поднял пакет и вытряхнул содержимое. – Не густо… И мухоморчики берем? Поганочки?..
– Мы все берем, – ухмыльнулся на его намек Савватеев. – Ядовитых грибов не бывает.
– Это ваши по лесу болтаются?
Судя по одеянию и дерзкому, самоуверенному поведению, это был хозяин охотничьей базы.
– Не знаю, может, наши, может, нет, – неопределенно проговорил Савватеев.
– Тачки в ельниках тоже ваши?
– Тебе чего надо, парень?
Его какая-то скользкая, улыбчивая наглость сразу же вызывала неприязнь – чувство в операции вредное и мешающее работать.
– Сколько братвы с тобой приехало? – Он сел рядом и открыл сумку. – Семнадцать? Не считая шоферов?
Хуже того, после его слов Савватеев ощутил горячую волну раздражения: мужчина точно назвал количество задействованных в операции людей. Неужели при высадке затаился где-то и пересчитал? Водители, оставшиеся в машинах на связи, были проинструктированы, сказать ничего не могли да и в случае контакта немедленно бы доложили.