Читать онлайн Искренне бесплатно
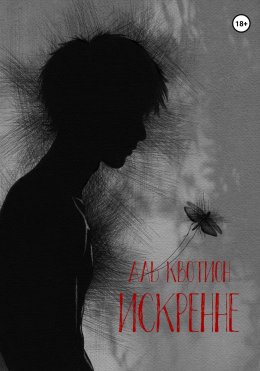
Предисловие
Вот ключ, держи. За дверью – моя жизнь. На книжных полках справа – многотомники мыслей и идей, большей частью самоанализ и посредственные литературные эксперименты. Все на полки не поместились, поэтому предположения об устройстве вселенной, диагностику духовного регресса общества и маленькую мыслишку в мягком зеленом переплете о починке сломанного кондиционера пришлось свалить на полу. Тот слегка корявый фикус в углу с пожелтевшими нижними листьями и новыми сильными ростками – моя любовь. Как обычно, забыл ее полить. Покосившаяся балка под потолком – это мой внутренний стержень. Тряпки, которые я сушу на ней, соответственно, – мои вечные сомнения, пара десятков непреодоленных пороков, осознание собственного несовершенства. А то синее, похожее на прожившую долгие лета скатерть – надежда. Два сомнительных брата на диване, хохочущих и пихающих друг друга локтями, экстравагантно одетых, молодых, упрямых, с горящими пронзительными глазами, – мое шальное безумие и мой, ставший с годами чересчур ироничным, здравый смысл. В окне – пестрые, яркие, быстро меняющиеся пейзажи тяги к путешествиям, а грохот из спальни – это страсть в слепом порыве опять что-то уронила. Осторожней, здесь ступеньки дней. Лестница совершенно неудобная: все ступеньки разной формы и размеров, никакой логики и никакого постоянства; зато не бывает скучно, что здорово спасает от болезненного монотонного привыкания. В целом дом большой, я сам еще не успел осмотреть все. Хотя находил даже тайные коридоры и спрятанные комнаты, как в старинных замках. А намедни увидел в одном из коридоров рельсы и прогромыхавший по ним купейный поезд. В общем, вот ключ, будем исследовать мою жизнь вместе. Не забудь оставить старенькую обувь прежних иллюзий и однообразных будней в прихожей. Наслаждайся приключением.
Спячка
С наступлением ноября меня озарило: каждому человеку ближе к зиме необходимо впадать в спячку. На целых полчаса впадение в спячку стало моей единственной религией, к которой я страстно и фанатично принадлежал всей душой. Ну чем я хуже енотов, барсуков или ежей, в конце-то концов? Около часа ночи я решился и начал активно впадать. Впадение вышло не очень удачным по причине моей излишней активности. К двум я дочитал трактат о медведях. К трем определил наилучшее расположение подушек и одеялок и соорудил баррикады. В четыре понял, что сильно не хватает медленной расслабляющей музыки. То есть я впадал в спячку как хреновый и косорукий, однако ответственный снайпер – усердно, но все время мимо. «Впаду!» – уверенно повторял я себе, но спячка отказывалась сдаваться без боя. К пяти утра у меня залип и перестал открываться один глаз, но парочка настойчивых мыслей продолжала считать себя недодуманной. В полшестого, так и не достигнув подушечно-одеяльных баррикад, я вырубился в кресле. Впадение свершилось, спячка и я состыковались успешно, всего лишь почти незаметно погнув шасси. В полвосьмого прозвенел будильник. «Вот и весна», – грустно и обреченно подумал я.
Древний монолог
Сквозь эры и эпохи звучит сумбурный монолог великого бессмертного безумца – моря. Ласково манящий в своем солнечном шепоте, тревожно пугающий тьмой глубин или грозно ликующий разрушительным хохотом. Слушай безумца, вслушивайся в те скрытые шипящие смыслы, которые языками волн тянутся к твоим ногам. Подчиняйся голосу океана, с разбега бросаясь в воду и грудью разбивая соленые слова, сопротивляйся его власти, хватаясь пальцами за ненадежный берег и настороженно вздрагивая в такт перекличке далеких штормов. Слушай безумца. Слушай сбивчивые рассказы о младенчестве планет и их грядущей гибели, слушай о том, как тяжелый бесформенный силуэт космоса проводит призрачной ладонью по дну, заглядывает в каждую ракушку, навеки оставляя в них следы собственного присутствия. Слушай безумца, но не подпускай его голос слишком близко, в ту глубину разума, где глубина моря находит собственное подобие. Чтобы однажды не найти самого себя – с остекленевшими глазами стоящего по колено в воде и побледневшими губами немыслимо, нечеловечески повторяющего бесконечный древний монолог.
Дом, где я вырос
У меня было место, где я вырос. Был сад, в котором я бесштанным карапузом собирал не успевающую дозреть клубнику, объедая красную мякоть возле прицветника и выплевывая зеленые кончики ягод. Был старенький двухэтажный дом, в котором я прятался от грозы, спал летними ночами в бабушкиной кровати, в родном ореоле по-старчески щедрой ласки ее рук, гладящих меня по волосам. Где бросал в раскрытый огненный зев уютной печки шишки и читал любимые книжки возле торшера с маленьким столиком, на котором стояло теплое какао. Дом, в котором я однажды порезался и впервые упал в обморок, увидев собственную кровь в баночке перекиси. У меня была лестница – узкая, крутая, деревянная, скрипучая, с крутым поворотом, по которой я, не единожды с грохотом и ревом упав, поднимался на второй этаж, а там через окно вылезал на крышу и смотрел на звезды по ночам или на болтливый птичьим языком лес с черным прудиком у зеленого подножия в светлое время суток. У меня были качели за голубой кухонькой, таинственная мастерская деда и длинные резиновые шланги для поливки огорода, толстыми потертыми змеями лежащие в траве. Но в жару в руках взрослых легко превращающиеся в веселые фонтаны, бьющие прямо в небо, под струями которых я с хохотом и визгом пробегал, успевая увидеть радугу. У меня были счастливые воспоминания детства и осознание, что я всегда могу вернуться обратно, пройтись по знакомым местам, провести рукой по старенькой ржавой решетке, за которой кудахтали куры и рождались цыплята, сесть на скамейку, на которой подолгу, о чем-то задумавшись или что-то мастеря, сидел мой дед, когда еще был жив. Смогу даже сесть на качели и раскачаться – совсем как в детстве и, может быть, на какое-то крошечное мгновение даже снова стать маленьким. В своей зрелой жизни я так ни разу и не вернулся обратно, но всегда знал, что могу, что у меня есть этот шанс. Когда я его потерял, я понял, каким важным для меня было осознание этой возможности, какой нерушимой стеной стоял за моей спиной дом детства. Теперь его не стало. Из меня словно вырвали очень значимую часть, вырвали болезненно, как незаметный в быту, но необходимый внутренний орган. Стало некуда возвращаться. Стало негде снова становиться ребенком. Не осталось ни дома, ни лестницы на крышу, ни качелей, ни клубники, ни бабушки с дедушкой, призраками памяти проходящих по своим владениям. Я никогда не возвращался туда раньше, но только сегодня понял, что никогда уже не вернусь. Это «никогда» стало настоящим, неотвратимым, трагически реальным. И вместе с ним таким же реальным и неотвратимо настоящим стал я сам.
Три ночи
Три часа ночи. Полная пепельница окурков, монитор с рабочими файлами, холодный чай, кожаное кресло, черная венозная нитка наушников, протянутая от ноутбука до моей головы, – сейчас это вся возможная реальность. Ее полностью завершенная картина, вселенский домострой конкретной ночи для конкретной болезненно нервной души. И сердце, Господи, безумное сердце – оно где-то в горле, оно бьется бешеным темпом, отчаянным, надрывным. Кажется, стоит вздохнуть глубже – и оно вывалится в рот, продолжая безумствовать между зубов, не останавливаясь ни на секунду. От этой ненормальной трещотки, прерываемой болевыми спазмами, трудно дышать. Трудно, почти невозможно, но нужно работать. Эта мысль неотступно преследует меня; превышающий любую допустимую скорость сердечный ритм только усиливает ее – нужно работать, нужно работать, нужно успеть сделать все, что я должен сделать, кто его знает, сколько того времени осталось? Нужно успеть, успеть, нужно закончить. А потом я замираю. В самом настоящем, неподдельном ужасе. Я вижу самого себя, хватающегося за грудь, судорожно мнущего рубаху, а потом замирающего в дурацкой, отвратительно похабной, раскинувшейся позе – в липкой луже пролитого чая, обсыпанного как грязью пеплом и хабариками, освещенного светом монитора, на котором открыты так и незаконченные работы, в этом убогом огрызке реальности, в котором я сам на годы запер себя собственным трудом. Дикий ужас проникает в меня, сама мысль кажется непоправимо жалкой и порочной. Не хочу так. Не хочу. Хочется разбудить кого-нибудь, кого угодно – друга, близкого, и кричать этому сонному растерянному человеку: «Слышишь, я не хочу так, не хочу, только не так, ну пожалуйста!» Боюсь сейчас как маленький ребенок, запертый в темной комнате с вымышленными монстрами, остаться один. Но понимаю, как глупы, нелепы и бессмысленны такие выходки. Что вовсе не годится тревожить зазря людей, разбуженных среди ночи, – все это ночная проходящая блажь. Разве что стоит одеться и выйти на улицу – туда, под дождь, под черное мокрое небо, туда, где (мне почему-то так кажется, хотя это тоже нелепо) падать и мять рубашку на груди будет не так, что ли, безысходно, мучительно и страшно.
Неразговор
Я говорю:
– Ты не смотришь мне в глаза. Ты говоришь только о стороннем. Ты словно бы не здесь. Время с тобой превращается в страшный космический вакуум, обостряя одиночество до предела.
Он отвечает:
– Давай пройдемся по улице. Давай сыграем в слова.
Он говорит это в сторону, не глядя на меня. Он действительно хочет что-то исправить, просто не понимает – как. Он верит, что все получится. Молчит. Потом говорит снова:
– Если не хочешь, мы можем погулять. Или сыграть в слова…
Концентрат пустоты поднимается откуда-то снизу, от колен, затапливая все, что я считаю собой. Задыхаюсь, захлебываюсь. Ложусь и не могу встать. Физически не могу двигаться. Психосоматика. Не могу сказать больше ни слова.
Персеиды
Той ночью было какое-то астрономическое событие, кажется, Персеиды, но это совершенно неважно. А важно то, что я взял одеяло и расстелил его прямо посреди поля. Ни городских огней, ни облаков, только звезды, звезды, мириады звезд и яркие вспышки их светлого падения. В ту ночь я понял до конца, что небо – живое. Что оно не самая прекрасная из всех картин, а именно живое. Оно движется, дышит, бьется над нами. Что-то происходит в нем каждую секунду, какое-то событие или чудо, огромное или невидимое глазом. А еще я понял, что именно такое – загородное, темно-звездное небо, ночное небо над полем, почти забытое дикое несовременное небо – я видел в детстве. Но беспечный радостный разум ребенка – ах, эта волшебная память детства – сквозь призму чистоты души видит и запоминает весь мир ярче, сказочнее, волшебнее и невероятнее. Как бы то ни было, мы лежали на теплом одеяле посреди поля и держались за руки.
– О чем ты думаешь?
– Я хотел бы посвятить стихи каждой звезде. Но это невозможно, увы.
Девочка закидывает лунное лицо прямо в звездопадение и смеется: «Глупый, конечно же, ты можешь это сделать, разве ты не понимаешь?» Над ней падают звезды. Звезды падают в ней. Огромный, бесконечный звездодождь уже века подряд идет в небе, в людях, в каждых глазах. А я смотрю на нее, смотрю – Господи! Люблю эту девчонку, эту ночь, это небо и эти стихи в брызгах ее смеха. И тогда я понимаю – она права, конечно же, это возможно, как я мог раньше не понимать этого? Конечно же, возможно все. А над нами продолжают и продолжают падать звезды.
Записки интроверта
Весь день я провел в книгах. Ближе к вечеру снова начинает болеть голова. Я хочу как-то отвлечься, переключиться, я хочу, чтобы произошло хоть что-нибудь. Чувствую усталость и недомогание. Поужинать? Посмотреть кино? Пройтись? Надо дождаться жену. Хочу, но не могу что-то делать один, постоянно чувствуется какая-то острая грань: стоит лишь начать жить, не ожидая никого, и очень быстро мне никто не будет нужен. Так было раньше, когда люди только мешали мне, когда их присутствие вызывало раздражение, а счастье я знал лишь в одиночестве. Я чувствую, что эта нелюдимость где-то во мне, где-то совсем рядом. И сейчас, когда я насильно приучил себя быть с кем-то, – стоит дать лишь немного воли и свободы этому отчуждению, как оно вернется ко мне в полной мере. Я не уверен, что смогу найти в себе прежнюю решительность, чтобы снова загнать его глубоко в себя. Поэтому я жду. Минуты тянутся бесконечно долго. Усталость. Недомогание. Ожидание. Снова и снова. Мне решительно не нравится такая жизнь.
Игра в воде
Я люблю играть в воде. Я строю корабли, превращаю свои игрушки в водолазов. Я до смешного мал. Каждая лужа в таком возрасте сравнима с озером, каждое озеро – с морем. Океан окружает меня со всех сторон: в любой капле дождя, во всех брызгах из-под колес. Дома я набираю полную раковину воды и продолжаю играть, пока мать или бабушка не выгонят меня. Вода завораживает, притягивает, утешает. А еще я играю в собственную жизнь. Поэтому, когда в ней происходит что-то страшное, непонятное, злое, я включаю воду. Я отмываю произошедшее: когда мне шесть лет, и я заперся в ванной после страшного потрясения; отмываю, когда мне шестнадцать, и я лежу в наполненной ванне в одежде и бессмысленно курю в потолок одну за другой, хотя до того не курил ни разу; отмываю, когда мне тридцать шесть, и я сижу на полу душевой кабинки, раскачиваясь из стороны в сторону и подставляя лицо мокрой прохладе. Вокруг меня океан – я чувствую его волны, его приливы и отливы каждой клеткой кожи. Я строю корабль из самого себя. Хочется верить, что это ковчег, а не Титаник.
Музыка о нас
Слушаю музыку и вспоминаю то время, когда каждая песня обретала очень личное значение. Когда я выбирал композиции не из-за хорошего вокала или приятной мелодии, а когда хотя бы про одну строку я мог сказать: «Это то, что я чувствую и думаю о тебе». Или: «Это то, что я хотел бы тебе сказать». Потом песни ограничились сторонним безучастным восприятием, цинично-оценочным: текст слабоват, музыка проста, но вокал ничего. Или как-то иначе, но всегда именно в таком русле восприятия. Порой мне хочется перешагнуть реальность и снова вернуть то прошедшее личностно-духовное отношение. До теплоты душевное. Но у меня ничего не выходит – если не я сам, то уже ты говоришь: «Неплохая музыка, но вокал, конечно, слабоват». А ведь когда-то было время нашего поиска в любом искусстве нас самих – той любви, нежности и глубочайшего лиризма, для которого не хватало собственных слов. Почему то время прошло? Мне жаль.
Моя загадка
Ты моя загадка. Я угадываю тебя каждый день. Смотрю на нахмуренные брови, на тонкую линию цинично сжатых губ, провожу по ним пальцем и… Угадываю спрятанную слабость, обессилившую усталость. Затаенную, глубинную, нерастраченную любовь. Я вслушиваюсь в твой строгий тон, в этот слишком жесткий оттенок речи – и угадываю в глубине почти незаметно дрогнувшего голоса маленькую девочку. Крошечную заблудившуюся девочку с широко раскрытыми глазами: «Почему все так, почему со мной?» Я вглядываюсь в твою темную одежду, высокий воротник – я угадываю изгиб шеи и плеч, я угадываю. И открывшееся понимание отдается во мне волнами острого желания, юной гневной страсти и взвешенной зрелой нежности. Ты моя загадка. Самая злая, темная, мучительная и недоступная тайна, но с самыми теплыми, светлыми и человечными ответами на нее. И я готов посвятить всю свою жизнь поиску этих ответов.
Долги человеческие
Вся моя жизнь сформулирована не в вопросах: чего ты хочешь или какой ты человек, а в ультимативном заявлении: что ты должен. Должен продолжать писать, потому что этого хотят дальние. Должен беречь себя, потому что этого хотят близкие. Должен любить, чтобы не быть плохим. Должен жить, чтобы быть. Неясно, кем быть в таком раскладе, но должен. Скорее всего, воплощением чьих-то правильных человеческих идей, которые мне чужды. Похоже на древнюю игру в мужчин и женщин, ведущих и ведомых, сильных и слабых. Если кто-то начинает хотеть, кто-то другой становится должен. Безусловно, все желания только во благо. Я годами учусь прятать в себе человека, который может выйти из магазина и просто пойти прогулочным шагом вперед – через шеренги домов, природно бедные пригородные пейзажи. Человека, погруженного в свои мысли, словно впервые разглядывающего себя как личность, осознавая с ужасом и удивлением, что эти мысли самопонимания и самопринятия есть на самом деле, сколько их не прячь. Годами я пытаюсь найти компромисс между собой и окружающим миром, между правильным и неправильным. Никакой действующей инструкции к собственной жизни я так и не смог придумать. Я смог усвоить, что я должен, но так и не разобрался в том, чего хочу. Потому что разбираться в этом страшно. Потому что понимать себя – одиноко. Потому что быть собой – порочно. Это просто не вписывается в общий ряд частных-общественных-мировых требований к человеку. Кто-то другой всегда знает, каким я должен быть. Кто-то другой всегда знает, почему я должен именно это. Кто-то другой, знающий, никогда не посмотрит в мои глаза с тем пристальным вниманием, присущим желанию всерьез разобраться в потемках чужой души. Он просто знает. А я иду вдоль шеренги домов и, не доходя пары метров до пригородных пейзажей, поворачиваю обратно. Потому что мне нечего противопоставить этому чужому знанию о себе, кроме сжатого в болезненный ком концентрированного отчаяния где-то на дне самой глубокой впадины души.
Путешественница среди звезд
Никогда не спрашивай ее возраст. То, что для тебя прожитые годы, сложенные в сухой остаток чисел, для нее – большое космическое путешествие. Она на огромном лайнере медленно дрейфующей по орбите планеты, закинув ногу на ногу, потягивает коктейль жизни через тонкую соломинку своих настроений. Она смотрит на открывающиеся виды галактических пейзажей, пока ты упрямо смотришь на графу в паспорте. Круг за кругом небесное тело несет ее сквозь вселенную, а она улыбается, размешивая чай звонкой серебряной ложечкой, и прикрывается от лучей пролетающей мимо раскаленной звезды зонтиком ближайшего созвездия. Она умиротворенно любуется головокружительной красотой, пока ты изучаешь под лупой мелкий шрифт повседневности. И какая разница, как долго длится ее невероятный круиз, если она слышит пространство, как море? Если она машет рукой межпланетным китам, поющим для нее музыку сфер, и хитро подмигивает вспыхивающим дельфинам комет? Так что никогда не спрашивай ее о возрасте, потому что там, где ты старик, она – всего лишь опытная путешественница среди звезд.
Коварство сердца
В этом коварство сердца. Мы с детства привыкаем, что болезнь – это что-то нарастающее, неторопливое, оставляющее массу шансов. Мы с детства верим в свое бессмертие – ну что с нами может произойти: с такими молодыми, сильными, с людьми, на которых все смотрят в перспективе, которым каждый обещает обязательное будущее? Да, иногда случаются болезни. Но случаются не сразу и не фатально, они вызревают медленно: сперва мы начинаем чувствовать себя неважно, потом еще хуже, потом откровенно плохо, и вот тогда уже все становится очевидным, появляется время и желание взяться за себя, обратить внимание на организм, подающий сигналы поломки. Сердце коварнее. Только что ты стоял, смеялся, немного спорил с собеседником и так же верил в своей бессмертие, но буквально через секунду ты уже стоишь на коленях, судорожно скомкав футболку в районе груди, цветом лица сливаясь с белыми стенами. А собеседник не понимает, пока еще не понимает, что случилось, удивленно хлопает глазами и пытается выстроить в голове резонное объяснение твоей спонтанной выходки. Сердце таит непредсказуемость, к которой мы никогда не готовы. Никто из нас не готов по-настоящему. У меня тоже есть своевольное непредсказуемое сердце, которое я сгубил. Подари мне новое сердце, и я снова сгублю его – в этом у меня уже нет никаких сомнений. Однажды оно ответит мне тем же.
Полчаса
– Заходи через полчаса.
Иду на улицу, сажусь на скамейку, начинаю считать. Нужно как-то прожить полчаса жизни, а я совершенно неприспособлен к созерцательному времяпрепровождению, мне нужно чем-то себя занимать. Я считаю время сигаретами. Фраза «Счастливые часов не наблюдают», народной молвой прочно приплетенная к наличию у человека любого хоть мало-мальски годного циферблата, порой может стать очень недоброй издевкой над человеком. У меня нет часов. У меня нет ничего: ни дома, ни людей, которые могли бы ждать в этом доме, довольно часто нет даже еды. Однако (да будет благословенно имя Вити Цоя!) у меня есть пачка сигарет. Одна сигарета, неторопливо скуренная до фильтра, занимает около семи минут. Нужно отсчитать ровно полчаса. Закуриваю. Мимо меня проходят люди – с детьми, с сумками, с какими-то планами на жизнь. В каждом из них сквозит уверенность в собственном бытие, в плотности и реальности мира вокруг, в серьезности той жизни, которая происходит с ними. У меня все должно было быть точно так же, но что-то пошло не так. Я не смог пустить корни. Не смог поверить в действительность. И с тех пор хожу как пришибленный, веду себя неестественно, словно инстинкт самосохранения, а вместе с ним и другие инстинкты, вдруг отказали, как сломанные тормоза. Я словно бы между здесь и нигде. Ни жизнь, ни смерть не кажутся мне достаточно весомыми, чтобы разглядывать их пристально или проживать по-настоящему. Никакие доводы разума ни черта не действуют, потому что совершенно незначимы. «Если бегать по скользкому, можно упасть и сломать ногу». Логично. Вполне. Но какой толк от этой логики, если я не чувствую ногу своей? Если даже боль в ноге кажется мне вымышленной, далекой и неестественной? А люди вокруг другие – они точно знают, что живут, и стараются делать это как можно правильнее. Их тяготят случающиеся неприятности, и влечет вперед вера в лучшее. А я сижу и считаю время сигаретами. Потом снова поднимаюсь по знакомой лестнице, звоню в дверь.
– Пока нет, погуляй еще полчасика.
Дверь закрывается перед лицом. Смотрю на нее – на совершенно иррациональную дверь в таком же иррациональном мире, возле которой стою иррациональный я, одолеваемый единственной мыслью: что будет со мной, когда закончатся сигареты?
Ее глаза
Душа, талант, поэзия… Ты бы видел ее глаза. В них все мои стихи уже написаны. Настоящие и грядущие. Все, до последнего слова, понимаешь? И я сам чертовски мало значу. Я – всего лишь рука, держащая кисть и выводящая черные рисунки строк на ее плечах, груди, спине, бедрах. Она для меня – белый лист с контуром будущей поэмы, гениальный черновик, с которого я, как двоечник, списываю ответы рифм. Конечно, что-то я писал и раньше, но писал плохо, писал так, что было стыдно за написанное. А потом появилась она и научила. Нет, не писать. Жить. Любить. Чувствовать. Думать. Искать и находить. Стремиться. Побеждать. Меняться. Видеть и слышать мир вокруг. И уже потом – воплощать жизнь в словах. Ее ли жизнь, мою ли, чью-либо еще – неважно. А теперь, если присмотреться внимательно, в каждой моей строчке сквозит едва уловимая тень с запахом сирени и озона. Это тень ее руки. И тень эта ширится, растет, проявляясь во всем, закрывая собой все. Я сам чертовски мало значу, но ты бы видел ее глаза…
Корни проблем
Наверное, корень любой проблемы – во мне. Наверное, изнутри я похож на непроходимый лес, в котором корни торчат из земли, громоздясь чуть ли не друг на друга. А я сам стою перед этим частоколом корявых стволов, воюющих за место под солнцем, и не решаюсь войти. Намного проще включить музыку, уткнуться глазами в монитор и читать все подряд, увлечься задачей или компьютерной игрой, чтобы не оставаться наедине с собой – просто лежа, глядя в потолок и словно бы замирая вне собственной жизни. Потому что в таком состоянии внутреннего молчания и поиска людей спасают только привычные самоассоциации с окружающим, какой-то точный образ себя, которого у меня почему-то нет.
Возможно, виной этому какая-то сложная генетика, еще в утробе подчинившая себе все мои желания, отчасти – будущие поступки да и характер в целом. Или моя мать – типичная бизнес-леди. Деловая женщина с массой амбиций, дел, встреч, планов на будущее и с большой нехваткой времени на внимание к собственному сыну, всячески пытающемуся это внимание привлечь – своей услужливостью и достижениями (с тех пор для меня стало так важно быть первым во всем) или своими капризными эгоистичными истериками. Взрослея, я годами пытался вытравить свою мать из себя, но эти усилия привели лишь к тому, что я все больше и больше становился похожим на нее – в своей деловой сдержанности, хладнокровии, некотором актерстве на фоне уравновешенной безэмоциональности и в тех же карьерных амбициях, заученно нужных, но не приносящих реального удовлетворения.
А может быть, меня обманули книги и фильмы, и сама жизнь просто не оправдала ожиданий. Может быть, я ждал от нее большего драматизма, большего восторга или любых других страстей, готовился к этому, а на деле все оказалось весьма посредственным и каким-то никудышным. Словно я шел к непокоримой горе, таща на спине ворох тяжелого оборудования, предвкушая подъем, но на месте горы обнаружил небольшой холм, для покорения которого нужны разве что кроссовки, чтобы не наступить на какую-нибудь дрянь в траве. А теперь я стою, рюкзак все сильнее давит на плечи, а идти вроде как некуда. Точнее, я не знаю куда идти дальше. И мне все чаще кажется, что этого не знает никто.
Множество жизней
Рядом с тобой я проживаю множество жизней. Когда я просыпаюсь, я почтальон. Это первое утреннее желание – найти от тебя весточки. Небрежно отброшенное одеяло. Незакрытую в спешке дверцу шкафа. Исчезнувшую из прихожей сумочку или оставленную в раковине чашку. Слова в скайпе: «Привет, соня! Проснувшись, читала твои новые стихи, но после первых двух строчек под потолком проплыл кит, из стены выехал меланхоличный верблюд верхом на банке шпрот, а потом вдруг оказалось, что я опаздываю на работу». Смайлик и поцелуй. Твои следы, твои письма. И я почтальон, я бережно собираю каждое из них.
Днем я отшельник. Ты работаешь, я работаю, каждый из нас широко стремится к жизни, мы оба презираем безделье. Я отшельник, я отгораживаюсь от мира, я рычу на его шумливость, я пишу. О тебе, конечно. И чем сильнее, чем ощутимее нет тебя рядом – тем неприятнее мне мир вокруг. Просто я помню о тебе. Просто скучаю. А все остальное – это только эхо тех чувств.
Вечером острые, блестящие в свете фонарей сосульки на козырьке делают подъезд оскаленной пастью дракона. Я рыцарь, я сбиваю их и спасаю тебя гулять. Я джентльмен в смокинге, я элегантно подаю тебе руку. Я хулиган, я кружу тебя в танце посреди улицы, целуя куда попало. Я поэт, я читаю тебе стихи уже без китов и жирафов. Я шут, я говорю глупости, чтобы ты смеялась, не переставая. Я резонер, я делюсь с тобой мыслями, гуляя по лабиринтам жизненных взглядов. Я библиотекарь, я внимательно вслушиваюсь в твои слова, читая заповедную книгу самой близкой души. Я злодей, я похищаю тебя домой и запираю в спальне. В спальне ты смотришь настороженно и жадно, хитро и невинно. Одежда медленно оседает на полу. И я становлюсь завоевателем.
С тобой я проживаю множество жизней. А без тебя я буду проживать одну единственную бесконечно долгую смерть.
Эгоист
Когда-то давно ей говорили, что настоящая жизнь начнется тогда, когда все опостылеет. Теперь, достигнув возраста неопределенная-женщина-за-сорок, она повторяет это мне. Что так и должно быть, что только так правильно. Что серьезные и настоящие отношения начинаются тогда, когда секс стал одним из привычных бытовых дел, рудиментом бессмысленного юношества, домашней обязанностью наравне с чисткой зубов или мытьем полов. Нет, он все еще приносит удовольствие, но уже является заученным набором движений для достижения конечной разрядки. Когда разговоры провисли паузами – не напряженными, а просто пустыми – все сказано уже давно. Она называет эти паузы молчаливым пониманием друг друга, зазубренностью до полной потери необходимости что-то говорить и вообще как-то контактировать с партнером. Когда монгольская орда мелких незначимых ссор раз за разом совершает нашествие на совместную жизнь, полную вялотекущего недовольства друг другом по мелочам, но в принципе контролируется выплатой дани – поиском оправданий (чаще – самооправданий). Она называет это школой жизни. Иногда мне кажется, что сама она чувствует собственную жизнь не школой, а затянувшейся хронической болезнью. Но, не зная лекарства, пытается найти в ней хоть какой-то смысл – с такой настойчивой жадностью уверяя меня в правильности и необходимости всех симптомов, с какой, вероятно, когда-то давно некто, загнанный в тот же тупик, убеждал ее. Теперь она смогла убедить в этом даже себя. Она уверена, что отказ от подобного образа сожительства с вечным самокопанием ради поиска того, что можно хоть как-то отдаленно охарактеризовать если не любовью, то дружбой, стабильностью, порядком или комфортом, – бескомпромиссный эгоизм. А я уверен, что я эгоист.
Баллада о четырнадцатом человеке
Он пытается быть живым ровно в той степени, чтобы на день рождения получать ненужные открытки от незнакомых пользователей соцсетей, как-то попавших в список друзей и в указанный день получивших уведомление; чтобы, расплачиваясь в магазине, пожелать хорошего дня кассирше и уйти, не дождавшись ответа; чтобы ограничиваться в общении со знакомыми стандартными заученными фразами, не вдумываясь в них ни на секунду; чтобы, заказав такси, сесть на заднее сидение и полностью исчезнуть в симбиозе темноты вечернего города, мелькания огней и музыки в наушниках, не чувствуя себя ни виноватым, ни обязанным поддерживать беседу со скучающим шофером. То есть он пытается быть живым именно в той усредненной степени, чтобы остаться предельно незаметным, чего никогда не удается слишком живым или слишком мертвым – и те, и другие всегда привлекают чрезмерное внимание, к которому он совершенно не готов. Из всей огромной потенциальной жизни ему хватает пары довольно прибранных комнат, в которых он танцевал, плакал, занимался любовью и читал книги. В которых каждое его переживание впечаталось в стены, заползло под обои, забилось между ворсинками ковра, пропитало собой вещи и воздух, став чем-то немыслимо вечным и легко возрождаемым для повторения: достаточно всего лишь вдохнуть поглубже витающий здесь призрак настроения – и вся сущность моментально отзовется на прошлые мысли и чувства, которых, как ему кажется, не так уж и мало. Он смотрит из окна на людей, верящих, что они еще меняются, что они еще способны измениться, и думает, что будет с этими людьми, когда они сперва дорастут до самих себя (если они молоды), а потом и до понимания, что годы проходят, а они остаются теми же и, скорее всего, это все – их предел, финальная точка, теперь уже полностью законченная картина. Он внимательно смотрит на людей, потому что каждый из них невольно является неоспоримым подтверждением его собственной завершенности, смертности и заменяемости. Он ведет понятный только ему счет, а потом пишет – баллада о четырнадцатом человеке, о двадцать третьем, о тридцать седьмом, но в конечном счете пишет баллады только о себе, никого не обманывая, считая личностную индивидуальность – одним из больших мифов человечества. Он сам – сорок восьмой или пять-миллиардов-третий человек, посвятивший свои силы тому, чтобы удержать собственную жизнь в нужной степени – ультимативное заявление о том, что со всеми нами что-то не так. Но разве можем мы иначе?
Лучшая партнерша по танцам
Мы танцуем. Моя сегодняшняя партнерша по танцам – лучшая из всех, с кем я когда-либо танцевал. Она закрывает глаза и полностью отдается музыке, она то почти склоняется к полу, то вместе с пением скрипки легко взлетает в моих руках почти к потолку. Она танцует здесь, со мной, но в то же время она танцует внутри себя. У души свои собственные движения, они отличны от движения тела, но удивительно гармонируют с ними. Моя ослепительная партнерша полностью в танце, она верит в него всем сердцем – и это почти религия, в этом что-то от Бога. Вера и безусловное доверие – не открывая глаз, она падает спиной назад. Она точно знает, что мои руки мягко поймают ее и удержат в секунде от падения. В конце танца, когда звуки музыки стихают, я поклоном выражаю благодарность своей великолепной плясунье. Она отвечает мне реверансом, широко и счастливо улыбаясь.
Я тридцатитрехлетний отец. Моей лучшей в мире партнерше по танцам – шесть лет.
Жизнь мебели
Я наблюдаю за жизнью мебели. Когда в чувствах образуется своего рода коктейль из обиды, злости и печали, зрение начинает избегать любой другой, более активной жизни, вдруг разворачивая фокус своего внимания почти на сто восемьдесят градусов небытия. В моем доме живет книжный шкаф, пестрящий разноцветными и разнокалиберными корешками книг, – я сам купил и расставил их, но прочел дай Бог половину – на большее, как обычно, хватило только обещаний самому себе при катастрофическом дефиците времени на их исполнение. В общем, все привычно, все точно так же, как и с любыми другими обещаниями. В моем доме живет огромное и неуклюже громоздкое кожаное кресло (помню, я купил его именно из-за размеров, мне казалось хорошей идеей забираться в лоно темной обивки с ногами и почти лежать, как на некой полукровати со спинкой и подлокотниками) и самый обычный невзрачный письменный стол – почти бессмертные атрибуты быта, рядом с которыми я сам чувствую себя на редкость мимолетным. Весь я со всеми побочными литературными продуктами маленькой человеческой личности, способной к осмыслению окружающего, синтезу, анализу, даже к чувственному восприятию, что бы ни говорили разочарованные в своих мужьях девицы о недоразвитых эмоциональных способностях мужчин как вида. Собственно, я уже давно утратил интерес к их словам. Я утратил интерес ко многим словам. А сейчас я утратил даже само желание видеть или слышать людей. Я пришел к наблюдению за жизнью мебели, понимая, что это временный, но крайне необходимый для меня элемент конкретного дня на фоне конкретного настроения. Настроения антижизни или жизни в самом себе, когда интуитивно очерчиваешь вокруг тела видимый только тебе меловой круг и строго следишь, чтобы в него не попала ни единая живая душа. Ты способен допустить в свою зону близости разве что шкаф, кресло, письменный стол или что-то еще из объектов, плотных и недвижимых как круп планеты под ногами. Я попал в другое время. Словно бы раньше жил, цепляясь за прошлое, веря в будущее, пока меня не выбросило безмолвной и бессильной рыбой на берег непрекращающегося настоящего, в котором действительно реальны только неодушевленные предметы – именно они всецело царствуют в этом новом мире. И все, что мне остается, – расширенными зрачками, замирающими в прострации, наблюдать за их жизнью, потому что от моей собственной не осталось ничего.
Смотрящая на нас
Она смотрит на нас – вызывающе сумасшедших молодых людей, взнуздывающих собственную жизнь с каким-то немного пафосным ковбойским прищуром, с восторженными взглядами пятнадцатилетних пацанов, но хваткой матерых собак. Она смотрит, как мы гуляем по ночам, тайком убегая из дома (это «тайком» – рудимент, оставшаяся с детства привычка, уже ненужная, но все еще упрямо повторяемая). Она смотрит, как мы залезаем на деревья, падаем с высоких уступов в гладкую морскую муть, прыгаем в самолеты, отправляясь навстречу незапланированным приключениям – без страха, без сковывающей неловкости, без какой-либо страховки и без четко выверенных планов. И всегда бесшабашно находящих эти приключения. Она смотрит на нас – танцующих на кухне, со смехом валяющихся на полу, в порыве мальчишества оккупирующих качели на детских площадках, занимающихся сексом просто для того, чтобы лучше понять друг друга, легко поддающихся любым юношеским придурям, в какой бы палитре они не были – счастья или тоски. Она стоит – уже стареющая, надевшая яркие сережки (что становится словно бы тоже значимым поступком, важным событием, маленьким, никем не замеченным поводом гордиться собственной смелостью) и смотрит на нас. Чувствует ли она себя брошенной? Или пытается прожить эти мгновения созерцания в радости за наблюдаемыми? Зависть к громкой музыке наших судеб? Благодарность за разбуженный интерес? Сопричастность? Одиночество? Может быть, в какую-то долю мгновения она почти чувствует себя нами, словно переезжая из собственного тела, смущенно переступающего с ноги на ногу в сторонке и немного нервно мнущего аккуратную сумочку или платок. Может быть, она никогда не задумывалась над своими чувствами, и они являются тайной даже для нее. Может быть, она ждет, когда кто-то из нас пригласит ее вступить, как в танец, в иную жизнь. Но мы не приглашаем ее, мы слишком привыкли к собственной свободе. Мы – слишком мы, и для нее это уже непоправимо.
Рыба над городом
Ты рыба. Ты огромная рыба, бесшумно плывущая по улицам города в мареве плотного перенасыщенного воздуха, пропитанного то запахами кондитерских, то духами, то выхлопными. Возможно, ты кит. Твое великанье тело кажется громоздким, но это лишь видимость – оно невесомое и гибкое, ты легко огибаешь дома, уличные фонари, рекламные стенды, автомобили и прочую избыточную атрибутику цивилизации. Очень осторожно ты огибаешь прохожих. Когда-то ты боялся этих двуногих созданий. Ты боялся их цепких жилистых рук, сжимающих гарпуны, их внимательных глаз, различающих в утреннем тумане плывущих по городу гигантских рыб, их хищных охотничьих привычек. Когда-то давно, когда они еще не стали такими – полностью поглощенными собственным несовершенством до полной потери внимания к окружающему. Пока не стало можно быть любым, пока ты не выпал из всех зрачков, потому что смотрящие в себя быстро теряют способность к зрению. Теперь они не видят даже те же фонарные столбы, куда более материальные, чем ты – огромная медленная рыба, чутко перебирающая плавниками туман всего в полуметре над землей.
Силуэт жирафа
Если расслабленно и расфокусированно смотреть на печатный текст, то начинаешь наблюдать в нем белые потеки пробелов – словно бы сама страница стекает по стене букв, силясь сбежать от этих черных пятен, подло укравших у нее почти божественный статус начала начал – чистого листа. Это чем-то похоже на струйки воды на оконном стекле, когда идет дождь. Если подключить фантазию, то из них сложатся рисунки. Я так и не прочел твоего последнего письма, но разглядел в нем силуэт жирафа с кривой шеей и профиль человека с трубкой, похожего на сильно располневшего Шерлока Холмса. Зачем ты присылаешь мне уродливых жирафов и толстых курящих мужчин? Какой в этом смысл? Но я написал тебе ответ, я писал нечто дурацкое и нелепое: чтобы ты после смерти похоронила меня в том городе, где планируешь провести остаток жизни и встретить старость. Я писал, что мне плевать, но именно тебе придется время от времени приезжать на могилу, чтобы выдрать траву, посадить какие-нибудь не требующие особого ухода цветы, возможно, даже поправить заборчик и сказать обязательное: «Все-таки ты был не прав, но я прощаю тебе это». На самом деле, я просто пытался нарисовать твой портрет мокрыми разводами пробелов (или что-то, очень отдаленно похожее на твой портрет). К сожалению, ты этого не поняла, ты написала мне возмущенное и встревоженное письмо с вопросом, почему я решил писать завещание. Моя дорогая, я не писал завещание. Я рисовал тебя. Я уже очень давно рисую тебя. И примерно столько же времени смотрю на все окружающее расфокусированно, даже себя наблюдая со стороны. Вот молодой мужчина сидит в кресле за письменным столом, откинувшись на спинку и задрав лицо к потолку. На столе ноутбук, пепельница с дымящейся сигаретой и его ноги. А вот этот же мужчина с силой и злостью распахивает входную дверь и резко выходит на улицу: он нахмурен, его шаги, резкие движения, все жесты выдают сжатую ярость, потому что ярость лучше, чем боль. А я смотрю на него, понимая, что странно равнодушен к этому мужчине и его дальнейшей судьбе. Мне не очень интересно смотреть, что будет с ним дальше. Но, кажется, у меня нет выбора. Зато выбор есть у тебя. Поэтому, дорогая моя, когда ты будешь писать мне следующее письмо, пожалуйста, нарисуй в нем журавля. Я уже столько лет не видел журавлей.
Наши скандалы
Наши скандалы – это не ругань, это истошный крик. Не мужской, не женский – нечеловеческий вой, слыша который, одни соседи начинают истово креститься, другие нервно звонят в полицию, а третьи, выругавшись, равнодушно вставляют беруши, привычно ускользая от сторонних реалий и чужих проблем во внутренний самолюбящий и самоласкающий себя космос. Боги, слышали ли вы когда-нибудь ненависть в крике «Будь со мной!»? Слышали ли вы оглушительную любовь в крике «Будь ты проклят!!!»? Я слышал. И теперь не могу спать по ночам. Не могу собрать себя по частям. Всегда не хватает какой-то части: части понимания, части иронии, части внимания, части великодушия, части участия. Самых мелких частей – вроде бы незначительных, не фундаментальных, но, черт возьми, без них вся жизнь превращается в шелуху: в помойную мусорную отрыжку на задворках города, в пьяных мужчин в барах с дешевыми нимфетками на коленях, в остервенело презирающих все человечество растрепанных изношенных женщин, видящих себя (но уже не способных стать) нимфетками на коленях мужчин. И все они, мужчины и женщины, – с большими принципами, с большими идеями, с большими органами мышления или чувств, с большими руками или глазами и совсем уж огромным самомнением. Не хватает только маленьких частей.
А потом крик обрывается. По нашим телам бессильным больным младенцем карабкается шепот, даже не шепот – какая-то полумертвая карикатура на шепот. Карабкается вверх – по дрожащим рукам, по тяжело дышащим (словно бы после долго бега) телам, по бесстыжим вяло опустившимся (словно покорно и позорно признающим поражение) плечам, по булькающим шеям, судорожно сглатывающим все возможные застрявшие комы разом. Шепот скрюченными холодными пальчиками цепляется за губы, мизинчиком отодвигая их уже не спорящую мякоть, просовывает прозрачно-бледную лысую головенку в уши, вползая внутрь, словно это его единственный шанс выжить, единственная еще не ставшая ядовитой среда обитания. Безжизненный шепот. Чуждый всему в этом мире. Обреченный. Уже человеческий, но так может говорить разве что человек с разорванным брюхом и выпотрошенными на грязный пол потрохами – собирая на последнее слово все оставшиеся силы, которых все равно безнадежно не хватает. Собирая с пола, заляпанного собственной кровью, маленькие потерянные части себя, которых так ему недоставало. И тем самым – завершаясь.
Без причин ненавидеть
Есть такие отношения, которым не хватает беды. В которых только жестокость может стать спасением. Это те вялые, инертные браки, растерявшие все сильные и слабые чувства, когда-то связавшие людей, но упрямо не распадающиеся.
Это маленькие сереющие женщины, пытающиеся найти себя в мелочах – в стирке белья, в приготовлении изысканного обеда, по ночам спящие на отдельной от мужа кровати, потому что спать вместе – неинтересно. Лишенные счастья, но обретшие смирение с жизнью в новом телевизоре или на удобном балконе – то есть в тех объектах житейского комфорта, способных вызвать стойкую привязанность именно к такому образу жизни. Они жмут плечами, называют такой быт стабильностью и боятся что-то менять, их чувства мечутся между раздражением и жалостью.
Это мужчины, находящие увлечения на стороне или увлеченные просмотром любимых программ после работы, когда ничто другое в собственном доме уже не вызывает интерес. Лысеющие апатичные мужчины с пузиком и с семьями, ставшими отягощающей, но неизбежной телегой, которую зачем-то надо толкать вперед даже в том случае, если от телеги осталось одно погнутое колесо, годное только на свалку.
И лучше никогда не задавать себе вопроса «Зачем?» Остаются два равнодушных друг к другу, не имеющих ничего общего человека, которым не хватает беды. В которых недостаточно самолюбия, чтобы просто уйти и попробовать начать другую жизнь, дать себе шанс на что-то человеческое – интерес к себе или реализацию своей способности любить. Не хватает той роковой ошибки мягкого пассивного партнера, в которой сможет родиться осознание: вот теперь меня здесь точно ничего не держит. Они продолжают жить, начиная ненавидеть друг друга без причин. Они ненавидят именно за то, что причин ненавидеть нет. Им их никто не дал. Им дали стабильность вазочки на подоконнике и мягкого дивана, на котором люди, сидя рядом, обречены всегда быть одни.
Снежимая
Она стоит – снежная. Недвижимая, но кружимая вихрем маленькой колкой метели. Снежная, кружимая… Сне-жи-мая. Только так – напевно, как песню, словно сбегая голосом по ступенькам. Она стоит совершенно белая – белый снег, белая шубка, белые губы. Мужчина возле нее кажется отбрасываемой ею тенью.
Белые губы складываются в такую же белую зимнюю улыбку:
– Ты кажешься грустным. Неприятности? Дурное настроение?
Что-то скрывать бесполезно – она почувствует фальшь, любое, самое незначительное напряжение уловки. Почувствует и моментально сорвет покров этой лжи, не оставив мне ничего. И я замерзну – голым в этом холодном вечере. Ищу в себе правду, но – другую. Стороннюю. Отдаленную. Как бы чужую.
– Думаю, что в этом мире человек остался только на страницах книг. По крайней мере, то, что мы считали человеком. Ни во мне, ни в тебе его нет.
– Возможно, ты прав.
Она с интересом разглядывает своего спутника, словно видит его впервые. Наверное, пытается увидеть, есть ли в нем человек. Свет, заглядывающий во тьму. Белая фигура на шахматной доске, изучающая фигуру черную. В этой партии победит белый, его больше, на его стороне – хаотично заметеливший все поле снег. Этот снег кажется мне сейчас продолжением женщины, ее неотъемлемой частью. Сне-жи-мая. Моя, да не моя. Мужчина рядом – ее супруг. Мой друг. Они любят друг друга. У них дома живет смешной большой пес по кличке Пират. Они немного бранятся, выясняя, чья очередь мыть посуду. У них на полочке стоит чашка с надписью «Насяльника уседа праф». Они долго обсуждают вдвоем, как постареют вместе, а по утрам тайком друг от друга находят в своих отражениях следы возраста и пугаются. Она ждет его с работы, он забывает о годовщинах, они выдумали для себя свой собственный язык. У них есть все это. А значит, совсем не важно, кого люблю я. Как и неважно, почему я кажусь грустным. Я грустный, потому что на улице зима. Потому что снег – белый. Потому что на нем лежат тени. Пусть я буду грустным просто так – поэтично и бессмысленно.
На прощание я целую их обоих.
Совпадение с собой
Человек совпадает сам с собой, к сожалению, всего несколько раз в жизни. Порой – всего один раз. Так бывает, к примеру, когда семнадцатилетняя девушка вдруг открывается миру в полный рост, влюбляется каждой порой, каждой молекулой, летает на встречи с друзьями, подмигивает юношам на танцах, живет так, будто весь мир – для нее, а потом вдруг угасает. В двадцать пять находит более молодую подругу и погружается в ее (уже чужую) жизнь. В сорок три натягивает молодежные джинсы, перекрашивает волосы, силясь реанимировать прежние озорство и азарт. В шестьдесят семь проваливается в воспоминания о юности, хоть как-то пытаясь вернуть то время, тот его короткий отрезок, когда она совпадала сама с собой – настоящей, внутренней – вплоть до счастья.
Или неуверенный растерянный молодой мужчина (о которых говорят «непутевый» или «неудачник»), слишком резкий с девушками от внутренней борьбы, хватающийся за любые проекты, задумки, не умеющий остановиться на чем-то одном, все больше путающийся в жизни, снедаемый осознанием собственной словно бы ирреальности в мире, полной нереализованности, вдруг, доходя до отметки семьдесят один, – успокаивается. Словно бы как в яму на лихой трассе падает – сам в себя. И становится именно тем, кем должен был быть всегда. Становится правильным. Даже черты его лица, непривлекательные в молодости, ближе к старости вдруг делают его красивым. А неуверенность становится плавными осторожными движениями, взвешенными и тайно любимыми. Мужчина обретает покой. Совпадает. Окупает и свое рождение, и смерть – разом и с процентами.
К сожалению, такое совпадение с самим собой в жизни случается редко. Иногда – только раз. А иногда – не случается вовсе. И потому нам так всего мало, и потому нам так сильно хочется найти нишу, в которую мы попадем, как фрагмент мозаики – ровно вдоль линии скул, по форме ладоней, по очертаниям внутренних демонов и ангелов. Попадем и скажем: «Да. Теперь я там, где должен быть. Теперь я тот, кем должен быть».
Соло безмятежности
Она предлагает мне сладкий имбирный чай в маленькой, украшенной цветами чашечке; она предлагает мне свое медленное вялое время – простое, правильное и солнечное, похожее на кусок янтаря с застывшим очертанием чего-то прошедшего внутри; она предлагает мне покорное согласие с каждым словом – не потому, что она действительно согласна с моими словами, просто они для нее не имеют значения – значение имеет только необходимость самого моего говорливого присутствия в ее жизни; она предлагает мне свое мягкое, немного линялое тело, спрятанное в джинсы и розовую кофточку (не столько от взглядов «чужих мужчин», сколько от собственных настойчивых комплексов, война с которыми проиграна в тот момент, когда на поле появилось главное оружие врага – осознание старения).
То есть она с готовностью предлагает мне все, чем обладает: с одной стороны, понимая, что этого ничтожно мало, но с другой – отчаянно желая верить в мою бытовую ложь, что этого вполне хватает нетребовательным мужчинам вроде меня. Все наши разговоры однообразны, как следы шин в подсохшей проселочной грязи – сколько не иди вдоль них, рисунок будет прежним. Я говорю:
– Тебе надо изменить прическу. Покрасить волосы в красный. Тебе стоит пересмотреть себя с нуля, чтобы прийти к новым открытиям.
Я говорю:
– Посмотри, то здание заминировано. От его дверей разбегается мощный, равномерный гул встревоженных людей, но через несколько метров совершенно исчезает, потому что равнодушие – лучший глушитель.
Я говорю:
– Завтра я уеду. Утром я вспомнил, что давно собирался заглянуть в жерло действующего вулкана, возможно, это поможет мне преодолеть распад собственной души.
Она отвечает мне:
– Люблю! Люблю! Люблю!!!
Это все, что она может ответить. Она не знает других слов. Она не знает других чувств. Она не способна представить другого мира за пределами этого бьющегося между маленьких украшенных цветами чашечек «люблю».
Наверное, это целенаправленный акт. Взвешенное решение (единственное действительно принятое ей). Возможно, она осознанно уравнивает себя с интерьером маленькой жилой площади, которую кто-то может назвать «родным домом»: с цветами в горшочках на окне, белым тюлем и просвечивающим сквозь него смоговым городским солнцем, с телевизором, работающим тихо, чтобы не побеспокоить соседей. Может быть, это ее способ избежать пугающего принятия решений, тяжелого выбора, то есть всего чуждого, требующего воли, силы, устойчивости и веры в себя. Может быть, даже ее «люблю» – не больше, чем необходимость в жизни стороннего человека, способного принять такого рода решения за нее, когда это становится необходимым.
Но даже в этой кажущейся двумерной простоте нет банальности. Если внимательно прислушаться к ее жизни, как к музыке, если позволить ей попасть в подсознание и звучать там хотя бы пятнадцать минут – то в этой примитивности откроется осмысленный способ быть собой, обретение себя в самых юных, наивных и честных представлениях о жизни. И она предлагает мне все, что у нее есть – она предлагает мне именно эту музыку. Я закрываю глаза. Я слушаю ее. Улыбаюсь. Соло безмятежности. Ритмика постоянного повторения, не требующая от своих инструментов никакой жизни – ни болезненных вскриков скрипки, ни почти сексуального хрипловатого голоса гитары (такими бывают голоса отъявленных ловеласов, уже списанных временем, но еще не растерявших былые навыки), ни-че-го. Музыка не сыгранная, а электронная, созданная в одной из множества программ композитором-ребенком.
Я бы мог остаться и слушать ее. В этом нет ничего плохого, в этом даже царит своя красота, это может вызывать восхищение. Я бы, наверное, смог. Но я никогда не узнаю об этом наверняка.
Назавтра я ушел.
Огни ночного клуба
Если ты поэт, то совсем не важно, какой инструмент в твоих руках – слова или глина, ноты или кисть, мастерок или нож, ножницы или спички – ты все равно будешь писать стихи. Даже тогда, когда никаких инструментов нет. А есть только ты сам, вечер и возможная череда выборов и поступков.
В ночном клубе свихнувшиеся огни бегают по потолку, по стенам, по разгоряченным телам танцующих, словно бы звездное небо порвалось и затекло сюда как в полую чашу. В ночном клубе гремит музыка, вибрируя и толкаясь басами в живот, словно живой зверь, не злой, но большой и неуклюжий. Девушку, с которой я сижу за барной стойкой, зовут Светлана. Это то, что она знает о себе, – имя Светлана, рождение в захолустном городке, еще пара лет учебы в университете. Она мечтает увидеть Санкт-Петербург и Эйфелеву башню. У нее нет никаких серьезных планов на собственную жизнь. Но я знаю о ней совсем другое. Я говорю:
– Ты помнишь песню из Мэри Поппинс «Само совершенство»? Мне кажется, она про тебя.
Девушка удивленно поднимает бровь и улыбается:
– Еще никто не сравнивал меня с Мэри Поппинс.
– Но я сравниваю тебя не с Мэри Поппинс. Я сравниваю тебя с самим совершенством.
Но мы здесь не для этого. Мы здесь, чтобы танцевать. И она хватает меня за руку и тянет к танцполу. Сейчас она мой Вергилий. Сейчас я ее Данте. Перед нами раскрываются врата, за ними ад и рай сошлись в едином порыве огромного движения, полностью подчиненные шумному зверю музыки. Говорю ей об этом, и на темном ночном полотне клуба сразу вспыхивает светлый художественный мазок ее беззаботного смеха. Она начинает танцевать. Ловлю руками ее легкое, почти птичье тельце, мягко и уверенно удерживаю, останавливая трепет, метания, рывки (словно она и вправду птица, желающая вырваться из тенет земного и взлететь). Света смотрит на меня, она пока не понимает.
– Я приглашаю тебя на медленный танец.
– Но ведь музыка не подходит для медленных танцев!
Улыбаюсь. Кончиками пальцев закрываю ей глаза. Наклоняюсь к маленькому ушку, к камушку сережки, поймавшему в себя радугу огней.
– Слушай ту музыку, которая звучит в тебе. Я тоже буду слушать только ее. И именно под нее мы будем танцевать. Окружающего мира больше не существует. Мы здесь одни.
Девушка начинает движение – медленное, плавное, совсем другое, более внутреннее, более потаенное. Она кладет руки мне на плечи. Ее лицо поднимается вверх, выше, словно бы сквозь ночь – к солнцу. Оно становится новым, удивительным, одухотворенным. Наше дыхание смешивается, становясь единым. Смешивается все. Мы оба слушаем музыку, звучащую в ее сердце. Мы танцуем. А потом она тянется к моим губам, находит их и падает в долгий поцелуй.
Великий океан
Я тону. Возможно, я живу под водой. Каждую ночь мне снится мировой океан. Нет, сны разные, они не повторяются, но каждую ночь в них неизбежно входит мировой океан. Это не тот океан, который способен раскинуться от берега до берега и без устали разбивать горбы волн о сутулые плечи-берега любовницы земли. Этот океан в каждом море, в каждой луже, в каждой капле воды из-под крана. Но вместе с этим раздроблением на источники и колодцы, брызги и облака пара он ужасающе един. И он снится мне. Раз за разом. Словно между нами неразрывная связь, прочнеющая с каждым годом, с каждым днем. Утром я просыпаюсь, забывая свои сны. Но потом я включаю воду. Я вижу капли дождя на окне. Я читаю слово «вода» в книге. Даже самое обычное печатное слово или слово, написанное от руки, – уже беременно этой великой громадой. И вся явь, вся реальность грозно искажается во мне – я снова слышу дыхание и голос мирового океана. Это уже не сон, это почти безумие. Потому что день за днем я безнадежно, даже с каким-то тайным ликованием тону. И песок уходит из-под ног, и волны мощными ударами разбиваются о грудь (вторая, третья!), и волны поднимаются высоко над головой (шестая, седьмая!), пока не кончится дыхание, пока не кончится дыхание (девятая!), пока… Потом дыхание наконец заканчивается, и все вокруг становится правильным.
Береги себя
Береги себя. Прощаюсь, закрываю дверь. Слушаю наступившую тишину. Я всегда боялся тишины, как иные боятся высоты или пауков. Мне кажется, что тишина не для человека. Точнее, человек не для тишины. Стоило сказать ей об этом, но я снова не смог, что-то внутри душит любые слова – правильные и нужные. Может быть, так происходит потому, что слова правильные, а я сам – нет? И это идиотское «береги себя», которое я постоянно повторяю. Совершенно нелепое, словно бы подразумевающее, что собеседник по умолчанию одинок в этом мире и рассчитывать может только на себя. Самое страшное, что я говорю это женщине, которую люблю. Которую этой ночью гладил по спяще-безвольному предплечью, по закинутому на меня бедру, по волосам, растрепавшимся по подушке. Гладил, замечая, какая она юная, беззащитная, хрупкая в этом сне, какая необычайно ранимая, какая нужная, незаменимая, важная для меня. Горло сдавливало нежностью, все мышцы напрягались, жадность и жажда любви кружили голову, но я всеми силами сдерживал рвущуюся из меня страсть и лишь осторожно гладил ее, чтобы не потревожить сон. А потом – «береги себя». Глупо. И стыдно. Воцарившаяся тишина стала мне честным ответом на мою мелочность. Я сказал ей: «Береги себя». Но вновь трусливо умолчал, что это чертова ложь, что мы обязательно должны остаться рядом, потому что только я, я сам хотел бы беречь ее каждую секунду этой скоротечной жизни.
Ухожу навсегда!
Мне около тринадцати лет. Я обижен на всех, никто меня не понимает. Я ухожу из дома. Собираю самые важные для себя вещи – недочитанную книгу и кассетный плеер (кассету я записывал сам, многие песни в ней наезжают друг на друга – сохранял их так, чтобы не было пауз, и запросто стирал долгие музыкальные вступления и окончания песен, считая их лишними, главным образом вслушиваясь именно в тексты). Бабушка в той же комнате старательно гладит белье, почти не обращая на мои сборы внимания.
– Уходишь?
– Да!
– Опять навсегда?
– Да!
Она пожимает плечами и продолжает водить утюгом:
– Хорошо. Обед в пять, будут котлеты.
Ничего не отвечая, я ухожу. Навсегда ухожу из дома – не в первый и не в последний раз. Выходя за калитку, оглядываюсь по сторонам и придумываю, куда же я уйду навсегда. В лес! Буду жить в лесу, построю себе шалаш, наберу грибов и ягод – с запасом на зиму. Или прямо пешком уйду в другую далекую страну! Наверное, не так это и далеко, не так сложно, особенно сейчас, когда лето, отличная погода, а у меня такие удобные кеды. Или пойду в город! Устроюсь там на работу и сразу стану взрослым и самостоятельным. С такими рассуждениями я дохожу до ближайшей поляны или пригорка, залитого солнцем, жужжащего стрекозами и кузнечиками, сажусь в траву и включаю музыку. Под музыку планировать собственное будущее намного веселее, появляются в этом эпизоды некоторой книжности: стану героем, буду любить красивейшую из женщин, в одиночку выиграю и остановлю страшную войну, построю собственный город, полечу исследовать новые миры! Будущее становится очень захватывающим, красочным, хочется попасть в него как можно скорее.
За этими мечтаниями я забываю про время. Сижу в траве, улыбаюсь мыслям, а большое солнце медленно и лениво проползает надо мной по небу. Живот начинает бурчать. Вытягиваю тонкие соломки травинок, жую самый кончик – мягкий, белый, сладковатый, отчего живот начинает булькать только сильнее. А предательские мысли от строящихся городов и космических ракет уходят в совсем другое русло – к бабушкиным словам «будут котлеты». Гоню их, но они настойчиво возвращаются. Я уже даже начинаю видеть эти злополучные котлеты – зарумяненные, поджаристые, ароматно дымящиеся, посыпанные укропчиком, запревшим от жара. На вспотевшей тарелке, по краям которой блестят капельки оседающего пара, иногда быстрыми ручейками стекая к краям золотого облака картофельного пюре. Эти мысли полностью захватывают мою голову, и пока я вяло борюсь с ними, сдавая позицию за позицией, ноги, оказывающиеся куда мудрее головы, поднимают меня и направляют верным направлением. Прихожу в себя и возвращаюсь в реальность уже стоя возле нашей калитки. Издали приветливо лает пес. Уходить куда-то теперь больше не имеет никакого смысла, поздновато, да и желание прошло. Открываю калитку и, смущенно понурив голову, бреду в сторону кухни. Завтра я снова обязательно попробую уйти. В этот раз – точно навсегда. И вернусь к обеду, до того, как моя все понимающая бабушка начнет волноваться.
Встреча с собой
Сколь многие из нас, уже взрослыми возвращаясь в места детства, чувствовали ту моментальную тонкую и пронзительную грусть, чье лицо – само время, явленное взору во множестве больших и маленьких перемен. Сколь многие думали, говорили, а зачастую и писали после: «Мир стал другим. Мир стал не тем. Мир стал хуже». И никогда, никогда не было важно, что за перемены произошли. Мир стал хуже просто потому, что стал другим. На месте старой перекошенной избы бабы Мани, возле которой паслись гусь Федька и коза Нона, которым ты таскал траву и с щенячьим восторгом сыпал из ладошек крупное желтое зерно, теперь вырос крепкий богатый дом, совершенно чужеродный. Территория облагорожена, убрана, но нет уже ни бабы Мани, ни Федьки, ни Ноны. Или, наоборот, та изба развалилась окончательно, и стоит ее безлюдный осиротевший остов памятником твоих воспоминаний.
Когда я сам вернулся в свой старенький дачный поселок, мое главное наблюдение было в том, что он стал… низким, что ли. Да, именно низким. Заросшие кустарником заборы, до верхушки которых я не мог дотянуться в свое малолетство, которые скрывали что-то удивительное, теперь стояли покоренными, высотой по грудь и совершенно прозрачными. А за заборами – самые обычные дома. Низкие-низкие, словно бы припадавшие к земле все время, пока я рос. Обычные дома. Еще одно отличие – в моем детстве не было обычных домов: к каждому из них прилагалась своя история, своя сказка или легенда. И чем непроглядней были кусты, чем выше заборы и неприступнее избы – тем удивительней были те истории. Когда я вернулся – все осталось прежним. Но все стало хуже. Стало уже. И та же острая, жалящая тоска, полная какой-то щемящей любви, сдавила горло.
В такие моменты возвращений мы часто словно бы ищем кого-то, кто виноват. Мы обвиняем в своей тоске перемены, мы говорим те слова: «Стало хуже». Легко этим обманываясь. Потому что очень часто ничего не стало хуже, иногда стало даже лучше – если посмотреть глазами стороннего равнодушного обывателя. Но у нас нет равнодушных глаз, у нас есть только то, что всегда вызывает смешивающее внутренний свет и внутреннюю боль чувство, – это встреча с самим собой. Встреча в сердце взрослого человека с ребенком, которым он был. Которым остался – здесь, рядом с бабой Маней, ее гусем и козой, с охапкой травы в руках или сыпучим зерном. И по какому-то негласному внутреннему закону, встречаясь с собственным прошлым, мы виним настоящее. Виним самих себя за то, что больше никогда не будем детьми. Это то, что мы по-настоящему умеем, – винить. Винить тогда, когда можно закрыть глаза, протянуть руку и пусть с печальной, но все же благодарностью почти коснуться подушечками пальцев курносой веснушчатой мордашки очень дорогой части собственной души, продолжающей стоять в этой высокой траве и страстно желать однажды вырасти выше всех в мире заборов, поросших густым, непроглядным летним кустарником.
Эпоха
Она умирает медленно, никуда не спеша, обрамляя свои дни легкой, изысканной и огромной скукой, словно бы в скуке есть философские изыскания и почти эротичная печаль на кончиках губ. Она смотрит в себя, листая множество мыслей, страниц, ажурных и беспомощно слабых чувств. Она ищет ответы на все вопросы, но ничего не находит, заочно уверенная в собственной мудрости. Она избегает силы рук и грязных луж с отражением слишком насыщенного солнца. Она любит мягкие диваны темно-бордового оттенка хорошего вина, ее называют светской и утонченной, но она не может построить ни одного дома, потому что на стройках века всегда слишком много пыли, способной испачкать белые шелковые перчатки. Мать без детей, она баюкает в колыбели собственную инертность, находя в ней выдуманную глубину, ругая молодое, крепкое, сбитое и грубое поколение – поколение, не читающее ее книг, поколение, не носящее ее кружев, поколение, которое наследует землю. Она говорит: «Так я живу», но на самом деле она умирает.
Предельно разные
Вы, конечно, предельно разные – это понятно по тысяче маленьких и больших несогласий, долгих, как гласные в прозе жизни. Вы, конечно, предельно разные – и, заядлый спорщик, ты раздуваешь дискуссии, ссоры, семейные скандалы, как иные раздувают пламя, чтобы выковать сталь. Вы, конечно, предельно разные – ты не веришь ни единому слову, но слова не заканчиваются, словно назло рождаясь грубыми, поспешными и неловкими. Вы, конечно, предельно разные – как две полноправные истины, никогда раньше не знавшие друг о друге, но столкнувшиеся лбами в одной тесной запертой комнате. Вы, конечно, предельно разные – никаких осмысленных компромиссов, и на этом можно было бы поставить точку. Но ты любишь ее, потому что, когда она указывает пальцем на небо и говорит: «Посмотри, в этом же нет ничего красивого», ты впервые понимаешь, что это так, навсегда переосознавая небо.
Красиво любить женщину
Любить женщину – одна из самых красивых вещей, существующих на Земле. Пишу эту фразу, и рука замирает над словом «вещь» – неправильно подобранным, неуместным словом. Конечно, не вещь, но что? Акт, явление, действо, холст, картина – произведение искусства, возведенное в ранг физической и духовной жизни. Любить женщину – это красиво. Не вожделеть, не добиваться, не удовлетворять победами над ней собственную гордыню, не хвастать друзьям, нет, – именно глубоко и честно любить. Любить на «Вы», почти холодно:
– Этот наряд очень идет Вам, Вы сегодня на редкость прелестны.
А у самого – дрожат руки, перехватывает дыхание, подкашиваются ноги, кожу предательски штурмуют войска мурашек! В голове бешено стучит крик «Люблю!», но снаружи ты усилием воли сдерживаешь этот шторм и целуешь ее запястье, едва касаясь губами. И запястье это (Ах! Ее запястье! Ароматное духами, тонкое, мягкое, хрупкое, невероятное!) вдруг затмевает весь мир.
– Не желаете пройтись по парку?
Звучит почти равнодушно, незаинтересованно, словно бы это пустяк. Но она улыбается, кивает, берет тебя под локоть, а ты прилагаешь титаническое усилие, чтобы пулеметное, бешеное сердце прямо сейчас не вылетело из груди, вскрикнув от счастья, и не разбилось вдребезги об асфальт. Мучаешь себя, выдерживая ровный шаг, спокойный уверенный голос (не дрожит ли?), элегантность и медлительность каждого движения – это почти больно (так больно!), но невыразимо прекрасно. Это надрывное, сильнейшее переживание счастья. Это та легчайшая романтика, жизни и страстей в которой куда больше, чем в иной эротике. Это весь огромный потенциал человеческой души, сжатый в кулак в одно мгновение.
Любить женщину так – это очень красиво. И своего совершенства такая красота достигает тогда, когда женщина – с первой скромностью, сохраняя свою изысканность и достоинство, – благосклонно отвечает взаимностью.
Твой поэт
Если бы твой поэт был простым человеком, возможно, он жил бы в городской квартире, ужиная в кресле возле окна и ставя тарелку с яичницей рядом с пепельницей. Возможно, он был бы женат, и жена не читала его стихов, часто выбрасывая в мусорку рукописи на салфетках. Она бы ругала его за бесполезную трату времени и за недостаток внимания к насущному: к ее теплым голодным формам и нежным сварливым чувствам. Возможно, поэт бы пил кофе по вечерам, капая в него спиртное, жаловался соседке на ноющую боль и хронический кашель – свое нажитое бытовое наследство. Возможно, его бы раздирали мигрени, и жена шла к холодильнику, чтобы достать оттуда крупные кубики льда, сложить в старый непригодный шарф и осторожно прикладывать к его вискам. Возможно, собственные дети его бы не слушались, потому что он проявлял к ним чрезмерную мягкость, но слушал бы кто-то другой, незнакомый, считающий его поэтом. Возможно, что долгота его дней (пепельница, шарф со льдом, наброски в мусорке) приобрела бы больший житейский трагизм, чем иной расстрел – быстрый и решающий. Возможно, он часто говорил бы глупости или что-то странное, легко пропускаемое мимо ушей его близкими. Возможно, он мечтал бы совсем о другом, но неизбежно принимал любую данность, шелушащуюся как нездоровая кожа на лбу времени. Возможно, он бросил бы литературу, смертно устав нести свою собственную голову. Все бы могло быть так, если бы ты только давала право твоему поэту быть простым человеком.
Женщины старше
Мне всегда нравились женщины старше меня. Сверстницы или более молодые, почти подростковые дамочки казались слишком инфантильными, слишком поверхностными, слишком испорченными современностью, а выращивать из такого незрелого семени «спутницу под себя» не было ни времени, ни желания. Нет, мне нравятся женщины старше – имеющие устойчивые взгляды, долю недовольства жизнью и циничную улыбку в арсенале. Женщины, которые говорят о мужчинах со слегка усталой иронией вместо жадного интереса. Женщины с медленной вдумчивой ретроспективой, с тем критическим, но спокойным взглядом в зеркало, который присущ людям, научившимся принимать реальность как есть, – без ошалелой гонки за модой и временным идеалом. Женщины, с которыми можно запросто обсудить работы Буковски или Рида, даже если сами они их не читали, потому что в любом случае им найдется, что сказать, не позволив превратиться диалогу в заунывно-познавательный, не вызывающий интереса монолог. Конечно же, со временем становлюсь старше и я, но вместе со внутренним ростом мне так и продолжают нравиться женщины более взрослые. Наверное, однажды (если я, конечно, смогу доползти до старости с этим жестким ритмом жизни, перманентными срывами и больным сердцем) придет моя очередь писать любовные записки мертвой невесте.
Настоящие мы
Мы становимся настоящими за одно мгновение. Случайно сталкиваемся на шумной городской улице, рассыпаем безадресные, заученные наизусть, равнодушные извинения, а потом замираем и удивленно рассматриваем друг друга, словно впервые встретились с человеком среди уродливых бетонных конструкций. Стоим, смотрим и становимся настоящими. Это ясно по резко обрушившейся на нас огромной и громкой тишине. Нет, вокруг все так же шумно – тишина воздвигается внутри. В ней различимы и крайне важны очень маленькие звуки: шорох одежды, кожаный скрип ремня сумки, сердцебиение (очень разное, мое топ… топ… топ… – глухие шаги старика по едва освещенному коридору, твое динь-динь-динь – музыка ветра, тонкие металлические палочки бьются друг о друга). Смотрим, вслушиваемся и понимаем – вот оно. Наконец-то настоящие. До этого были чужими даже для самих себя, а сейчас – родились, вылупились, стали. Теперь можно сказать: «Вот я, смотрите, вот!» И не поморщиться пафосу и наигранности слов. Вот я. Смотри. Голый, новорожденный, истинный, плохой и хороший перед тобой. Вот ты – смущенная, честная, живая. Все, что было раньше – сон, вымысел, неправда. Все происходит в одно единственное мгновение. А потом время прозрения истекает, я отвожу взгляд, ты пожимаешь плечами – и мы уходим каждый жить своей искусственной жизнью среди уродливых конструкций из бетона.
Поэзия на улице
Мы забыли поэзию на улице. Вон она – валяется в урне возле гипермаркета, по которому идут гиперлюди, обтирая о медленные ноги пакеты гиперпокупок. В урне среди смятых чеков, пустых упаковок одноразового сока и секса, среди окурков и использованных, утративших ценность характеров лежит поэзия. Вон она – грязный цветок на обочине кольцевой, посеревшее пылью лицо беззубого неба в чашечке лепесткового жухлого тряпья. Запятнанная смогом цивилизации безумная природа души, несовершенная и изуродованная, но все еще любимая мной. Вон она – в величии нищего человеческого тела, стоящего вполоборота к бензиновым лужам, к лоснящимся масляным блеском шкурам машин, к разбросанным на асфальте рублям в коросте бренности – с книгой в руке. С книгой, нотами или кистью. Вон она – лишенная картинок, букв, ртов, ее произносящих, дешевых жестов в социальных сетях, настоящая, плотная, истинная – до касания пальцами и острой боли в подушечках. Вон она – прямо на улице, где мы забыли о ней.
Типичный поэт
Вот так и бывает: приходит к тебе какой-нибудь типичный поэт. В карманах – острые камни и мятые птичьи крылья. На рукаве рубашки – наспех нацарапанные карандашом придуманные на ходу рифмы. Жилка на шее дергается – но кажется, что в такт внутренней музыке. В общем, обычный на вид человек, разве что глаза выдают. Глаза его – тонущий корабль, сквозь пробоины которого хлещет в трюм океан. И ничем никогда этот океан не вычерпать. Да и вычерпывать совершенно не нужно.
Приходит такой вот поэт и тащит тебя, например, гулять. Сопротивление совершенно бесполезно – он найдет убедительные слова, он в целом с легкостью находит любые слова, словно гортань его изнутри покрыта томами книг, словарями, клинописью. Вы с ним шатаетесь по городу. Ты родился в этом городе, он изучен тобой вдоль и поперек, знаком до каждого столба и до каждой облезлой бродячей кошки, знаком до привыкания, до ломки, до тошноты и повальной скуки. Но ты идешь с поэтом по опостылевшим улицам и понимаешь, что в ребрах этого человека застрял весь мир. Что мир этот намного больше, чем ты знал. Идешь, а поэт тебе рассказывает внутреннюю структуру бетона, как фундамента духовосприятия мягкого живого человека в твердой оболочке городских стен. Там, где ты всегда видел только бетонную стену да матерные лозунги маркером на ней. Вы просто шляетесь по улицам, а жизнь вдруг раскрывается мириадами новых граней и значений. Этот олух поэт становится для тебя проводником, первоискателем подлинных картин там, где ты знал только бессвязную мазню.
Именно за это ты будешь ненавидеть пришедшего к тебе однажды поэта. Потому что он уйдет. И унесет с собой показанную тебе вселенную. А уходя, обречет тебя смотреть на улицы, на прохожих, на корявые деревца, на бетонную стену – в попытке снова и снова найти в них что-то большее. Он уйдет, оставаясь драгоценным истоком для самого себя, но тебя проклиная жить твоей прежней жизнью, которая никогда уже не сможет принести удовлетворения. Потому что ты уже видел иное. Потому что теперь ты знаешь. В связи с этим я запираю двери перед каждым поэтом. Я не хочу умирать.
Об ангелах
Сначала я искал перья. Белые, черные, серые или даже синие – это не имело никакого значения. Я искал их под кроватью, искал на полках шкафа и в ящике с постельным бельем, искал в водостоке и под ковром. Я нашел две чайные ложки, давно потерянный перстень, мусор и странное вырезанное из бумаги солнце, но перьев не было.
Тогда я купил в охотничьем магазине бинокль и сутками наблюдал небо. Кажется, я изучил все повадки птиц и все виды облаков – перистых, слоистых, кучевых. Я начал разбираться в оттенках цветов – наблюдая, как медленно голубой или почти белый становится красным, фиолетовым или коричневым как твой кофе. Я долго смотрел, как летят самолеты: мне кажется, что я даже научился читать мысли людей в них. Я видел мириады звезд, но больше я ничего не нашел в небе.
Тогда я обратился к книгам, я читал их одну за другой: труды ученых мужей, труды праведников, труды зрящих в себя поэтов и труды обычных романтиков с широкими восторженными глазами, сквозь которые все чаще проступала детская, девственная любовь к жизни. Я сдувал пыль со страниц и складывал огромный пазл, решал головоломку, не имеющую названия.
Я объехал многие страны, я забирался в самые дикие районы, в самые заброшенные здания, в самые непроходимые леса. Я искал на вершинах гор и под водой. Каждому, кого я встречал на пути, я задавал один и тот же вопрос. Кажется, я спрашивал даже у огромных медленных рыб и у маленьких бежевых ящериц на стенах тропических хижин.
А потом я все же узнал, что ангелов не существует. И ты просто самый невероятный человек из всех, кого я когда-либо знал.
Ощущение друг друга
Она говорит: «Мы живем, полностью поглощенные ощущением друг друга». Внешнего мира не существует. Не существует стран, континентов, народностей, новостей, культуры, политики, общества, человечества. Не существует нагнувшихся к морю пальм, черных автомобилей, колец Сатурна, не существует даже сломанного стула без спинки в соседней комнате. Не существует никакой соседней комнаты. Не существует другого мира, кроме этого большого кресла, на котором маленькая женщина лежит на моей груди, теребит пальцами пуговицу рубашки и говорит очень большие слова.
«Ощущением друг друга». Ее дыхание тяжелое, усталое, но горячее – кажется, что таким дыханием можно обогреть весь город в декабре или зажечь костер на привале. «Ощущением». Я только учусь ощущать, она учит меня. Изучаю подушечками пальцев ее сжавшуюся в комок слабость, беспомощность и нежность. Нахожу шершавую мягкую ткань легкого свитера, почти неразличимые глазом тончайшие прозрачные волоски на виске, нахожу пальцами ее пересохшие губы, каждую трещинку на них, голос и молчание.
«Ощущением друг друга». Только так. Это очень, очень важно – «друг друга». Без этого общего, напряженного, внимательного порыва, протянутого от человека к человеку, скорлупа вокруг нас треснет, и внешний мир обрушится во всей своей огромной широте и громкости. Мы потеряемся, нас смоет волнами шума и света, растащит по разным берегам, по делам, по большим и маленьким неизбежностям. Все это, конечно, очень скоро произойдет, обязательно случится с нами. Просто, Господи, пусть не сейчас, не в это мгновение, когда она говорит: «Мы живем, полностью поглощенные ощущением друг друга», – а мне так хочется в это поверить.
Широкоскулая красота
Закрываю глаза и вижу ее. Очень самобытная, далекая от журналов широкоскулая красота, глубоко посаженные глаза, бледные, почти голубоватые щеки с рисунком проступающих сосудов. Красота, которую не взять с разбега, которую необходимо постигать долго, внимательно и бережно. Красота, которая не дается легко, но тем ценнее оказывается впоследствии. Красота идеально выглаженной неброской одежды пастельных оттенков, почти дерзко контрастирующей со смуглой, пористой и неровной кожей. Она для меня олицетворение века – старые истины и новый формат; движение атомов друг от друга – до невесомой полупрозрачности; амбивалентность роста и распада в едином сосуде. В каждом ее сосудике, просвечивающем насквозь. Откровенность и интимность. Желание нравиться всем и нелюдимая обособленность. У нее очень своя, неповторимая, уникальная красота – красота метеорита, сгорающего в атмосфере планеты. А потом я открываю глаза и снова вижу ее, приветливо улыбающуюся. Мне чертовски повезло.
Наука человека
Каждый человек являет собой полноценную науку, требующую отдельного тщательного изучения. Собственных терминов, теорем, аксиом и законов. Я пишу шариковой ручкой на лопатке женщины: «Сатурн в голове, красная сирень, две ложки сахара». Я жажду познать непознаваемое. Я хочу записать обычной ручкой структуру души. Продолжаю писать: «В ее постели тридцать две подушки и ни одного одеяла. Ее рука – белая меловая полоса, подчеркнувшая угольную кляксу лохматых волос. Подчеркивание. Значимость. Каждый человек – самостоятельная наука». Эта женщина с испачканной чернилами лопаткой – наука в десятки, в сотни раз более сложная, чем все, которые я изучал раньше. Я говорю ей об этом, начиная стирать все, что успел написать. Она улыбается. Она принимает мое признание в любви.
Писать настоящее
Давай сделаем так: будем писать только настоящее. Это большие вечные истины затасканы и вторичны, а настоящее всегда зашкаливает, всегда полно неповторимых образов, проживаемых только сейчас. Настоящее не повторится – твое настоящее не сможет повторить никто. А вот прийти к мысли, допустим, о вреде курения или пользе добрых дел способен почти каждый. Для начала давай определимся, что маленьких незначимых событий не существует. И где бы ты ни был, что бы ты ни делал – все стоит внимания. Для литературы – вдумчивого анализа. Тем более если от этой литературы за милю несет поэтищиной.
Предположим, ты сидишь в кресле перед монитором. Сидишь уже пару часов, гоняя чаи в поиске каких-то новых идей в себе. У тебя затекла спина и начала ныть. Прекрасно. Боль – это общее понятие, принадлежащее всем. Боль в затекшей спине сейчас – только твоя. Она имеет свою уникальную форму, свое собственное слово. Она может быть горячей или холодной, она может, как фикус из горшка, расти из безыдейной пустоты в твоей голове, медленно барахтая ластами нытья в ленивом поиске вдохновения. У нее есть свой смысл, своя очень интимная, властная и откровенная суть. Свой духовный образ рождения бесплотной идеи из твердого позвоночника больной спины.
А если не ноет спина, то под замерзшими босыми ногами остается плитка пола, за окном – городской гомон, в мониторе – веселые рожи друзей и огромный размах реальности вокруг как сумма бессчетного количества тем, как рог изобилия пищи для ума и беспрерывное открытие жизни во всех ее ипостасях. Давай сделаем так. А то, знаешь ли, так надоело читать в каждом новом письме одно и то же.
Склонность возвращаться
У тебя есть склонность возвращаться. Возвращаться домой, едва успев отойти на десяток шагов от порога, чтобы заново пережить надежность и тепло дома. Или возвращаться к кусту сирени, мимо которого ты легко пробежала в своих смешных оранжевых босоножках, чтобы заново пережить запах и цвет. Точно так же ты приходишь ко мне, тянешься вверх, становясь тонкой и невероятной, вызывая спонтанное желание обнять эту новую явленную мне ось вселенной, и говоришь: «Сейчас я проживаю твои руки». А вырвавшись из объятий (почти болезненно для меня), улыбаешься: «Мне бы хотелось прожить их снова».
У тебя есть склонность возвращаться, которую я называю склонностью жить. Жить предельно внимательно и чутко, касаться маленькой ладонью огромной поверхности мира и вслушиваться в каждое ощущение, дарованное этим прикосновением. В каждое мимолетное, казалось бы, незначимое ощущение, пересоздавая его масштабным и глубинным. У тебя есть прекрасная склонность всегда возвращаться к подлинному чувству жизни. А у меня есть склонность любить тебя за это.
Еще один раз
Вспоминаю сейчас: когда-то я был подростком, был полон шального мужества, верил в собственное бессмертие и смело называл себя поэтом. Когда-то я был мальчиком: бабушка поправляла край одеяла, сдувала пряди волос с моего лба и целовала, желая спокойной ночи. Вспоминаю, что никогда не засыпал сразу – еще какое-то время неподвижно лежал, ничего не планируя, просто слушая жизнь вокруг. Вспоминаю, что обожал мультики, что в один день раздарил все свои игрушки друзьям, вызвав недовольство родителей.
Сейчас я пытаюсь посмотреть на мужчину, которым стал, на мужчину, у которого нет времени, на мужчину, снимающего одежду с женщины, на мужчину, привычного к уколам обезболивающего. Посмотреть пристально и снова увидеть того мальчика, которым был. Того часто робкого, полного комплексов подростка, прикрывающего собственное смущение показной дерзостью, неумелой и угловатой. Того юношу, под завязку начитавшегося книг и пытающегося воплотить прочитанные судьбы героев в реальность. Того пацана, который отчаянно притворялся за школой, что умеет курить наравне со старшими товарищами, надувая дымом щеки и боясь вдохнуть.
Я вспоминаю себя самого, и мне хочется прожить свою жизнь снова. Не чтобы изменить прошлое, сделать что-то лучше или более правильно. Просто. Прожить. Свою жизнь. Еще. Один. Раз.
Звездная система
– Ты когда-нибудь чувствовала себя звездной системой?
Улыбаюсь. Обнимаю ее со спины, уткнувшись лицом в поистине весеннее разнотравье волос в долгом-долгом поцелуе в макушку. Настолько долгом, что это уже не поцелуй, а нечто другое, чему не дано определений, но что явственно живет в людях. А макушка ее горячая как солнце. И это – звездная система. Потому что моя жизнь – это свобода и камень, это пронзительный ветер на вершине горы и пощечина неба. Это такси возле дома, вызванное ранним зимним утром, это парсеки событий, слов, лиц и крошащейся под ногой гальки обезлюдевшего Финского залива. Это открытые нараспашку окна, в которые оползнем валятся звезды, и человек на неразобранной кровати, пишущий во сне стихи. Моя жизнь – широкая орбита, по которой этот человек медленно плывет, не просыпаясь, не слыша камнепада звезд в распахнутом окне, но неизбежно чувствуя замерзшие пальцы ног и рук, упирающиеся в космос.
Но я все же целую ее лохматую макушку, горячую как солнце. Как солнце – безраздельно и торжественно царящую в зените моей звездной системы, согревающую и наполняющую жизнью каждый заиндевелый камень внутренних планет. Смешную кудрявую макушку, заслонившую собой наморщенный веснушчатый нос и розовые щеки. Я спрашиваю ее:
– Ты когда-нибудь чувствовала себя звездной системой?
Потому что где бы ни проходила моя орбита – я снова и снова возвращаюсь, чтобы еще раз поцеловать эту девчонку. Ведь она – эпицентр моей собственной души.
В моей голове
В моей голове звучит музыка. В моей голове по-шамански ритмично стучат барабаны и протяжно, протяженностью в века, кричит скрипка. В моей голове стоит письменный стол, за которым я пишу все, что хочется, нужно или не нужно писать. В моей голове книжные полки уходят в никуда, а каждая книга на них имеет свой язык и свое лицо. В моей голове стоят скульптуры без глаз, выстраиваясь в каменные леса на сотни гектаров. В моей голове темно, но свет включается тумблером справа. В моей голове растут города, их здания пускают корни в недра земли. В моей голове океан, в котором тонут любые корабли. В моей голове мрачные коридоры ужаса выводят странников на поляны, залитые солнцем. В моей голове солнце в пределах досягаемости руки – мокрое и вязкое на ощупь. В моей голове еще не зародилась жизнь и уже закончилась смерть. В моей голове нет значения, но есть водовороты в небе, являющие собой бесконечный процесс. В моей голове пространство огромно – я вывожу спутники на орбиту, изучая звездные скопления и квазары. В моей голове галактики лежат в чаше, из которой я пью. И никто не нужен мне в моей голове. И незачем возвращаться в реальность.
Вера в людей
Порой шаркаешь ногами по улице (знаете, так устало, как человек после тяжелого труда), хмуро из-под бровей смотришь вокруг и думаешь, что люди ожесточились. Что люди стали злее. Стали равнодушнее. Что проходящая мимо женщина в тяжелой шубе в своей занятости скорее пройдет по тебе, чем протянет руку, если ты упадешь. Что угрюмый мужчина на остановке наверняка толкнет локтем – не глядя, пробивая себе путь к вожделенной замызганной двери автобуса. Думаешь, что люди стали чужими друг другу. Как будто что-то во всех нас треснуло, сломалось разом и уже не подлежит ремонту. Как будто весь город стал сутулым, ворчливым и тоскливым, как будто он перестал быть для живых. Перестал быть для нас. Порой так бывает. Но когда такие мысли приходят мне в голову – я встаю на защиту этих измученных людей, я сражаюсь за них с самим собой. Именно эти равнодушные люди пускали меня на ночлег, когда некуда было идти. Именно эти ожесточенные люди кормили меня, когда я был голоден. Именно эти озлобленные люди открывали мне двери, хватали с силой за плечо: «Держись!», оказывались рядом, если было тяжело. Именно эти люди, именно они. И кажется, что если именно сейчас, когда апатия сковывает мышцы, когда серая пелена опускается на глаза, я не восстану за каждого, я не дам этот бой – то все исчезнет, то жизнь не сможет больше прорасти в наших душах. Поэтому я раз за разом сражаюсь за нас. И знаю точно, что в этом не одинок.