Читать онлайн Элеонора Дузе умирает в Питтсбурге / Eleonora Duse Dies in Pittsburgh бесплатно
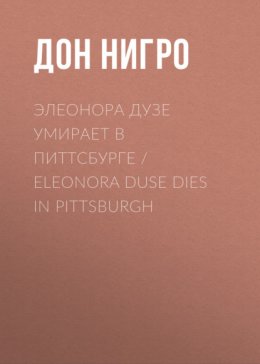
Действующие лица:
ЭЛЕОНОРА ДУЗЕ
ДЕЗИРИ
ГАБРИЭЛЕ Д’АННУНЦИО
САРА БЕРНАР
ЭНРИКЕТТА, дочь ДУЗЕ
ГЕНРИК ИБСЕН
БЕНИТО МУССОЛИНИ
ЕВА, молодая актриса
Декорация:
Номер в отеле «Шенли» в Питтсбурге. Апрель 1924 г.
(Свет, его яркость постепенно увеличивается, падает на ЭЛЕОНОРУ ДУЗЕ, которая, привалившись к подушкам, полусидит в кровати, расположенной по центру номера отеля в Питтсбурге, в апреле 1924 г. Мы видим вокруг мебель, справа окно, с достаточно крепкой рамой, чтобы влезть/вылезти из него, но стен нет. Вместо них номер окружен темнотой, словно мебель оставлена на сцене для репетиции. У изножья кровати большой, много путешествовавший по свету сундук. У кровати справа маленький столик, слева большой шкаф, два деревянных стула и деревянный стол, на котором фрукты, сыр и мясная нарезка, справа на авансцене, слева – мягкое кресло. ДУЗЕ кажется маленькой, увядшей женщиной лет шестидесяти пяти, все еще очаровательной, но потрепанной жизнью и меланхоличной. Когда она говорит, возникает магия, в большей или меньшей степени. В зависимости от ее желания. Она – величайшая актриса своего времени, но с финансами ситуация в настоящий момент не очень, и ее время практически на исходе).
ДУЗЕ. Апрель тысяча девятьсот двадцать четвертого года. Питтсбург, самый отвратительный город на свете. Но все будет хорошо, все будет хорошо, все обязательно будет хорошо. Мой кошмар всегда один и тот же. Из окна моего номера в отеле «Шенли» видна эта роскошная конюшня, где я выступаю. Сирийская мечеть, та же дурно пахнущая пещера в «Аду» Иеронима Босха. Здесь всегда идет холодный дождь, наполовину лед, наполовину – экскременты. И однако я настаиваю на том, чтобы идти в театр пешком. Сражение, поиск, паломничество. Я всегда была довольно упрямой женщиной, но и мягкой, как струящаяся вода. Прогулка успокаивает меня. Я всегда была нервной, меланхоличной, но при и непринужденной. Загадкой, для мужчин и женщин, но и простой, как этрусская напольная мозаика. Пешком, пешком, пешком. Дождь льет, как из ведра…
ДЕЗИРИ (выходит из темноты слева, постоянная компаньонка ДУЗЕ, домоправительница, подруга. В руках поднос с тарелкой супа и вазой с белой розой). Что ты репетируешь? Тебе надо отдыхать. Что это за пьеса? Не узнаю текста. Неважно, не говори, отдыхай, береги голос. Я принесла тебе суп.
ДУЗЕ. Не хочу я суп.
ДЕЗИРИ. Суп пойдет тебе на пользу.
ДУЗЕ. Не хочу я есть питтсбургский суп.
ДЕЗИРИ. Это не питтсбургский суп, это мой суп. Я его сварила. Сама свернула голову курице. А теперь поешь.
ДУЗЕ. Может, позже, Дезири. После спектакля.
ДЕЗИРИ. Какого спектакля? Этим вечером спектакля не будет.
ДУЗЕ. Разумеется, спектакль будет. Спектакль у нас каждый день. Я не могу разочаровывать хороших людей Питтсбурга, штат Огайо.
ДЕЗИРИ. Пенсильвания.
ДУЗЕ. Что?
ДЕЗИРИ. Это Пенсильвания. Я помню, потому что еще подумала, как это нелепо, привозить величайшую актрису современности, играющую Ибсена и д’Аннунцио, в место, названное в честь карандаша. И ты не разочаруешь хороших людей Питтсбурга, даже если они и есть, потому что спектакль отменили.
ДУЗЕ. Спектакль нельзя отменить, пока я не скажу, что он отменен.
ДЕЗИРИ. Так написано в газетах.
ДУЗЕ. Газетах? Меня волнуют газеты? Здесь никто не умеет читать. Они хотят видеть меня.
ДЕЗИРИ. Эти люди будет так же счастливы, сидя на большом коровьем пастбище и наблюдая, как грязные старые матросы, которые жуют табак и никогда не моют усы, лупят длинными палками по маленькому мячу.
ДУЗЕ. Дезири, ты сошла с ума? Что ты такое лопочешь?
ДЕЗИРИ. Это правда, говорю тебе. Я подслушивала горничных. Здесь есть пираты, и они гоняются за мячами с палками, и забивают их до смерти, а потом все бегают кругами, и что-то крадут[1]. Это ужасное место.
ДУЗЕ. Мне без разницы, что они делают. Я – Элеонора Дузе, и я должна выступать, даже в Чистилище.
ДЕЗИРИ. Ты – старая, больная итальянка, тощая, как стервятник, и ты должна съесть суп. И чтобы он исчез до моего возвращения, до последней капли. А не то я очень на тебя рассержусь.
ДУЗЕ. Да, хорошо, просто уйди. НЕ хочу, чтобы ты смотрела на меня черным глазом, когда я буду есть твой паршивый суп.
ДЕЗИРИ. Это прекрасный суп. Хорошая курица умерла ради этого супа. Курица с семьей. Уважай мой суп. Я собрала всю волю в кулак, чтобы выйти из гостиницы и купить тебе свежие овощи. Съешь суп и немного отдохни.
ДУЗЕ. Просто уйди и оставь меня в покое. А еще берегись этих пиратов с палками.
ДЕЗИРИ. Я подготовилась к встрече с ними. Когда иду за покупками, беру с собой мясницкий тесак, чтобы защитить им свою честь.
ДУЗЕ. Сомневаюсь, что он тебе понадобится.
ДЕЗИРИ. Что ты сказала?
ДУЗЕ. Ничего. Уйди, просто уйди.
ДЕЗИРИ. Америка – дикая страна. В Кливленде индейцы. В Чикаго – медведи[2]. Здесь – пираты. Ужасная страна для театра. (Уходит в темноту).
ДУЗЕ. Не хочу я этот суп. Я должна встать и двигаться. Не могу оставаться в кровати, а не то мои ноги пустят корни, которые прорастут сквозь пружины. (Ставит поднос на прикроватный столик, с трудом вылезает из кровати). Ходить, ходить, ходить. Вокруг тутового дерева, вокруг квартала. Дождь льет мне на голову. Стена закрытых дверей приветствует меня, все заперты, кроме одной, и ее я не могу найти. Я бреду вокруг квартала, стучусь в двери, одну за другой, но никто не отвечает, никто не впускает меня. Я – актриса. Моя жизнь была такой всегда. Запертые двери – моя судьба. Льет ледяной дождь. Мои волосы смерзаются. Где у этих глупых мужланов дверь на сцену? Или они рассчитывают, что я вскарабкаюсь по стене, как обезьяна? Я в пьесе которая называется «Ла Порта Кьюза (La Porta Chiusa)». «Запертая дверь». Не люблю я совпадения. Они очень напоминают мне тяжелую руку драматурга, жестко контролирующего свои пьесы. И, раз речь зашла о драматургах, что это за запах? Господи! Я везде узнаю этот дешевый одеколон.
Д’АННУНЦИО (из темноты). О, моя любимая, моя радость, моя жизнь, где ты?
ДУЗЕ. Боже, он меня нашел. Явился, чтобы мучить меня в моем бреду, этот усатый, напыщенный сукин сын. Он разбил мое сердце на тысячу осколков. В них отражается мое морщинистое, усталое лицо, как в разбитых зеркалах.
Д’АННУНЦИО. О, мой драгоценный цветок, где ты?
ДУЗЕ. Как это похоже на театр: долгое, со взлетами и падениями путешествие по лабиринту зеркал к тому месту, где с тебя снимают панталоны.
Д’АННУНЦИО. Сладенькая? Маленькая? Сахарные сосочки? Выходи, выходи, выходи, где ты прячешься? Это же я, твой герой, твой рыцарь.
ДУЗЕ. И что ты делаешь, шныряя в темноте, как мышь – за ночным горшком? Выходи в свет. Ты пахнешь, как французский бордель.
Д’АННУНЦИО (появляется из темноты в глубине сцены, из-за шкафом, усатый денди, дамский угодник, теперь уже миновавший свой пик, но по-прежнему обаятельный). О, моя любимая. Моя обожаемая. Мой розовый бутончик.
ДУЗЕ. Пойди и нассы на себя.
Д’АННУНЦИО. Надеюсь, любовь моя, ты уже не злишься на меня.
ДУЗЕ. Не собираюсь я расточать свою злость на надушенный мешок с овечьим дерьмом, вроде тебя.
Д’АННУНЦИО. Я чувствую в твоем тоне едва заметный привкус горечи, любовь моя. Не пытайся этого отрицать. Женщин я знаю, как скаковых лошадей.
ДУЗЕ. Потому что спал и с теми, и с другими.
Д’АННУНЦИО. Ты жестока ко мне, моя маленькая вишенка, а я так сильно тебя любил, и ты это знаешь.
ДУЗЕ. Ты сильно любил себя. А до меня мы изредка нисходил, между скаковыми лошадьми и овцами.
Д’АННУНЦИО. Это совсем тебе не к лицу, знаешь ли. Такая очаровательная женщина, как ты не должна быть столь озлобленной, столь жестокой. От этого в твоем лице начинает проступать страдающая запором горгулья.
ДУЗЕ. Твои медовые разглагольствования на этот раз не сработают, д’Аннунцио. Да и что ты делаешь в Питтсбурге?
Д’АННУНЦИО. Ты сердишься, дорогая моя? Разве ты можешь сомневаться в моей любви к тебе? Да ради того, чтобы поцеловать маленькие пальчики на ногах моей любимой, я готов помчаться на край света. И, похоже, здесь тот самый край. Вечно гоняться за тобой – моя судьба, моя мука и мой экстаз.
ДУЗЕ. Только если больше тебе не с кем прелюбодействовать.
Д’АННУНЦИО. Ты гневаешься на меня, а ведь в прошлом ты не позволяла мне сомневаться в том, что мои чувства к тебе не остаются безответными.
ДУЗЕ. В прошлом я была молодой и глупой. Теперь я мудрая, больная и в Питтсбурге, и я хочу, чтобы ты ушел.
Д’АННУНЦИО. Ох, пожалей меня, мой маленький цветок. Ты знаешь, нет у меня выбора, кроме как заняться с тобой любовью.
ДУЗЕ. Или, если меня вызовут на пять минут, с тем, на что ты успеешь взгромоздиться, включая и магазинные манекены.
Д’АННУНЦИО. Был только один такой инцидент, но она была такая красивая, пусть немного и зажатая. На моем жизненном этапе, дорогая, у мужчины нет никакой возможности изменять своим привычкам, особенно дурным, потому что они приносят максимальное удовольствие. Но тебе меня не обмануть, моя маленькая голубка. Я знаю, что ты меня по-прежнему любишь.
ДУЗЕ. Нет, любовь я переросла. Что у меня осталось, так это моя работа. Любить тебя все равно, что ночь за ночью оказываться распятой на кресте. Очень похоже на игру на сцене, но без аплодисментов. Так что теперь я прилагаю все силы, чтобы не оставить в себе ничего личного, превратиться в пустой сосуд для моего творчества.
Д’АННУНЦИО (берет ее руки в свои, заглядывает в глаза). В пустой сосуд – да, но не для искусства… Чтобы я наполнил его любовью. Моя несравненная, твои руки холодны, как лед. Ты должна немедленно вернуться в постель.
ДУЗЕ (позволяет ему помочь лечь в постель). Да. Я без сил. Мне нужно отдохнуть перед спектаклем.
Д’АННУНЦИО. Совершенно верно, дорогая моя. Отдыхай. А я лишь прилягу рядом с тобой, чтобы помочь тебе согреться. (Приподнимает одеяло, чтобы забраться под него).
ДУЗЕ (бьет его подушкой). Поди прочь, похотливый хряк.
Д’АННУНЦИО. Да, хряк, если хочешь, но не просто хряк. Я жажду твоей любви. Твои соски для меня – драгоценные трюфели. Я – обожающий тебя хряк.
ДУЗЕ (хватает перьевую ручку с прикроватного столика). Уйди от меня, а не то я воткну эту ручку в твой лиловый нос.
Д’АННУНЦИО. Перестань, любовь моя. Зачем откладывать неизбежное? Ты знаешь, что совокупление позволит тебе расслабиться.
ДУЗЕ. Я отказалась от совокуплений.
Д’АННУНЦИО. Мы также знаем, что отказ от чего-либо тебе не свойственен.
ДУЗЕ. Это правда. Я по природе эгоистична, безжалостна и предрасположена к насилию.
Д’АННУНЦИО. Да, и дьявол всегда прятался в твоих панталонах. Нет, подожди, это был я.
ДУЗЕ. Да. Я верю, что ты – дьявол.
Д’АННУНЦИО. Нет, я не дьявол. А может, он самый. Я – дьявол? Нет, я не дьявол. Я всего лишь величайший итальянский драматург, величайший писатель и величайший поэт, если не считать Данте, и я не считаю Данте, потому что, ты знаешь, он был ужасным человеком, который сам не знал покоя, а его лицом пугали детей. Но я не дьявол. Некоторые называли меня литературным богом, но я слишком скромен, чтобы примерять к себе такое сравнение.
ДУЗЕ. Ты большущий, мерзкий вонючий кусок прелюбодействующего гипертрофированного самолюбия.
Д’АННУНЦИО. А ты, дорогая моя, слишком часто и надолго затеряна в туманности Мистического неведения. (Видит тарелку с супом). Ах, суп. (Начинает есть).
ДУЗЕ. Уйдешь ты, наконец, и позволишь мне умереть?
Д’АННУНЦИО. Ты не можешь умереть, любовь моя. Ты бессмертна. Прошлым вечером ты играла бесподобно.
ДУЗЕ. Прошлый вечер я провела в постели.
Д’АННУНЦИО. Да, и это было выдающееся выступление.
ДУЗЕ. Это была не я.
Д’АННУНЦИО (садится рядом с ней на кровать и ест суп). Тогда кто-то, почти не уступающая тебе в мастерстве. Ох-х-х. Этот суп божественный.
ДУЗЕ. На выдающееся выступление кто-то не способен. Так выступить можешь только ты. Я так устала, что больше не могу говорить. Ты знаешь, я на сцене с четырех лет. Мои родители были актерами. Собираем вещи. Мы переезжаем. Это все, что я слышала в детстве. И наверное, эти слова я услышу последними в своей жизни.
Д’АННУНЦИО. Что ж, какими-то они должны быть. Крекеры у тебя есть?
ДУЗЕ. Мой дед был великим актером. Отец – ужасным, думаю, потому что театр он ненавидел. И да, столько исступления, суматохи и боли и ради чего? Имеет ли теперь значение, кто получал больше всех, и что написал рецензент, и заснула женщина в первом ряду во время любовной сцены, или ушла из зала, или умерла? Все это было так давно, и актеры растаяли, как туман. Сколько мне лет?
Д’АННУНЦИО. Ты старше меня. (Замечает еду на столе на авансцене). Это же надо. Фрукты! (Идет к столу). И салями. У тебя есть салями. О-о-о-о!
ДУЗЕ. Я не старше тебя. Или старше? Я так не думаю. Давай поглядим. Я родилась третьего октября тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года, то есть мне шестьдесят пять лет. Мне шестьдесят пять дет.
Д’АННУНЦИО (делает себе сэндвич с салями). И все же, что удивительно, меня влечет к тебе. Такого молодого мужчину, как я. У тебя есть сыр проволоне? Ага, вот же он. Это восхитительно.
ДУЗЕ. Бедные актеры. Постоянные переезды из города в город. Странствующие в лабиринте. К чему-то стремящиеся. Теряющие путь. Я родилась в поезде по пути в Милан. В семь лет была суфлером, в четырнадцать сыграла Джульетту в Вероне. Наша труппа была такая бедная и все казалось так безнадежно. Большинство актеров умерли к тому времени, когда мне исполнилось двадцать лет, и я осталась одна.
Д’АННУНЦИО. Все актеры одинокие. Ладно, все одинокие, но актеры особенно.
ДУЗЕ. Да, именно поэтому мы льнем друг к дружке, именно поэтому мы льнем к тому, кто в тот момент ближе всего. Мы держимся на драгоценную жизнь. Именно поэтому нас не хоронят на освященной земле. Те одинокие, которые говорят правду, не могут оказаться среди спасенных.
Д’АННУНЦИО (с полным ртом, но достаточно различимо). Спасенные и проклятые – суть одно. И, честно говоря, не знал я актера, достойного похорон где-либо, помимо придорожной канавы. За исключением, разумеется, тебя, любовь моя. Должен признать, к полному моему изумлению, пусть это невероятно, в Питтсбурге потрясающе хороший проволоне.
ДУЗЕ. Все, с кем я тогда играла, думали, что я безумна. Тощая, хрупкая на вид девушка, которая отказывалась поступаться принципами. Они хотели величественных жестов и помпезности. Я пыталась играть просто, правдиво, на эмоциях. Они это воспринимали, как непрофессионализм. О, как они меня ненавидели!
Д’АННУНЦИО. Посредственность все меряет линейкой собственной ограниченности. Она может только утверждать, что любое новшество должно восприниматься, как неудачная попытка повторить то, что уже известно.
ДУЗЕ. Никого нельзя называть посредственностью. Все люди несут в себе что-то божественное, какую-то внутреннюю правду.
Д’АННУНЦИО. Да, и я – Наполеон Бонапарт. Умелая посредственность всегда приложит все силы к тому, чтобы убить искру творчества в настоящем художнике. И в большинстве случаев успешно убивает. Но с тобой у них ничего не вышло, любовь моя. Ты всегда была очень упрямым маленьким сорванцом.