Читать онлайн Монастырь и тюрьма. Места заключения в Западной Европе и в России от Средневековья до модерна бесплатно
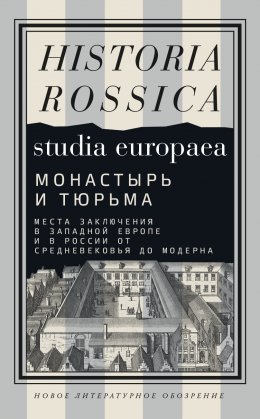
Фальк Бретшнейдер, Катя Махотина, Наталия Мучник
МОНАСТЫРЬ И ТЮРЬМА. ВВЕДЕНИЕ
Монастырь и тюрьма – для некоторых это может показаться довольно странной аналогией, поскольку, на первый взгляд, эти два учреждения имеют мало или вообще ничего общего друг с другом. Монашество, широко распространенное в христианстве с поздней Античности, подразумевает добровольное уединение от мира с целью поиска близости к Богу через аскетизм и молитву. А тюремное заключение преступников и других изгоев общества, которое широко распространено в Европе с XVI века, практикует лишение свободы передвижения и направлено на защиту общества, а также наказание или исправление проступков. Итак, на первый взгляд, монастырь и тюрьму мало что связывает. И все же между добровольным заключением и лишением свободы с целью наказания или дисциплинирования существуют многочисленные параллели, на которые социологи обратили внимание довольно рано. Американский социолог Ирвинг Гофман, например, причислял к идеальным типам «тотальных институтов», разработанных им в 1960‐х годах, не только «тюрьмы, пенитенциарные учреждения, лагеря для военнопленных и концентрационные лагеря», но и «места уединения от мира [, такие как] аббатства, монастыри, обители и другие монашеские общины»1. Все эти институты, по мнению Гофмана, характеризуются тем, что все повседневные дела происходят в них в одном и том же месте и подчиняются единому авторитету. Члены таких учреждений живут в принудительном сообществе, где все и каждый имеют одинаковое обращение. Все этапы повседневной жизни спланированы до мельчайших деталей и предписаны сверху четкими правилами. В конечном итоге деятельность заключенных складывается в грандиозный рациональный план, направленный на достижение официальных целей учреждения2.
При формулировании своих тезисов Гофман уделял мало места эмпирике о монастырях и других религиозных общинах, и в основном он полагался на свои наблюдения в психиатрических клиниках. По-другому действовали два немецких социолога Хуберт Трейбер и Хайнц Штайнерт, которые сравнили условия жизни и работы в средневековых монашеских общинах и в замкнутом мире фабричных поселений около 1900 года в своем исследовании «Die Fabrikation des zuverlässigen Menschen» («Фабрикация надежного человека»), впервые опубликованном в 1980 году.
Их исследование «избирательного сродства»3 между монастырской и заводской дисциплиной основано на убедительном аргументе, что Правило Святого Бенедикта в VI веке создало программу «методической жизни», которая продолжает предоставлять формы, практику и методы организации дисциплины в совершенно разных институциональных контекстах. Эта программа и сегодня предлагает формы, практики и методы организации дисциплины в совершенно разных институциональных контекстах: например, закрытая архитектура, позволяющая осуществлять максимально тотальный контроль, строго иерархическое структурирование социальных отношений, строгий режим времени («диктатура пунктуальности») или продуманная система санкций, заставляющая людей вести себя определенным образом4. Наконец, Мишель Фуко рассуждал аналогичным образом в своем весьма влиятельном исследовании «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы», опубликованном в 1975 году, где он обратился к монастырской традиции пространственного разделения и ограничения и проследил, как один из важнейших архитектурных элементов современной тюрьмы – одиночная камера – восходит к монастырским корням5.
Если присмотреться, монастырь и тюрьма становятся все более похожими. Такая ассоциация монашеского образа жизни и тюремного заключения, конечно же, всегда вызывала резкое неприятие. Известным примером является французский теолог и историк религии Жан Леклерк, сам член бенедиктинского ордена, который в статье, впервые опубликованной в 1971 году, задал вопрос: «Является ли монастырь тюрьмой?» Его ответ был однозначным. Хотя он не отрицал плодотворность сравнительной перспективы на оба институциональных типа, он упорно настаивал на фундаментальном различии: тюрьма лишает свободы, тогда как монастырь как самостоятельно выбранное заключение позволяет монаху «сохранить свою свободу и позволить ей стать больше». Ведь уединение и покаяние делают возможным развитие внутренней свободы, которая открывается, как только ограничения внешнего мира отступают от того, кто подчиняется монашеской дисциплине6.
Неужели у монастырей и тюрем в конечном итоге нет ничего общего? В последние годы исторические исследования интенсивно исследуют этот вопрос и, анализируя оба института, не обязательно уравнивают их. Свое вдохновение новые труды черпают из уже описанных нами книг, в то же время расширяя оптику и подкрепляя свои выводы эмпирикой. Ведь для Гофмана или Фуко сравнительное рассмотрение различных форм заключения вряд ли выходило за рамки простой аналогии или исторического выведения абстрактных принципов. Однако сегодня историки различных дисциплинарных направлений (социальная история, религиозная история, юридическая история, история архитектуры…) работают вместе, чтобы изучить различные учреждения и места сегрегации, содержания под стражей и наказания на предмет не только сходства, но и различий. Это развитие во многом обязано двум динамикам современной историографии, которые мы кратко представим ниже: во-первых, расширению классической истории тюрьмы до социальной истории практик лишения свободы со Средних веков до современности, а во-вторых, тому, что монастырь был открыт заново как место наказания и заключения.
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ИСТОКИ ТЮРЬМЫ
В западной историографии тюрьма долгое время оставалась в тени науки. В первой половине XIX века исключительно историки права занимались историей тюремного заключения. Их взгляд был сформирован, прежде всего, историей идей и институтов, поскольку их интересовали в первую очередь истоки так называемой «реформаторской пенитенциарной системы», которая стала доминирующей парадигмой обращения с правонарушителями во всей Европе в течение XIX века. В немецкой истории права, которая в те десятилетия была решающей для международных исследований, существовали две противоположные интерпретации: для Готхольда Боне принцип «наказания через исправление» можно проследить в позднесредневековых городах Северной Италии, где уже с XII века существовали многочисленные тюрьмы7. Роберт фон Хиппель, Густав Радбрух и другие, с другой стороны, придерживались мнения, что интеллектуально-исторические корни современного тюремного заключения следует искать в Англии и Нидерландах, где во второй половине XVI века, с Брайдвеллами (Bridewells) (первый в Лондоне в 1553 году) и Тухтхюизенами (Tuchthuizen) (первый в Амстердаме, 1595 год – Распхюиз (Rasphuis) для мужчин и 1597 год – Спинхюиз (Spinhuis) для женщин), возникли новые крупные институты заключения. В них, по их мнению, воспитание трудом и религиозность впервые были использованы в качестве средства наказания8.
Эта последняя точка зрения долгое время оставалась доминирующей в западной историографии. Только в последние годы городские темницы Сиены, Флоренции, Болоньи или Венеции получили новое внимание, например со стороны Гая Гельтнера, который изучал тюрьмы в городах-государствах Северной Италии в позднем Средневековье. Он показал, что начиная с XIII века они использовались не только в качестве тюрем предварительного заключения, но и для исполнения приговоров, связанных с лишением свободы9. Другие историки, например Жюли Клостр в своем исследовании печально известной средневековой городской крепости Шатле в Париже, рассматривают другую форму позднесредневекового заключения: долговое заключение, то есть заключение в тюрьму несостоятельных (или нежелающих) должников, которые по наущению (и за счет!) их кредиторов проводили время в тюрьме, что должно было заставить их выплатить свои долги10. В своей работе об имперском городе Кельне в начале раннего Нового времени Герд Шверхофф, например, посвятил себя третьему варианту: заключению в башню, которое использовалось в контексте судебного процесса (досудебное заключение) как принудительная мера за непослушание, как замена неуплаченного штрафа и – в случае мелких правонарушений – также как самостоятельное наказание в виде лишения свободы. Должников также отправляли в башню в Кельне11.
Историография тюрьмы начала свою настоящую карьеру в 1970‐х годах, когда в ходе новых социальных движений в Западной Европе и Северной Америке теневые зоны современного общества оказались в центре внимания социальных наук. Так родилась так называемая «ревизионистская» историография, названная так потому, что ее представители – прежде всего Мишель Фуко, а также Дэвид Ротман, Пьер Дейон, Майкл Игнатьефф или Мишель Перро – решительно выступили против старых интерпретаций правовой истории, для которых тюрьма была признаком прогресса и гуманизации наказания12. В особенности Фуко рассматривал тюремное заключение прежде всего как признак изменения властных отношений и всеобъемлющего дисциплинарного процесса, охватившего все общество на пороге современной эпохи. В его глазах институт наказания в сочетании с появившимися в то же время гуманитарными науками обеспечивал господство системы контроля и стандартизации, которая производила послушные и покорные тела в качестве гигантской машины власти. Отчасти Фуко опирался на старые работы марксистской историографии, в частности на исследование Георга Руше и Отто Кирхгеймера, которые еще в 1930‐х годах утверждали, что появление тюремного заключения можно объяснить недостатком рабочих рук на рынке труда13. Таким образом, тюрьма все больше становилась символом становления современного капиталистического общества, что особенно привлекало внимание к реформаторским учреждениям XIX и XX веков, которые были спроектированы инженерами как «исправительные машины»14.
Институты лишения свободы позднего Средневековья и раннего Нового времени, однако, были по-прежнему в забвении – что даже приводило к утверждению, что в эпоху Старого режима вообще не существовало наказаний в виде лишения свободы. Только в 1990‐х годах вновь обратили внимание на разнообразные практики лишения свободы в ранней современной Европе и их использование в пенитенциарных целях. Важный импульс для этого дал голландский историк Питер Спиренбург, который в своем исследовании «Тюремный опыт», впервые опубликованном в 1991 году, рассматривал многочисленные пенитенциарные учреждения и работные дома, появившиеся в Голландии и крупных городах Северной Германии начиная с XVII века15.
Несколько исследований, особенно по немецкоязычным странам, двигались в аналогичном направлении16. В то же время стали появляться исследования других видов наказания, в которых также использовалось лишение свободы передвижения, таких как наказание общественным трудом (например, на строительстве дорог или в шахтах, а также в обслуживании военных укреплений17), наказание на галерах, которое использовалось, прежде всего, морскими державами, такими как Венеция или Генуя, а также другими странами Средиземноморья, такими как Франция, Испания или Османская империя18, или депортация заключенных в заморские колонии или отдаленные провинции (Австралия, Банат, Сибирь), практиковавшаяся всеми европейскими колониальными державами, в их числе и Российской империей19.
Таким образом, исследовательская литература об «избирательном сродстве» между монастырем и тюрьмой или пенитенциарным учреждением в Западной Европе уже обширна. Применительно к монастырям в Российской империи подобные исследования отсутствуют20. Примечательно, что русские монастыри и их функции светского и религиозного воспитания до сих пор не являлись предметом исследования21. Существует лишь несколько локальных исследований, посвященных северным монастырям как местам светского наказания22; их социальное измерение, однако, остается совершенно неизученным – отчасти из‐за сложной ситуации с источниками. В постсоветской историографии также существуют пробелы в исследованиях по истории тюрем, которые до сих пор были сосредоточены в основном на истории карательных учреждений, истории права и уголовно-исполнительной системы. В этой традиционной отрасли историографии основное внимание по-прежнему уделялось институтам центральной власти, от которых якобы исходили все значимые процессы в обществе. Темы были заранее определены – уголовное право, политические расследования, уголовное преследование – и рассматривались с точки зрения «сверху вниз»23. Социальные, религиозные и культурные контексты, в свою очередь, оставались вне поля зрения. Поэтому неудивительно, что монастырские тюрьмы – и особенно пресловутые «земляные тюрьмы» – рассматривались в традициях советской историографии как чисто государственная карательная практика. Иного подхода к изучению уголовного права и наказания придерживались Нэнси Шилдс Коллманн24, Кристоф Шмидт25, Брюс Адамс26 или Джонатан Дейли27. Коллманн подчеркивает, что в России централизованная власть была гораздо менее выражена, чем в Западной Европе, поэтому необходимо рассмотреть «политику различий», которая позволяла сообществам действовать самостоятельно в широких сегментах социальной и политической жизни. Ее книга «Преступление и наказание» – это не исследование практик власти и практик «снизу», а изучение точек соприкосновения между ними. Коллманн отвергает парадигму о контрасте между Европой (= правовое государство) и Россией (= деспотизм) и показывает, что государственное насилие в России часто действовало более мягко, чем в европейских странах раннего Нового времени. В своем исследовании уголовного права в России XIX века Джонатан Дейли также приходит к выводу, что царская империя и государства Западной Европы находились на одном уровне в плане своего «гуманизма».
Кристоф Шмидт, в свою очередь, предлагает рассматривать развитие права и наказания с точки зрения Московского государства как социальной лаборатории. В этом контексте он вводит понятие социального контроля и следует теориям социального дисциплинирования в западной историографии 1970‐х годов. Шмидт занимается вопросами социальных структур, социальной динамики и недостатков местной исполнительной власти. В этой перспективе рассматривался не только контроль «сверху вниз», но и горизонтальный контроль внутри общества. Как и Коллманн, он показывает, что население участвовало в формировании правовой культуры с помощью «доношений», то есть челобитных правящим иерархам. Новаторство его исследования заключается в периодизации уголовной истории – рассматривая XVII век, он выходит из традиционной парадигмы, в которой петровский период рассматривается как радикальная цезура для всех сфер общественной жизни.
Елена Марасинова также использует концепцию социального контроля в своем исследовании покаянных практик церковных институтов28. Она анализирует значение покаяния в судебном процессе как цели наказания и как формы расследования преступления. По словам Марасиновой, монархия использовала религию и исправительные практики Русской православной церкви для поддержания общественного порядка и соблюдения общественной и личной морали. В этом контексте она также рассматривает монашеское заточение.
Таким образом, можно сказать, что с 2000‐х годов практики тюремного заключения в российской истории все чаще рассматриваются с точки зрения анализа Фуко генеалогии дискурсов и изменения практик воздействия на личность (от истерзанного тела к терзаемой душе). Кроме того, исследования работают с теорией Норберта Элиаса о процессе западной цивилизации29. Однако история монастырского заключения все чаще становится самостоятельным предметом изучения и приобретает очертания независимого исторического, правового и социокультурного феномена30.
Это не в последнюю очередь связано с тем, что историография лишения свободы пережила значительное расширение за счет исследований, посвященных истории благотворительности. В ранний современный период помощь беднякам все больше приобретала институциональные черты, включая заключение в тюрьму нищих, бродяг и других представителей маргинальных социальных групп, которых помещали в пенитенциарные и подобные учреждения и заставляли там работать31. Хотя такие исследования часто все еще находятся в традициях дисциплинарной парадигмы, они открывают взгляд на огромное разнообразие форм изоляции и содержания под стражей еще до «рождения» пенитенциарного учреждения в XIX веке.
Также и в России практика заключения рассматривалась с точки зрения истории учреждений социального призрения. Дома для бедных, сирот и богадельни анализировались, с одной стороны, как выражение гуманизации абсолютистской власти, а с другой – как меры по решению проблем общественного порядка32. Например, в своем исследовании о «Странноприимном доме» начала XIX века Майя Лавринович фокусируется на акторах «снизу», а также на процессах негоциаций и присвоения культурных альтернатив в социальном пространстве городской бедноты, тем самым представляя пример историографии вне парадигмы «дисциплинарной власти»33.
Такие подходы привлекают внимание к еще двум институциональным типам: с одной стороны, благотворительные учреждения, такие как позднесредневековые шпитали, чьи задачи в ранний современный период часто брали на себя многофункциональные учреждения, как в случае французских hôpitaux généraux, где не только заботились о бедных, дисциплинировали нищих и наказывали проституток, но и ухаживали за психически и физически больными и кормили их. И во-вторых, монашеские общины, здания которых в Центральной Европе были превращены в пенитенциарии и работные дома или тюрьмы начиная с XVI века – несколько раньше в протестантских регионах, несколько позже в католических34. Уже первое учреждение подобного толка в континентальной Европе, Rasphuis в Амстердаме, основанное в 1595 году, располагалось в зданиях бывшего монастыря Бедных Клариссинок. Другим ярким примером является Клерво на востоке Франции: здесь в 1115 году святой Бернар основал аббатство, которое должно было стать материнским учреждением для бесчисленных оснований цистерцианского ордена по всей Европе. После Французской революции монастырь, как и другие французские аббатства, такие как Мон-Сен-Мишель или Фонтевро, был упразднен и превращен в центральную тюрьму (maison centrale), которая существует до сих пор (закрытие объявлено на 2023 год).
ОТ МОНАСТЫРЯ К ТЮРЬМЕ
Вернемся к монастырям как местам заключения. Несмотря на то что, как уже отмечалось, современное тюремное наказание имеет многочисленные структурные сходства с монастырскими практиками контроля и покаяния, восходящими к Средним векам, а также получения спасения, аббатства и монастыри лишь постепенно стали объектом сравнительных исследований по истории тюремного заключения35. Свою роль в этом сыграло и то, что методы наказания в самом монастыре долгое время оставались незамеченными историками. Это изменилось только в последние годы. В парадигматическом плане можно сослаться, например, на работы Ульриха Ленера и Элизабет Люссе, которые исследовали существование темниц в монастырях Средневековья и раннего Нового времени, основанных на самостоятельной монастырской правовой системе, которой подчинялись не только непослушные, провинившиеся или «беснующиеся» монахи и монахини, но часто и жители монастырских деревенских общин36. Монастырская темница как смысловой образ «заключения внутри заключения» может быть прочитана как ядро образца практик и техник исключения, которые позже будут использоваться и в современных тюрьмах. Ведь здесь не только вступала в силу разделительная функция claustrum – то есть основной территории монастыря, куда нельзя входить посторонним и которую монахи и монахини также должны были покидать только в исключительных случаях. «Заключение внутри заключения» – это усиленная изоляция, подобно тому как в более поздних тюрьмах также были устроены штрафные изоляторы, в которых непокорных заключенных наказывали за их проступки.
Монастыри Средневековья и раннего Нового времени, однако, имеют множество других параллелей с современными тюремными учреждениями. К ним относится принцип stabilitas loci, то есть пожизненная привязанность монаха (или монахини) к своему монастырю, от которого нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах. Однако в различных религиозных общинах правила на этот счет различаются. Бенедиктинскому идеалу привязанности к месту, который в основном преобладал в Европе с IX века, позднее в мендикантских орденах, то есть прежде всего во францисканцах или доминиканцах, было противопоставлено служение обществу, ориентированное на социальные обязательства апостолов, что также отражалось в обширной преподавательской и проповеднической деятельности, которая могла привести членов ордена в качестве миссионеров во все концы света37. С другой стороны, все монашеские движения объединяли некоторые основные правила монашеской жизни: бедность, то есть отказ от всех земных благ, целомудрие как доказательство исключительной преданности Богу и абсолютное подчинение авторитету, что выражалось, в частности, в обязанности повиноваться настоятелю или настоятельнице без исключения. Кроме того, во всех монашеских общинах действовал принцип всеобъемлющего наблюдения; монахи и монахини никогда не должны были чувствовать себя наедине и без надзора, ни в физическом, ни в религиозном смысле, поскольку существование в монастыре включало не только строгий свод правил, контроль со стороны руководства ордена и монастырских надзирателей или взаимный контроль членов ордена, но также – и прежде всего – идею вездесущего, всеведущего и всевидящего Бога, deus panopticus38.
Все эти принципы можно найти и в тюрьмах XIX и XX веков. Тем не менее в историческом развитии все еще существует множество недостающих звеньев, объясняющих, как монастыри Средневековья и раннего Нового времени превратились в современные тюрьмы. Сравнительный анализ сводов правил, как уже предлагали Хуберт Трейбер и Хайнц Штайнерт, является одной из возможностей39. В последние годы содержание в тюрьмах религиозных меньшинств и роль тюрьмы как места «религиозной свободы» также стали объектом повышенного внимания40. Другой подход заключается в изучении пространственных практик, поскольку именно в пространстве и через пространство особенно ярко проявляется преемственность между монастырем и тюрьмой41. Это можно увидеть, например, в таких пространственных архетипах, как стена, четырехугольная крытая галерея, которые были повторно использованы не только в монастырях, но и в многочисленных домах призрения и цухтгаузах раннего Нового времени, либо потому, что эти учреждения размещались в бывших монастырских зданиях, либо потому, что новые здания были вдохновлены именно этими моделями. Они также сформировали тюремную архитектуру в XIX и XX веках. Плодотворность такого подхода хорошо показана в онлайн-документации «Le cloître et la prison», которая начиная с истории Клерво подробно рассматривает пространственные формы монастырей и тюрем, которые часто следовали одной и той же архитектурной модели claustrum, то есть огороженного стеной двора, вход в который контролировался42. Другим примером является практика приема пищи и молитвы, которая была реактивирована в тюремных учреждениях раннего Нового времени в их специфической связи с пространством, как, например, монастырская трапезной и монастырский храм. Наконец, третьей общей чертой многих мест заключения – включая средневековые монастыри – является их многофункциональность и неоднородность контингента заключенных, которые, в свою очередь, также отражаются в пространстве через практику размещения или передвижения.
Места лишения свободы раннего Нового времени играют особую роль в изучении переноса форм, логик, техник и практик религиозного образа жизни и религиозного дисциплинирования в светские пенитенциарные учреждения. Повсюду в Европе они совмещали религиозные, благотворительные, а также карательные и дисциплинарные функции – и все это вне конфессиональных границ. Таким образом, протестантские земли стали колыбелью многих новых типов учреждений, которые увидели свет в конце XVI века: Bridewells в Англии, Tuchthuizen в Нидерландах, Zuchthaus в немецких землях.
В католических районах, с другой стороны, первоначально преобладала традиционная модель шпиталя43, до того, как она, как и в случае с французскими hôpitaux généraux, – также претерпела фундаментальные изменения в конце XVII и XVIII веке, в итоге которых на нее все больше были возложены карательные и дисциплинарные задачи. Однако повсеместно многофункциональность оставалась центральной чертой всех этих институтов до конца раннего Нового времени. Их отличала и вторая важная особенность: тесное переплетение религиозной и светской логики. Например, немецкий энциклопедист Иоганн Генрих Цедлер в своем знаменитом «Универсальном лексиконе» первой половины XVIII века писал о немецких пенитенциарных учреждениях: «Для строительства таких домов больше всего подходит форма монастырей, и особенно важно, чтобы рядом с ними была построена церковь, чтобы все заключенные могли посещать церковные службы, не имея опасения, что они сбегут»44. Вряд ли можно лучше выразить связь между тюремными учреждениями раннего Нового времени и их моделью – монашеской общиной.
Особое место в этом историческом развитии занимает и судьба многих русских монастырей, которые долгое время функционировали как многофункциональные учреждения, что до сих пор почти не известно в Западной Европе, то есть они были не только домами для монахов и монахинь, но и служили местами для наказания преступников, изоляции политических противников, дисциплинирования мятежных крестьян, ухода за больными или инвалидами и воспитания детей-сирот. Таким образом, российские монастыри также следует рассматривать как многомерные, сложные пространства искупления, наказания и социального контроля, на примере которых можно изучить конфликтные отношения между светскими и церковными акторами. Заключение в монастыре отнюдь не было «обычным» тюремным заключением. Здесь сошлись обе логики дисциплинирования – государственное наказание, направленное на возмездие, и церковное покаяние, обещавшее перспективу исправления и спасения души. Но в чем заключалась связь этих логик и функций дисциплинирования?
Понятие дисциплинирования прочно связано с именем Мишеля Фуко, и действительно, его концепты послужили вдохновением для нескольких авторов этого сборника. В первую очередь, это понимание того, что принцип легитимации абсолютизма заключался уже не в публичных телесных наказаниях и ритуалах казни, а в якобы «рациональной», «просвещенной», «гуманистической» практике покаяния. В центре образовательной политики просвещенной монархини Екатерины II было уже не наказание, а воспитание «души» – или «совести». Параллели с выводом Фуко, полученным на примере западноевропейских институтов, что труд должен оказывать дисциплинарное и исправительное воздействие на правонарушителей, также поразительны. В то же время, однако, оценка исходного эмпирического материала показывает, что было бы слишком смело утверждать, что дисциплинарный процесс должен бы был привести к трансформации всей личности и полной интернализации дисциплины. Главным, однако, является признание совпадения светских и религиозных аспектов «исправления», когда уже не тело подвергается наказанию и пыткам, а желаемое исправление человека должно происходить на основе длительного самоанализа заключенного, который в своей форме аналогичен исповеди в поисках истины45.
О СТАТЬЯХ СБОРНИКА
Именно эти темы затронуты в нашем сборнике. Его главный исследовательский интерес заключается в изучении разнообразия практик лишения свободы в русле исторического развития, а также в вопросе передачи этих практик от средневековых монашеских общин к современным пенитенциарным учреждениям XIX и XX веков. Сборник впервые сводит вместе монастырские и тюремные учреждения Западной и Восточной Европы, которые до сих пор оставались не изученными в сравнительной перспективе. Поэтому мы особенно рады, что нам удалось привлечь историков из России, Франции, Германии и Бельгии, которые представили результаты своих исследований и были открыты для совместного обсуждения теоретических и методологических проблем. Материалы разделены на три тематических блока.
Мультифункциональные учреждения: монастыри, смирительные и работные дома
В начале был (вероятно) монастырь – и первая статья сборника Элизабет Люссе посвящена анализу монастырей Средневековья и раннего Нового времени как местам лишения свободы. В своем обзоре Люссе сначала рассматривает вопрос о роли заключения монахов и монахинь и его трактовке в западноевропейской историографии. При этом она указывает, что, с одной стороны, свидетельства источников о существовании тюрем в монашеских общинах восходят к Античности, а с другой – что сосредоточенность на духовной плоскости добровольного уединения от мира долгое время делала их изучение чрезвычайно трудным. Люссе прослеживает существование монастырских тюрем в правовых уставах различных орденов начиная с XIII века и описывает конкретные формы, которые они могли принимать. Катя Махотина обсуждает аналогичный вопрос на российском архивном материале в своей статье «Монастыри как мультифункциональные учреждения в России первой половины XVIII века». Статья рассматривает, как арест в монастыре превратился из изначально чисто монашеской дисциплинарной практики в широко применяемую карательную практику также и для мирян. Махотина видит причины этого изменения в эффекте петровской политики общего блага (Gute Policey): монастыри должны были взять на себя не только функции ссылки и изоляции, но и социальной заботы и воспитания, что приблизило их к пенитенциарным учреждениям и работным домам раннего Нового времени в Западной Европе.
Концепция многофункциональности также находится в центре внимания Фалька Бретшнейдера. В своей статье он задается вопросом о причинах большой популярности термина «дом» в названии многих учреждений раннего Нового времени. Он утверждает, что существенным мотивом для создания таких учреждений было намерение создать «дом» для тех, кто из‐за отсутствия социальной принадлежности не имел его ранее. Это, по мнению автора, является главной причиной многофункциональности пенитенциариев и других мест заключения раннего Нового времени, которые служили, в частности, для интернирования людей без дома и семейных связей (нищих, бродяг, сирот и т. д.) и поэтому, несмотря на их часто репрессивный характер, могут быть прочитаны как современная попытка создания социальной интеграции.
Статья Ксавье Руссо представляет обзор развития практики заключения в испанских Нидерландах в течение длительного периода с середины XVI до конца XVIII века. Он отмечает, в частности, два явления: сосуществование различных типов учреждений, которые были вдохновлены либо голландской моделью Tuchthuizen, либо французской моделью hôpitaux généraux, и переход от изначально преимущественно мест заключения городских магистратов к учреждениям, которые поддерживались государством, таким как знаменитый Исправительный дом в Генте.
Наконец, Ирина Ролдугина рассматривает возникновение российской «Комиссии целомудрия», которая привела к основанию в 1750 году Калинкина дома – прядильной фабрики и дома проживания, в котором содержались женщины из петербургских борделей. Это должно было заменить прежние наказания за проституцию, особенно телесные наказания или изгнание. Детальный анализ повседневной жизни в этом первом российском работном доме показывает, однако, что работа заключенных на прядильной фабрике восходит к желанию бывшей сутенерши Анны Фелькер из Дрездена, которая была также заключена здесь. Кроме того, заключенным здесь барышням предоставлялась большая свобода, но при этом не придавалось никакого значения их исправлению и совершенствованию. Однако этот пример не стал прецедентом: в 1759 году Калинкин дом был закрыт. Первые российские работные дома для «беспутных» женщин, достойные этого названия, появились лишь в конце XVIII века, в итоге екатерининского Устава о благочинии.
Город и тюрьма
Материалы второй части посвящены практике лишения свободы в городском контексте. Жюли Клостр и Пьер Брошар описывают в своей статье богатый спектр больших и малых тюрем в позднесредневековом Париже, которые располагались не только в зданиях светской власти, но часто и в монастырях или других религиозных учреждениях. Это было следствием значительного разнообразия органов суда и права, характерного для Средневековья и раннего Нового времени, в котором многочисленные правители практиковали свои собственные суды. Это также нашло отражение в соответствующих местах предварительного заключения подозреваемых. Как показывают Клостр и Брошар в своем микроанализе, этот плюрализм также имел последствия для практики ареста.
Статья Александра Воробьева повествует о большой московской тюрьме в XVII веке. Это учреждение служило в основном как место предварительного заключения правонарушителей, ожидающих приговора. Изучая организационную структуру тюрьмы, состав персонала и повседневную жизнь заключенных, Воробьев приходит к выводу, что московская тюрьма выступала в качестве «экспериментального поля» для российской пенитенциарной практики того времени.
Материал Симона Кастанье представляет центральных действующих акторов, ответственных за тюремное заключение должников в Париже во второй половине XVIII века. Кастанье описывает процедуру этой важной формы лишения свободы, которая была прочно связана с экономической жизнью города и характеризовалась прежде всего тем, что заключенные содержались в тюрьме не по приказу государственных властей, а по просьбе и за счет своих кредиторов. Таким образом, лишение свободы за долги является примером специфического отношения между заключением и обществом.
Наталия Мучник рассматривает особые формы социальных контактов в английских, французских и испанских тюрьмах XVI и XVII веков. Ее статья описывает тюрьму как микрокосмос, представляющий общество в целом. Не только неоднородность социальной структуры отражалась в условиях содержания отдельных групп или в пространственной форме различных мест заключения, но и внутреннее и внешнее убранство тюрем были во многом связаны между собой и формировали общий опыт.
Наконец, статья Елены Бородиной рассматривает связь между заключением и индустриализацией на примере Екатеринбурга, где в 1720‐х годах решение о принудительном труде заключенных было обусловлено нехваткой рабочей силы на Уральских промышленных предприятиях. В основном колодники-каторжане были заняты на шахтах, принадлежащих городу, а их работа и проживание были организованы Сибирским обер-бергамтом, главным органом управления промышленностью Урала и Сибири, который был одновременно заводом-крепостью, работодателем и источником импульса для экономического подъема города. Успех этой модели был настолько велик, что в 1750‐х годах в фабричном городе насчитывалось в общей сложности три большие тюрьмы, которые находились в тесном взаимодействии с окружающим городским пространством.
Дискурсы и практики заключения
Наконец, в третьей части рассматриваются различные дискурсы и практики лишения свободы на основе различных хронологических, национальных и институциональных контекстов. В статье Елены Марасиновой рассматриваются дискурсы об исправлении души посредством монастырского заключения как светского инструмента общественной дисциплины. «Просвещенная императрица» Екатерина II приказала провести в центре Москвы протестантский по своей сути ритуал публичного покаяния для пары преступников, что было весьма необычно для православной церкви. Таким образом, светская власть использовала религиозный язык, чтобы обозначить своим подданным основные принципы «хорошего гражданина». В монастыре пара кающихся должна была исполнять епитимью и очистить свою совесть. Грех перед церковью становится теперь и преступлением против государства.
Людмила Сукина рассматривает роль тюрьмы и тюремного заключения в христианской заботе о бедных в России XVI и XVII веков. Она уделяет особое внимание различным формам благотворительности, которая также заботилась о заключенных и первоначально имела религиозную подоплеку. Как показывает Сукина, в петровское время благотворительность стала более рациональной и экономически мотивированной, что означало, в частности, отказ от дискурса спасения души с помощью заботы о бедных.
Также о бедности и борьбе с ней пишет в своей статье Лоранса Фонтень. Она делает акцент на той дискурсивной роли, которую современники приписывали тюремному заключению в обращении с бедностью и нищетой. На примере конкурса, объявленного Академией Шалон-сюр-Марн в 1777 году, она рассматривает аргументы, которые говорили за или против интернирования бедных людей и часто основывались на утопических концепциях общества, характерных для эпохи Просвещения.
Сборник завершается резюме, написанным Винсентом Мийо, который, подытоживая выводы статей, заключает: географическое расширение историографии тюрем, которая до сих пор была сосредоточена на Западной Европе и Северной Америке, может только выиграть от привлечения других регионов мира. Мийо подчеркивает, что традиционная идея о том, что тюрьма была западным изобретением, не может быть поддержана в свете последних исследований. Скорее, современная тюрьма имеет множество корней, которые географически расположены в Восточной Европе и России. Именно многофункциональность многих учреждений, которая была центральным компонентом трансформации из монастыря в тюрьму и на которую обращает внимание этот сборник, делает возможным такой сравнительный анализ, казалось бы, совершенно разных учреждений. Таким образом, представленный на суд читателя сборник вносит важный вклад в расширение международной сферы научных исследований практик наказания и исправления.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Статьи этого сборника подготовлены по итогам двух конференций, организованных международной сетью Em#C – Enfermements modernes/Early Modern Confinement46 в Париже в ноябре 2018 года и в Москве в сентябре 2019 года. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в успех этих мероприятий, особенно Винсента Мийо, который дал первоначальный импульс для организации встречи в Париже и основания исследовательской сети Em#C. Также мы благодарим Софи Абдела и Паскаля Бастьена, которые проведут третий семинар сети в Монреале в 2022 году. Школа высших социальных исследований, в особенности Центр исторических исследований (UMR 8558 EHESS/CNRS) и центр Георга Зиммеля по французско-немецким социальным исследованиям (UMR 8131 EHESS/CNRS), Центр Института и динамики экономики и общества (IDHE.S, UMR 8533 Université Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis/CNRS), а также Университет Бонна в лице кафедры истории Восточной Европы и Боннского центра изучения зависимости и рабства (Bonn Center for Dependency and Slavery Studies) поддерживали проведение конференций и подготовку публикации.
Мы хотели бы особо поблагодарить Германский исторический институт в Москве и его директора Сандру Дальке, а также Центр французско-русских исследований в Москве и его бывшего директора Венсана Бенета, без гостеприимства которых московская конференция не смогла бы состояться. Денис Сдвижков, Хелене Мосманн и Владислав Ржеутский также оказали нам поддержку в организации конференции и подготовке этой публикации. Также мы хотели бы поблагодарить Аллу Беляк, Веру Мильчину и Екатерину Оде, которые взяли на себя не всегда легкую задачу перевода статей для этого сборника с французского на русский язык. Наконец, мы благодарим издательство «Новое литературное обозрение» за доверие и включение в свою издательскую программу Studia europaea.
Париж, Бонн, январь 2022 года
БИБЛИОГРАФИЯ
Акельев 2012а – Акельев Е. Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина. М., 2012.
Акельев 2012б – Акельев Е. «И впредь в Кремле колодников держать отнюдь не велеть». Эволюция отношения к заключенным в Москве в первой половине XVIII века // DHI Moskau: Vorträge zum 18. und 19. Jahrhundert (12). 2012. https://perspectivia.net/publikationen/vortraege-moskau/akelev_straeflinge (дата обращения 05.01.2022).
Анисимов 1999 – Анисимов Е. Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке. М., 1999.
Анисимов 2019 – Анисимов Е. Держава и топор. Царская власть, политический сыск и русское общество в XVIII веке. М., 2019.
Гернет 1961 – Гернет М. История царской тюрьмы. М., 1961.
Марасинова 2017 – Марасинова Е. «Закон» и «гражданин» в России второй половины XVIII века. Очерки общественного сознания. М., 2017.
Махотина 2019 – Махотина Е. Меланхолия приходит в Россию. Монастыри как долгаузы в России в 18 веке // Vivliofika: E-Journal of Eightteenth-Centuary Russian Studies. 2019. Vol. 7. S. 21–46.
Козлова 2010 – Козлова Н. Люди дряхлые, больные, убогие в Москве XVIII века. М., 2010.
Павлушков 2014 – Павлушков А. Карательно-исправительная система Русской православной церкви в имперский период. Вологда, 2014.
Пругавин 1906 – Пругавин А. Монастырские тюрьмы. М., 1906.
Шаляпин 2013 – Шаляпин С. Церковно-пенитенциарная система в России XV–XVIII веков. Архангельск, 2013.
Adams 1996 – Adams B. F. The Politics of Punishment: Prison Reform in Russia, 1863–1917. Northern Illinois University Press, 1996.
Ammerer et al. 2010 – Ammerer G., Brunhart A., Scheutz M., Weiß A. S. (Hrsg.) Orte der Verwahrung. Die innere Organisation von Gefängnissen, Hospitälern und Klöstern seit dem Spätmittelalter. Leipzig, 2010.
Ammerer, Weiß 2006 – Ammerer G., Weiß A. S. (Hrsg.) Strafe, Disziplin und Besserung. Österreichische Zucht- und Arbeitshäuser von 1750 bis 1850. Frankfurt/M. et al., 2006.
Bohne 1922–1925 – Bohne G. Die Freiheitsstrafe in den italienischen Stadtrechten des 12.-16. Jahrhunderts. Leipzig, 1922–1925.
Bretschneider 2008 – Bretschneider F. Gefangene Gesellschaft. Eine Geschichte der Einsperrung in Sachsen vom 18. bis zum 19. Jahrhundert. Konstanz, 2008.
Bretschneider 2014 – Bretschneider F. Spaces of Confinement. Institutional Stabilization and Eigensinn – the Case of Saxony // Friedrich K., Bailey G., Veit P. (Hrsg.) Die Erschließung des Raumes: Konstruktion, Imagination und Darstellung von Räumen und Grenzen im Barockzeitalter. Wolfenbüttel; Wiesbaden, 2014. S. 97–113.
Bretschneider 2019 – Bretschneider F. Pieter Spierenburg’s Contribution to the History of Confinement in Early Modern Europe // Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies. 2019. 23/2. Р. 123–130.
Claustre 2007 – Claustre J. Dans les geôles du roi. La prison pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge. Paris, 2007.
Daly 2000 – Daly J. Criminal Punishment and Europeanization in Late Imperial Russia // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2000. 48/3. S. 341–362.
Deyon 1975 – Deyon P. Le temps des prisons. Essai sur l‘histoire de la délinquance et les origines du système pénitentiaire. Lille; Paris, 1975.
Dopsch 2010 – Dopsch H. Klöster als Orte der Verwahrung? Zwischen benediktinischer Ortsgebundenheit und apostolischer Mission / Ammerer, Brunhart, Scheutz, Weiß. 2010. S. 297–325.
Drossbach 2007 – Drossbach G. (Hrsg.) Hospitäler in Mittelalter und Früher Neuzeit. Frankreich, Deutschland und Italien. Eine vergleichende Geschichte/Hôpitaux au Moyen Âge et aux Temps modernes. France, Allemagne et Italie. Une histoire comparée. München, 2007.
Dülmen 2014 – Dülmen R. van. Theater des Schreckens: Gerichtspraxis und Strafrituale in der frühen Neuzeit. 6. Aufl. München, 2014.
Elias 1976 – Elias N. Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. 2 Bde. Frankfurt/M., 1976.
Farge 2008 – Farge A. Condamnés au XVIIIe siècle. Paris, 2008.
Foucault 1975 – Foucault M. Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris, 1975.
Geltner 2008 – Geltner G. The Medieval Prison. A Social History. Princeton; Oxford, 2008.
Gentes 2008 – Gentes A. Exile to Siberia 1590–1822. Corporeal Commodification and administrative systematization in Russia. Basingstoke, 2008.
Goffman 1961 – Goffman E. Asylums: Essays on the Condition of the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Chicago, 1961.
Heullant-Donat et al. 2011 – Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset E. Enfermements. Le cloître et la prison (VIe–XVIIIe siècle). Paris, 2011.
Heullant-Donat et al. 2015 – Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset E., Bretschneider F. Enfermements II. Règles et dérèglements en milieu clos (IVe–XIXe siècle). Paris, 2015.
Hippel 1932 – Hippel R. von. Die Entstehung der modernen Freiheitsstrafe und des Erziehungs-Strafvollzugs. Jena, 1932.
Ignatieff 1978 – Ignatieff M. A just measure of pain: The penitentiary in the industrial revolution, 1750–1850. New York, 1978.
Jezierski 2009 – Jezierski W. Monasterium panopticum // Frühmittelalterliche Studien. 2009. 40/1. S. 167–182.
Kollmann 2012 – Kollmann Sh. N. Crime and Punishment in Early modern Russia. Cambridge, 2012.
Krause 2003 – Krause Th. Opera publica / Bretschneider F. (Hrsg.) Gefängnis und Gesellschaft. Zur (Vor-)Geschichte der strafenden Einsperrung. Leipzig, 2003. S. 117–130.
Lavrinovich 2017 – Lavrinovich M. The Role of Social Status in Poor Relief in a Modernizing Urban Society: The Case of Sheremetev’s Almshouse, 1802–12 // The Russian Review. 2017. 76. P. 207–235.
Leclerq 1971 – Leclerq J. Le cloître est-il une prison? // Revue d’ascétique et de mystique. 1971. 47. P. 407–420.
Lehner 2013 – Lehner U. L. Monastic Prisons and Torture Chambers. Crime and Punishment in Central European Monasteries, 1600–1800. Eugene, OR, 2013.
Lusset 2017 – Lusset É. Crime, châtiments et grâce dans les monastères au Moyen Âge (XIIe–XVe siècle). Turnhout, 2017.
Makhotina 2021 – Makhotina E. Kloster in der Genealogie des Gefängnisses. Einleitung zum Themenheft «Klöster als multifunktionale Orte der Einsperrung» // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2021. 69. 3. S. 183–208.
Martínez Martínez 2011 – Martínez Martínez M. Los forzados de marina en la España del siglo xviii (1700–1775). Almería, 2011.
Morgan, Rushton 2013 – Morgan G., Rushton P. (Hrsg.) Banishment in the Early Atlantic World. Convicts, Rebels and Slaves. London, 2013.
Muchnik 2019 – Muchnik N. Les prisons de la foi. L’enfermement des minorités. Paris, 2019.
Münch 2017 – Münch Ch. In Christo närrisches Russland. Zur Deutung und Bedeutung des «jurodstvo» im kulturellen und sozialen Kontext des Zarenreiches. Göttingen, 2017.
Nutz 2001 – Nutz Th. Strafanstalt als Besserungsmaschine. Reformdiskurs und Gefängniswissenschaft, 1775–1848. München, 2001.
Perrot 1981 – Perrot M. L’impossible prison: Recherches sur le système pénitentiaire au XIXe siècle. Paris, 1981.
Radbruch 1950 – Radbruch G. Die ersten Zuchthäuser und ihr geistesgeschichtlicher Hintergrund // ders.: Elegantiae Juris Criminalis. Vierzehn Studien zur Geschichte des Strafrechts. Hamburg, 1950. S. 116–129.
Rothman 1971 – Rothman D. J. The Discovery of the Asylum. Social Order and Disorder in the New Republic. Boston, 1971.
Rusche, Kirchheimer 1939 – Rusche G., Kirchheimer O. Punishment and Social Structure. New York, 1939.
Sainte Fare Garnot 1984 – Sainte Fare Garnot N. L’Hôpital Général de Paris. Institution d’assistance, de police, ou de soins? // Histoire, économie & société. 1984. № 3–4. P. 535–542.
Schmähling 2009 – Schmähling A. Hort der Frömmigkeit – Ort der Verwahrung. Stuttgart, 2009.
Schmidt 1996 – Schmidt Ch. Sozialkontrolle in Moskau. Justiz, Kriminalität, Leibeigenschaft 1649–1785. Stuttgart, 1996.
Schuck 2000 – Schuck G. Arbeit als Policeystrafe. Policey und Strafjustiz // Härter K. (Hrsg.) Policey und frühneuzeitliche Gesellschaft. Frankfurt/M., 2000. S. 611–625.
Schwerhoff 1991 – Schwerhoff G. Köln im Kreuzverhör. Kriminalität, Herrschaft und Gesellschaft in einer frühneuzeitlichen Stadt. Bonn, 1991.
Spierenburg 2007 – Spierenburg P. The Prison Experience. Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern Europe. New Brunswick; London, 2007.
Steiner 2014 – Steiner S. Rückkehr unerwünscht. Deportationen in der Habsburgermonarchie der Frühen Neuzeit und ihr europäischer Kontext. Wien; Köln; Weimar, 2014.
Steinert, Treiber 1980 – Steinert H., Treiber H. Die Fabrikation des zuverlässigen Menschen. Über die «Wahlverwandtschaft» von Kloster- und Fabrikdisziplin. München, 1980.
Stier 1988 – Stier B. Fürsorge und Disziplinierung im Zeitalter des Absolutismus. Das Pforzheimer Zucht- und Waisenhaus und die badische Sozialpolitik im 18. Jahrhundert. Sigmaringen, 1988.
Zarinebaf 2010 – Zarinebaf F. Crime and Punishment in Istanbul, 1700–1800. Berkeley, 2010.
Zedler 1732–1754 – Zedler J. H. Grosses Vollständiges Universal-Lexikon. 63 Bde. und 4 Erg.bde. Leipzig; Halle, 1732–1754.
Zysberg 1987 – Zysberg A. Les galériens. Vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France (1680–1748). Paris, 1987.
Мартин Ауст
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО КОНЦЕПЦИИ СБОРНИКА
Как история монастырских тюрем открывает перспективы для историографии – вне традиционных противопоставлений «социальное дисциплинирование» vs «социальный контроль», Россия vs Европа
Этот сборник, посвященный практикам заключения и наказания в монастырях в доиндустриальную эпоху и собравший статьи в основном по Франции и России, приглашает нас вернуться к старому исследовательскому спору о социальном дисциплинировании и социальном контроле в истории Европы. С первыми концептами в 1960‐х годах, а затем во все более широком потоке работ до конца 1980‐х годов исследовательское направление раннего Нового времени создало свою концепцию социального дисциплинирования, определив его как формирование монополии государства на применение силы в политической истории и, как следствие, регулирование человеческих аффектов в социальной истории. Церковь и религия – будь то различные разновидности протестантизма или католицизма – были включены исследователями в парадигму социального дисциплинирования под понятием «конфессионализация». Церковные институты и религиозные нормы предстали как инструменты, используемые светской властью. В этой истории общество предстало прежде всего как адресат и объект политики.
В 1990‐х годах эти теории и концепты стали предметом ожесточенной критики в связи с культурологическим поворотом в историографии. Новая историография больше не довольствовалась определением подданных как объектов государственного воздействия, но задавалась вопросом, как люди воспринимали мир, какие возможности действия (agency) были в их распоряжении и как они взаимодействовали друг с другом и с властью. Парадигме социального дисциплинирования сверху это новое направление исследований противопоставило концепцию социального контроля снизу.
Изучение деревенских и городских обществ в период раннего Нового времени показало, что соседские и социальные группы разработали свои собственные практики контроля и часто были способны творчески использовать дисциплинарные инструменты полиции и судебной системы, разработанные властями, в своих собственных целях.
Каким бы ожесточенным ни был спор между сторонниками социально-исторической истории дисциплинирования и социального контроля в культурно-исторических исследованиях, оба лагеря объединяло одно: они смотрели прежде всего на Запад и центр Европы. Восточная Европа и Россия, в частности, оставались маргинальными явлениями в исследованиях этой области. Историк Ларс Берриш подвел итог немногочисленным работам, в которых рассматривался вопрос о социальной дисциплине в России, сделав вывод о том, что в российском обществе эпохи до модерна дисциплинирования не существовало.
На этом фоне данный сборник заслуживает внимания и открывает новые перспективы. В нем основное внимание уделяется монастырям, особенно во Франции и России, как многофункциональным местам заключения, наказания и дисциплины в период раннего Нового времени. Помимо различных функций монастырей как мест ссылки, рассматривается также социальное пересечение духовной и светской власти с местными сообществами. Они открывают топографический доступ к архитектурному убранству и пространствам монастырей и социальным практикам в них. Таким образом, критический поворот в изучении пространства (spatial turn) в социальных и гуманитарных науках позволяет взглянуть на монастыри Европы и России и дисциплинарные практики в них освободившись от историко-философского балласта современности. Смена категорий – отход от линейной концепции прогресса в сторону анализа практик места и пространства – открывает возможности наблюдения, описания и анализа, которые не укладываются в привычные рамки «модернизации», «Европы vs России».
В этом немецко-русско-французском сборнике историческая генеалогия заключения – это не история прогресса от якобы мрачного Средневековья до светлого и просвещенного современного века. Скорее, собранные в нем статьи рассматривают парцеллированные пространства и логику действий в них людей. Сходство между социальными практиками в Европе и России больше, чем предполагала старая историография. Таким образом, это издание предоставляет веские аргументы в пользу продолжения аргументации Нэнси Шилдс Колманн, которая также видит значительные параллели в юридической практике Европы и России в период раннего Нового времени. Таким образом, этот международный и междисциплинарный сборник научных статей вносит важный вклад в историографию, которая не рассматривает Россию как определяющего «Другого» Европы, а уделяет должное место сравнению и вопросу взаимодействия России с другими странами Европы.
Бонн, декабрь 2021 года Перевод с немецкого Екатерины Махотиной
БИБЛИОГРАФИЯ
Aust 2003 – Aust M. Adlige Landstreitigkeiten in Rußland. Eine Studie zum Wandel der Nachbarschaftsverhältnisse 1676–1796. Wiesbaden, 2003.
Aust 2016 – Aust M. Russia and Europe (1547–1917) // Europäische Geschichte Online (EGO), hg. vom Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG). Mainz, 2016-03-10. http://www.ieg-ego.eu/austm-2015-en URN: urn:nbn:de:0159-2016022906 [2021-12-21].
Behrisch 1999 – Behrisch L. Social Discipline in Early Modern Russia. Seventeenth to Nineteenth Centuries // Heinz Schilling (Hg.): Institutionen, Instrumente und Akteure sozialer Kontrolle und Disziplinierung im frühneuzeitlichen Europa. Frankfurt/M., 1999. S. 325–257.
Kollmann Shields 2012 – Kollmann Shields N. Crime and Punishment in Early Modern Russia. (New Studies in European History.) New York, 2012.
Комбинированные учреждения: монастыри, работные дома и цухтгаузы
Элизабет Люссе
МОНАСТЫРСКИЕ ТЮРЬМЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА И В НОВОЕ ВРЕМЯ (XIII–XVIII ВЕКА)
Об устройстве тюрем в монастырях при Старом порядке известно до сих пор очень мало. Объясняется это не только недостатком документов, в самом деле редких и разрозненных, но и нежеланием историков изучать этот вопрос, поскольку эти историки до определенного времени все без исключения были воспитаны в лоне Церкви. Хотя известно, что подобные тюрьмы появились уже в эпоху поздней Античности, долгое время считалось, что они несовместимы с духовностью, отличающей добровольный уход от мира, а потому их история, равно как и история других дисциплинарных монастырских практик, тщательно замалчивалась. В 1960–1970‐х годах, после выхода трудов Ирвинга Гофмана и Мишеля Фуко, констатировавших сходство между монастырями и другими местами лишения свободы, такими как лечебница для умалишенных или тюрьма47, появилось несколько работ, посвященных непосредственно монастырским тюрьмам. Однако авторы обобщающих исследований по истории тюрем в 1990‐х годах по-прежнему игнорировали этот сюжет. В главах, посвященных Старому порядку, речь идет исключительно о светских тюрьмах, что же касается тюрем церковных, если они и упоминаются – в основном для иллюстрации влияния канонического права, – то, как правило, без дифференциации их разновидностей, в результате чего монастырские тюрьмы смешиваются с другими церковными тюрьмами (прежде всего тюрьмами инквизиции и церковного суда)48. Вдобавок авторы этих обобщающих трудов, как правило, ограничиваются пересказом сочинения бенедиктинца Жана Мабийона «Размышления о тюрьмах религиозных орденов». Сочинение это, написанное около 1695 года, носит полемический характер; Мабийон написал его ради того, чтобы призвать к реформированию монастырских тюрем в Конгрегации Святого Мавра, к которой принадлежал сам; между тем начиная с 1724 года, когда «Размышления» Мабийона были опубликованы, они считалось ученым трудом и использовались в этом качестве в других ученых трудах, начиная со статьи «Тюрьма» в Энциклопедии Дидро и д’Аламбера (1765) и кончая историографией 1990‐х годов49. Лишь в 2000‐х годах в контексте общего оживления интереса к проблеме тюрем начинают появляться исследования, рассматривающие с разных точек зрения непосредственно монастырские тюрьмы50. В нашей статье мы представим основные положения этих работ, сосредоточившись преимущественно на наказании монахов и монахинь лишением свободы с XIII по XVIII век на Западе, прежде всего во Франции и Англии, а также в Германской империи.
1. ОБНОВЛЕНИЕ ИСТОРИОГРАФИИ
Если авторы работ предшествующего периода, как правило, не отличали одни церковные тюрьмы от других, то исследователи 2000–2010‐х годов четко отграничивают монастырские тюрьмы от тюрем епископских или принадлежащих инквизиции51 и обращают внимание на статус заключенных (представители черного или белого духовенства либо миряне)52, а также и на различные формы наказания лишением свободы. Для монахов это наказание знает разные степени тяжести: самое легкое – содержание в определенном месте внутри монастыря, отведенном специально для отбывающих наказание, затем содержание в «уединенном месте» и, наконец, заключение в самую настоящую тюрьму53. Впрочем, авторы недавних работ предпочитают сравнительный анализ внутри длительного периода изучению определенных типов религиозных сообществ. Сравнению подвергаются монастырские правила раннего Средневековья, типы религиозной жизни (монахи, каноники, отшельники), монастыри мужские и женские и т. д. Кроме того, исследователи стараются, выйдя за рамки строгого интернализма, вписать монастырские тюрьмы в более общий контекст и с этой целью сопоставляют их с другими тюрьмами, как церковными, так и мирскими54.
Новое в исследование монастырских тюрем внес прежде всего анализ нормативных текстов. К правилам и канонам Вселенских соборов раннего Средневековья прибавляются начиная с X–XI веков, сборники обычаев. Затем, в XI–XII веках институционализация религиозных сообществ приводит к возникновению религиозных орденов (цистерцианцы, премонстранты, клюнийцы и т. д.), которые присваивают себе право управления и надзора (генеральный капитул, инспекционные поездки по монастырям, именуемые визитами, и пр.)55. Религиозные ордена создают новые нормы (статуты, конституции или постановления генеральных капитулов), регулярно объединяемые в сборники56. Выработка этого внутреннего монастырского права вписывается в контекст общего бурного развития церковного права, и в частности папских декреталий57. С XV по XVII век реформаторские движения в монастырском мире, а затем Реформация приводят к возникновению новых религиозных орденов и конгрегаций, а это способствует умножению нормативных актов черного духовенства58. При изучении этих текстов историки могут пользоваться такими орудиями поиска, как Codex Regularum Monasticarum et Canonicarum Лукаса Хольста (1758–1759), но чаще всего им приходится на свой страх и риск погружаться в изучение огромного множества документов разрозненных и плохо изученных. Между тем только исследовав, какие изменения постоянно вносились в монастырское право, можно понять, как эволюционировала пенитенциарная политика и какие основные вопросы вставали перед церковным начальством (сажать преступников под замок или выгонять из монастыря? помещать в темницу или переводить в другой монастырь?).
Однако самое главное достижение историографии последних лет состоит в том, что исследовали не ограничиваются изучением нормативных документов и сопоставляют нормы с тем, что известно об их практическом применении. Для этого они изучают такие источники, как отчеты о визитах, дисциплинарные постановления генеральных капитулов, епископские послания, прошения монахов, адресованные папской курии и т. д.; применительно к Новому времени к ним прибавляются дисциплинарные дела, акты судебных процессов, сохранившиеся в епархиальных архивах, автобиографии бывших монахов, переписка внутри религиозных орденов и т. д.59 Между тем документы такого рода редки, разрознены, изучены плохо или вовсе не изучены по двум основным причинам: во-первых, после того как преступники понесли наказание, хранить соответствующие бумаги не имело смысла, а во-вторых, зачастую их уничтожали из боязни скандала60. Эта тяга к утаиванию и замалчиванию, заметная уже в Средние века, возрастает в XVIII веке, когда светская администрация стремится подчинить монастыри своей власти. Напомним, например, об упразднении монастырских тюрем Марией-Терезией Австрийской в период между 1769 и 1771 годами или о расследовании, проведенном в 1783 году в венских монастырях по приказу императора Иосифа II. Ульрих Ленер приводит несколько случаев, когда настоятели не моргнув глазом лгали следователям, утверждая, что в их монастырях никаких тюрем нет61. Как ни парадоксально, именно тот факт, что инстанции, посторонние по отношению к монастырям (епископы, генеральный капитул, король и император и т. д.), начиная с XII века вмешивались в выбор наказания для монахов, позволяет историкам приоткрыть двери монастырей и понять, как были устроены тамошние тюрьмы.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В МОНАСТЫРСКИЕ ТЮРЬМЫ НАЧИНАЯ С XIII ВЕКА: ВСЕОБЩЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Зафиксированное еще в поздней Античности, устройство тюрем внутри монастырей становится общепринятой нормой в XIII веке, когда многие монастыри объединяются в религиозные ордена и получают привилегию, освобождающую их от необходимости подчиняться епископам62. Забрав в свои руки руководство дисциплинарной частью, генеральные капитулы религиозных орденов превращают тюрьму в основу монастырской пенитенциарной системы. Орден цистерцианцев первым (в 1206 году) провозглашает необходимость строительства тюрем, а в 1229 году объявляет, что в них необходимо заключать содомитов, воров, поджигателей, фальшивомонетчиков и убийц. В 1230‐х годах орден белых каноников-премонстрантов требует от каждой провинции, чтобы в ней завели «тюрьму крепкую и прочную». Генеральный капитул доминиканцев, собравшийся в Болонье в 1238 году, отдает приказ об устройстве тюрем для вероотступников и возмутителей спокойствия63. Упомянутые впервые в статутах генерального капитула, изданных между 1222 и 1259 годами, тюрьмы не позднее 1280‐х годов становятся повсеместным явлением у картезианцев. В Англии генеральный капитул каноников-августинцев объявляет постройку тюрем обязательной в 1276 году, а бенедиктинцы провинции Кентербери – в 1279‐м64. Умножение числа монастырских тюрем начиная с 1230‐х годов происходит параллельно с аналогичными процессами в рамках других церковных юрисдикцией, а также юрисдикции светской65. Тюремное заключение наряду с переводом в другой монастырь составляет единственное телесное наказание в монастырской пенитенциарной системе и, шире, в каноническом праве. Некоторые статуты уподобляют такое наказание для черного духовенства смертной казни для мирян66.
Решающую роль в том, что начиная с XIII века заключение в монастырские тюрьмы приходит на смену изгнанию из монастыря, узаконенному уставами святого Августина или святого Бенедикта, сыграло папство. Начиная с VI века бенедиктинский устав утверждает понимание нищенствующего монаха как фигуры глубоко вредной и настаивает, что представители черного духовенства обязаны сохранять верность тому месту, где они возносят молитвы. Однако особенно сильным недоверие к странствующим монахам становится в XII–XIII веках. Считая бродяжничество опасным для Церкви, папы и всемирные соборы представляют то, что прежде считалось простым отклонением от нормы, вероотступничеством, преступлением против религии. В декреталии Ne religiosi (1227–1234) Григорий IX приказывает настоятелям ежегодно призывать к себе монахов беглых и изгнанных и находить им место в монастыре, если же они будут сопротивляться, отлучать их от церкви. Тюремное заключение монахов в декреталии не упомянуто, но там сказано, что нарушителей порядка следует помещать in locis competentibus – выражение, которое канонисты и монахи истолковывали как тюрьму или прочно запертую келью, где следует содержать непокорного брата. Начиная с 1230‐х годов наблюдается сближение папского законодательства, канонической доктрины и монашеского права: все склоняются к тому, что нарушителей порядка нужно не изгонять, а сажать под замок. В уставах различных орденов это изменение фиксируется в XIV веке. Так, Quinta distinctio statutorum ордена премонстрантов (1322) гласит, что виновных в «преступлениях самых серьезных» следует не удалять из монастыря, предварительно лишив монашеского платья, а сажать в тюрьму. Впрочем, тенденцию эту нельзя назвать всеобщей. Конечно, статуты мариенбургских бенедиктинцев в 1437 году утверждают, что виновных в воровстве, насилии или святотатстве следует не изгонять, как то значится в уставе, а заключать в тюрьму, а генеральный капитул конгрегации реформированных бенедиктинцев Святой Иустины Падуанской в 1440 году предписывает наказывать неисправимых преступников тюремным заключением, однако уже год спустя тот же капитул уточняет, что в некоторых случаях эти преступники могут быть исключены из ордена и переведены в юрисдикцию епископа. Кроме того, наблюдается зазор между правилами и реальными практиками. В архивах английских епископов или папской курии содержатся прошения монахов, жалующихся на то, что их за проступки изгнали из монастыря67.
Вопрос о том, как поступать с закоренелыми преступниками из числа монахов, остается не вполне решенным и в Новое время, когда религиозные ордена сохраняют, вследствие данных им привилегий и льгот, широкую автономию в том, что касается дисциплинарных взысканий. В декрете «о монахах и монахинях» 25‐й сессии Тридентского собора (декабрь 1563 года) о судьбе монахов-преступников не говорится ни слова. При папе Пие V (1559–1565) Священная конгрегация собора постановляет, что генеральные прокуроры религиозных орденов должны заключать преступников в тюрьму, а не изгонять их, даже если выясняется, что они не подлежат исправлению68. В 1687 году парижские бенедиктинки Божьей Матери Утешения в своих конституциях сетуют на то, что «более не дозволено прибегать к изгнанию, на какое славный наш Отец осудил неисправимых в 28‐й статье своего священного установления, ибо Собор [Тридентский] и парламенты сие девам запретили», и предписывают заключать преступниц в тюрьму69. Тем не менее альтернатива тюрьма/изгнание продолжает обсуждаться вплоть до конца XVIII века. В бенедиктинской конгрегации Святого Ванна, как напоминает Огюстен Кальме в своем комментарии к уставу (1734), только генерал ордена имеет право поставить вопрос перед генеральным капитулом и некоторыми многоопытными монахами о процедуре изгнания, причем для этого нужно получить согласие ординарного епископа, ведь изгнанный монах попадает под его юрисдикцию70. Историю монастырских тюрем в Новое время еще предстоит написать; сходным образом нуждается в анализе соотношение этого наказания с другими, такими как перевод в другой монастырь или отправка на галеры71.
3. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В ТЮРЬМЕ
Прежде чем отправить преступника в carcer (самая суровая форма заключения), его могут содержать в «уединенном месте». Пространство это описано в сборнике обычаев аббатств Спрингерсбах и Клостеррат (XII век) как тесная комната, в которой едва может поместиться один-единственный человек. На ночь ее закрывают на засов; в ней имеется окно, чтобы дневной свет, проникая внутрь, «не дозволял телесным тайникам плодить умственные потемки». Расплывчатость терминов, используемых для описания этого «места», доказывает, по всей вероятности, что в монастырях не было помещения, специально предназначенного для этой цели, и в качестве «уединенного места» использовали по мере необходимости одну из келий. В сборниках обычаев и статутах порой встречаются указания на условия заключения. Так, в сборнике обычаев аббатств Спрингерсбах и Клостеррат говорится, что заключенный монах должен спать на ложе из тростника или сена и питаться хлебом грубого помола прямо на полу, а в определенные дни недели обязан поститься. Заключенный не все время находится под замком; его регулярно выпускают из кельи, чтобы он присутствовал при ежедневных деяниях общины, не принимая, однако, в них участия. Так, в 1321 году одна цистерцианка убежала из Келдхоумского монастыря, нарушила обет невинности и выказала неповиновение; архиепископ Йоркский присудил ее к заключению в келье; но в часы богослужений ей было разрешено выходить оттуда и занимать место на хорах, в самом последнем ряду. Каждую среду и пятницу ее босую приводили в залу капитула, и там настоятельница подвергала ее бичеванию. Срок заключения редко предписывался раз и навсегда; настоятель принимал решение об освобождении виновного в зависимости от того, как скоро тот выкажет признаки раскаяния.
Что же касается заключения в строгом смысле слова, то есть отправления преступника в carcer, ему подвергали тех, кто не желал исправиться. В наставлениях архиепископа Кентерберийского Джона Пекхэма каноникам-августинцам приората Ллантони Прима (1284) заключением в carcer предписано наказывать за «преступления чудовищные и явственные» (воровство, насилие, заговор, непослушание). Сходным образом генеральный капитул картезианцев в 1285 году предписывает отправлять в тюрьму поджигателей, фальшивомонетчиков, убийц и вероотступников72. До самого конца XVIII века главы религиозных конгрегаций требуют устройства «надежных и прочных тюрем для помещения туда беглецов и вероотступников, людей непокорных и неисправимых»73. Согласно статутам и конституциям, в carcer следует заключать только за самые серьезные преступления, однако из источников видно, что на практике таким образом наказывали и за мелкие проступки. Тюремное заключение превращается в уголовное наказание, если оно «продолжительно»; срок имеет значение. Поэтому нормативные источники указывают, что заключение должно быть пропорционально тяжести преступления. Генеральный капитул ордена цистерцианцев в 1478 году объясняет, что убийцы заслуживают «наказания более сурового и заключения более длительного, чем все прочие». Тяжкие преступления и отказ встать на путь исправления караются заключением в строгом смысле слова, порой пожизненным, но если преступник выказывает признаки раскаяния, условия заключения ему могут смягчить; порой дело кончается даже его освобождением74.
В документах тюрьма обозначается терминами carcer, ergastulum, prisio или camera fortis или перифразами, которые подчеркивают, что это помещение закрытое, охраняемое и отдаленное (locus secretus, firmus et tutus). От «уединенного места» оно отличается своим устройством. Согласно сборникам обычаев Ульриха из Клюни и аббатства Хирзау (конец XI века), в эту комнату, не имеющую ни двери, ни окна, спускаются по лестнице обыкновенной или приставной. В сборнике обычаев аббатств Спрингерсбах и Клостеррат (XII век) описана маленькая комнатка, расположенная в самой секретной и самой надежно охраняемой части монастыря, куда входят «не через дверь, а по темной лестнице». За неимением планов, относящихся к средневековому периоду, трудно точно определить местонахождение этих тюрем. В некоторых цистерцианских аббатствах в качестве тюрьмы, по-видимому, использовалась комната, расположенная под лестницей, ведущей с внутренней галереи в спальню. А в бенедиктинском приорате в Дареме в XV веке, по всей вероятности, были устроены две тюрьмы: одна, для виновных в легких проступках, располагалась под лестницей, ведущей в спальню; в ней имелись окно и нужник; вторая (lying house), для виновных в преступлениях тяжких, находилась в подвале лечебницы. Туда попадали через дверь, запертую снаружи деревянным запором. Идентификация этих двух пространств основывается в основном на сведениях из сборников обычаев, которые отличают carcer от «уединенного места», а также на археологических раскопках75. Тюрьмы эти лишены отчетливого архитектурного своеобразия и их трудно отличить от крипт и от помещений для хранения провизии. Зачастую единственными признаками, позволяющими думать, что данное помещение использовалось как тюрьма, оказываются вбитые в стену кольца или крохотное окошко76.
Тюремное заключение было не единственным наказанием, которому подвергались монахи. Им могло грозить также телесное наказание (бичевание), ограничения в еде (порой их сажали на хлеб и воду), а непокорным или провинившимся вторично могли заковать руки и ноги в цепи77. Тем не менее принимаются меры для ограничения излишней жестокости. Например, сборник обычаев бенедиктинского аббатства Тегернзее (XV век) предусматривает перевод узника в другое помещение в случае жестоких морозов или болезни. Согласно некоторым средневековым сборникам обычаев, если место заключения не приспособлено для удовлетворения гигиенических потребностей, заключенного обязаны регулярно отводить в лечебницу или другое соответствующее место, но так, чтобы он не имел возможности общаться с другими братьями. Если находящийся в тюрьме преступник отлучен от церкви, он не имеет права говорить ни с кем, включая даже возможных товарищей по заключению78. В 1395 году настоятель аббатства Премонтре, приговорив к отправлению в тюрьму трех буйных и непокорных каноников аббатства Сери, специально уточняет, что их следует содержать так, чтобы они не могли общаться друг с другом.
Если согрешивших монахов заключают в тюрьму, требуются люди, которые бы отвечали за их охрану и содержание. В конституциях Ланфранка (XI век) упомянут монах, обязанный отводить преступника в место заключения и хранить ключи от него79. В XVIII веке статуты испанских босоногих кармелитов указывают, что надзор за заключенными возлагается на одного из членов общины и именно он будет нести ответственность в случае смерти узника. Тем не менее сторожу запрещается давать заключенным дополнительное пропитание, а также письменные принадлежности. В случае побега суровые кары (отлучение от церкви, тюрьма) грозят сообщникам, сторожам и настоятелям80.
Хотя узника и изолируют от остальных монахов, его не следует оставлять в полном одиночестве. Начиная с XI века сборники обычаев предписывают настоятелям поручать старшим из братьев морально поддерживать узников, чтобы они не впали в отчаяние. Согласно статутам испанских тринитариев (1738), условия содержания в монастырской тюрьме не должны быть слишком суровы: настоятель должен снабжать узника книгами – но не письменными принадлежностями81. Если те, кто отправлен в «уединенное место», имеют право присутствовать на богослужениях, с теми, кто содержится в carcer, дело обстоит сложнее, во всяком случае в Средние века. Некоторые тексты настаивают на том, что этим преступникам следует оказывать духовную поддержку. Так, во время посещения августинского приората в Бург-Ашаре в 1266 году архиепископ Руанский Эд Риго просит настоятеля предоставить заключенному в тюрьму канонику бревиарий или другую книгу, чтобы он смог соблюдать богослужебные часы и молиться. Настоятель обязан также раз в неделю исповедовать заключенного и причащать его. Напротив, в других сводах правил указывается, что причащать узников не положено. В 1495 году двух цистерцианцев из Шаливуа (Буржская епархия), виновных в убийстве, отлучают от причастия до тех пор, пока они не выйдут на свободу. Вопрос о том, следует ли совершать обряд евхаристии над преступниками, содержащимися в carcer, составляет, кажется, неразрешимую проблему. В своем наставлении для исповедников (около 1214 года) Томас из Чобема утверждает, что гостии, телу Христову, не место в тюрьме, подобной зловонной яме; вкушать ее вправе только человек, вышедший на свободу. Сходным образом кодекс ордена Премонстрантов (1505) запрещает узникам причащаться внутри тюрьмы. Из почтения в Святому причастию их следует вначале освободить от цепей и вывести на свет божий, а затем причащать либо перед входом в узилище, либо в особом месте82.
В некоторых монастырях ради спасения души заключенных принимаются специальные архитектурные решения. В регенсбургском картезианском монастыре в XVII–XVIII веках тюрьму устраивают неподалеку от хоров, чтобы узники могли слышать мессу83. На двух планах картезианского монастыря в Пор-Сен-Мари (Овернь), 1676 года и 1790 годов, указано местонахождение тюрьмы для монахов: на первом она располагается в северной части церкви, на втором в картуше значатся «три темницы для монахов», «попасть в которые можно из кельи ризничего. В одной из них проделано было окошко, чтобы узник мог слышать мессу»84. В докладах австрийских имперских следователей (1783) говорится, что монахи, заключенные в тюрьму в венском капуцинском монастыре, содержатся в восьми кельях первого этажа, в каждой из которых есть окно. Пять раз в год мессу служат на малом алтаре, и, открыв дверь, узники могут увидеть эту церемонию. Они получают святое причастие, покаявшись в грехах, а при отказе подвергаются бичеванию85. Примерно так же содержались заключенные в картезианском монастыре Вильнев-лез-Авиньон: там семь келий по дюжине квадратных метров каждая располагались на двух уровнях. Со стороны алтаря в них были проделаны слуховые окна, благодаря чему заключенные монахи могли слышать мессу, не покидая келий86.
В конце XVIII века в реформированных орденах условия содержания провинившихся монахов, насколько можно судить, сделались мягче, тогда как в орденах традиционных по-прежнему были в ходу сырые подземные камеры. Конституции бенедиктинской конгрегации Святого Мавра (1770) гласят, что темницу следует устраивать в комнате «надежно запертой, хорошо освещенной и чистой, где узники <…> могли бы читать благочестивые книги и трудиться»; впрочем, именно эту конгрегацию за обращение с узниками резко осуждал в конце XVII века Жан Мабийон87.
4. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ТЮРЕМ ДЛЯ МОНАХОВ ВНУТРИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРДЕНОВ
Хотя генеральные капитулы начиная с XIII века предписывают устройство тюрем в каждом монастыре, предписания эти выполняются далеко не всегда. У картезианцев, например, генеральный капитул в XIV веке регулярно призывает к порядку настоятелей, а инспекторов, объезжающих картезианские монастыри с визитами, уполномочивает проверять, в каждом ли из них оборудована тюрьма. В 1375 году он приговаривает настоятелей, которые так и не устроили у себя carcer или не переоборудовали его, к уплате штрафа в 12 флоринов, – а два года спустя повторяет этот вердикт. Сходное своеволие наблюдается и в монастырях цистерцианского ордена. Настоятель Балернского аббатства, посланный в 1486 году с визитом в Шезери (епархия Белле), отмечает, что в этом монастыре тюрьмы нет и никого наказаниям не подвергают. Подобной непокорностью или небрежностью отличаются не только «старые» цистерцианский и картезианский ордена, то же самое наблюдается и в монастырях реформированных бенедиктинцев. В 1440 году генеральный капитул конгрегации Святой Иустины Падуанской предписывает оборудовать в каждом монастыре тюрьму «крепкую, чистую и порядочную». В 1450 году, а затем в 1490‐м он повторяет предписание, поскольку выполнили его отнюдь не везде. Он грозит тем настоятелям, которые не подчинятся, лишить их голоса в генеральном капитуле.
Из-за недостатка темниц или места для них монастырским тюрьмам могут находить замену. В конце Средневековья настоятели Клюнийского аббатства регулярно использовали для этого один из принадлежащих им замков – расположенный в пяти километрах от Клюни Лурдон, откуда аббаты управляли окрестной местностью. В документах иногда встречаются намеки на то, что преступных монахов отправляли в тюрьмы епископские и даже коммунальные. В 1341 году, например, флорентийские бенедиктинцы из аббатства Санта Мария (Badia Fiorentina) отправляют монаха, которого подозревают в убийстве викария, в коммунальную тюрьму Стинче. В монастыре достаточно надежного узилища не нашлось, и монахи, боясь, как бы убийца не сбежал с помощью своих родственников, предпочли поместить его в коммунальную тюрьму, где имелось несколько камер и специально обученный персонал88. Вообще такое сотрудничество средневековой церковной и светской судебных инстанций, выражавшееся, в частности, в предоставлении помещений для подследственных и приговоренных, было не редкостью89.
Некоторые ордена решают проблему помещений и персонала иначе – они устраивают для заключенных централизованные тюрьмы. В 1286 году генеральный капитул Клюнийского ордена предписывает каждой провинции оборудовать тюрьму на деньги местных приоратов. В 1289 году генеральный капитул картезианцев предписывает трем соседним монастырям устроить одну общую тюрьму на всех. Впоследствии излюбленным местом заключения стал Большой картезианский монастырь (Grande Chartreuse). Однако платить за содержание заключенных был обязан их родной монастырь, и потому генеральному капитулу приходится ежегодно пенять неисправным плательщикам. В 1496 году он устанавливает твердый тариф для каждого монаха, содержащегося в тюрьме главного монастыря (один дукат в месяц), – тот же тариф сохраняется и при кодификации 1509 года. Генеральный капитул премонстрантов, в XIII веке потребовавший, чтобы каждая провинция завела у себя по крайней мере одну тюрьму, в 1502 году предписывает постройку центральной тюрьмы рядом с аббатством Сен-Мартен в Лане и кладет тюремщику сто солей жалованья в год90.
Та же тенденция к централизации содержания узников наблюдается в Новое время у австрийских францисканцев и капуцинов, в монастырях венецианских францисканцев или у картезианцев. Регенсбургский картезианский монастырь, например, принимает преступников из Эль-Паулара, Эрфурта и Данцига91. В Клюнийском ордене роль тюрьмы постоянно играют несколько монастырей: в 1672 году Сен-Марсель в Шалоне, около 1693 года – Куэнси. Генеральный капитул 1701 года четко называет в числе монастырских тюрем такие монастыри, как аббатство Клюни, монастырь Святого Мартина в Полях, аббатства в Куэнси, Ла Вут-Шийяке и Ганагоби, иначе говоря, четыре монастыря строгого соблюдения и один – древнего обряда. В конгрегации Святого Мавра самых непокорных монахов отправляют в аббатство Мон-Сен-Мишель, слывшее «морской бастилией» еще до того, как в XIX веке здесь устроили тюрьму для осужденных на длительные сроки92.
5. ОТНОШЕНИЕ К НАКАЗАНИЮ ТЮРЕМНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
Хотя наказание тюремным заключением становится все более и более распространенным, оно продолжает вызывать вопросы и сопротивление. Начиная с XIII века канонисты утверждают, что высшее духовное лицо, назначающее наказание низшему (в том числе заключающее его в тюрьму), не должно ни подвергаться автоматическому отлучению от церкви, ни считаться иррегулярным93. Так, францисканец Джон Пекхэм считает, что прелат, создавший для заключенного условия, приведшие к его смерти, не должен считаться иррегулярным94. Тем не менее в XV веке некоторые настоятели продолжают адресовать папской курии прошения, с тем чтобы убедиться, что они не отлучены от церкви и не считаются иррегулярными95. Дискуссии продолжатся в Новое время: многочисленные канонисты, такие как Томас Санчес (1550–1610), Просперо Фаньяни (ум. 1661) или Леопольд Пилати (1705–1755), обсуждают вопрос о том, следует ли считать убийцей прелата (настоятеля, аббата или приора), допустившего гибель заключенного в тюрьме96.
Дело в том, что начиная с XIII века церковные власти рассматривают дурное обращение с заключенными и неправомерное назначение наказания в виде заключения в тюрьму как злоупотребления97, и во время визитов инспекторы строго следят за условиями содержания в темницах. В 1279 году во время визита в бенедиктинский приорат Бардни посланцы архиепископа Кентерберийского выводят из узилища заключенных туда монахов и спрашивают у них, «кто они, по какой причине и с какого времени здесь находятся и как их содержат?». Порой заключенные пользуются случаем пожаловаться на мотивы и условия тюремного заключения. В 1319 году Уильям де Рос, бенедиктинский монах из Глостера, приносит епископу Вустерскому жалобу на своего аббата, который без законной причины посадил его под замок и содержал в очень суровых условиях, лишая порядочного обращения, возможности читать книги, говорить с монахами, подвергаться кровопусканию и прочим вещам, необходимым для достоинства человеческого и монашеского. Устанавливаются специальные процедуры надзора, такие, например, как в 1494 году в Бурсфельдской реформированной конгрегации: если аббат решается посадить преступника под замок, прибывшие с визитом обязаны отправиться на место происшествия и узнать, объясняется ли проступок монаха одним лишь его грехом или же в нем виновен настоятель, дурно управляющий монастырем98.
Отчеты о епископских визитах, равно как и прошения, отправленные в папскую курию, содержат порой жалобы монахов, показывающие, как тяжело переносили эти люди, хотя и привыкшие жить взаперти в монастыре, тюремное заключение. В 1413 году апостольская канцелярия получает прошение от Джона Эндрю (Бозарда), бывшего приора августинского приората Крайстчёрч в Твайнхеме. Его обвинили в заговоре против нового приора и приговорили к пожизненному тюремному заключению. Он сумел бежать и оправдывает свое бегство тем, что после трех лет, проведенных в смрадной темнице, начал бояться за свою жизнь. Разумеется, обличение невыносимых условий содержания призвано извинить бегство, которое по всем законам карается очень строго, но оно свидетельствует также и о том, как ужасна тюрьма. В этом случае, как и во многих других, заключенные протестуют против несправедливости, против произвола настоятелей, а равно и против причиненных им физических страданий (холод, голод, темнота, пыточные условия существования в тесноте). Особенно резкую критику вызывает, наряду с плотскими мучениями, позорный характер тюремного заключения. Так, Элипда Виллебайон, бенедиктинка из Суассонской епархии, в 1371 году обращается к папе Григорию XI с жалобой на свою аббатису, которая по злобе заключила ее «в ужаснейшую темницу и обрекла на тяжкие лишения, словно преступницу». Мало того что тюремное заключение подвергает опасности физическое здоровье монаха, оно еще и наносит урон его чести99.
Многочисленные документы свидетельствуют о враждебном отношении монахов к наказанию тюремным заключением. Конечно, оно вписывается в древнюю традицию, восходящую к пребыванию святого Петра ad vincula, к рассказам о христианских мучениках, страждущих в темницах, а также к агиографическим текстам, изображающим святых, которые проходят испытание тюрьмой или чудесным образом освобождают из темницы несправедливо заключенных туда невинных людей100. Однако, если судить по прошениям монахов, тюремные страдания не преображаются в испытание добродетели, они не ведут к святости. Напротив, прошения эти, по примеру средневековых тюремных рассказов, сообщают о «неустройстве», то есть об унынии узников, не видящих никакого сострадания и никакой поддержки101. Жан Мабийон протестует именно против этого, когда описывает негуманные условия содержания заключенных в конгрегации Святого Мавра в конце XVII века.
За последние десять лет обновление историографии способствовало выходу монастырских тюрем из тени, в которой они находились прежде по разным причинам: и потому, что исследователи опасались скандала, и потому, что документация по этому вопросу носит разрозненный и фрагментарный характер. Современные работы, выйдя за рамки строгого интернализма и сосредоточенности исключительно на нормативных источниках, показали, как активно насаждаются монастырские тюрьмы в XIII веке, когда многочисленные монастыри объединяются в религиозные ордена и получают привилегии, освобождающие их от необходимости подчиняться епископам. Получив полную власть в дисциплинарной области, главы орденов превращают тюрьмы в основание монастырской пенитенциарной системы, каковой они и остаются до конца XVIII века. Изучение прагматической документации позволило уточнить условия содержания монахов (помещения, обхождение с узниками, питание, сторожа, духовное окормление) и показать, как религиозные ордена устраивали тюрьмы для монахов, порой идя на сотрудничество с другими судебными инстанциями, а порой отправляя преступников в централизованные тюрьмы, оборудованные в одном или нескольких монастырях ордена. Параллельное чтение работ, посвященных тюрьмам в Средние века и в Новое время, позволяет также убедиться, что, несмотря на реформаторские движения конца Средних веков и Реформации, а также процесс секуляризации и порожденные всем этим потрясения, наблюдается примечательная преемственность в устройстве этих тюрем с XIII до XVIII века. Хотя произвол настоятелей, унизительный характер заключения, а главное, его несправедливость возбуждают немало нареканий, тюремное заключение остается наиболее распространенным наказанием в самых разных орденах, включая Общество Иисуса (хотя в своих конституциях иезуиты осуждали эту меру)102.
Наконец, обновление историографии позволило разрушить черную легенду о монастырских тюрьмах, долгое время отождествлявшихся с vade in pace – темными и смрадными подземными темницами, церковными каменными мешками, в которых до самой смерти мучились согрешившие монахи, – легенду, популяризованную в XVIII веке «Энциклопедией» и революционным театром, а затем, в XIX веке, романтиками103.
Перевод с французского Веры Мильчиной
БИБЛИОГРАФИЯ
Abdela 2019 – Abdela S. La prison parisienne au 18e siècle. Formes et réformes. Paris, 2019.
Beaulande-Barraud 2011 – Beaulande-Barraud V. Au pain de douleur et à l’eau de tristesse. Prison pénale, prison pénitentielle dans les sentences de l’officialité à la fin du Moyen Âge // Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset E. (Ed.) Enfermements. Le cloître et la prison (5e–18e siècle). Paris, 2011. Р. 289–303.
Cassidy-Welch 2001 – Cassidy-Welch M. Monastic Spaces and their Meanings. Thirteenth-Century English Cistercian Monasteries. Turnhout, 2001.
Cassidy-Welch 2011 – Cassidy-Welch M. Imprisonment in the Medieval Religious Imagination, c. 1150–1400. New York, 2011.
Castan et al. 1991 — Castan N., Faugeron C., Petit J.-G., Perrot M. Histoire des galères, des bagnes et prisons 13e–20e siècles, Introduction à l’histoire pénale de la France. Toulouse, 1991.
Cavero Domínguez 2017 – Cavero Domínguez G. Penal cloistering in Spain in the sixth and seventh centuries // Journal of Medieval Iberian Studies. 2017. Vol. 9. P. 1–24.
Charageat et al. 2021 — Charageat M., Lusset E., Vivas M. (Ed.) Les espaces carcéraux au Moyen Âge. Pessac. Université Nouvelle-Aquitaine éditions. 2021. https://una-editions.fr/les-espaces-carceraux-au-moyenage/.
Claustre 2007 – Claustre J. Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge. Paris, 2007.
Claustre 2012 – Claustre J. La prison de «desconfort». Remarques sur la prison et la peine à la fin du Moyen Âge // Derasse N., Humbert S., Royer J.-P. (Ed.) La prison: Du temps passé au temps dépassé. Paris, 2012. P. 19–44.
Coomans 2000 – Coomans T. L’abbaye de Villers-en-Brabant: construction, configuration et signification d’une abbaye cistercienne gothique. Bruxelles, 2000.
Cygler 2002 – Cygler F. Das Generalkapitel im hohen Mittelalter. Cisterzienser, Praëmonstratenser, Kartäuser und Cluniazenser. Münster, 2002.
Dannenberg 2008 – Dannenberg L.-A. Das Recht der Religiosen in der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts. Münster, 2008.
Dunbabin 2002 — Dunbabin J. Captivity and Imprisonment in Medieval Europe, 1000–1300, Basingstoke, 2002.
Füser 2000 – Füser T. Mönche im Konflikt, Zum Spannungsfeld vom Norm, Devianz und Sanktion bei den Cisterziensern und Cluniazensern (12. bis frühes 14. Jahrhundert). Münster, 2000.
Geltner 2008a – Gelter G. Detrusio. Penal Cloistering in the Middle Ages // Revue bénédictine. 2008. Vol. 118. P. 89–108.
Geltner 2008b – Geltner G. Medieval Prison: A Social History. Princeton, 2008.
Geltner 2011 – Geltner G. Isola non isolata. Le Stinche in the Middle Ages // Annali di storia di Firenze. 2011. Vol. 3. P. 7–28. Онлайн:. https://www.storiadifirenze.org/pdf_ex_eprints/01_geltner.pdf.
Given 2011 – Given J. B. Dans l’ombre de la prison. La prison de l’Inquisition dans la société languedocienne // Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset E. (Ed.) Enfermements. Le cloître et la prison (5e–18e siècle). Paris, 2011. P. 305–320.
Heullant-Donat et al. 2011 – Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset E. (Ed.) Enfermements. Le cloître et la prison (5e–18e siècle). Paris, 2011.
Heullant-Donat et al. 2017 – Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset E. Nouvelles perspectives sur les enfermements // Crime, histoire & sociétés. 2017. № 2 (spécial). P. 287–296.
Heullant-Donat et al. 2015 – Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset E., Bretschneider F. (Ed.) Enfermements II. Règles et dérèglements en milieu clos (4e–19e siècle). Paris, 2015.
Heullant-Donat et al. 2017 – Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset E., Bretschneider F. (Ed.) Enfermements III. Le genre enfermé. Hommes et femmes en milieux clos (13e–20e siècle). Paris, 2017.
Heullant-Donat et al. 2018 – Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset E., Bretschneider F. (Ed.) Webdocumentaire Le cloître et la prison. Les espaces de l’enfermement. 2018. Онлайн: http://cloitreprison.fr.
Hillner 2007 — Hillner J. Monastic Imprisonment in Justinian’s Novels // Journal of Early Christian Studies. 2007. Vol. 15/2. P. 205–237.
Hillner 2015 — Hillner J. Prison, Punishment and Penance in Late Antiquity. Cambridge, 2015.
Hoyer 2018 – Hoyer W. Volumus ut carceres fiant. Medieval Dominican Legislation on Detention and Imprisonment // Linde C. (Ed.) Making and breaking the rules: Discussion, implementation, and consequences of Dominican legislation. Oxford, 2018. P. 323–347.
Hurel 2011 – Hurel D.-O. La prison et la charité: les enjeux contradictoires de l’enfermement pour faute grave dans l’ordre de Saint-Benoît à l’époque moderne // Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset E. (Ed.) Enfermements. Le cloître et la prison (5e–18e siècle). Paris, 2011. P. 110–133.
Hurel 2015 – Hurel D.-O. De la règle de saint Benoît à la pratique réglementaire pénitentielle chez les bénédictins et bénédictines des 16e–19e siècles: traductions, relectures et interprétations // Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset E., Bretschneider F. (Ed.) Enfermements II. Règles et dérèglements en milieu clos (4e–19e siècle). Paris, 2015. P. 189–211.
Johnston 2000 – Johnston N. Forms of Constraint, A History of Prison Architecture. Chicago, 2000.
Jong 2001 – Jong M. de Monastic Prisoners or Opting Out? Political Coercion and Honor in the Frankish Kingdoms // de Jong M., Theuws F., van Rhijn C. (Ed.) Topographies of Power in the Early Middle Ages. Leyde, 2001. P. 291–328.
Le Seigneur 2008 – Le Seigneur P.-J. La chartreuse d’Aillon // Analecta Cartusiana. 2008. Vol. 261.
Leclercq 1971 – Leclercq J. Le cloître est-il une prison? // Revue d’ascétique et de mystique. 1971. Vol. 47. P. 407–420.
Leclercq 1976 – Leclercq J. Libérez les prisonniers. Du bon larron à Jean XXIII. Paris, 1976.
Lehner 2013 – Lehner U. L. Monastic Prisons and Torture Chambers. Crime and Punishment in Central European Monasteries, 1600–1800. Eugene, OR, 2013.
Lemesle 2012 – Lemesle B. Emprisonnements abusifs et emprisonnements punitifs à travers les lettres pontificales d’Alexandre III (1159–1181) et d’Innocent III (1198–1216) // Fritz J.-M., Menegalo S. (Ed.) Réalités, images, écritures de la prison au Moyen Âge. Dijon, 2012. P. 189–205.
Logan 1996 – Logan F. Runaway religious in Medieval England, c. 1240–1540. Cambridge, 1996.
Lusset 2021 – Lusset É. Vade in pace. La fortune historiographique et littéraire de la prison monastique du Moyen Âge au 20e siècle // Revue historique. 2021. Vol. 698. P. 279–321.
Lusset 2017 – Lusset É. Crime, châtiment et grâce dans les monastères au Moyen Âge (12e–15e siècle). Turnhout, 2017.
Manning 2014 — Manning P. W. Disciplining Brothers in the Seventeenth-Century Jesuit Province of Aragon // Renaissance and Reformation. 2014. Vol. 37/2. P. 115–139.
Marmursztejn 2011 – Marmursztejn E., Issues obligatoires. Clôture et incarcération dans la pensée scolastique des 13e–14e siècles // Heullant-Donat I., Claustre J., Lusset E. (Ed.) Enfermements. Le cloître et la prison (5e–18e siècle). Paris, 2011. P. 71–87.
Morris, Rothman 1995 – Morris N., Rothman D. J. (Ed.) The Oxford History of the Prison: The Practice of Punishment in Western Society. Oxford, 1995.
Oberste 1996 – Oberste J. Visitation und Ordensorganisation. Formen sozialer Normierung, Kontrolle und Kommunikation bei Cisterziensern, Prämonstratensern und Cluniazensern (12. – frühes 14. Jahrhundert). Münster, 1996.
Pacho 1975 – Pacho E. Carcere e vita religiosa // Dizionario degli Istituti di Perfezione. Rome, 1975. Vol. 2. P. 261–276.
Penco 1966 – Penco G. Monasterium – Carcer // Studia Monastica. 1966. Vol. 8. P. 133–143.
Pugh 1968 – Pugh R. B. Imprisonment in Medieval England. Cambridge, 1968.
Reno 2017 – Reno E. Ad agendam penitentiam perpetuam detrudatur: Monastic Incarceration of Adulterous Women in Thirteenth-Century Canonical Jurisprudence // Traditio. 2017. Vol. 72. P. 301–340.
Saule 2016 – Saule K. L’officialité de Beauvais et l’enfermement des curés délinquants au 17e siècle: entre rigueur et indulgence // Beaulande-Barraud V., Charageat M. (Ed.) Les officialités dans l’Europe médiévale et moderne. Des tribunaux pour une société chrétienne. Turnhout, 2014. P. 205–224.
Spierenburg 1991 – Spierenburg P. The Prison Experience. Disciplinary Institutions in Early Modern Europe. New Brunswick; London, 1991.
Катя Махотина
МОНАСТЫРИ КАК МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА
В 1658 году Кирилло-Белозерский монастырь принял боярского сына Ивана Усова, но совсем не потому, что он хотел стать послушником: сюда «за бесчинства» его сослал именной указ царя Алексея Михайловича. В инструкции, посланной архимандриту Митрофану, говорилось, что Иван должен находиться на монастырской порции, в «подначальстве» у старца и непрестанно ходить в церковь104.
Похожая судьба постигла спустя годы другого «бесчестного» молодого человека, посадского человека Никиту Петрова, сосланного царским указом в тот же монастырь в 1667 году «за пьянство». Он также должен был находиться здесь «под началом», что очевидно мало на него подействовало, так как монастырским слугам пришлось довольно скоро перевести его в другой, отдаленный монастырь в Кандалакше, что заняло по весенним паводкам целый месяц105. Женщины также попадали в монастырь не по своей воле: так, в 1654 году архимандрит Кирилло-Белозерского монастыря Митрофан был вынужден выполнить приказ патриарха Никона и принять Наталью и Ираиду за блудное дело в Горицкий женский монастырь106.
Дети, чье поведение родители считали непочтительным, отправлялись по челобитной отцов и матерей в монастыри, где они должны также были находиться под руководством опытного монаха. Так, в 1679 году Михаил Лихачев был сослан царской грамотой Федора Алексеевича в монастырь по доношению отца, обвинявшего сына в «непослушании и непочитании»107.
Перечисленные случаи – лишь некоторые из множества указов и грамот, предписывающих монастырскую ссылку для мирян. Они свидетельствуют о том, что уже в XVII веке круг монастырских ссыльных был расширен за счет светских лиц. «За пьянство», «за неистовство», «за непотребство» были самыми часто встречаемыми формулами указов. Так, например, по указу еще молодых царей Иоанна и Петра Алексеевичей в 1692 году «за пьянство и неистовство» в Николаевский Корельский монастырь был сослан житель слободки Солозеро Степан Парфеньев сын Жаравов. Игумен монастыря Василиск получил от архиепископа Холмогор Афанасия грамоту, в которой приписывал держать Степана в монастыре до исправления в «подначальстве» – «в монастырском труде с другими работниками, приводить к церкви божьей, а если пожелает постричься, постричь»108. Данная конкретизация режима подначальства достаточно необычна, обычно упоминание санкции «под начал» подразумевает, что игумен или игуменья знают, что делать с ссыльными. Очевидно, руководство монастыря должно было решить самостоятельно, стоит ли придерживаться традиционной формы подначальства, то есть монашеской аскезы, религиозного ритуала запрещения и контроля доброжительным старцем, старицей, или же просто интерпретировать как «взять под стражу».
Монастырское заключение в России раннего Нового времени – удивительный культурный феномен, который до сих пор не был предметом анализа в своем качестве комбинированного института, включавшего в себя как пенитенциарную и благотворительную, так и исправительную функцию. Действующие обители были как средневековыми carcer109, так и каритативными учреждениями и цухтгаузами раннего модерна в Западной Европе110. В этой статье мы рассмотрим, как экспериментирование с техниками Gute Policey в петровское время повлияло на становление монастырей как мультифункциональных учреждений. Для этого мы обсудим 1) практику «подначальства» и покаянной дисциплины, 2) утилитарный дискурс общего блага (Gute Policey) в отношении монастырей и монахов, 3) пример использования монастырей как долгаузов.
1. ГРЕХ И ИСПРАВЛЕНИЕ: ЛОГИКА ПОДНАЧАЛЬСТВА В ЦЕРКОВНОЙ ТРАДИЦИИ
Техника монастырского подначальства, упоминаемая в цитируемых источниках, была формой покаяния (или епитимьи) в византийской религиозной традиции. Покаяние исторически было исключительно церковной санкцией. В России его в основном назначало высшее духовенство, а высшей инстанцией были епископы. Как и любая форма наказания, предписанная Церковью, это было исправительное, воспитательное и искупительное наказание, объектом которого был «внутренний мир» провинившегося. Согласно правилам святых апостолов, главная цель епитимьи состояла в исцелении болезненных состояний души грешников. Логика санкции заключалась в том, чтобы добиваться исправления грешника, тем самым действуя превентивно против повторения грехов111. Сущность церковных наказаний состоит в том, что преступник церковных законов лишается всех или только некоторых прав и благ, находящихся в распоряжении церкви. Отсюда и общее название этих церковных наказаний: «отлучение» (excommunicatio major)112. Время покаяния ставилось в зависимость от состояния души верующего. По восьмому правилу Григория Нисского, «во всяком же роде преступления, прежде всего смотреть должно, каково расположение врачуемого, и ко уврачеванию достаточным почитать не время (ибо какое исцеление может быть от времени), но произволение того, который врачует себя покаянием»113.
Обычный ритуал епитимии определял, чтобы кающиеся «все посты исповедовались, а до святого причастия допускаемы не были, в среды и пятки кроме сухого хлеба и воды, другой пищи не употребляли»114, кроме этого назначалось хождение в церковь к службе божьей и исполнение положенного числа земных поклонов.
В конце IV века публичное покаяние вышло в практике древней церкви на Востоке из употребления, а долгосрочные епитимийные сроки были заменены епитимийными правилами покаянных сборников, которые прописывали исполнение «подвигов»: сухоядение, земные поклоны, раздачу милостыни нищим, а также работы в монастыре115. Епитимия считалась малым отлучением, то есть временным отрешением от причастия, которое вновь надо было заслужить раскаянием в исповеди и подвигами. В синодальный период длительное отлучение по византийским канонам прописывалось номинально в текстах приговоров, но перестало применяться практически. Решающую роль стала играть исповедь и пастырское увещевание на раскаяние. Указ Синода от 28 февраля 1722 года предписывал применять мягкость в отношении кающихся грешников: «исповедующего грехи свои, какие бы ни были, к причастию Св. тайн допускать безотложно, ведая, что Бог истинно кающихся приемлет скоро»116. С другой стороны, по Духовному Регламенту исповедь без раскаяния – не есть исповедь. И по тому же Регламенту главой 12 велено духовникам в таких случаях не раскаявшихся объявлять не скрытно и неукоснительно117. Если человек на исповеди не раскаялся, то может быть преследован за проступок.
Какое отношение имела назначенная епитимья к монастырскому покаянию? До конца XVII века ни в одном церковном уставе не проговаривалось назначение монастырского подначальства для светских лиц. По Кормчей Книге ссылке в монастырь подлежали лишь духовные люди, в основном принадлежащие монастырской братии. Так, в 1543 году новгородский епископ Феодосий сослал в Печорский монастырь «блудившего» монаха Савватия следующим приказом его настоятелю: «И вы бы его себе в монастырь взяли, да дали бы его старцу доброму по начало, чтоб жил с правилом, да к церкви ходил бы к правилу во все дни, а в церковь входить бы ему не давали, а за монастырь его не пускали, а в трапезе на всяком правиле с молитвою стоял и со слезами и со всяким вниманием о своем согрешении. а ты бы его наказывал о поучал по Божественным правилам. Ты же, сыну, не ленись принимать грешников к себе в покаяние, паче того требующего покаяния старца Савватия почись молитвою и постом исправить во спасение душевное, а начнет Савватий каяться от всего сердца к господу богу, молитесь, чтоб он получил отпущение грехов»118.
В 1697 году последовала наконец «Инструкция поповским старостам и благочинным смотрителям» патриарха Адриана, прописывавшая круг лиц, подлежащих наказанию подначальством. Это были черные попы (монахи), церковные и служилые люди, укрывающие у себя «зазорных людей», и раскольники. Кроме того, это были священнослужители и священники, которых подозревали в связи с разбойниками; послушники и послушницы, незаконно принявшие постриг; лица, причастные к рождению незаконнорожденного ребенка, а также мужчины и женщины, вступившие в четвертый брак. Таким образом, изначально именно церковь юридически регулировала изгнание мирян, расширив тем самым существующее каноническое право. В последующие десятилетия, в XVIII веке, «Инструкция Адриана» послужила основой для церковных учреждений, осуществлявших судебные функции (Синод, церковные консистории, епископальные канцелярии, суды обителей).
Секуляризация греха
Однако, как мы уже видели на примерах, в конце XVII века монастырское покаяние часто практиковалось для мирян и назначалось именно как «подначальство». Этим епитимийная дисциплина усиливалась – ведь аскетизм монашеской жизни, пост и труд в монастыре неизбежно добавлялись к другим благочестивым практикам. Грани между подначальством и «смирением» стали исчезать в петровскую эпоху. Режим подначальства нередко получал прямой смысл телесного наказания и состоял в телесных наказаниях, содержании в кандалах под охраной или в заключении в «земляной яме», тяжелом труде и держании на хлебе и воде. Так, в 1700 году рязанский митрополит Стефан Яворский сослал домового поддьяка Ивана в Солотчинский монастырь, где его следовало «держать в цепях в хлебне»119. Духовные суды, несмотря на канонические правила, запрещающие телесные наказания, также приговаривали к «смирению», то есть наказанию плетьми, кнутом и батогами за преступления против нравственности120. Смирением «по монастырскому обычаю» называлось наказание плетьми при собравшейся братии.
На ужесточение практики монастырского покаяния повлияла не только лишь светская политика. Среди постановлений Синода достаточно примеров того, как люди были осуждены и отправлены на пожизненную работу в монастырь за незначительные проступки, такие как «продерзости, учиненные в пьянстве»121.
Таким образом, в России начала XVIII века монастырское подначальство фактически означало заключение в тюрьму – carcer – и включало в себя телесные наказания, заключение в кандалы, засовывание кляпа в рот за «продерзостные слова» и т. д.122 Поскольку такое лишение свободы часто длилось годами, эта форма наказания была еще более тяжелой, чем телесные штрафы. Самой распространенной формулой приговоров становится «держать в подначальстве скована».
Петр Алексеевич сам ссылал дьяков и слуг своими указами в монастыри, не стремясь к общей юридической кодификации этой санкции. В петровский период покаяние стало частью светского законодательства, хотя распоряжение могло следовать и от светских властей. Покаяние как санкция появилось в 1715 году в Артикуле воинском123. Его назначали в качестве дополнения к светским наказаниям (телесным наказаниям и/или каторге) за прелюбодеяние, рождение незаконнорожденного ребенка, непреднамеренное убийство, богохульство и магические действия124. Сравнение Воинского артикула с предыдущим сводом правил, Соборным уложением 1649 года, показывает, что государство распространило свою юрисдикцию на изначально церковные области и что епитимья может стать мерой, налагаемой светскими судами125. Артикул Воинский отражал фундаментальную характеристику политики Петра, в которой преступление перед государством и грех перед Церковью были переплетены. По новой логике человек, нарушивший заповеди Бога, в то же время должен был рассматриваться как нарушитель царских законов. Преступления, которые основывались на каноническом праве: богохульство, «блуд», нарушение таинства брака, теперь наказывались светским образом. Грех стал преступлением.
Эксперимент с публичным покаянием
Примечательно изменение формы и логики покаяния по шведскому образцу в Артикуле Воинском: оно должно было быть публичным, поэтому включало в себя публичное признание «грехов» перед собравшейся церковной общиной. Это отражено в синтаксисе декретов: речь идет о публичном совершении покаяния: «принести публично покаяние», а не о «публичном покаянии».
Церковные священники заранее объявляли, что перед литургией общину ожидает публичное принесение покаяния, при котором провинившийся должен был стоять посреди церкви и перечислять свои грехи, затем зачитывался судебный приговор. После прочтения приговора диакон прибавлял: «и ныне он (виновный), ту свою вину исповедуя, приносит покаяние и просит от всемилостивейшего Бога отпущения. Того ради извольте вси православные, слышав оное покаяние, от таких и подобных тому причин остерегаться, а о нем, кающемся, дабы сподобился он от Господа Бога приять прощение, помолитеся»126. Преступник полагал три поклона к алтарю и держал покаянное слово, обратившись к народу: «Я, нижайший и всехгрешнейший раб пред Господом богом и пред Вами, православные христиане, за предъявленное мое согрешение, с сокрушением сердца и со осуждением того греха, прошу прощения пред всеми и молю, ради человеколюбия вашего, помолитеся о мне грешном, чтобы оный мой грех от Господа Бога мне оставился в жизни сей и в будущем веке. Аминь»127. Как уже отметил историк церковного права Н. Суворов, в этом акте трудно не увидеть ближайшего сходства с протестантским публичным церковным покаянием128. Действительно, эта форма покаяния, копировавшая ритуалы протестантской церковной дисциплины, имела что-то от западноевропейских ритуалов стыда129, а не от традиционных обычаев православия, в котором не существовало публичного перечисления своих грехов, или, в новой терминологии, «явного церковного покаяния»130.
Публичное покаяние действительно практиковалось в петровское время. В 1724 году за клятвопреступление и возбуждение ссоры поручик Щелин принес в Троицком соборе публичное покаянии после литургии, а Тиунской конторе было предписано «руководствоваться в подобных случаях на будущее время этим примером»131. А в 1725 году Остафий Бобынин, обвиненный своей женой Ириной в «прелюбодействе со многими девками и насилии на глазах ее и матери» должен был принести публично покаяние, а именно: «плакание вне церкви, у притворы стояти сокрушающемся, у каждого входящего в церковь молить, со слезами припадая, молиться за него»132. Преступление против таинства брачного союза было дополнительно наказано публичным телесным наказанием: «4 хлыста, дабы на то смотря другим в грехи попадать неповадно было». Эта практика – публичное «плакание» и телесное наказание – являлась копией лютеранского ритуала покаяния за прелюбодеяние. В Балтийских провинциях она сохранилась до 1764 года133.
Покаяние, как оно подразумевалось в Артикуле Воинском, не имело ничего общего с практикой монастырского изгнания, подначальства, которое продолжало существовать в то же время. Здесь, однако, важно отметить, что в текстах закона покаяние и монастырское подначальство использовались как синонимы. Если сопоставить текст закона с реальностью, быстро становится ясно, что чисто репрессивный характер интернирования был далек от какой-либо заботы о душе. При Петре I монастыри служили лишь заменой тюрем для тех, кто по возрасту или болезни был непригоден для принудительных работ в Сибири.
Подначальство как заключение в carcer
В целом лишение свободы как наказание еще не получило широкого распространения при Петре I, хотя и было сформулировано в Регламенте Городского Магистрата: «Смирительные дома», или «цухтгаузы», должны были быть учреждены для мужчин, а прядильные дома – для женщин134. Глава 20 Регламента гласит, что сюда должны быть заключены «дети непотребного и невоздержанного жития, расточители имений, рабы непотребного жития, которых в службу уже никто не приемлет», а также люди «ленивые, здоровые нищие и гуляки, которые не хотят трудиться за свое пропитание»135. Всех их надо отправить в «смирительные дома» и посадить на работу, чтобы они зарабатывали на пропитание и «чтоб никогда праздны не были»136. Если фактическое появление цухтгаузов задержалось еще на полвека, то использование монастырей как богаделен и домов для умалишенных активно практиковалось, как будет показано ниже.
То, что в петровский период монастыри, «пространства относительно свободной жизни», стали «пространствами наказания», обусловлено, на мой взгляд, двумя факторами: упадок благочестия у духовенства, который привел к количественному росту практик смирения как формы наказания вместо покаяния; и контекст изменений в организации церкви в петровский период. Одновременно увеличение количества инстанций, которые могли назначить покаяние как форму наказания, оказало еще большее влияние на изменение характера покаяния137.
Наследники Петра продолжили использование монастырского подначальства как вида строгого наказания. При первых двух преемниках Петра I, Петре II и Анне Иоанновне, карательная логика монастырской ссылки продолжилась для тех, кто нарушал церковные или светские правила.
Особенно время правления Анны Иоанновны характеризовалось широким применением пыток в ходе расследований. Вместо того чтобы искать свидетелей и улики, был использован испытанный метод выбивания признаний с помощью телесных наказаний. Судебные органы медленно расследовали эти дела. Неэффективность судов в расследовании дел и вынесении приговоров привела к переполненности мест заключения, то есть канцелярских колодничьих, и, соответственно, к плохому обеспечению заключенных, которые вынуждены были заниматься попрошайничеством138.
В 1741 году смертная казнь посадского человека Афанасия была замещена наказанием кнутом и ссылкой в монастырь: «Афанасий, посацкий человек за показанную к святой церкви противность и за некоторые непристойные рассуждения вместо смертной казни по учинению наказания кнутом содержать закованного в кандалы под крепким караулом до смерти его неисходно»139. Монастырь предстает здесь лишь как место возмездия, как альтернатива смертному приговору.
Борьба с распространенным мнением и неконтролируемым передвижением подданных продолжается. В глазах светской власти именно юродивые теперь осуждаются как «ханжи». Так, в 1730 году был задержан и наказан «лживый ханжа», нищий Филипп Иванов: «бродившего ханжу Филиппа Иванова, который за его лукавство и пронырство, что он носил на себе вериги железные чтобы давали больше денег и почитали за трудника <…> по синодальному определению послан для отсылки на горные сибирские заводы в вечную работу, а не принят того ради, что ссылочные колодники в Сибирь и в другие места из той губернской канцелярии уже направлены, а оного де ханжу послать не с кем. Вместо оной ссылки в Сибирь послать под караулом в Соловецкий монастырь, с кем надлежит на ямских двух подводах. И в том монастыре содержать его Филиппа в монастырских тягчайших трудах неисходна, до кончины жизни его, скована и смотреть за ним накрепко»140.
Примечательна функциональная дифференциация понятий «монастырское покаяние («подначальство») и «покаяние» в этот период. Монастырское покаяние стало наказанием, через которое нужно было пройти, чтобы прийти к «настоящему» покаянию. Так, например, обвиненные в прелюбодеянии были отправлены в качестве наказания в монастырь на год для содержания под стражей, и только затем – на свободе – они должны были совершать покаяние под наблюдением духовного отца141.
Если епитимья налагалась синодальными властями, то она должна была постоянно контролироваться местными духовными отцами. В зависимости от усердия кающегося продолжительность покаяния продлевалась или сокращалась – в этом вопросе местный священник консультировался с синодальными властями. После окончания покаянного периода и исповеди духовный отец причащает человека, то есть позволяет ему стать частью общины благочестивых142.
Подавляющее большинство заключенных монастырей были представителями низшего сословия, и их правонарушения носили либо политико-моральный характер – ложные показания в суде, нарушение таинства брака, преступления против императора (слово и дело), либо возникали из‐за тяжелых нищеты или физических и психических заболеваний. Преступления, которые традиционно относились к сфере деятельности церкви, – богохульство, колдовство, переход из греческой православной веры в другую конфессию – наказывались еще более сурово. В этих случаях мы имеем дело со смертными приговорами, когда признание вымогалось под пытками, и лишь в редких случаях казнь заменялась монастырским заключением. Но и это было жестоко – несчастные должны были терпеть в ручных и ножных цепях до самой смерти в абсолютной изоляции.
Высшие классы дворянства имели возможности экономического (коррупция) и социального (связи в аристократических кругах) характера, чтобы избежать монастырского подначальства.
Так было, например, с поручиком Ржевским, которого в 1730 году его жена Анна Ржевская обвинила в прелюбодеянии, пьянстве и насилии. Анна попросила Синод о разводе и, излагая свою просьбу, представила, что муж ее Ржевский «в беспрестанном своем пьянстве, многократно бил ее, жену свою, чему свидетелями были многие высокопоставленные лица, много раз обещался жить мирно, но обещания не исполнял и снова принимался за побои. Кроме того, на глазах ее, жены, многократно прелюбодействовал с разными девками»143. За его «непотребную» жизнь был отдан под арест в монастырь, но был отпущен на поруки своего брата, на чем дело в Синоде закончилось. Предположительно, просьба Анны о разводе так и не была удовлетворена.
2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МОНАСТЫРЕЙ В КОНТЕКСТЕ GUTE POLICEY
Социальные требования того времени также влияли на политику в отношении монастырей. Политический курс Gute Policey определил подавление нищенства, борьбу с беглыми крестьянами и со странствующими монахами144. Петр значительно расширил функциональность монастырей: для него они стали интересны прежде всего как социальные институты для государства. Не случайно учрежденная в 1707 году первая госпитальная школа содержалась на средства Монастырского приказа145.
На первом этапе Петр совместил монашеское изгнание со ссылкой на каторжные работы в Сибирь – карательной практикой, которая теперь все чаще заменяла смертную казнь. Теперь выбор меры наказания руководствовался скорее экономическим рационализмом, а не целью устрашения населения ритуалами казни – spectacles of suffering146. Однако теперь мелких проступков было достаточно, чтобы быть сосланным на принудительные работы. Указ от 19 декабря 1707 года регламентировал, что провинившиеся, которые не подходили для каторги – по возрасту или в результате чрезмерных пыток во время следствия, – должны были быть отправлены в Монастырский приказ, который, в свою очередь, должен был распределять немощных и искалеченных преступников по монастырям. И здесь вопрос о «спасении души» как цели монастырской ссылки не стоял.
Следующий этап в этом направлении Петр начал в 1722 году под руководством Феофана Прокоповича, который помогал ему словом и делом, в «Дополнении к Духовному регламенту», дух которого питался «фундаментальным недовольством жизнью духовенства, монастырской братии и их (отсутствующей) социальной функцией»147. И снова монастыри предстают здесь как представители института, который ложится грузом на государственную казну и богатеет за счет нее, но не приносит реальной пользы. Так, 18‐й пункт предлагает сферы занятия монахов: «Весма монахам праздным быть не допускают настоятели, избирая всегда дело некое. А добре бы в монастырях завести художества, например, дело столярное и иконное»148. В 45‐м пункте «Прибавления о монахах» определялось «Еще при таковых монастырях, идеже обретается многое за потребами доволство, надлежит построить странноприимницы или лазареты, и велеть в них по рассмотрению собрать престарелых, и здравия весма лишенных, кормится собою немогущих, и промышленников о себе неимущих, и велеть таковых в славу Божию потребами покоить»149.
Рациональный, прагматический подход к монастырям и монастырской жизни отличал политику первого императора России. В этом его поддерживал Феофан Прокопович, вместе с которым он составлял «Объявление о монашестве» (от 31 января 1724 года), в котором прописал, что монашеское обещание должно быть возвращено к своим трем первоначальным пунктам: «нищета, чистота, послушание»150. Польза, благочиние и труд – главный предмет внимания Феофана: «Особливо же о должном монашеству трудолюбии все мои речи»151. Так, он предложил «старцев по монастырям убавить, а вместо того положить с монастырей пропитание на больных и раненых солдат и драгун»152.
Сохранилось много заметок Петра, относящихся к устроению монастыря: «Сверх них (монахов. — К. М.) в монастырях надлежит быть отставным солдатам, подкидышам, и учить их грамоте, с некоторою прибавою, а именно грамматика, арифметика 5 частей и геометрия в мужских, но лучше сим ученьям быть в особливом месте под ведением и надсмотром наставника, а не монастыря, чего ради выведенные монастыри и годны к тому будут. А в женских, вместо геометрии, мастерства женские, также хотяб по одному монастырю, что б и языки притом. Також в тех же или в особливых приеме сиротам, у которых нет своих нет, чтоб воспитаны и выучены были, дабы по времени своего возраста все им вручено было»153. Поразительно просвещенчески-рационально звучит мысль Петра: «Вытолковать, что всякому исполнения звания есть спасение, а не одно монашество, как в регламенте духовном объявлено»154.
Прокопович поддерживает Петра доводами из Святых отцов: «Монахи <…> очередно услужить больным могут. Дело же корыстное (прибыльное. – К. М.) будет, если им прикажут изучиться мастерства такого, которого материя недорогая, рукоделие к понятию не трудное, сама сделанная вещь народу потребная <…>. Сие добре заведено и утверждено если будет, то по моему мнению, со временем не востребуют монастыри вотчин, кроме огородной и нечто хлебной земли <…> И такое определение не будет порочно, понеже Василий Великий (кроме иных древних учителей) так, как мы здесь пишем, пишет о деле и мастерстве монашеству прилично, в правилах своих <…> и служения около нищих и больных не исключает»155.
От монастырей и монахов должна быть польза государству, утверждает Прокопович: «А что говорят молятца, то и все молятца, и сию отговорку отвергает Василий Великий. Что же прибыль обществу от сего? Воистину только старая пословица: ни Богу, ни людям, понеже большая часть бегут от податей и от лености, дабы даром хлеб есть. Находится же и иной способ жития богоугодный и незазорный, еже служить нищим, престарелым и младенцам»156.
Мужчины и женщины могли быть приняты в монастыри на содержание, по просьбе военных или адмиралтейских коллегий, по указу царя или по собственному прошению.
Объявление определило «отставных солдат, которые трудится не могут, и прочих нищих росписать по монастырям, по доходам»157.
Петр I был вдохновлен примерами монастырей в Нидерландах, в немецких землях и во Франции, где многие монастыри с самого начала имели благотворительную функцию или были секуляризированы и имели уже другое назначение. В указе, регулирующем воспитание подкидышей, Петр оговорил, что следует «выписать из Брабандии сирот, которые выучены в монастырях»158.
Труд, по понятию Петра, должен был стать решающим фактором для монахов в повышении по чину: «Трудами, искусством и добронравием достойных явившихся, по свидетельству архимандрита и директора159, избирать в знатных монастырей архимандриты, в директора монастыря Невского и семинарийных Санкт Петербургского и московского домов, также и в архиереи, но как в архиереи, так и в архимандриты <…> не производить никому без докладу в Синоде – да и Синод докладывать должен нам»160. Упомянутые здесь учреждения стали в XVIII веке главными в подготовке кадров духовенства, но и их персонал должен был быть утвержден императором.
Идеи не остались на бумаге. Вскоре после появления указа были предприняты практические шаги, такие как назначение Московского Чудова монастыря и Вознесенского Новодевичьего монастыря местами для больных, стариков и калек, а Первенского монастыря – школой. Петр передал эти монастыри в подчинение Баскакову, капитану лейб-гвардии, которому было приказано вести списки прихода и ухода из этих монастырей. Московский Андреевский монастырь был превращен в воспитательный дом для подкидышей, здесь их кормили за счет Синодальной Коллегии Экономии, которая выделяла на эти цели налоги, собираемые со старообрядцев.
Десять лет правления Анны Иоанновны были отмечены усилением утилитарной тенденции в отношении монастырей. Ее новые положения – богадельни, сиротские приюты и учреждения для изоляции «умалишенных» – появляются в документах еще чаще. В этой области политики царица больше руководствовалась своими ближайшими советниками Эрнстом Йоханом Бироном и Генрихом Йоханом Фридрихом Остерманом, чем желаниями и идеями членов Синода. Остерман, протестант, мыслил явно прагматично; он был озабочен не укреплением лютеранской веры, а принятием известных моделей Gute Policey из немецких земель, где секуляризованные монастыри играли важную роль в системе комбинированных учреждений, сочетавших в себе полицейские, исправительные и каритативные функции. Это стало главным направлением политики Анны, ведь число обездоленных людей – отставных солдат, солдатских жен, беглых крестьян и расстриженных священников и монахов – продолжало расти.
В этот период существовало множество указов о монастырской ссылке, изданных Сенатом, Тайной канцелярией или военными командами, без участия Синода и духовенства в выработке приговора. К концу правления Анны Синод стал довольно слабым учреждением161.
Монастырь как приют для «изумленных»
Мишель Фуко показал в своей книге «История безумия в классическую эпоху», как для Западной Европы «тактика изоляции задает рамки для восприятие безумия»162. «Опыт безумия как болезни – это в то же время опыт безумия как интернирования, наказания, смирения»163. Относится ли это и к России? На первый взгляд – да.
В первой половине XVIII века Тайная канцелярия стала тем институтом власти, который решал, как следует обращаться с сумасшедшими. Церковь воспринималась уже не (только) в ее благотворительной ипостаси, а просто как исполнительный орган, отдающий распоряжения о содержании под стражей в определенных монастырях. В 1735 году Тайная канцелярия получила право отправлять провинившихся (преступников по политическим делам, богохульников) в монастыри без представления в Синод.
Как и в Западной Европе, условно различали виды безумия: были «безумные» (в смысле французского fureur), что указывает на исходящий от них вред; были «изумленные», в которых диагностировали недостаток ума164, и были страдающие меланхолией165, или «черной болезнью», которые склонны к меланхолии, печали и временами бредовым состояниям. Границы между безумцами подвижны и объединены одним – затемнением разума. Но можно заметить различия в тактике работы с ними: иногда сумасшедший – это проблема полиции, иногда – религиозно-воспитательная проблема, иногда – медицинская.
Различные тактики решения проблем, однако, заканчиваются в одном месте: в монастыре. Эта тактика началась в конце XVII века и достигла кульминации при Екатерине II, когда в 1762 году Синод назначил Андреевский монастырь в Москве и Зеленецкий монастырь в Новгороде профильными домами для содержания больных166, а в 1766 году Спасо-Евфимиев монастырь полуофициально стал центральным учреждением для содержания умалишенных.
Петр I не только начал относиться к проблеме слабоумия со вниманием (см. закон о «дураках» 1723 года167) и активно использовать монастыри как учреждения социальной помощи увечным и престарелым. Его указ 1723 года об использовании монастырей как мест для обеспечения старых и больных, расширил новое употребление монастырей для государственных нужд: «Отставных драгунов, солдат престарелых, увечных и раненных, которые пропитания не имеют, отсылать в монастыри <…> Беснующегося отослать в монастырь и впредь таких отсылать в Священный Синод для определения в монастыри, а в монастырях держать их в особом месте, имея над ними надзирание, чтоб они не учинили какова себе повреждения и довольствовать их как в помянутом указе изображено»168.
Прокопович был первым, кто предложил создать первый «профильный» монастырь для сумасбродов: Александро-Свирский монастырь – где «изумленные», пятнадцать-двадцать человек, должны были находиться под надсмотром врача169.
Однако политика Петра была довольно двусмысленной, что принесло Синоду много проблем в последующие годы. Так, в том же 1723 году он определил «сумасбродных и под видом изумления бываемых, каковые наперед всего аки бы для исцеления посылались в монастыри таковых отныне в монастыри не посылать»170. Этот указ был опубликован членами Синода Феодосием Яновским, Феофаном Прокоповичем и архиепископом Феофилактом Тверским и положил начало бумажной войне между Синодом, Сенатом и Тайной канцелярией на последующие пятьдесят лет.
После смерти Петра, 12 мая 1725 года, Сенат издает указ «Об отсылке беснующихся в Синод для распределения по монастырям», в котором говорилось о первом указе Петра и определялось так же впредь таких отсылать в монастыри171.
В 1726 году Военная коллегия по указу Екатерины I приказала сумасбродных солдат, содержащихся в Санкт-Петербургском госпитале: «содержать в особых чюланах и когда случится при госпитале работа, тогда посылать их на тоё работу, скованных в цепях и смотреть за ними накрепко, чтоб они и над собою и над другими какого дурна не учинили <…> Буде же они от того содержания и прилежного лечения в надлежащее состояние не придут и, по докторскому свидетельству, явится та болезнь неисцелима или покажется (Как Синод рассуждает) то их изумление от злых духов, тогда кригс коммисариату доносить о том военной коллегии, но понеже беснующихся, для исправления духовного, велено отсылать в Синод»172.
Реальностью же было то, что госпитали часто отказывались принимать душевнобольных и они все равно оказывались в монастырях. Так, в 1731 году архимандрит Новоспасского монастыря Феофил предлагал поместить изумленных иноземцев – колодников Адама Кубе и Матиаса Хрестьяна Кроля, размещенных в его монастыре для лечения, в госпиталь173. 15 декабря Синод изъявил согласие на предложение архимандрита. Однако из московской гофшпитали получено было доношение от доктора Николая (Николааса) Бидлоо, что «означенные иноземцы уже раньше были на излечении и надежды на исправление их в уме нет, а держать их в городской гофшпитали невозможно, понеже упрямством, непотребствами и криком чинят другим больным беспокойство»174. Они остались в Новоспасском монастыре.
Сенат и правительство игнорировали протесты Синода и продолжили ссылку в монастыри умалишенных. Нельзя говорить о том, что монастыри были госпиталями: как уже говорилось, здесь практиковалось подначальство в форме изоляции и смирения. Изумленные часто, как и другие заключенные, забывались и продолжали содержаться в монастырях уже будучи в полном уме.
Эта практика стала широко распространенным явлением, особенно во времена Анны Иоанновны, когда светские институты часто отправляли безумных в монастыри без Синода175. В 1735 году указ Петра о ссылке изумленных был высочайше подтвержден «по силе означенных Именных 1727 и 1735 г указов повелено было от Синода посылающихся из тайной канцелярии престарелых и в уме поврежденных колодников для исправления принимать в монастыри по прежнему <…> а тайной канцелярии оных колодников <…> отсылать в коллегию экономии, которой, принимая оных отсылать прямо в те монастыри, кто в какой назначен будет, и довольствовать из оставшимися монастырскими порциями и караул к ним определить из тех же солдат, которые на пропитании при монастырях обретаются».
Безумцы также были очень обременительны для монастырей с точки зрения инфраструктуры, потому что часто солдаты, которые жили в них на пропитании и должны были нести там караульную службу, вели себя очень небрежно. Монахам часто приходилось брать на себя надзор и охрану. Особенно трагический случай с крестьянином Данилой Ширяевым стал частым аргументом Синода о том, что монастыри не справляются с надзором за умалишенными. Летом 1730 года по просьбе матери Данила был отдан в Данилов монастырь как одержимый, где его должны были держать в монастырских трудах до излечения. Ширяев был назначен в квасоваренную работу, и «будучи у той работы ввалился в квасной котел в кипятке обварился и умер»176.
Заключение
Вряд ли российский контекст позволяет нам говорить об «институциональном достижении»177 – как Фуко утверждал для Западной Европы в отношении интернирования умалишенных. Не существовало системы приютов, подобной «Hopiteaux General», даже если, как отметил Фуко, дома интернирования были схожи с тюрьмами, и часто эти два учреждения путали друг с другом, так что душевнобольные запирались довольно случайно в одном или другом из них. В России мы видим еще большее институциональное смешение. Монастырь стал комбинированной институцией: оставаясь действующей обителью, он объединил в себе функции тюрьмы, богадельни, госпиталя и долгауза. Этим он схож с комбинированными институтами Запада, соединяющими госпиталь, тюрьму и дом приюта178.
Хотя указ Петра от 1723 года, положивший начало увеличению использования монастырей как приюта для умалишенных, лишь закрепил законодательно уже существующую, традиционно-религиозную практику церковной заботы об «убогих», тем не менее отчетливо виден новый подход к проблеме общественного призрения. Теперь умалишенные были приравнены к больным солдатам, неспособным найти себе пропитание. В мышлении и действиях политических элит можно встретить удивительные пересечения заботы, благотворительности и контроля.
Итак, в начале XVIII века были заложены важнейшие принципы развития практик наказания и исправления. Идеи, заложенные Петром, были воплощены в реальность Екатериной Второй, приказавшей учреждение работных (для «хороших» нищих) и смирительных домов, цухтгаузов (для бедных «от праздности»)179. По «Уставу о благочинии» (1779–1781) работные дома должны были предотвращать подданных от «продерзостей», которым они предаются в отсутствие регулярной работы. Цухтгауз, смирительный дом, назначался за пьянство, ругательства, «непотребство» (проституция, блуд) и «праздношатание». Мораль и нравственность должны были стать предметом забот именно светского, полицейского аппарата. Дискурс «просвященной монархини» соединил в себе возвращение к петровскому идеалу «регулярных» (и регулируемых) подданных и усилил протестантский образ труда как общественно полезного и благочестивого дела.
Еще один интересный момент возвращения Екатерины II к петровским нововведениям можно увидеть в возрождении практики публичного покаяния. Не единственным, но самым известным случаем является кейс убийц Жуковых180, и фигура титулярного советника Георгия Теплова, составившего вместе с императрицей хореографию ритуала, здесь совершенно не случайна: Теплов был учеником Феофана Прокоповича. Обращаясь к петровским нововведениям, Екатерина не только демонстрировала свою преемственность (Петр Первый – Екатерина Вторая), но и обращалась к знакомым ей практикам Kirchenzucht, церковного дисциплинирования, распространенным в протестантских землях. Монастыри в России раннего Нового времени следует рассматривать как комбинированные учреждения как в контексте трансфера знаний с Запада, так и в контексте Реформации.
СОКРАЩЕНИЯ
РГИА – Российский государственный исторический архив.
ОДДС – Описание документов и дел, хранящихся в Архиве Священного синода.
РГАДА – Российский государственный архив древних актов.
ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки.
ОПИ ГИМ – Отдел письменных источников Государственный исторический музей.
БИБЛИОГРАФИЯ
Абрашкевич 1904 – Абрашкевич М. М. Прелюбодеяние с точки зрения уголовного права. Историко-догматическое исследование. Одесса, 1904.
Верховской 1916 – Верховской П. Учреждение Духовной Коллегии и Духовный Регламент. Т. 2: Материалы. Ростов-на-Дону, 1916.
Гольцев 1896 – Гольцев В. Законодательство и нравы в России XVIII века. СПб., 1896.
Дневник камер-юнкера Фридриха-Вильгельма Берхгольца 1721–1725 // Неистовый реформатор. Сост. А. Либерман, В. Наумов. М.: Фонд Сергея Дубова, 2000. С. 105–460.
Козлова 2010 – Козлова Н. В. Люди дряхлые, больные, убогие в Москве XVIII века. М.: РОССПЭН, 2010.
Лавринович 2007 – Лавринович М. Б. Столичные нищие и формы социального контроля в России 18 века // Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, Economy, eds. Roger Bartlett & Gabriela Lehmann-Carli. Berlin: Lit Verlag, 2007. С. 403–416.
Марасинова 2017 – Марасинова Е. «Закон» и «гражданин» в России второй половины XVIII века. Очерки общественного сознания. М.: Новое литературное обозрение, 2017.
Махотина 2019 – Махотина К. Меланхолия приходит в Россию. Монастыри как долгаузы в России в 18 веке // Vivliofika: E-Journal of Eightteenth-Centuary Russian Studies. 2019. Vol. 7. С. 21–46.
Милованов 1888 – Милованов И. О преступлениях и наказаниях церковных. СПб., 1888.
Парамонов 1904 – Парамонов. Законодательство Анны Иоанновны. Опыт систематического исследования. СПб., 1904.
Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания российской империи. СПб., 1890.
Попов 1904 – Попов А. Суд и наказания за преступления против веры и нравственности по русскому праву. Казань, 1904.
Православная энциклопедия. Т. 18. М., 2008.
Русский архив 1876 – Русский архив. Кн. 2: Содержание умалишенных при Екатерине Первой. 1876. С. 360.
Смагина 2013 – Смагина С. Переписка Сената, Синода и Тайной канцелярии о призрении сумасшедших в 18 веке // Печать и слово Санкт-Петербурга. 2013. 1. С. 201–208.
Суворов 1876 – Суворов Н. О церковных наказаниях. Опыт исследования по церковному праву. СПб., 1876.
Филиппов 1891 – Филиппов. Наказания по законодательству Петра Великого. М., 1891.
Чистович 1868 – Чистович И. Феофан Прокопович и его время. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1868.
Чистович 1883 – Чистович Я. А. История первых медицинских школ в России. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1883.
Шаляпин 2013 – Шаляпин С. О. Церковно-пенитенциарная система в России XV–XVIII веков. Архангельск, 2013.
Шаляпин, Плотников 2018 – Шаляпин С., Плотников А. Особенности заключения умалишенных преступников в России XVII–XVIII вв. // Вестник института. Преступление, наказание, исправление. 2018. № 2 (42). С. 27–39.
Foucault 2015 – Foucault M. Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft. Frankfurt/M., 2015 (21. Auflage).
Ivanov 2020 – Ivanov A. A Spiritual Revolution: The Impact of Reformation and Enlightment in Orthodox Russia. Madison, 2020.
Kluge 1977 – Kluge D. Die Kirchenbuße als staatliches Zuchtmittel im 15.–18. Jahrhundert // Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte. 1977. Bd. 170. S. 51–64.
Marasinova 2016 – Marasinova E. Punishment by Penance in 18th Century Russia. Church Practices in the Service of the Secular State // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2016. 17. 2 (Spring). Р. 305–332.
Фальк Бретшнейдер
«ОБЩИЙ ДОМ»
Многофункциональность заключения и модель «дома» в германских землях эпохи модерна
В XVII и XVIII веках во всей Европе произошли глубокие изменения в методах наказания, кульминировавшие великими философскими дебатами эпохи Просвещения, в которых на первый план выходила замена традиционных телесных и смертных наказаний. В течение долгого времени именно эта форма наказаний была в центре внимания исследователей. На самом деле, однако, процесс перехода к современной системе наказания, основанной на тюремном заключении, занял гораздо больше времени; он произошел не как быстрое изменение около 1800 года, как предполагает влиятельная книга Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы»181, а скорее в результате длительного периода экспериментов с различными формами наказания в зависимости от отдельных региональных контекстов.
С середины XVI века сюда входили различные учреждения для содержания заключенных. В 1555 году в лондонском замке Bridewell был основан первый европейский приют для мелких преступников, бездомных детей и проституток182.
В 1595 и 1597 годах соответственно в Амстердаме появились мужской Rasphuis и женский Spinhuis – два учреждения, которые преследовали очень похожие цели183. А несколько лет спустя в крупных торговых городах на севере Священной Римской империи (Любек 1602, Бремен 1608/09, Гамбург 1618184) были созданы первые учреждения, известные как «цухтгаузы» или «работные дома»185.
Историки уже давно спорят о роли этих институтов. Для правоведов старой школы, появившейся около 1900 года, они были, прежде всего, признаком прогресса и гуманизации наказания. Роберт фон Хиппель, например, считал, что здесь родилась современная «идея реформаторства», то есть идея о том, что было бы более гуманно – и более полезно для общества – не казнить преступников и не гнать их из страны, а исправлять их через труд и молитву186. С другой стороны, для марксистской социальной науки, возникшей в 1930‐х годах, распространение тюремного заключения в Европе раннего модерна отражало конъюнктуру развития населения и рынка труда. Георг Руше и Отто Кирххаймер в своем исследовании «Sozialstruktur und Strafvollzug» («Социальная структура и уголовная система») утверждали, что разрушения Тридцатилетней войны и вызванная ими нехватка рабочей силы были причиной того, что преступников больше не казнили, а приговаривали к принудительным работам187. Вслед за этим социальная история 1970‐х и 1980‐х годов интерпретировала «учреждения»188 как центральные места дисциплинирования, которое пронизывало все общество и было направлено на создание современного буржуазного субъекта и его добродетелей, таких как трудолюбие, порядок и чистота. В немецкоязычной научной сфере широкое распространение получили тезис Макса Вебера о рационализации Запада и основанная на нем концепция «социальной дисциплинированности» Герхарда Острайха, в то время как в других странах особое влияние оказало видение Норберта Элиаса о «цивилизационном процессе» Запада и работы Фуко189. Наконец, начиная с 1990‐х годов исследования в значительной степени отказались от таких макроисторических подходов. Их интерес теперь направлен, прежде всего, на вопросы, связанные с обществом заключенных, повседневной жизнью в тюрьме, отношениями с внешним миром или – в последние годы – написанием глобальной истории лишения свободы в период раннего модерна190. Кроме того, возрос интерес к пространству «учреждений»191.
Увеличение исследовательских вопросов открыло много новых перспектив, но также привело к тому, что некоторые подходы отошли на второй план. К ним относится роль, которую институты играли в формах социального включения и исключения в ранний современный период. Для многих предыдущих интерпретаций точкой отправления было современное буржуазное общество. Это было верно как для традиционной юридической истории, на которую сильно повлияла необходимость легитимизации современной пенитенциарной системы, так и – несмотря на все остальные различия – для «истории настоящего» Фуко192. Поэтому история тюремного заключения читалась в первую очередь как история социального контроля. Но этот вопрос можно поставить и по-другому, а именно в связи с огромной проблемой интеграции, с которой столкнулось общество раннего модерна. В силу своей во многом жесткой и глубокоиерархичной структуры она столкнулась с формами радикального социального исключения, которые затрагивали до двух третей населения, в зависимости от эпохи. Нищие, старики, больные и инвалиды, «странствующие люди» всех видов начиная с позднего Средневековья все чаще оказывались в маргинальном положении, поскольку общество было неспособно выделить им место в сословном обществе193. Это исключение из общества измерялось, прежде всего, тем, что такие люди практически не имели доступа к ресурсам, таким как работа или собственность, которые в первую очередь определяют принадлежность194. Фуко уже отмечал в своей «Истории безумия», что «великое заточение» XVII и XVIII веков преследовало цель интегрировать изгоев в структуры общества посредством труда и морального воспитания195. Нидерландский историк Питер Спиренбург утверждает то же самое, указывая в своей книге «The Prison Experience» («Тюремный опыт»), впервые опубликованной в 1991 году, что ранние современные институты лишения свободы соответствовали современной модели домашнего хозяйства и воспроизводили те же патерналистско-семейные формы совместного проживания и экономической деятельности, которые формировали и общество раннего модерна в целом196. Поэтому тюрьмы для него были не антиполями общества, а наоборот – институционализированными формами передачи его принципов тем, кто ранее к обществу не принадлежал.
Целью данной работы является развитие этих соображений и тезиса о том, что социальная функция учреждений раннего Нового времени заключалась в создании «дома» для тех, у кого его не было. Отправной точкой для этого является наблюдение, которое само по себе банально: многие из ранних современных учреждений заключения носили в своем названии слово «дом». Это особенно ярко проявляется в случае с Tuchthuizen в Голландии и немецкими «Zucht-» и «Arbeitshäusern» (чье обозначение напрямую восходит к голландской модели). Но в Англии также существовали Workhouses или Houses of correction, где в основном заставляли работать нищих и бродяг197. На первый взгляд, данное перечисление говорит о том, что это было протестантское явление. На самом деле, ссылка на «дом», похоже, была распространена прежде всего в регионах, порвавших с католической церковью, в то время как в регионах, приверженных католицизму, преобладало понятие «Hospital» – как, например, в знаменитых hôpitaux généraux во Франции198. Однако, с одной стороны, в смешанной по вероисповеданию Священной Римской империи учреждения назывались Zuchthaus, «цухтгаузами», или Arbeitshaus, «работными домами», повсеместно – независимо от того, была ли это католическая или протестантская территория199. А во-вторых, термин «дом» использовался и в других местах: часть приюта Сальпетриер в Париже была таким maison de force, в котором в основном содержались проститутки200. В Испании аналогичные функции выполняли casas de recogidas или arrepentidas, существовавшие с XIV века201. Основанное в 1703 году папой Климентом XI в Сан-Микеле ди Рома учреждение называлось Casa di correzione; позже аналогичные учреждения появились и в других городах Италии, например в Милане202. В Российской империи среди реформ, начатых Екатериной II, были воспитательный дом (1764) и работный дом (1782), оба учрежденные в Москве203.
Таким образом, хотя понятие «дом» не везде имело одинаковый вес, а его значение было подвержено региональным вариациям, оно, похоже, сохраняло тесную связь с миром заключения на протяжении всей ранней современной Европы. Причины этого очевидны: во всех домодерных обществах, вплоть до XVIII века, интеграция происходила в основном через членство в союзах, ядром которых был «дом», то есть расширенное домохозяйство, группировавшееся вокруг ячейки семьи204. Для того чтобы принадлежать к обществу, необходимо было принадлежать к такому «дому», будь то по рождению или по признанию (например, в контексте работы в качестве слуги или в хозяйстве ремесленника). Такие «дома», в свою очередь, принадлежали другим объединениям людей, например гильдиям, сельским общинам или городам, которые отводили каждому человеку определенное место в сословном обществе205. Для отдельного человека участие в жизни общества могло быть достигнуто только через принадлежность к «дому». Важность этого особенно очевидна в случае тех людей, которые не имели такой связи: нищие, бродяги, «цыгане», странствующие торговцы, игроки, отставные солдаты и многие другие не имели домашних связей и поэтому выпадали из общества в восприятии своих современников206.
Именно здесь, таков мой тезис, берут начало учреждения раннего модерна. Такая позиция, в частности, помогает объяснить многофункциональность многих учреждений, которые, например, всегда включали в себя благотворительные элементы и не могут быть поняты исключительно из философских соображений, экономических мотивов или анонимного процесса дисциплинирования. Правда, данная позиция связана с одной проблемой, особенно в контексте немецкой историографии, а именно темной тенью, которую отбрасывает понятие «всеобщий дом»207, введенное Отто Бруннером в 1950‐х годах. По словам Бруннера, домашнее сообщество было основной единицей жизни во времена раннего модерна. Свою основную функцию, обеспечение пропитанием домочадцев, оно выполняло в значительной степени самодостаточно, то есть независимо от других «домов». Домочадцы находились под патриархальным правлением хозяина дома и только через него косвенно участвовали в высших социальных ассоциациях, таких как церковная община, деревня или город208. Этот романтический образ истории, консервативные если не реакционные корни которого трудно скрыть, вызвал многочисленную критику за последние несколько десятилетий, которая в значительной степени дискредитировала эту концепцию209. Я разделяю эту критику. Но она не должна скрывать, что «дом» был центральным элементом мышления и действий многих людей во времена раннего модерна. Поэтому нельзя не принять всерьез существование и действенность модели дома, даже если она понимается как идеологическая конструкция, а не как социальный факт210. И это означает, что не следует упускать «дом» из виду именно тогда, когда, как и в случае с цухтгаузами и рабочими домами раннего модерна, речь идет об учреждениях, которые имеют прямые аналогии с этой моделью.
1. «ОДОМАШНИВАНИЕ» ОБЩЕСТВА
Как устоявшийся образец жизни и труда «дом» в некоторых областях раннего современного общества был в процессе распада уже начиная с XV века, например в горнодобывающей промышленности, транспортной отрасли или в некоторых частях ремесла211. Но в то же время он претерпел значительный идеологический подъем, особенно в отношении патриархальной власти «отца дома» (pater familias), которая заняла главное место в концепциях господства и порядка власти212. Об этом можно судить, например, по появлению и распространению так называемой «литературы по дому», которая возвращалась к древней теории ойкоса и, в частности, давала указания членам дворянской элиты по хорошему ведению собственного домашнего хозяйства213. Однако учение о доме не только сформировало размышления о том, как лучше всего организовать сельские поместья и другие домохозяйства, но и сформировало самооценку князей, которые также всегда понимали территорию, которой они управляли, как «дом»: притязания на власть легитимировались самосознанием как «отцами дома» своей собственной страны на этом свете, аналогично небесному «отцу». В конце концов, идеология «дома» получила решающий толчок в результате реформации, для представителей которой (прежде всего Мартин Лютер) нравственное существование человека было возможно только в качестве члена «дома» (лучше всего в качестве хозяина или домохозяйки). Поэтому для протестантской теологии морали «дом» совершенно конкретно ассоциировался с идеалами истории спасения о добродетели, смирении и порядке, поэтому для человеческих проповедников «весь мир был ничем иным, как цухтгаузом Бога»214.
Эта идеализация «дома» недолго ограничивалась протестантизмом. Начиная с XVII века модель «дома» сформировала в Священной Римской империи германской нации межконфессиональные представления о господстве и конкретные политические меры, которые включали различные способы управления обществом в целом и обеспечения его хорошего порядка. Хорошее руководство «домашнего отца» своим «домом» при этом выступало в качестве ориентира для хорошего правительства215. Поэтому его принципы были неотъемлемой частью понятия «gute Policey», которое современники использовали для описания идеального состояния общества, в котором были возможны порядок, безопасность, процветание и социальный мир216. Таким образом, модель «дома» и «gute Policey» были тесно связаны друг с другом. Вот почему цухтгаузы и работные дома также считались важными Policey-учреждениями, главной целью которых было соблюдение норм власти и поддержание хорошего общественного порядка217.
Эта тесная связь с мышлением и действиями «gute Policey» также отражалась в том обстоятельстве, что в основном это были государственные учреждения, поддерживаемые городскими или княжескими правительствами; частные цухтгаузы также существовали в империи, но они встречались значительно реже218. С другой стороны, общим для всех инициатив, будь то публичных или частных, было то, что они казались современникам панацеей, которая решала почти все социальные проблемы того времени: учреждения должны не только обеспечивать надлежащий уход и лечение бедных или больных подданных, но и привлекать к работе нищих и бродяг, наказывать за преступления и другие формы правонарушений219, напоминать нечестивым подданным об их религиозных обязанностях, возвращать непокорную молодежь на путь добродетели и воспитывать детей. Эта многофункциональность кажется трудной для понимания с сегодняшней точки зрения и неоднократно определялась историками как источник «целевых конфликтов и структурных кризисов»220. С другой стороны, для современников – и не только для властей, но и для многих простых подданных, как мы скоро увидим, – разноплановые институциональные механизмы были далеко не диковинными. Потому что, с одной стороны, они были убеждены, что человек должен работать в любой жизненной ситуации, чтобы увериться в Божественной благодати и, следовательно, в вечном душевном спасении221. А с другой стороны, организация учреждений следовала шаблону, основанному на целостных решениях, а не на функциональной дифференциации: социально-интегративной и действующей во всем обществе модели «дома».
2. ЦУХТГАУЗ КАК «ДОМ»
Насколько многофункциональными были цухтгаузы раннего Нового времени, насколько они объединяли различные цели под одной крышей, лучше всего можно проследить по часто разнородным группам заключенных, размещенных в них. Так, в курсаксонском «доме бедных, сирот, смирения и работы» в Вальдхайме, основанном в 1716 году, были выделены три категории: во-первых, это были «подначальные»222, которые понимались как «злые и гнусные грешники», которых следовало «отвратить от их непослушной сущности, наказать пристойно и направить на путь истинный». Под ними подразумевались в основном мелкие преступники, то есть воры, мошенники, прелюбодеи или разбойники, а также странствующие нищие, которых следовало отучить от порока праздности тяжелым трудом. Во-вторых, к ним принадлежали «бедные», под которыми понимались «брошенные, бедные, больные и слабые люди», которые, отлученные от поддержки семьи и общины, зависели от учреждения, которое обеспечивало им «временный приют». Поэтому здесь можно было встретить самых разных нуждающихся, физически или психически больных, старых или обездоленных людей, чьи родственники не могли или не хотели взять на себя заботу или обеспечение. В-третьих, наконец, здесь были дети-сироты без отцов и матерей, которые должны были воспитываться в приюте «к истинному христианству, хорошим порядочным нравам и к прилежному труду»223. Под этим подразумевались, во-первых, дети без родителей, а во-вторых, те, чье воспитание не удалось, поэтому их нередко отдавали в приют члены собственной семьи. В остальном это означало не только людей из нижних и маргинальных слоев общества, но отчасти и членов высших сословий, которых в Вальдхайме называли «уважаемыми» заключенными.
За них иногда выплачивались значительные суммы в качестве «расходных денег», что позволяло им иметь особые привилегии: освобождение от трудовых обязанностей, питание из отдельной кухни, собственные спальные палаты, обслуживающий персонал из других заключенных и т. д. Свои блюда они принимали за столом домоуправа, что было не только символическим обменом за уплаченный кошт, но и знаком взаимного уважения и признания чести как общего социального капитала.
Таким образом, наказание, выработка дисциплины, уход и опека, а также воспитание в благочестии, трудолюбии и нравственности были основными задачами учреждения. Их выполнение при этом не было тесно связано, как в современных тюрьмах, с юридической логикой. Например, то, как долго человек оставался в учреждении, было полностью на усмотрении земельной администрации или правительства Дрездена. В отдельных случаях это могло означать, что кого-то досрочно освободили, потому что он вел себя особенно хорошо; однако чаще всего заключенные оставались в заключении дольше, чем первоначально было указано в приговоре, потому что считалось, что они еще не достойны освобождения. Было также немало тех, кто изначально прибыл без определенного срока заключения; в их случае в журнале учета заключенных значилось «до исправления» или «до дальнейшего распоряжения».
Поэтому за такими практиками – и более того, за разнообразием самих групп заключенных – скрывалось хорошее определение того, что делало цухтгауз «домом» в смысле «gute Policey»: учреждения были центральным инструментом в политической стратегии правителей, направленной на всестороннее «одомашнивание» общества. Эти учреждения были призваны интегрировать бездомных или людей, вырванных из системы домашнего авторитета, в жизнь в «доме» или вернуть их в нее. Эта модель социального существования была не только привилегирована властями, но и возведена в норму.
Таким образом, задача учреждений должна была заключаться в выполнении функций дома, связанных с защитой и регулированием, там, где другие «дома» отсутствовали или были неспособны к этому. Поэтому в них оказывались воры, прелюбодеи, проститутки, нищие и бродяги, больные, а также непокорные дети: всем им не хватало одного и того же: упорядоченной жизни в упорядоченном «доме».
Между тем учреждения в какой-то степени можно понимать как «образцовые дома» властей. Созданные и поддерживаемые самими правителями, они служили для демонстрации и реализации повсеместно распространяемых принципов хорошего ведения хозяйства и, в более общем смысле, «gute Policey».
Не случайно в знаменитом «Универсальном лексиконе» Иоганна Генриха Цедлера говорилось, что цухтгауз – это «дом или здание, которое содержится властью»224