Читать онлайн Мария Антуанетта бесплатно
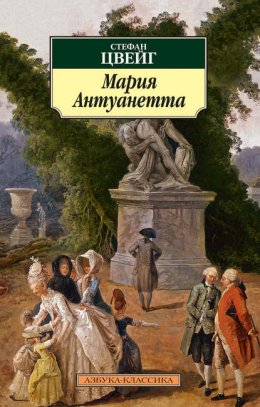
© Л. Миримов (наследник), перевод, хронологическая таблица, заметка «От переводчика», примечания, именной указатель, 2015
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®
* * *
Вступление
Писать историю королевы Марии Антуанетты – значит поднять материалы событий более чем столетней давности, событий, в которых диалог обвинения и защиты горяч и ожесточен. В страстном тоне дискуссии повинно обвинение. Чтобы поразить королевскую власть, Революция задела королеву, а в королеве – женщину. Правдивость и политика редко уживаются под одной крышей, и там, где для демагогических целей надо создать некий образ, от услужливых приспешников общественного мнения справедливости ожидать не приходится. Никакими средствами, никакой клеветой не гнушаются враги Марии Антуанетты, чтобы бросить ее под нож гильотины, любой порок, любые отклонения от моральных норм, любого вида половые извращения беззастенчиво приписываются этой louve autrichienne[1], они смакуются в газетах, брошюрах, книгах. Даже в Доме правосудия[2], в зале суда, прокурор патетически сравнивает «вдову Капет»[3] с самыми развратными женщинами мировой истории: с Мессалиной, Агриппиной и Фредегондой. Когда же в 1815 году один из Бурбонов вновь занимает французский престол[4], происходит резкий перелом. Чтобы польстить династии, демонизированный образ подмалевывается красками на елее, нимб святости, облака фимиама становятся обязательными элементами всех портретов, всех характеристик королевы. Хвалебный гимн следует за хвалебным гимном, добродетель Марии Антуанетты берется под яростную защиту, ее дух самопожертвования, ее доброта, ее безупречный героизм воспеваются в стихах и прозе. И щедро увлажненная слезами умиления, сотканная руками аристократов вуаль вымыслов окутывает блаженный лик reine martyre – королевы-мученицы.
Психологическая правда, как всегда, находится где-то посередине. Мария Антуанетта не была ни великой святой, ни распутной девкой, grue. Эти образы выдуманы роялизмом и Революцией. Она была ординарным характером, по существу обычной женщиной, ни очень умной, ни очень глупой, ни пламенем, ни льдом, не тянулась к добру, не стремилась к злу, заурядная женщина прошлого, настоящего и будущего, без склонности к демонизму, без влечения к героическому и потому, казалось бы, не героиня трагедии. Однако История, этот великий демиург, вовсе не нуждается в героическом характере главного действующего лица разворачиваемой ею потрясающей драмы. Чтобы возникла трагическая напряженность, мало только одной исключительной личности, должно быть еще несоответствие человека своей судьбе. Ситуация может стать драматической, когда выдающийся человек, герой, гений вступает в конфликт с окружающим миром, оказавшимся слишком узким, слишком враждебным тем задачам, которые этот человек в состоянии решать. Вот примеры тому: Наполеон, задыхающийся на клочке земли Святой Елены, Бетховен, замурованный в своей глухоте. Подобное происходит всегда и всюду, когда любая великая личность не в состоянии полностью проявить себя. Но трагическая ситуация возникает и в тех случаях, когда ничем не примечательный или даже слабый характер оказывается в чрезвычайных условиях, когда личная ответственность подавляет, уничтожает его, и, пожалуй, по-человечески эта форма трагического представляется мне наиболее волнующей. Ибо исключительный человек инстинктивно ищет исключительной судьбы. В природе его необычайного характера – потребность жить героически, или, как говорил Ницше, «опасно»; такой человек в силу присущих ему огромных притязаний насильственно вызывает мир на их удовлетворение. Таков гениальный характер, в конечном счете не виновный в своих страданиях, ибо ниспослание ему этих испытаний огнем мистически требует полной отдачи всех внутренних сил: словно буря – чайку, могучая судьба поднимает его все выше и выше. Средний же характер, напротив, по природе своей предназначен к мирному укладу жизни, он не хочет, он совсем не нуждается в большой напряженности, он предпочел бы мирно жить в тени, в безветрии, при самом умеренном накале судьбы. Поэтому он защищается, поэтому он страшится, поэтому обращается в бегство, когда невидимая рука толкает его в пучину. Он не стремится к исторической ответственности, напротив, бежит ее, он не ищет страданий, они сами находят его; не внутренние, а внешние силы побуждают его быть более значимым, чем это присуще ему. Эти страдания негероя, среднего человека из-за того, что он не может выразить своих чувств, представляются мне не менее глубокими, чем патетические страдания истинного героя, они, пожалуй, даже более сильны, более потрясающи, ибо обыкновенный человек все это должен пережить в себе, он не обладает, подобно художнику, спасительным даром претворять свои муки в произведение искусства.
Жизнь Марии Антуанетты является, таким образом, особенно убедительным примером того, как жестоко может судьба взять в оборот такого среднего человека, как может она грубой силой заставить его оказаться выше своей посредственности. Первые тридцать лет своей тридцативосьмилетней жизни эта женщина идет заурядным путем, находясь, правда, на виду у всех; ни разу не преступает она средних норм ни в хорошем, ни в дурном: индифферентная душа, ординарный характер и в историческом аспекте сначала лишь статист. Не ворвись Революция в ее безоблачно непринужденный мир-спектакль, эта женщина, незначительная сама по себе, жила бы спокойно и дальше, как сотни миллионов женщин всех времен: танцевала бы, болтала о пустяках, любила, смеялась, наряжалась, делала визиты, подавала милостыню, рожала детей и наконец тихо легла бы в постель, чтобы умереть, так и не поняв по-настоящему, для чего она жила. Подданные торжественно попрощались бы с останками королевы, был бы объявлен придворный траур, но затем королева исчезла бы из памяти людей, как и другие бесчисленные принцессы – Марии Аделаиды, Аделаиды Марии, Анны Катарины и Катарины Анны, чьи надгробия с холодными, равнодушными, никем не читаемыми надписями стоят в Готе[5]. Никогда ни одна живая душа не испытала бы потребности заинтересоваться ее личностью, ее угасшей душой, никто так и не узнал бы, кем же она в действительности была, и – это самое важное – сама Мария Антуанетта, королева Франции, не переживи она тех страданий, которые выпали на ее долю, никогда бы не поняла, кем она, собственно, являлась. Ибо счастье или несчастье ординарного человека в том, что сам он не испытывает необходимости самовыражения, не проявляет любопытства, чтобы спросить себя об этом прежде, чем судьба спросит его. Спокойно дает он дремать своим возможностям, хиреть своим дарованиям. Силы его, подобно никогда не тренированным мускулам, находятся в бездействии, пока в них нет нужды для отражения направленного на него удара. Ординарный характер нужно вывести из состояния безразличия, чтобы он стал тем, чем может стать, чтобы вскрылись те его возможности, о существовании которых он, вероятно, ранее и не подозревал; у судьбы нет для этого иного хлыста, чем несчастье. И подобно тому как художник, иногда намеренно, ищет внешне простенькую тему вместо патетически значительной, охватывающей весь мир, чтобы доказать свои творческие силы, так и судьба время от времени выбирает незначительных людей на роли героев, показывая этим, что и хрупкий материал в ее руках способен выдержать огромные напряжения, что на основе слабых и безвольных душ она в состоянии развернуть настоящую трагедию. Такой трагедией, одной из самых прекрасных среди трагедий о героях, поневоле является та, имя которой – Мария Антуанетта.
Ибо с каким искусством, с какой изобретательностью История вводит этого среднего человека в свою драму, в какие поразительные ситуации она его ставит, с каким знанием контрапунктирует контрасты вокруг этой первоначально маловыигрышной роли главного действующего лица! Сначала с дьявольским коварством она балует эту женщину. Ребенку дарит отчий дом – императорский дворец, подростку – корону, молодую женщину расточительно наделяет привлекательностью, осыпает всеми мыслимыми благами, дает ей помимо всего легкий характер и сердце, не спрашивающее о цене и значимости этих даров. На протяжении ряда лет История балует, нежит это ветреное сердце, делая его все более и более беспечным. Быстро, словно играя, судьба возносит эту женщину на головокружительную высоту счастья, и тем ужаснее, тем трагичнее будет медленное ее падение. С мелодраматической внезапностью История сталкивает лбами самые далекие крайности: из пышного, великолепного королевского дворца – в жалкую, убогую тюремную камеру, с престола – на эшафот, из золоченой кареты – в телегу палача, из роскоши – в нищету. Восторженную любовь подданных подменяет она смертельной ненавистью, непрерывный триумф – потоками клеветы. Все глубже и глубже падение, все безжалостней развязка. И, находясь в расцвете своей такой счастливой жизни, этот маленький, этот ординарный человек, это неразумное сердце под ударами рока не понимает, каковы же намерения неизвестной ему силы, а тяжелая рука мнет свою жертву, стальные когти рвут ее, этот ничего не подозревающий человек раздражается – он не привык к каким бы то ни было страданиям. Он защищается, сопротивляется, кричит в ужасе, пытается спастись бегством. Но с безжалостностью художника, который не успокоится, не доведя свой материал до максимального выражения, не лишив его малейшей возможности уйти от своей участи, мудрая рука Несчастья не отступит от Марии Антуанетты, пока не придаст этой мягкой и безвольной натуре твердость и самообладание, пока силой не извлечет все значительное, все величественное, унаследованное ею от родителей, дедов и прадедов, захороненное в тайниках ее души. Испуганная, истерзанная муками, никогда раньше не находившая времени, чтобы призадуматься над собой, эта много пережившая женщина внезапно прозревает, понимая, что с ней произошла метаморфоза; потеряв свою внешнюю власть, она чувствует, что в ней возникло нечто новое и великое, то, что не могло бы появиться без пережитого ею. «Лишь в несчастье действительно узнаешь людей» – эти гордые, эти поразительные слова неожиданно срываются с ее изумленных уст. Предчувствие нисходит на нее: именно из-за этих страданий ее маленькая, заурядная жизнь будет долго жить после нее, являя собой пример для будущих поколений. И в этом осознании высшего долга ее характер перерастает сам себя. Незадолго до того, как разобьется бренная оболочка, настоящее произведение искусства, то, которому суждено жить и жить, завершено, ибо в последние, в самые последние часы жизни Мария Антуанетта, средний человек, достигает наконец трагического масштаба и становится достойной своей великой судьбы.
Девочку выдают замуж
Многие столетия Габсбурги и Бурбоны на бесчисленных полях сражений – в Германии, в Италии, во Фландрии – дрались за господство в Европе. Наконец старые соперники устали и начали осознавать, что их ненасытное честолюбие расчищает дорогу другим династиям. Уже государство еретиков[6] с Британских островов стремится стать мировой империей, уже превращается в могучее королевство протестантское княжество Бранденбург[7], уже готовится безмерно расширить свои владения полуязыческая Россия. И вот государи-противники со своими дипломатами приходят к мысли, как всегда весьма запоздалой: а не лучше ли поддерживать друг с другом мир, вместо того чтобы снова и снова, в конечном счете ради выгод инаковерующих выскочек, развязывать роковые войны? Шуазель, министр Людовика XV, и Кауниц, канцлер Марии Терезии, разрабатывают план союза двух великих держав; для того же, чтобы этот союз стал длительным, а не дал бы простую передышку между двумя войнами, решают они, обеим династиям, Габсбургам и Бурбонам, следует породниться. В невестах у Габсбургов никогда недостатка не было. И на этот раз имеется богатый выбор невест самых разных возрастов. Сначала министры подумывают над тем, чтобы женить на габсбургской принцессе Людовика XV, не смущаясь тем, что он уже дед, да и поведения более чем сомнительного, но христианнейший король спасается бегством, юркнув из алькова мадам Помпадур в альков другой фаворитки – Дюбарри. Император Иосиф, вторично овдовев, также не обнаруживает никакого желания сватать себе какую-нибудь из трех перезрелых дочек Людовика XV. Таким образом, как наиболее естественный остается третий вариант: бракосочетание подрастающего дофина, внука Людовика XV и будущего короля Франции, с одной из дочерей Марии Терезии. В 1766 году брак дофина с одиннадцатилетней Марией Антуанеттой рассматривается уже всерьез: 24 мая австрийский посланник пишет ясно и недвусмысленно: «Король совершенно определенно высказался в том смысле, что Вы, Ваше величество, можете рассматривать проект как окончательно принятый». Но дипломаты не были бы дипломатами, если бы не считали долгом своей чести усложнять простые вещи, делать из мухи слона и затягивать решение любого важного вопроса всяческими искусными способами. При австрийском и французском дворах начинаются интриги. Проходит год, другой, третий, и у Марии Терезии не без основания появляются опасения: уж не собирается ли ее несносный сосед, Фридрих Прусский, le monstre[8], как она его в сильном ожесточении называет, расстроить своими коварными макиавеллиевскими приемами и этот план, имеющий для сохранения ведущего положения Австрии в Европе столь решающее значение. Используя все средства, силу убеждения, заискивания, лесть, она стремится заставить французский двор повторить данное им полуобещание. С неутомимостью профессиональной свахи, с упорным и настойчивым терпением дипломата приказывает она вновь и вновь превозносить в Париже достоинства принцессы; она осыпает посланников комплиментами и подарками, она ждет от них, чтобы те привезли наконец из Версаля[9] брачное предложение. Марию Терезию не останавливают предостерегающие сообщения ее посланника: природа обделила дофина многими достоинствами – он недалек, неотесан, вял. Здесь она – императрица, думающая об усилении династии, а не мать, которую заботит счастье ее ребенка. К чему эрцгерцогине счастье, если она станет королевой? Чем сильнее настаивает Мария Терезия на оформлении брачного договора, тем сдержаннее ведет себя умудренный житейским опытом Людовик XV. Три года получает он портреты маленькой эрцгерцогини и подробнейшие сообщения о ней, три года заявляет, что принципиально склоняется к положительному решению. Но предложения не делает, не связывает себя.
Между тем главный персонаж этого важнейшего государственного акта, ничего не подозревающая одиннадцати-двенадцати-тринадцатилетняя Туанетта, вытянувшаяся девочка, грациозная, стройная и, без сомнения, очень привлекательная, весело и шумно играет со своими братьями, сестрами и подругами в покоях Шёнбрунна[10] и в его садах. Занятия, книги мало интересуют ее. Своих воспитателей – гувернанток и аббата – она, подвижная как ртуть, так ловко обводит вокруг пальца комплиментами и лестью, что почти всегда избегает уроков.
Однажды Мария Терезия вдруг со страхом обнаруживает, что, обремененная государственными делами, она упустила очень важное, не уделила серьезного внимания своему выводку, своим детям, что будущая королева Франции в тринадцать лет пишет с вопиющими ошибками и по-немецки, и по-французски, не обладает даже поверхностными знаниями по истории, по географии. С музыкальным образованием дела обстоят не лучше, несмотря на то что занимается с нею не кто иной, как сам Глюк. В последнюю минуту надо наверстать упущенное: заигравшуюся, ленивую Туанетту следует превратить в образованную особу. Прежде всего очень важно, чтобы будущая королева Франции сносно танцевала и хорошо говорила по-французски. Для этой цели Мария Терезия самым спешным образом приглашает знаменитого танцмейстера Новера и двух актеров из французской труппы, гастролировавшей в Вене: одного – для занятий произношением, другого – пением. Однако, как только французский посланник сообщает об этом в Париж, из Версаля тотчас же негодующе дают понять, что будущей королеве Франции не пристало учиться чему бы то ни было у всякого сброда, у комедиантов. Срочно завязываются новые дипломатические переговоры, ибо Версаль считает воспитание предполагаемой невесты дофина уже своим делом, и после длительных обсуждений и споров по рекомендации епископа Орлеанского в Вену в качестве воспитателя посылается аббат Вермон. От него первого до нас дошли достоверные сообщения о тринадцатилетней эрцгерцогине. Он находит ее милой и симпатичной: «Имея очаровательную внешность, она сочетает в себе обаяние, грацию, умение держать себя, и когда она, как можно надеяться, физически несколько разовьется, то будет обладать всеми внешними данными, которые только можно пожелать принцессе. Ее характер и нрав – превосходны». Однако относительно фактических познаний своей воспитанницы и ее желания учиться славный аббат высказывается осторожнее. Рассеянная, несобранная, невнимательная, живая как ртуть, маленькая Мария Антуанетта, несмотря на свою сообразительность, не проявляет ни малейшей склонности заняться каким-либо серьезным предметом. «У нее больше интеллекта, чем можно было бы предполагать, но, к сожалению, из-за разбросанности в свои двенадцать лет она не привыкла его концентрировать. Немножко лени и много легкомыслия затрудняют занятия с нею. Шесть недель я преподавал ей основы изящной словесности, она хорошо воспринимает предмет, но мне пока не удалось заставить ее глубже заинтересоваться преподанным материалом, хотя я и чувствую, что способности к этому у нее имеются. Я понял наконец, что хорошо усваивает она лишь то, что одновременно и развлекает ее».
Едва ли не дословно через десять, через двадцать лет будут говорить о ней подобное все политические деятели, которым придется встречаться с нею. Они станут жаловаться на это нежелание думать при бесспорном природном уме, на это стремление уйти от серьезного разговора лишь потому, что он скучен; уже у тринадцатилетней у нее отчетливо проявляется эта опасная черта характера – всё мочь и ничего по-настоящему не желать. Но при французском дворе, с тех пор как здесь стали хозяйничать метрессы, внешние данные женщины ценятся неизмеримо выше, нежели ее интеллект, ее внутреннее содержание. Мария Антуанетта миловидна, обладает прекрасными манерами, у нее неплохой характер. Этого совершенно достаточно, и вот наконец в 1769 году Людовик XV направляет Марии Терезии столь долгожданное для нее послание – послание, в котором король торжественно просит руки юной принцессы для своего внука, будущего Людовика XVI, и предлагает дату свадьбы – Пасхальную неделю следующего года. Мария Терезия, чрезвычайно довольная, дает свое согласие; после многих полных забот лет трагически разочарованная в жизни женщина вновь переживает светлые часы. Ей уже видится умиротворение в ее империи и тем самым в Европе. Эстафеты и курьеры тотчас же торжественно оповещают все дворы, что Габсбурги и Бурбоны более уже не враги, отныне на вечные времена их будут связывать узы кровного родства. «Bella gerant alii, tu felix Austria, nube»[11] – еще раз подтверждается старая сентенция дома Габсбургов.
* * *
Таким образом, задача дипломатов, казалось бы, благополучно разрешена. Но тут только и выясняется, что сделана лишь самая легкая часть работы. Привести Габсбургов и Бурбонов к соглашению, помирить Людовика XV с Марией Терезией – это сущий пустяк по сравнению с непредвиденными трудностями, возникающими при попытках согласовать друг с другом французский и австрийский церемониалы (придворные и династические), предписанные для такого торжества. Правда, у обер-гофмейстеров и прочих фанатиков этикета обоих дворов еще целый год впереди для разработки всех параграфов чрезвычайно важного протокола, определяющего содержание и последовательность свадебных торжеств, но что значит этот короткий, всего лишь двенадцатимесячный, год для всех этих ревнителей китайских церемоний? Престолонаследник Франции женится на австрийской эрцгерцогине – какой повод для постановки и решения вопросов этикета, имеющих, конечно, мировое значение, с какой ответственностью, с какой тщательностью должна быть продумана каждая мелочь, сколько непоправимых бестактностей следует избежать, изучая для этого документы многовековой давности! Дни и ночи напролет, до головной боли размышляют в Версале и Шёнбрунне мудрые стражи обычаев и обрядов; дни и ночи посланники спорят о каждой приглашаемой на торжества персоне, курьеры высокого ранга мчатся с предложениями и контрпредложениями из Парижа в Вену, из Вены в Париж. Подумать только, какая ужасная катастрофа может произойти (что в сравнении с нею война или землетрясение!), если при свадебных торжествах окажутся задетыми или, боже упаси, оскорбленными достоинство, честь Бурбонов или Габсбургов! В бесчисленных докторских диссертациях по обе стороны Рейна обдумываются и обсуждаются такие, например, деликатные вопросы: чье имя в брачном контракте должно быть упомянуто первым – имя императрицы Австрии или короля Франции, кому первому ставить свою подпись под контрактом, какие подарки преподносить, какое приданое определять, кому сопровождать невесту, кому встречать ее, скольким кавалерам, статс-дамам, камеристкам (и какого ранга), парикмахерам, духовникам, врачам, секретарям, прачкам и какому военному эскорту следует быть в свадебной процессии эрцгерцогини на территории Австрии и кому из них – на территории Франции в процессии французской престолонаследницы? В то время как пудреные парики с обеих сторон никак не могут договориться относительно путей решения основных проблем, в Версале и Шёнбрунне, в свою очередь, словно дело идет о ключах от рая, кавалеры и дамы, защищая свои притязания древними пергаментными рукописями, уже начинают спорить друг с другом, интриговать друг против друга, наговаривать друг на друга, и все только ради чести сопровождать или встречать свадебный поезд. И хотя церемониймейстеры трудятся словно каторжные, им все же не хватает времени (разве год – это срок?), чтобы до конца решить некоторые вопросы мирового значения, а именно: о преимущественных правах при дворе и о порядке представления ко двору. Так, в последний момент из программы вычеркивается представление Марии Антуанетте эльзасской знати, дабы «исключить утомительное обсуждение некоторых вопросов этикета, на урегулирование которых нет уже времени». И не установи ранее Людовик XV совершенно определенную дату, австрийские и французские блюстители церемоний и поныне не пришли бы к соглашению относительно «правильной» формы свадебных торжеств, не было бы королевы Марии Антуанетты и не было бы, вероятно, и французской революции.
Хотя и Франции, и Австрии следовало бы быть очень и очень бережливыми, обе стороны расходов на свадьбу не жалеют. Она должна быть пышной и богатой. Габсбурги не хотят отставать от Бурбонов, Бурбоны – от Габсбургов. Обнаруживается, что дворец французского посольства в Вене слишком тесен для полутора тысяч гостей; сотни рабочих в большой спешке начинают возводить пристройки. Одновременно в Версале для свадебных празднеств строится оперный зал. Для поставщиков двора, для придворных портных, ювелиров, каретников по обе стороны границы наступают благословенные времена. Для свадебного поезда принцессы Людовик XV заказывает у парижского придворного каретных дел мастера Франсьена две дорожные кареты невиданной до сих пор роскоши: из ценных пород дерева, из сверкающего стекла, обитые изнутри бархатом, расписанные снаружи маслом, украшенные коронами, с необычайно легким ходом, на прекрасных рессорах. Для дофина и королевского двора приобретены новые парадные мундиры, украшенные драгоценностями. «Большой Питт»[12] – прекраснейший среди бриллиантов того времени – сверкает на шляпе Людовика XV, предназначенной для свадебных церемоний. С неменьшей роскошью готовит приданое своей дочери Мария Терезия: кружева, специально сплетенные в Мехельне[13], тончайшее белье, шелка, драгоценности. Наконец в Вену въезжает посланник Дюрфор – сват дофина. Какое замечательное представление для венцев, падких до подобных зрелищ: сорок восемь карет шестерней, среди них два чуда каретных дел мастера Франсьена, медленно и торжественно катят в направлении к Хофбургу[14] по украшенным гирляндами из цветов и веток улицам. Сто семь тысяч дукатов стоят одни лишь новые мундиры и ливреи ста семнадцати лейб-гвардейцев и лакеев, сопровождающих кортеж свата. Сам въезд обошелся не менее чем в триста пятьдесят тысяч. С этого момента одно празднество следует за другим: официальное сватовство, торжественное отречение Марии Антуанетты от австрийских прав перед Евангелием, распятием и горящими свечами, поздравления двора, университета, парад армии, théâtre paré[15], прием и бал в Бельведере[16] на три тысячи персон, ответный прием и званый ужин на полторы тысячи гостей во дворце Лихтенштейна и, наконец, 19 апреля бракосочетание per procurationem[17] в церкви августинцев, на котором дофина замещает эрцгерцог Фердинанд. Затем интимный семейный ужин и 21-го – торжественное прощание, последние объятия. И вот вдоль шеренг, благоговейно провожающих карету французского короля, бывшая австрийская эрцгерцогиня едет навстречу своей судьбе.
* * *
Прощание с дочерью было трудным для Марии Терезии. Стареющая, усталая женщина, годы и годы, как о высшем счастье, мечтавшая об этом браке, задуманном ради усиления могущества дома Габсбургов, вдруг в последний час осознает, что ее глубоко беспокоит судьба, которую она сама предуготовила своему ребенку. Стоит лишь внимательнее вчитаться в ее письма, серьезнее перебрать основные вехи ее жизни, как становится ясно: эта трагическая государыня, единственный великий монарх австрийского дома, уже давно несет корону как тяжкое бремя. С неимоверным трудом, в непрерывных войнах утвердила она это в известной степени искусственное государство, базирующееся на завоеваниях и брачных договорах, противопоставила его Пруссии и Оттоманской империи, Востоку и Западу. И вот сейчас, когда, по крайней мере внешне, создается представление, что созданной ею империи обеспечена безопасность, силы оставляют Марию Терезию. Странные предчувствия угнетают мудрую женщину: империя, которой она отдала все свои силы, всю страсть, придет в упадок, погибнет при ее наследниках. Дальновидный политик, пожалуй даже ясновидица, она знает, как непрочен этот случайный союз многих национальностей, какую осторожность, сколько сдержанности, сколько умной пассивности следует проявить, чтобы продлить его существование. Кто же продолжит то, что она с таким тщанием начала? Глубокое разочарование в своих детях пробудило в ней дух Кассандры[18], ни в одном из них не находит она черт, столь глубоко присущих ей: огромного терпения, неспешного, тщательного обдумывания замыслов и упорства, способности отказаться, когда это нужно, от страстно желаемого, мудрого самоограничения. Но в жилах детей пульсирует беспокойная лотарингская кровь ее мужа; ради мимолетного удовольствия они готовы пожертвовать беспредельными возможностями – мелкотравчатое поколение, неосновательное, неверующее, заботящееся лишь о преходящем успехе. Ее сын и соправитель Иосиф II боготворит Фридриха Великого, всю жизнь преследующего его насмешками, заигрывает с Вольтером, которого она, набожная католичка, ненавидит, считает антихристом. Старшая ее дочь, тоже предназначенная для трона, эрцгерцогиня Мария Амалия, едва выйдя замуж и став герцогиней Пармской, своей ветреностью потрясает всю Европу, ведет предосудительный образ жизни, развлекается с любовниками, за два месяца полностью истощила финансы, расстроила хозяйственную жизнь страны. И другая дочь, та, что в Неаполе[19], не делает ей чести. Ни одна из этих дочерей не обладает ни серьезностью, ни нравственной чистотой, и чудовищный труд, плод самопожертвования и чувства долга, труд, которому великая императрица посвятила всю свою жизнь без остатка, безжалостно отказывая себе в любой радости, в любви, в наслаждении, каким бы незначительным оно ни было, этот труд, оказывается, лишен всякого смысла. Она ушла бы в монастырь, и только страх, что поспешный в решениях сын опрометчивыми экспериментами тотчас же разрушит все построенное ею, заставляет старую воительницу держать скипетр, давно уже непосильный для ее усталой руки.
И относительно своей любимицы, своего последнего ребенка, Марии Антуанетты, эта женщина, проницательная и умная, конечно же, не заблуждается. Ей известны положительные черты младшей дочки – добродушие и сердечность, свежий, живой ум, искренний, человечный нрав. Но она знает и слабые стороны девочки – ее незрелость, легкомыслие, порывистость, рассеянность. Она стремится сблизиться с дочерью, желает использовать последние часы для формирования будущей королевы из этого темпераментного сорванца; два последних перед отъездом месяца Мария Антуанетта спит в покоях императрицы: продолжительными беседами мать пытается подготовить принцессу к тому высокому положению, которое ей предстоит занять. Чтобы снискать расположение Бога, она берет девочку с собой на богомолье в Мариацелл. И все же с приближением часа расставания императрица все более и более теряет покой. Какое-то мрачное предчувствие гложет ее сердце, предчувствие грядущего несчастья, и она напрягает все свои силы, чтобы устоять, не поддаться его тягостному влиянию. Перед отъездом Марии Антуанетты она дает дочери с собой подробно составленные правила поведения и берет с беспечного ребенка клятву каждый месяц тщательно их перечитывать. Кроме официального письма, она пишет Людовику XV личное – пожилая женщина заклинает старика проявлять снисходительность к детской несерьезности четырнадцатилетней девочки. И все же ее внутренняя тревога не утихает. Мария Антуанетта еще не успела доехать до Версаля, а мать уже пишет ей, чтобы та чаще пользовалась данной ей памяткой о правилах поведения. «Напоминаю тебе, любимая дочь, о том, чтобы ты раз в месяц каждое двадцать первое число перечитывала эту записку. Аккуратно исполняй это мое желание, очень прошу тебя. Меня ничто в тебе не пугает, кроме твоей нерадивости в молитвах и занятиях и вытекающих из этого невнимательности и лености. Борись против них и не забывай свою мать, которая, как бы далеко от тебя ни находилась, до последнего своего вздоха беспокоится о тебе». И тогда, когда весь мир ликует, празднуя триумф ее дочери, старая женщина идет в церковь и молит Бога отвратить от ее ребенка несчастье, которое лишь она одна, мать, предчувствует.
* * *
Огромная кавалькада – триста сорок лошадей, которых на каждой почтовой станции надо менять, – медленно движется через Верхнюю Австрию и Баварию. Долгий путь к границе разнообразится бесчисленными празднествами и торжественными приемами. А между тем на рейнском островке между Кёлем и Страсбургом плотники и обойщики трудятся над удивительным строением. Это воплощение основной идеи церемониймейстеров Шёнбрунна и приверженцев строгого этикета Версаля, их великий триумф; после бесконечных обсуждений, где следует осуществить торжественную передачу невесты – еще на государственной территории Австрии или уже на французской земле, один хитрец предложил соломоново решение: построить для этой цели на одном из маленьких необитаемых песчаных островков Рейна, между Францией и Германией, на ничейной земле, специальный деревянный павильон, чудо нейтралитета. В нем две комнаты на правобережной стороне, в которые Мария Антуанетта ступит еще эрцгерцогиней, и две комнаты на левобережной стороне, которые она покинет после церемонии как дофина Франции. В середине же павильона – большой зал для торжественной передачи, здесь эрцгерцогиня окончательно превратится в престолонаследницу Франции. Ценнейшие гобелены архиепископского дворца скрывают наскоро возведенные деревянные стены, университет Страсбурга дал балдахин, богатые страсбургские горожане прекрасно обставили павильон. Само собой разумеется, простому смертному не попасть в эту святая святых, не полюбоваться роскошью убранства. Однако, как и всюду, пара золотых делает стражу снисходительной, и вот за несколько дней до прибытия Марии Антуанетты в еще не полностью подготовленные помещения павильона проникает несколько любопытных юношей, немецких студентов. Один из них, высокий, с открытым, пылким взором, с сиянием гения над крутым мужественным лбом, не может глаз оторвать от чудесных гобеленов, выполненных по картинам Рафаэля; в юноше, только что открывшем для себя в Страсбургском кафедральном соборе сущность, дух готики, они возбуждают бурное желание с такой же любовью постигнуть и классическое искусство. С воодушевлением объясняет он своим товарищам этот внезапно открывшийся ему мир красоты итальянского мастера, но вдруг замолкает, чем-то недовольный, темные густые брови гневно хмурятся над только что ясными, вдохновенными глазами. Лишь сейчас понял он содержание картин на гобеленах. Действительно, тема не очень-то подходящая для свадебных празднеств – легенда о Ясоне, Медее и Креусе[20], классический пример рокового бракосочетания.
«Как, – громко восклицает гениальный юноша, не обращая внимания на изумление окружающих, – ужели допустимо столь неосмотрительно являть взору юной королевы именно перед замужеством изображение едва ли не самой омерзительной свадьбы из всех, о которых поведала нам история! Ужели среди французских архитекторов, декораторов, обойщиков нет ни одного, кто понимал бы, что картины что-то изображают, что картины воздействуют на разум и чувства, что они оставляют впечатление, что они рождают представления? Ведь поступить так равносильно тому, чтобы выслать гнуснейшие привидения навстречу этой красивой и, как говорят, жизнерадостной особе». С трудом успокаивают друзья пылкого юношу. Едва ли не силой уводят они из деревянного домика молодого Гёте, ибо это был он. Вот-вот приблизится «могучий поток придворных», роскошный свадебный поезд заполнит шумом, сутолокой, светской болтовней, веселым настроением разукрашенный павильон, и никто не заподозрит, что совсем недавно пророческий глаз поэта в этой пестрой, яркой ткани уже узрел черную нить рока.
* * *
Церемония передачи Марии Антуанетты Версалю должна означать для нее прощание со всем материальным, связывающим ее с домом Габсбургов; и для этого церемониймейстеры придумали особое символическое действо: мало того что никто из свиты эрцгерцогини, приданной ей матерью, не должен пересечь невидимую границу, этикетом предписывается также, чтобы на Туанетте, переходящей эту символическую линию, не было ничего связанного с Австрией, абсолютно ничего – ни чулок, ни рубашки, ни ботинок, ни подвязок, ни одной нитки. С того момента, как Мария Антуанетта становится дофиной Франции, только ткани французского производства могут облекать ее тело. И вот в присутствии всей австрийской свиты четырнадцатилетняя девочка должна раздеться донага, нежное, еще не расцветшее ее тело несколько мгновений мерцает в полутемном помещении; затем ей передают рубашку из французского шелка, нижнюю юбку из Парижа, чулки из Лиона, ботинки из Офкордонье, кружева, банты; ничего из снятых вещей не может она сохранить на память – ни колечка, ни даже крестика. Разве не развалится, не рассыплется все громоздкое здание этикета, оставь она себе какую-нибудь мелочь, пряжку или бантик? Отныне она не должна видеть возле себя ни одного знакомого ей с детства лица. И чему же тут удивляться, если так стремительно брошенная на чужбину маленькая девочка, испуганная всей этой помпезностью и суетой вокруг нее, совсем как ребенок разражается слезами? Но ей тотчас же следует взять себя в руки: на свадьбе с политической подоплекой порывы чувств недопустимы; в комнате «по ту сторону границы» ждет французская свита, и стыдно было бы невесте предстать перед ней испуганной, с покрасневшими от слез глазами. Шафер невесты, граф Штаремберг, предлагает ей руку для решающего шествия, и, одетая во все французское, в последний раз сопровождаемая австрийской свитой, последние две минуты еще австрийка, вступает она в зал, где должна свершиться ее передача свите дома Бурбонов, ожидающей ее в роскошнейших туалетах, в парадных мундирах. Сват Людовика XV обращается к ней с торжественной речью, зачитывается протокол, а затем все присутствующие замирают, затаив дыхание, – начинается великая церемония. Словно в менуэте, каждый шаг рассчитан, заранее отрепетирован и заучен. Стол посреди помещения символически представляет собой границу. Перед ним стоят австрийцы, за ним – французы. Сначала австрийский шафер, граф Штаремберг, отпускает руку Марии Антуанетты; дрожащая девочка принимает руку французского шафера и, сопровождаемая им, медленно, торжественными шагами обходит стол. В течение этих точно рассчитанных минут австрийская свита постепенно отходит назад, ко входной двери, а французская – одновременно в том же темпе приближается к будущей королеве Франции, так что в то мгновение, когда Мария Антуанетта оказывается в окружении нового для нее французского двора, австрийской свиты уже нет в зале. Беззвучно, с тщательной отработкой всех мельчайших деталей, церемонно, с налетом таинственности свершается эта оргия этикета. Лишь в последний момент маленькая оробевшая девочка не выдерживает леденящей торжественности, и, вместо того чтобы сдержанно, спокойно принять верноподданнический реверанс своей новой фрейлины, графини де Ноай, рыдающая дофина бросается ей в объятия, как бы ища у нее защиты, – прекрасный и трогательный жест одиночества, который забыли внести в свою программу верховные жрецы протокола обоих государств. Однако чувства не укладываются в рамки придворных правил; снаружи уже ждет застекленная карета, уже гудят колокола Страсбургского кафедрального собора, уже гремит артиллерийский салют, и при кликах ликования Мария Антуанетта навсегда покидает берег беззаботного детства – начинается судьба женщины.
* * *
Въезд Марии Антуанетты – незабываемые праздничные часы для французского народа, не избалованного подобными зрелищами. Десятилетия Страсбург не видел престолонаследницы и, вероятно, никогда больше не увидит такую очаровательную дофину, как этот ребенок. Стройная девочка с пепельными волосами и голубыми задорными глазами смеется, улыбается из застекленной кареты громадным толпам, людям в нарядных национальных костюмах, собравшимся из всех сел и городов Эльзаса, чтобы приветствовать пышный поезд. Сотни одетых в белое детей шествуют перед каретой, усыпая ее путь цветами; воздвигнута триумфальная арка, ворота украшены венками, на городской площади из фонтана бьет вино, целые туши быков жарятся на гигантских вертелах, бедных оделяют хлебом из огромных корзин. Вечером все дома города иллюминированы, огненные языки огромных факелов извиваются вокруг башни кафедрального собора, делая сказочно легкими, как бы прозрачными стрельчатые контуры Божьего храма. По Рейну скользят бесчисленные барки и лодки с лампионами, подобными пылающим апельсинам, с цветными факелами; пестрые стеклянные шары, подсвечиваемые с барж, мерцают в листве деревьев, а над островком, видная всем собравшимся на празднество, апофеозом фейерверка, среди мифологических фигур пылает переплетающаяся монограмма дофина и дофины. До глубокой ночи по улицам, по берегу реки бродят толпы любопытных, тут и там в сотнях мест играют на волынке, на скрипке, на других музыкальных инструментах, пускаются в пляс. Кажется, что эта белокурая австрийская принцесса – вестница золотого века счастья, и ожесточившийся, озлобленный народ Франции вновь раскрывает свое сердце радостной надежде.
Но и здесь, в этой великолепной картине празднеств, есть маленькая скрытая трещинка, и здесь, подобно тому как на гобеленах в зале павильона, судьба оставила знак грядущей беды. Когда на следующий день, перед отъездом, Мария Антуанетта желает прослушать мессу, у портала кафедрального собора вместо почтенного епископа во главе духовенства дофину приветствует его племянник и коадъютор[21]. Несколько женственный, в свободно ниспадающем фиолетовом одеянии, светский священник обращается к Марии Антуанетте с галантно-патетической речью (не напрасно академия приняла его в свои ряды), завершающейся изысканно-льстивыми фразами: «Вы для нас – живой образ глубокочтимой императрицы; Европа давно восхищается ею, потомки будут преклоняться перед ней. Этим браком дух Марии Терезии соединяется с духом Бурбонов». После приветственного слова шествие благоговейно направляется в мерцающий голубым светом собор, молодой священник сопровождает юную принцессу к алтарю и поднимает дароносицу холеной, унизанной кольцами рукой светского льва. Принц Луи Роган первый приветствует ее въезд во Францию. Потом он станет трагикомическим героем аферы с колье, опаснейшим противником королевы, ее роковым врагом. И рука, которая сейчас благословляюще парит над ее головой, позже кинет в грязь ее корону и честь.
* * *
Но Мария Антуанетта не может задерживаться в Страсбурге, в Эльзасе, в котором так много общего с ее родиной: когда король Франции ждет, всякая задержка – проступок. Проезжая через множество триумфальных арок и украшенных венками ворот, всюду встречаемый бурными приветствиями, поезд невесты достигает наконец своей первой цели – Компьенского леса, где королевская семья в гигантском лагере карет ожидает своего нового члена. Придворные дамы и кавалеры, офицеры и лейб-гвардейцы, барабанщики, трубачи и горнисты, все в новых, расшитых золотом и серебром туалетах, мундирах, стоят, расположившись в строгом соответствии с табелью о рангах. В этот ясный майский день лес светится от сверкающей игры красок. Едва фанфары обеих свит извещают о приближении свадебного поезда, Людовик XV оставляет карету, чтобы встретить супругу своего внука. Но навстречу ему удивительно легкими шагами уже спешит Мария Антуанетта и в грациозном реверансе (не напрасно же учил ее великий балетмейстер Новер) низко склоняется перед дедом дофина. Король, тонкий знаток свежей девичьей плоти и в высшей степени восприимчивый к грациозной привлекательности, очень довольный, наклоняется к юному белокурому, аппетитному существу, поднимает невесту внука, целует ее в обе щеки и лишь затем представляет ей будущего супруга. Юноша пяти футов и десяти дюймов ростом, скованный в движениях, неуклюжий, стеснительный, стоит в сторонке; он поднимает сонные, близорукие глаза и без особого воодушевления целует невесту в щеку в соответствии с этикетом. В карете Мария Антуанетта сидит между дедом и внуком, между Людовиком XV и будущим Людовиком XVI. Роль жениха, пожалуй, более подходит старику: он оживленно болтает с соседкой и даже слегка флиртует с ней, в то время как будущий супруг скучающе молчит, забившись в угол кареты. К вечеру, когда обрученные и per procurationem уже новобрачные направляются в свои покои, печальный «любовник» не находит повода сказать этой восхитительной девочке хотя бы одно нежное словечко; в своем дневнике о событиях знаменательнейшего для него дня он сухо отмечает: «Entrevue avec Madame la Dauphine»[22].
Тридцать шесть лет спустя в том же Компьенском лесу другой властелин Франции, Наполеон, будет ожидать как супруг другую австрийскую эрцгерцогиню, Марию Луизу. Склонная к полноте, медлительная, кроткая Мария Луиза не так хороша, не так аппетитна, как Мария Антуанетта, однако энергичный человек, настойчивый жених без промедления, нежно и властно вступит в свои права. В тот же вечер он спросит у епископа, дает ли ему бракосочетание по доверенности в Вене права супруга, и, не дождавшись ответа, сделает желательные для себя выводы: утром молодые будут завтракать вдвоем в постели. Мария Антуанетта же в Компьенском лесу встретила не любовника, не мужа, а человека, который женится на ней из политических, из государственных соображений.
* * *
Вторая, теперь уже настоящая, свадьба состоится 16 мая в Версале, в капелле Людовика XIV. Такой государственный и династический акт христианнейшего царствующего дома является чрезвычайно интимным и семейным, но в то же время и слишком значительным и благородным событием, чтобы допустить народ в свидетели или хотя бы позволить ему встать в ряды у входа в капеллу. Лишь аристократы голубой крови – генеалогия, насчитывающая десятки поколений, – имеют право присутствовать при церемонии бракосочетания в капелле, и яркое солнце за разноцветными стеклами витражей еще раз – не в последний ли? – освещает вышитую парчу, беспредельную роскошь избранной знати старого мира. Ритуал бракосочетания совершает архиепископ Реймсский. Он освящает тринадцать золотых монет и обручальное кольцо; дофин надевает его Марии Антуанетте на безымянный палец, передает ей монеты, затем оба преклоняют колена, чтобы получить благословение. Под звуки органа начинается месса, при молитве «Отче наш…» над юной парой держат серебряный балдахин, и лишь затем король, а за ним и остальные члены королевского дома в последовательности, строжайшим образом определенной табелью о рангах, подписывают брачный договор. Это чудовищно длинный, с огромным количеством разделов и параграфов документ. Еще сегодня на выцветшем пергаменте можно увидеть четыре слова: «Мария Антуанетта Иозефа Анна», коряво выведенные неловкой рукой четырнадцатилетней девочки, с трудом нацарапанные слова, а рядом (конечно же, по этому поводу сразу возникает шушуканье) – дурное предзнаменование – огромная клякса, единственная на документе, поставленная именно ею.
Теперь, после окончания церемонии, можно милостиво разрешить и народу порадоваться высокоторжественному дню монарха. Неисчислимые толпы людей – Париж наполовину опустел – хлынули в сады Версаля, которые еще и нынче показывают profanum vulgus[23] свои фонтаны и каскады, свои тенистые аллеи и лужайки. Гвоздем программы празднества должен стать вечерний фейерверк, грандиознейший из тех, которые когда-либо устраивали при королевском дворе. Но распорядители праздника не согласовали этот номер с небесной канцелярией. После обеда начинают скапливаться тучи, они громоздятся друг на друга, предвещая беду. Разражается гроза, на землю обрушивается чудовищный ливень; возбужденный, обманутый в ожидании замечательных зрелищ народ устремляется назад, в Париж. В то время как насквозь промокшие, дрожащие от холодного проливного дождя десятки тысяч людей в беспорядке бегут по парку, а деревья, сотрясаемые мощными порывами ветра, заливают их влагой, что задержалась в листве, за освещенными тысячами свечей окнами только что построенного salle de spectacle[24] в строгом соответствии с церемониалом, не подвластным никаким ураганам, никаким землетрясениям, начинается свадебный ужин – в первый и последний раз Людовик XV пытается затмить роскошью своего великого предшественника, Людовика XIV. Шесть тысяч счастливцев, цвет высшей аристократии, получили гостевые билеты. Правда, это приглашение не к столу, а на галереи, чтобы оттуда благоговейно наблюдать за тем, как двадцать два члена королевского дома будут подносить ко рту вилку или ложку. Все эти шесть тысяч, затаив дыхание, наблюдают все величие развернувшегося перед их глазами грандиозного действа, боясь потревожить его исполнителей. Нежно и приглушенно сопровождает ужин властелинов музыка оркестра из восьмидесяти музыкантов, расположившихся в мраморной аркаде. Затем под салют французской гвардии вся королевская семья шествует вдоль шеренг раболепно склонившихся гостей. Официальная часть празднества окончена, и престолонаследнику, как и любому другому новобрачному, следует выполнить единственный свой долг. И король ведет в покои супругов-детей (им обоим вместе едва тридцать лет), дофину – с правой стороны, дофина – с левой. Этикет врывается даже в комнату новобрачных! Кто же иной, как не король Франции, лично может передать престолонаследнику ночную рубашку, кто же иной может передать дофине ее рубашку, как не дама высшего ранга, со дня бракосочетания которой прошло меньше всего времени, в данном случае – герцогиня де Шартрёз! К ложу, кроме супругов, может приблизиться лишь один человек – архиепископ Реймсский. Он его освящает и окропляет святой водой.
Наконец двор покидает интимные покои; впервые юные супруги, Людовик и Мария Антуанетта, остаются одни, и с легким шелестом опускается за ними полог алькова, парчовый занавес невидимой трагедии.
Тайна алькова
В алькове в ту ночь ничего не происходит. И запись: «Rien»[25], сделанная на следующее утро юным супругом в дневнике, роковым образом крайне двусмысленна. Ни придворные церемонии, ни епископское благословение супружеского ложа не в силах преодолеть мучительное сопротивление естества дофина; matrimonium non consummatum est[26], бракосочетание в собственном смысле этого слова не осуществляется ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие годы. Мария Антуанетта обрела nonchalant mari – нерадивого супруга. Сначала думают, что робость, неопытность или nature tardive[27] (инфантильное отставание в развитии, как сказали бы мы сейчас) являются причиной неспособности шестнадцатилетнего юноши поддаться чарам этой милой девочки. Не следует торопить, надо дать успокоиться духовно заторможенному дофину, думает опытная мать и увещевает Марию Антуанетту не принимать близко к сердцу разочарование в супружеской жизни. «Point d’humeur là-dessus»[28], – пишет она в мае 1771 года и советует дочери «caresses, cajolis» – проявлять побольше нежности, ласковости, но это не помогает: «Trop d’empressement gâterait le tout»[29]. Но поскольку такое состояние затягивается – длится и год, и два, императрица начинает проявлять беспокойство по поводу этого «conduite si étrange»[30] юного супруга. Он постоянно повторяет свои ночные посещения, свои безуспешные попытки, однако в последнем, решительном проявлении нежности препятствуют ему какие-то maudit charme[31], какая-то таинственная, фатальная помеха. Неопытная Мария Антуанетта полагает виной этого только maladresse et jeunesse – неопытность и молодость. В своей неосведомленности она, бедняжка, даже решительно оспаривает «дурные слухи, которые здесь у нас ходят относительно его неспособности». Но тут вмешивается мать. Она вызывает своего лейб-медика ван Швейтена и советуется с ним относительно «froideur extraordinaire du Dauphin»[32]. Тот пожимает плечами. Медицина бессильна, если юной девушке, полной такого очарования, не удается внушить дофину страсть к себе. Мария Терезия шлет в Париж письмо за письмом. Наконец король Людовик XV, имеющий богатый опыт и большую практику в этой области, берет своего внука в оборот. Лейб-медик короля Лассон посвящается в тайну; злосчастного любовника обследуют, и тут выясняется, что причина импотенции дофина отнюдь не духовная, она обусловлена незначительным органическим дефектом (Phimosis[33]).
«Quien dice que el frenillo sujeta tanto et prepucio que no cede a la introduccion у causa un dolor vivo en el, por el qual se retrahe S. M. del impulso que conviniera. Quien supone que el dicho prepucio esta tan cerrado que no puede explayarse para la dilatacion de la punta о cabeza de la parte, en virtud de lo que no llegua la ereccion al punto de elasticidad necessaria»[34] (извлечение из секретного донесения испанского посланника). Теперь консилиум следует за консилиумом, обсуждается вопрос, можно ли применить хирургическое вмешательство, «pour lui rendre la voix»[35], как цинично перешептываются в передних. И Мария Антуанетта, просвещенная своими опытными подругами, делает все от нее зависящее, чтобы побудить супруга к хирургической операции («Je travaille à le déterminer à la petite opération, dont on a déjà parlé et que je crois nécessaire»[36] – 1775 год, письмо к матери). Однако Людовик XVI пять лет уже король, но все еще не супруг. Из-за своего нерешительного характера он никак не может склониться к энергичным действиям, колеблется и медлит, не следует советам врача, вновь и вновь пытается стать супругом, и эта отвратительная, противная, омерзительная ситуация вечных попыток и вечных неудач, к стыду Марии Антуанетты, на забаву всему двору, к бешенству Марии Терезии, к унижению Людовика XVI, длится еще полных два года, в общем семь ужасных лет, пока наконец император Иосиф не прибывает в Париж специально затем, чтобы склонить к операции своего не слишком мужественного зятя. И лишь после нее этому печальному цезарю любви счастливо удается перейти Рубикон. Но духовное государство, наконец завоеванное им, уже опустошено за семь лет трагикомической битвы, за две тысячи ночей, на протяжении которых Мария Антуанетта как женщина и супруга испытывала страшные унижения.
* * *
Не лучше ли было бы, спросит, пожалуй, иная сентиментальная душа, уклониться от рассмотрения этой деликатной, священной тайны, тайны алькова, не лучше ли было бы вообще не касаться ее? Может быть, следовало замолчать факт несостоятельности короля, робко прокрасться мимо супружеского ложа, на худой конец лишь намекнуть на «отсутствие счастья материнства»? Действительно, так ли уж нужно для биографического повествования подчеркивать столь интимнейшие подробности? Да, необходимо, ибо напряженные, недоброжелательные, враждебные взаимоотношения, постепенно сложившиеся между королем и королевой, претендентами на престол и двором, существенно повлиявшие на события мировой истории, останутся непонятными и необъяснимыми, если не учитывать первопричин этих взаимоотношений. Следствий, получивших свое начало в альковах и за пологами королевских постелей и наложивших отпечаток на события мировой истории, существенно больше, чем обычно считают. Но едва ли в каком-либо другом случае логическая цепочка между глубоко личной причиной и всемирно-историческим следствием столь однозначна и очевидна, как в этой интимной трагикомедии, и любая характерологическая повесть о Марии Антуанетте станет лживой, если замолчать событие, которое сама королева назвала «article essentiel» – основным пунктом своих тревог и надежд.
И еще: действительно ли нарушается тайна, если свободно и честно говорят о долголетней супружеской несостоятельности Людовика XVI? Конечно же нет. Только общество XIX столетия со своей болезненной чопорностью в отношении морально-сексуальных тем превращается в стыдливую мимозу при всякой попытке открытого обсуждения физиологических проблем. В XVIII же веке и ранее подобные вопросы – состоятельность короля как супруга, способность королевы родить ребенка или ее бесплодие – имели не частный, а важный политический, государственный характер, поскольку касались наследования, а тем самым судьбы страны; постель столь же явно была связана с бытием человека, как и купель или гроб. В письмах Марии Терезии и Марии Антуанетты, проходящих через руки архивариусов и копиистов, императрица Австрии и королева Франции совершенно свободно обсуждают во всех подробностях это странное супружество. Красноречиво описывает Мария Терезия дочери преимущества брачного ложа, намекает, как следует умело использовать любую возможность для интимного единения; дочь в свою очередь сообщает о появлении или задержке месячных недомоганий, о несостоятельности супруга, о каждом «un petit mieux»[37] и, наконец, с триумфом о беременности. Однажды даже автору «Ифигении», самому Глюку, доверяется передать интимные новости, поскольку он покидает Париж раньше курьера: в XVIII веке естественные вещи воспринимались совершенно естественно.
Если бы обо всех этих бесплодных попытках знала одна лишь мать! Нет, об этом судачат все камеристки, все придворные дамы, все кавалеры и офицеры, знают об этом слуги и прачки Версаля, даже за своим столом королю приходится терпеть порой грубые шутки. Кроме того, поскольку способность Бурбона зачать наследника представляет собой факт высокой политической важности, все иностранные дворы проявляют к этому вопросу особый интерес. В донесениях прусского, саксонского, сардинского посланников излагаются подробности деликатного дела: самый ревностный среди них, граф Аранда, испанский посланник, подкупает прислугу, с тем чтобы она осматривала даже белье королевского ложа, дабы с максимальной достоверностью установить свершение некоего события физиологического свойства. Короли и князья Европы на раутах, за карточным столом, в письмах смеются над своим незадачливым собратом; не только в Версале – во всем Париже супружеская несостоятельность короля является секретом Полишинеля. Секрет этот обсуждается на улицах, памфлеты на эту тему передаются из рук в руки, а с назначением Морепа первым министром, ко всеобщему развлечению, распространяется бойкий куплет:
- Был Морепа – сморчок, был старикашка хил.
- Король сказал словцо, и вот он – полон сил.
- Как песенки припев, долдонит старикан:
- «Таких же перемен желаю, сир, и вам!»
Но то, что звучит забавно, в действительности имеет роковой и опасный смысл. Ибо эти семь лет несостоятельности формируют в духовном плане характеры короля и королевы и ведут к политическим следствиям, которых не понять без учета этого факта. Судьба брака перерастает в судьбу мира.
* * *
Не знай мы этих интимных недостатков, нам прежде всего был бы непонятен духовный настрой Людовика XVI. Ибо его манера держать себя прямо-таки с клинической однозначностью полностью соответствует всем типическим признакам комплекса неполноценности, обусловленного половой слабостью. Как в глубоко личной жизни, так и в жизни государственного деятеля этому человеку с заторможенными реакциями недостает сил для творческих действий. Он не умеет показать себя с выгодной стороны, не может проявить свою волю, настоять на своем. Неуклюже и робко, как бы тайно сконфуженный, он избегает всякого общества, в особенности общения с женщинами, ибо этот по существу порядочный, прямой человек знает, что его несчастье известно каждому в Версале, и потому ироническая усмешка посвященного пугает его до полусмерти. Иногда, собрав все свои силы, он пытается показать свою значительность, создать иллюзию мужественности. Но при этом всегда немножко пересаливает, становится грубым, резким, даже жестоким (характерная попытка спрятать свою сущность за хвастливым выпячиванием физической силы). Но все это так топорно, так примитивно, что никто не верит ему. И никогда не удается ему свободное, естественное поведение человека, обладающего чувством собственного достоинства, поведение, полное величия. И вызвано это тем, что в спальне он не мужчина, поэтому-то перед другими ему не удается показать себя королем.
То обстоятельство, что при всем этом его личные склонности являются склонностями настоящего мужчины (охота, тяжелый физический труд – во внутренних покоях дворца у него хорошо оборудованная кузница, токарный станок короля можно увидеть и нынче), ни в коей мере не противоречит клинической картине, напротив, подтверждает ее. Ибо как раз тот, кто не является мужчиной, непроизвольно любит представляться мужественным, тот, кто вынужден скрывать свою слабость, охотно козыряет перед людьми видимостью силы. Когда он на взмыленном коне часами преследует в лесной чащобе кабана, когда он у наковальни до полного изнеможения напрягает свои мускулы, сознание физической силы с глубоким удовлетворением компенсирует тайную слабость: словно Гефест после неудач у Венеры, находит он радости в самозабвенном физическом труде. Но стоит Людовику XVI надеть парадный мундир, стоит ему появиться среди придворных, он чувствует, что эта его сила всего лишь сила мускулов, а не сила сердца, и он тотчас же теряется. Придворные редко видят его смеющимся, редко видят его действительно счастливым и довольным.
Однако это тайное чувство неполноценности самым опасным образом сказывается на его отношении к жене. Многое в ее поведении не соответствует его личным вкусам. Ему не нравится ее окружение, его раздражает постоянно и повсюду сопровождающая ее суматоха развлечений, ее мотовство, совсем не королевское легкомыслие. Настоящий мужчина быстро навел бы тут порядок. Но как может человек разыгрывать перед женщиной роль господина днем, если еженощно он оказывается посрамлен ею, беспомощный, несостоятельный супруг? Бессильный как мужчина, Людовик XVI становится совершенно беззащитным перед своей женой; более того, чем дольше он остается в своем постыдном состоянии, тем более жалким образом попадает он в полную зависимость, даже в рабство. Она может требовать от него все, чего пожелает: вновь и вновь безграничной уступчивостью выкупает он себя из плена тайного чувства вины. Властно вторгаться в ее жизнь, препятствовать ее очевидным безрассудствам – на это ему недостает силы воли, в конечном счете являющейся не чем иным, как духовным проявлением физической силы. С отчаянием смотрят министры, смотрит императрица-мать, смотрит весь двор, как из-за трагического бессилия мужа вся власть оказывается в руках взбалмошной женщины, легкомысленно разбазаривающей ее. Но опыт подтверждает: параллелограмм сил, однажды сложившийся в супружестве как духовная система, не меняется. Через несколько лет Людовик XVI станет настоящим супругом и отцом, и все же он, которому следовало бы быть господином Франции, так и останется безвольным рабом Марии Антуанетты – единственно лишь потому, что сразу не смог стать ее мужем.
* * *
Не менее роковым образом сказывается половая несостоятельность Людовика XVI и на духовном развитии Марии Антуанетты. Именно вследствие антагонизма полов одни и те же отклонения от нормы вызывают в мужском и женском характерах совершенно противоположные реакции. У мужчины половая слабость ведет к скованности и неуверенности, у женщины, если пассивная готовность к полной самоотдаче не встречает достойного партнера, обязательно должна обнаружиться крайняя раздражительность и повышенная активность. По существу своему Мария Антуанетта совершенно нормальный человек, женственная нежная натура, предназначенная для многократного материнства, возможно только и ждущая того, чтобы полностью отдать себя настоящему мужу. Но судьбе было угодно, чтобы именно она, способная глубоко чувствовать, оказалась в ненормальном браке, встретила неполноценного мужа. Правда, замуж ее выдают пятнадцатилетней; сама по себе досадная неполноценность ее мужа еще не должна была бы сказаться на ней как духовное бремя, ибо кто, собственно, будет считать физиологически неестественным тот факт, что девушка в двадцать два года еще девственница? Однако в этом особом случае, предопределяющем потрясение и опасное перенапряжение ее нервной системы, является то, что супруг, выбранный ей государством, на протяжении этих семи псевдосупружеских лет не оставляет ее в состоянии естественного, нетронутого целомудрия. Каждую из этих двух тысяч ночей неловкий и скованный человек мучается возле ее юного тела. Годы и годы бесплодно возбуждается она таким вот образом, не очищающим, не освобождающим, а вызывающим лишь чувство стыда и унижения. Тут не требуется врач-невропатолог, чтобы констатировать, что ее столь роковая повышенная активность – эти вечные метания из стороны в сторону, постоянная неудовлетворенность, эта нервная погоня за удовольствиями – является клинически типичным следствием постоянного сексуального возбуждения и сексуальной неудовлетворенности, причина всего этого – ее супруг. Ибо, не покоренная в течение семи лет супружества, не потрясенная до глубины души, не успокоенная, она должна непрерывно находиться в состоянии возбуждения и тревоги. Так постепенно простая детская увлеченность, склонность к развлечениям превращается в конвульсивную, болезненную страсть к удовольствиям, страсть, воспринимаемую всем двором как страсть скандальную, против власти которой и Мария Терезия, и все истинные друзья королевы безуспешно пытаются бороться. Подобно тому как неудовлетворенное мужское желание короля трансформируется в тяжелую работу кузнеца, в физически утомляющую страсть охотника, в напряжение мускулов, притупляющее и истощающее человека, так и ее искусственно возбужденная и нереализованная чувственность стремится к нежной дружбе с женщинами, к кокетничанью с юными кавалерами, к страсти наряжаться, к другим суррогатам, успокаивающим темперамент. Она бежит от супружеского ложа, печального места унижения ее женского достоинства, и в часы, когда ее супруг и несупруг отсыпается после долгой и изнурительной травли зверя, она прожигает ночи – до четырех, до пяти утра – на балах, в Опере, на ужинах, за карточным столом, в сомнительном обществе, греясь у чужого огня, недостойная королева, доставшаяся неполноценному супругу. Однако то, что это легкомыслие по существу своему безрадостно, что оно является попыткой за внешними проявлениями полнейшего удовлетворения своей жизнью скрыть внутреннюю разочарованность, время от времени выдает ее гневная меланхолия, а однажды – особенно ясно – ее вопль, когда она узнает, что ее родственница, герцогиня де Шартрёз, родила мертвого ребенка. Мария Антуанетта пишет матери: «Как это ни ужасно, я согласилась бы на это, я выдержала бы это». Пусть мертвый ребенок, но все же ребенок! Лишь бы вырваться наконец из этого опустошающего, из этого недостойного состояния, стать настоящей, нормальной женой своего мужа, покончить с этим невыносимым положением девственницы, длящимся семь лет замужества. Кто не видит отчаяния женщины в этой ненасытной жажде развлечений, тот не в силах ни понять, ни объяснить удивительных перемен, происшедших в Марии Антуанетте, когда она наконец становится супругой и матерью. Тотчас же нервы успокаиваются, возникает другая Мария Антуанетта, сдержанная, волевая, смелая. Такой она будет во вторую половину своей жизни. Однако эти перемены придут слишком поздно. Как в каждом детстве, в каждом супружестве первые переживания – решающие. И десятилетиям не восстановить того, что было нарушено в тончайшей и сверхчувствительной субстанции души, как бы незначительны ни были эти нарушения. Именно их, самые глубокие, невидимые ранения чувств, никогда не излечить полностью.
* * *
Все это оставалось бы личным несчастьем, трагедией, подобной тем, которые и ныне изо дня в день разыгрываются за закрытыми дверями. Однако в данном случае роковые следствия подобных супружеских мук выходят далеко за границы личной жизни. Ибо здесь муж и жена – король и королева, они неизбежно находятся в искажающем фокусе всеобщего внимания. То, что другим удается скрыть, здесь вызывает пересуды и сплетни. Насмешливый, язвительный французский двор, естественно, не довольствуется соболезнующей констатацией несчастья, он непрерывно вынюхивает все подробности, он должен знать, как вознаграждает себя Мария Антуанетта за несостоятельность супруга. Придворные видят очаровательную юную женщину, самоуверенную кокетку, темпераментное существо, в котором играет молодая кровь, и знают, какому жалкому колпаку досталась эта восхитительная возлюбленная; всю праздную придворную сволочь отныне интересует один лишь вопрос – с кем она обманывает супруга? Именно потому, что по существу-то и говорить не о чем, честь королевы оказывается предметом фривольных сплетен. Стоит ей выехать с каким-нибудь кавалером, с Лозеном, например, или с Койиньи, а уж досужие болтуны именуют его ее возлюбленным; утренняя прогулка в парке с придворными дамами и кавалерами – и тотчас же всюду шушукаются о невероятных оргиях. Беспрестанно мысль всего двора занята любовной жизнью разочарованной королевы. Пересуды трансформируются в песенки, пасквили, памфлеты, порнографические стихи. Сначала придворные дамы прячут в веерах скабрезные эти стишки, затем они дерзко вылетают из дворца, их печатают, распространяют в народе. А когда начинается революционная пропаганда, якобинцам-журналистам не долго приходится искать аргументы, чтобы представить Марию Антуанетту как воплощение разврата, чтобы показать ее бесстыдной преступницей. Прокурору же достаточно опустить руку в этот ящик Пандоры, до краев наполненный галантной клеветой, – и вот они, эти основания, необходимые для того, чтобы сунуть голову королевы под нож гильотины.
* * *
Следствия неудач интимной жизни королевской четы влияют на ход всемирной истории. Действительно, разрушение королевского авторитета началось не с падения Бастилии, оно началось еще в Версале. Не случайно же эти сообщения о половой несостоятельности короля, эта злобная ложь о сексуальной ненасытности королевы так быстро распространяются из дворца по всей стране, становятся известными всей нации. Это имеет свою скрытую политико-династическую подоплеку. Ведь во дворце живет несколько особ, ближайших родственников короля, для каждого из которых супружеские разочарования Марии Антуанетты представляют глубоко личный интерес. Прежде всего, это оба брата короля; им крайне на руку то, что столь смехотворный физиологический недостаток Людовика XVI и его боязнь хирургического вмешательства не только разрушают нормальную супружескую жизнь, но и ломают установленный порядок наследования, ибо сами они при этом получают неожиданный шанс достичь престола. Следующий за Людовиком XVI брат, граф Прованский, действительно ставший впоследствии Людовиком XVIII (он достиг своей цели, и одному Богу известно, какими окольными путями), никогда бы не согласился всю свою жизнь простоять позади трона вторым. Он сам хотел держать скипетр в руке; отсутствие наследника сделало бы его на худой конец если не королем, то регентом, и нетерпение свое он сдерживает с трудом. Однако поскольку он тоже сомнительный супруг и бездетен, то и второй, младший брат короля, граф д’Артуа, может оказаться в выигрыше, ведь половая несостоятельность старших братьев дает право его сыновьям считаться законными престолонаследниками. Так для этих двух братьев короля счастливым случаем оборачивается то, что является несчастьем Марии Антуанетты, и чем дольше длится ужасное состояние, тем увереннее чувствуют себя эти претенденты на престол. Вот причина той безграничной, той безудержной ненависти, когда на седьмом году муж Марии Антуанетты наконец-то чудесным образом превращается в мужчину и супружеские отношения между королем и королевой становятся совершенно естественными. Граф Прованский никогда не простит Марии Антуанетте этот жестокий удар, разрушивший все его надежды; и то, чего ему не удалось добиться прямыми путями, он будет пытаться осуществить окольными: как только Людовик XVI становится отцом, его братья и другие родственники превращаются в его опаснейших противников. Революция имела хороших пособников при дворе, принцы крови и князья открыли ей двери и дали ей в руки отличное оружие; этот период альковной трагикомедии сильнее, чем все внешние обстоятельства, изнутри подорвал королевский авторитет, приведя его к полному уничтожению. Почти всегда причиной очевидного является таинственный рок, почти любое событие всемирного значения есть отражение внутреннего, личного конфликта. Великой тайной истории всегда было поразительное искусство из ничтожного повода развивать следствия необычайно серьезного значения, и не впервые происходит такое, когда временная сексуальная неполноценность какой-то личности оказывается причиной взрыва в мировой истории: импотенция Александра Сербского, эротическая зависимость от Драги Машин, освободившей его от плена неполноценности, убийство обоих, восшествие на престол Карагеоргиевича, вражда с Австрией и мировая война – все эти события являются такими же неуловимо логическими элементами лавины следствий. Ибо История плетет неизбежную сеть судьбы, в ее удивительном передаточном механизме самое маленькое ведущее колесико вызывает к действию невероятные силы. Так и в жизни Марии Антуанетты ничтожное, казалось бы смехотворное, событие первых ночей, первых лет супружества не только формирует ее характер, но и сказывается на облике мира.
* * *
Но как далеки еще эти тучи, таящие в себе грозу! Как далеки еще все эти следствия и стечения обстоятельств от детского сознания пятнадцатилетней девочки, простодушно смеющейся с неловкими товарищами своих игр, девочки с маленьким, жизнерадостно бьющимся сердцем и ясными, любопытными, широко открытыми глазами, считающей, что ступеньки, по которым она идет, ведут к трону, тогда как на самом деле это ступеньки эшафота. Но с самого начала ей определен черный жребий, боги бессильны. Ничего не подозревая, спокойно дают они ей идти своим путем, и навстречу ей встает судьба.
Дебют в Версале
Еще и теперь Версаль являет собой грандиозный, величественный символ автократии. В стороне от столицы, на искусственном холме, вне всякой связи с окружающей природой, господствуя над равниной, возвышается огромный замок. Сотнями окон смотрит он в пустоту поверх искусственно проложенных каналов, искусственно разбитых садов. Ни речки поблизости, вдоль которой могли бы раскинуться деревни, ни разветвленных дорог; нечаянная причуда властелина, овеществленная в камне, – вот чем представляется удивленному взору этот дворец со всей его безрассудной пышностью.
Этого как раз и желала цезаристская воля Людовика XIV – воздвигнуть сверкающий алтарь своему честолюбию, своему стремлению к самообожествлению. Убежденный автократ, властный человек, он подчинил своей державной воле раздробленную страну, предписал государству устройство, обществу – обычаи, двору – этикет, вере – единство, языку – чистоту. Его особа излучала эту волю к единообразию, его особе и надлежало поэтому купаться в лучах славы. «Государство – это я»; место, где я живу, – центр Франции, пуп земли. Воплощая эту идею совершенной исключительности своего положения, Roi-Soleil[38] закладывает свой дворец умышленно в стороне от Парижа. Именно тем, что он выбирает свою резиденцию вдали от всяких поселений, он подчеркивает – король Франции не нуждается ни в городах, ни в горожанах, не нужен ему и народ как опора или как фон власти. Достаточно ему только руку протянуть, приказать, и вот уже на болоте, на песках возникают сады и леса, каскады и гроты, чудесный, огромный дворец. Отныне из этой астрономической точки, выбранной силой его произвола, восходит солнце его королевства и в этой точке заходит. Версаль построен для того, чтобы со всей очевидностью доказать Франции: народ – ничто, король – всё.
Однако силы созидания всегда неразрывно связаны лишь с человеком, их носителем; наследуется лишь корона, но не мощь и величие, венчаемые ею. Не творческие, а мелкие, бесчувственные, жадные до наслаждений души наследуют с Людовиком XV и Людовиком XVI обширный дворец, широко задуманное государство. На первый взгляд, казалось бы, при этих государях все остается без перемен: границы, язык, обычаи, религия, армия. Уж очень сильна была властная, решительная рука, лепившая эти формы, чтобы через сто лет они потеряли свой прежний вид. Но вот наступает время, и они утрачивают свое содержание, нет в них более пламенной субстанции, творческого порыва. Внешне при Людовике XV Версаль не меняется, меняется его смысл, его значение. По-прежнему в коридорах, во дворах толкутся три-четыре тысячи слуг, разодетых в великолепные ливреи, по-прежнему стоят в конюшнях две тысячи лошадей, по-прежнему на балах, приемах, маскарадах функционирует на хорошо смазанных шарнирах надуманный механизм этикета, по-прежнему церемонно шествуют по зеркальным залам и сверкающим золотом покоям кавалеры и дамы в роскошных парчовых, шелковых, отделанных драгоценными камнями нарядах, по-прежнему этот двор самый прославленный, самый изысканный, самый утонченный в Европе. Но то, что раньше было выражением бьющей через край полноты власти, давно уже стало холостым ходом, бездушным, бессмысленным движением. Другой Людовик становится королем, но этот король не властелин, а раб женщин; и он тоже собирает при дворе архиепископов, министров, военачальников, архитекторов, писателей, музыкантов. Но подобно тому, как он не Людовик XIV, так и в этом его окружении нет Боссюэ, Тюренна, Ришелье, нет Мансара, Кольбера, Расина, Корнеля, вокруг него поколение искателей мест, льстецов, интриганов, желающих лишь пользоваться благами жизни, а не созидать; паразитировать, а не отдавать все силы своей души творчеству. В этой мраморной теплице не выращиваются больше ни смелые планы, ни задуманные с размахом нововведения, ни поэтические произведения. Одни лишь болотные растения интриги и искательства расцветают пышным цветом. Не труды на пользу государству определяют место при дворе, а козни и происки; не заслуги, а протекции: кто ниже согнет спину на левэ[39] перед Помпадур или Дюбарри, тот получит более выгодный пост. Слово ценится выше, чем дело, видимость – выше, чем сущность. Лишь друг перед другом, в бесконечной суетности, изящно и совершенно бесцельно играют эти люди свои роли – короля, государственного деятеля, священника, полководца. Все они забыли Францию, действительность, думают лишь о себе, о своей карьере, о своих удовольствиях. Версаль, задуманный Людовиком XIV как форум великой Европы, при Людовике XV опускается до уровня светского театра аристократов-дилетантов, впрочем самого искусного, самого разорительного из когда-либо существовавших на земле.
* * *
И вот на эту грандиозную сцену с нерешительностью дебютантки впервые выходит пятнадцатилетняя девочка. Поначалу она играет лишь маленькую пробную роль – роль дофины, престолонаследницы. Но высокоаристократическая публика знает: этой маленькой белокурой эрцгерцогине из Австрии предназначена основная роль в Версале – роль королевы. Вот почему с ее появлением все взоры с любопытством обращаются к ней. Первое впечатление – отличное. Давно уже здесь никто не видел такой привлекательной девочки с обворожительно стройной, словно из севрского фарфора, фигуркой, с чудесным цветом лица, с живыми голубыми глазами, задорными губками, умеющими и по-детски смеяться, и прелестно дуться. Манеры – безупречны: легкая, грациозная походка, восхитительная в танце, и в то же время – ведь она дочь императрицы – царственная осанка, удивительная способность непринужденно и величественно прошествовать по Зеркальной галерее, приветствуя свободно, без стеснения стоящих шпалерами справа и слева. С плохо скрываемой досадой дамы, которые в отсутствие примадонны еще брались играть первые роли, признают в этой узкоплечей, пока не развившейся девочке победоносную соперницу. Впрочем, один изъян в ее манерах должно отметить придирчивое общество двора: у пятнадцатилетнего подростка удивительное желание вести себя в этих священных залах не чопорно, а детски непринужденно, естественно, просто. Сорванец от природы, маленькая Мария Антуанетта в развевающейся юбчонке носится по саду с младшими братьями своего супруга. Никак не привыкнуть ей к скупой размеренности, к холодной скрытности, к молчаливости, которые неукоснительно требуются здесь от супруги наследного принца. При известных обстоятельствах она может вести себя безупречно, ведь и сама она выросла в рамках столь же помпезного испанско-габсбургского этикета. Но в Хофбурге и Шёнбрунне вели себя торжественно лишь в особых случаях, церемониал, словно парадную одежду, использовали только на приемах, чтобы затем со вздохом облегчения отложить в сторону тотчас же, как только гайдуки[40] закроют за гостями двери. Сразу же снималась напряженность, все становились приветливыми, близкими друг другу, дети могли резвиться, шуметь, веселиться вовсю. Этикет соблюдался в Шёнбрунне, но его не обожествляли, не становились его рабами. Здесь же, при этом напыщенном, одряхлевшем дворе, живут не затем, чтобы жить, а единственно для того, чтобы представительствовать. И чем выше ранг, тем больше предписаний и ограничений. Следовательно, бога ради, ни единого непродуманного жеста, ни в коем случае не держаться естественно – это было бы непоправимым проступком против обычаев. С утра до ночи, с ночи до утра – осанка, осанка, осанка, иначе станет роптать безжалостная толпа льстецов, цель жизни которых лишь в том, чтобы жить в этом театре, жить этим театром.
Эту отвратительную торжественную серьезность, это обожествление церемониала в Версале Мария Антуанетта никогда не понимала ни ребенком, ни королевой. Она не в состоянии постичь ужасающую важность, приписываемую здесь любым царедворцем кивку головы или движению руки, и никогда не постигнет этого. По природе своевольная, упрямая и прежде всего неискоренимо прямодушная, она ненавидит всякого рода ограничения; как истинная австрийка, она желает двигаться и жить без постоянной оглядки, не хочет испытывать на себе невыносимый гнет тщеславия и чванства. Как дома она увиливала от школьных занятий, так и здесь она ищет любой повод, чтобы улизнуть от своей строгой фрейлины мадам[41] де Ноай, которую насмешливо называет мадам Этикет. Так рано отданный в жертву политике, этот ребенок инстинктивно стремится получить то, чем его обделили, окружив довольством и роскошью, – получить несколько лет настоящего детства.
* * *
Однако наследная принцесса не может, не смеет более быть ребенком; все и вся объединяются, чтобы непрерывно напоминать ей об обязанности твердо, неукоснительно соблюдать достоинство, соответствующее ее положению. В основном ее воспитанием, кроме святоши-фрейлины, занимаются три дочери Людовика XV, три старые девы, ханжи и интриганки, добродетель которых не осмелится поставить под сомнение даже самый злобный клеветник. Мадам Аделаида, Мадам Виктория, Мадам Софи – эти три парки[42] принимают внешне очень теплое участие в Марии Антуанетте, супруг которой не очень-то ею интересуется. В своих покоях они посвящают ее во все секреты стратегии малых дворцовых войн, пытаются обучить ее искусству клеветы, вероломства, тайной интриги, технике булавочных уколов. Сначала эти уроки представляются маленькой неопытной Марии Антуанетте развлечением; доверчиво, не понимая смысла, повторяет она соленые bonmots[43], однако прирожденное прямодушие внутренне противится этой непорядочности. К досаде новых воспитателей, Мария Антуанетта так и не научилась притворяться, прятать свои истинные чувства – безразлично, ненависть ли это или любовь, – и очень скоро, подчиняясь здоровому инстинкту, она освобождается от опеки тетушек: все нечистое противно ее открытой и неуемной натуре. И графине де Ноай не везет с ее ученицей; постоянно бунтует неукротимый темперамент пятнадцатилетней, шестнадцатилетней девочки против mesure[44], против точной размеренности придворного быта, против привязки каждого часа жизни к определенному, раз и навсегда установленному параграфу распорядка. Но тут дофина ничего не может поделать. Вот как описывает она свой день: «Я встаю в половине десятого или в десять, одеваюсь и творю утреннюю молитву. Затем завтракаю и иду к тетушкам, где обычно встречаю короля. Это происходит до половины одиннадцатого. После этого, в одиннадцать, я отправляюсь причесываться. К полудню собирается мой штат придворных, здесь дано право явиться ко двору всякому, за исключением лиц без имени и звания. Я румянюсь и мою перед собравшимися руки, затем мужчины удаляются, дамы же остаются, и я при них одеваюсь. В двенадцать мы отправляемся в церковь. Если король в Версале, то к мессе я иду с ним, моим супругом и тетушками. Если его нет, я иду одна с дофином, но всегда в одно и то же время. После мессы мы обедаем в присутствии посторонних. Обычно обед кончается в половине второго, ведь мы оба едим очень быстро. Затем я иду к дофину, а если он занят, то после обеда возвращаюсь в свою комнату, читаю, пишу или шью. Я шью для короля мундир, работа продвигается у меня очень медленно, но я надеюсь, что с Божьей помощью через несколько лет он все-таки будет у меня готов. В три часа я вновь отправляюсь к тетушкам, у которых в это время находится король, в четыре ко мне приходит аббат, с пяти до шести у меня учитель музыки или пения. В половине седьмого я почти всегда бываю у тетушек, если не иду гулять. Ты должна знать, что мой супруг почти всегда бывает со мной у тетушек. С семи до девяти играют, но, если погода хорошая, я гуляю, и тогда играют не у меня, а у тетушек. В девять мы ужинаем, и, если короля нет в Версале, тетушки ужинают с нами. А если король здесь, то после ужина мы идем к ним. Мы ждем короля, который обычно приходит без пятнадцати одиннадцать. Пока короля нет, я ложусь на большое канапе и дремлю до его прихода; если же его нет в Версале, мы в одиннадцать отправляемся спать. Вот как у меня проходит день».
В этом расписанном по часам дне не много времени остается для развлечений, вот почему ее нетерпеливое сердце так жаждет их. Молодая кровь, бурлящая в ней, еще не успокоилась, подростку хочется играть, смеяться, озорничать, но мадам Этикет немедленно поднимет сурово палец и напомнит, что и то и другое – собственно, все, чего хотелось бы сделать Марии Антуанетте, – несовместимо с положением дофины. Еще труднее приходится с ней аббату Вермону, бывшему ее учителю, а теперь духовнику и чтецу. В сущности, Марии Антуанетте следовало бы еще учиться и учиться, так как ее образование много ниже среднего уровня: в пятнадцать лет она уже изрядно забыла свой немецкий, французский же еще не изучила достаточно хорошо. Почерк ее плачевно неуклюж, изложение изобилует несообразностями и орфографическими ошибками, письма без помощи сострадательного аббата ей не написать. Кроме того, он должен ежедневно по часу читать ей вслух и принуждать ее самое к чтению, ведь Мария Терезия чуть ли не в каждом письме спрашивает о чтении. Императрица не очень-то верит сообщениям, в которых говорится, что ее дочь Туанетта действительно каждый день читает или пишет. «Старайся как можно больше читать хорошие книги, – увещевает она, – это очень важно для тебя. Вот уже два месяца, как я жду от аббата списка книг, и боюсь, что ты не занимаешься чтением и что время, предназначенное для книг, ты растратила на всякую безделицу. Не забрасывай сейчас, зимой, это занятие, поскольку ничем другим стоящим ты также не интересуешься, ни музыкой, ни рисованием, ни танцами, ни живописью, никакими иными изящными искусствами». К сожалению, в своем недоверии Мария Терезия права. Каким-то удивительным образом, наивным и мудрым одновременно, маленькой Туанетте каждый раз так удается обвести вокруг пальца своего наставника аббата Вермона – дофину не принудишь, не накажешь, – что вместо чтения они болтают о том о сем. Она учится мало или не учится вовсе, никакие просьбы и увещевания матери не могут понудить ее к серьезным занятиям. Нормальное, естественное развитие нарушено слишком ранним браком по принуждению. Формально – женщина, фактически же еще ребенок, Мария Антуанетта должна величественно нести высокое звание первой дамы королевства и в то же время на школьной скамье приобретать самые элементарные познания из программы начальной народной школы. То с ней обращаются как с важной особой, то задают головомойку, словно малому неразумному ребенку. Мадам де Ноай требует от нее представительности, тетушки – участия в интригах, мать – образованности, юное же ее сердце ничего не хочет, только жить и чувствовать себя молодым. И при таких противоречиях возраста и положения, своей воли и воли других, в этом, в общем-то, прямодушном характере возникает некое необузданное беспокойство, стремление к свободе, которое позже столь роковым образом определит судьбу Марии Антуанетты.
* * *
Мария Терезия знает об опасном и рискованном положении своей дочери при чужом дворе, она знает и о том, что этому очень юному, легкомысленному и ветреному существу с помощью одного лишь инстинкта не избежать всех капканов интриг, всех силков дворцовой политики. Вот поэтому-то она и направляет послом в Париж лучшего из своих дипломатов, преданного друга, графа Мерси. «Я боюсь чрезмерной ребячливости в моей дочери, – пишет она ему с поразительной откровенностью, – боюсь влияния на нее лести окружающих, ее лености и нерасположенности к серьезной деятельности и поручаю Вам, поскольку полностью Вам доверяю, следить за тем, чтобы она не попала в дурные руки». Более удачного выбора императрица не могла бы сделать. Бельгиец по происхождению, но беззаветно преданный монархине, человек двора, но не придворный, способный трезво мыслить, но при этом отнюдь не сухарь, умный, хотя и не гениальный, этот богатый, нечестолюбивый холостяк, единственная цель жизни которого – безупречная служба своей монархине, принимает предлагаемый ему сторожевой пост со всем присущим ему тактом и с трогательной верностью. Формально он посланник императрицы при французском дворе, в действительности же – око, недремлющее око, спасительная рука матери. Благодаря его точным и подробным сообщениям Мария Терезия может наблюдать за своей дочерью из Шёнбрунна, словно в подзорную трубу. Она знает о любом платье, надеваемом дочерью, о том, что та делает каждый день, как попусту тратит время, с кем разговаривает, какие ошибки совершает, ибо Мерси с большим искусством стянул сети вокруг опекаемой им Марии Антуанетты. «Я получаю подробнейшие сведения от трех лиц из прислуги эрцгерцогини, Вермон каждый день сообщает мне все о ней, от маркизы Дюрфор мне известны до последнего слова все ее разговоры с тетушками. У меня много возможностей и путей, чтобы быть полностью информированным о том, что происходит, когда дофина находится у короля. И если ко всему этому добавить мои собственные наблюдения, то окажется, что я знаю все, что она делает, говорит или слышит в течение дня – час за часом. И я непрерывно расширяю свои наблюдения так, чтобы Вы, Ваше Величество, чувствовали себя спокойной». Все, о чем он слышит, все, что выслеживает, – все это верный и честный слуга с беспощадным прямодушием передает императрице. Специальные курьеры – ибо в те времена похищение дипломатической почты было одним из основных приемов дипломатии – перевозят эти интимные донесения, предназначенные исключительно Марии Терезии; и вследствие того, что на конвертах стоит надпись: «Tibi soli»[45], ни канцлер, ни император Иосиф не имеют доступа к этим донесениям. Иногда, правда, простодушная Мария Антуанетта удивляется тому, как быстро и точно Шёнбрунн узнает о каждой мельчайшей подробности ее жизни, но никогда ей в голову не приходит мысль, что этот седовласый, отечески доброжелательный господин является тайным соглядатаем ее матери и что предупреждающие, удивительным образом столь осведомленные письма Марии Терезии внушены и инспирированы ей именно Мерси, ибо у него нет иных средств влиять на своевольную девушку, кроме как используя материнский авторитет. Посланник чужого, хотя и дружественного, двора, он, естественно, не имеет права обучать наследницу престола морально-этическим правилам поведения, не может позволить себе воспитывать будущую королеву Франции, как-то влиять на нее. Вот потому-то, когда он хочет чего-либо добиться от нее, он доставляет Марии Антуанетте письмо взыскательной и любвеобильной матери, которое дофина берет и вскрывает с сильно бьющимся сердцем. Не подчиняющаяся никому на свете, эта легкомысленная девочка испытывает прямо-таки священную робость, стоит ей услышать голос своей матери, даже если он звучит с листков письма. Благоговейно склоняет она голову даже при самых суровых укорах.
Именно вследствие такого неусыпного надзора удается Марии Антуанетте в эти первые годы жизни в Версале избежать чрезвычайной опасности – стать жертвой собственной, ни в чем не знающей меры натуры. Другой, более сильный характер руководит ею – большой и дальновидный ум матери думает за нее, решительная серьезность охраняет ее легкомыслие. И чувство вины, которое императрица испытывает перед Марией Антуанеттой, – вины в том, что из государственных интересов она пожертвовала счастьем юного существа, – мать пытается искупить бесконечной заботливостью.
* * *
Добродушная, сердечная и легкомысленная Мария Антуанетта совсем еще ребенок, она, в сущности, не испытывает по отношению ко всем этим окружающим ее людям никакой антипатии. Ей нравится ее новый дедушка, Людовик XV, который ласков и доброжелателен к ней, она терпеливо сносит старых дев и мадам Этикет, питает доверие к славному духовнику Вермону и чувствует детски почтительное расположение к тихому, приветливому другу ее матери, посланнику Мерси. Но ведь все они – люди пожилые, все они серьезны, сдержанны, торжественны, а ей, пятнадцатилетней, хотелось бы общаться с кем-нибудь непринужденно, дружить попросту, довериться искренне. Ей хотелось бы иметь возле себя товарищей, подруг по играм, а не одних лишь воспитателей, наставников, соглядатаев. Ее юность жаждет юности. Но с кем здесь веселиться, в этом невыносимо чопорном доме из холодного мрамора, с кем играть здесь? Казалось бы, отличным товарищем ее игр мог стать ее собственный супруг, ведь он лишь на год старше ее. Однако, брюзгливый, застенчивый и от застенчивости частенько грубоватый, этот неловкий малый уклоняется от всякого общения со своей юной женой. Он тоже не проявлял ни малейшего желания так рано жениться, и потребуется еще много времени, прежде чем он решит хотя бы просто вежливо обращаться с этой чужой ему девочкой. Остаются лишь младшие братья супруга, граф Прованский и граф д’Артуа. С этими тринадцатилетним и четырнадцатилетним мальчиками Мария Антуанетта иногда проводит досуг, они раздобывают костюмы, играют тайком от взрослых в театр; приближение мадам Этикет заставляет всю «труппу» разбегаться: дофине не пристало быть комедианткой! Но все же этому ребенку-сорванцу нужно к кому-то приласкаться, с кем-то понежничать. Однажды она обращается к посланнику с просьбой – не пришлют ли ей из Вены собаку – «un chien mops»[46]. В другой раз строгая гувернантка с ужасом обнаруживает, что наследница французского престола привела в свои покои двух детишек служанки и в своем нарядном платье ползает и возится с ними по полу. Непрерывно, с первого до последнего часа, свободный, живой человек в Марии Антуанетте борется против искусственности этого окружающего ее после замужества мира, против жеманной патетичности фижм и корсетов. Эта веселая и легкомысленная венка всегда чувствует себя чужой в тысячеоконном чопорном дворце Версаля.
Возня вокруг одного слова
«Не вмешивайся в политику, не интересуйся чужими делами», – все время повторяет Мария Терезия своей дочери. В сущности, это ненужное предостережение, ведь для юной Марии Антуанетты нет на свете ничего дороже, чем собственные развлечения. Любое дело, требующее глубокого размышления или систематического обдумывания, невыразимо скучно этой молодой самовлюбленной женщине, и то, что в первые же годы своей жизни в Версале она все-таки оказывается вовлеченной в жалкую дворцовую интригу, одну из многих, заменивших при дворе Людовика XV высокую государственную политику его предшественника, действительно происходит помимо ее воли. К моменту ее появления в Версале уже существуют две партии. Королева давно умерла, и первыми дамами Франции следовало бы, естественно, считать трех дочерей короля, они должны быть – по женской линии – самыми влиятельными особами королевства. Однако лишенные кругозора, ограниченные и мелочные, эти ханжи и интриганки не в состоянии занять подобающее им место, их хватает лишь на то, чтобы сидеть во время мессы в первом ряду и на приемах находиться возле короля. Нудные, вечно всем недовольные старые девы, они не имеют никакого влияния на короля-отца, у которого на уме одни плотские удовольствия. Поскольку эти дамы не обладают властью, не имеют влияния, не могут раздавать ни постов, ни должностей, ни один из придворных не домогается их благосклонности, и все сияние славы, вся честь достается той, которая, собственно, никакого отношения к династии не имеет, – последней метрессе короля, мадам Дюбарри. Вышедшая из самых низов, женщина с темным прошлым и, если верить слухам, каким-то образом попавшая в опочивальню короля из публичного дома, она, чтобы проникнуть в высшее общество, заставляет своего слабовольного любовника купить ей аристократического супруга, графа Дюбарри, чрезвычайно покладистого мужа, навсегда исчезнувшего тотчас же после оформления брачного контракта. Но дело сделано, его имя дает бывшей уличной девке доступ в Версаль. Вторично на глазах всей Европы разыгрывается потешный и унизительный фарс: христианнейшему королю представляют при дворе его любовницу как даму дворянского рода, а он делает вид, что никогда раньше с нею не встречался. Введенная таким образом в общество, мадам Дюбарри перебирается в Версаль и живет во дворце рядом со скандализированными дочерьми короля-любовника, всего в трех комнатах от них. Покои ее соединяются с покоями короля специально построенной лестницей. Своими прелестями, действие которых хорошо проверено, а также с помощью еще не прошедших проверки, услужливых, смазливых девушек, которых она время от времени подсовывает сладострастному старику для придания ему бодрости, держит она его в своих руках. К благосклонности короля, к его расположению существует лишь один путь – через салон мадам Дюбарри. И естественно, поскольку она обладает правом одаривать, придворные теснятся в нем, посланники всех властителей почтительно ожидают в ее приемной, короли, князья шлют ей презенты. Она может вынудить министра уйти в отставку, дать доходную должность, приказать строить себе замки за счет королевской казны; тяжелые бриллиантовые подвески сверкают у ее полной шеи, массивные кольца искрятся, блестят на руках, которые почтительно целуют высокопреосвященства, князья, честолюбцы. Корона невидимо светится в ее пышных каштановых волосах.
Все королевские милости щедро изливаются на эту некоронованную властительницу алькова, лесть и благоговение окружают эту дерзкую развратницу, нагло узурпировавшую власть первой дамы Франции. А в дальних комнатах дворца раздосадованные дочери монарха брюзжат и жалуются на наглую, продажную тварь, навлекшую позор на весь двор, сделавшую их отца посмешищем, правительство – бессильным, семейную жизнь по христианским законам – невозможной. Со всей ненавистью, на которую только способна невольная добродетель (их единственное достояние, ибо они не обладают ни привлекательностью, ни умом, ни достоинством), ненавидят эти три дамы вавилонскую блудницу, захватившую все права их матери-королевы, и целыми днями с утра до вечера только тем и заняты, что высмеивают ее, строят против нее козни.
Но вот какой благоприятный, какой счастливый случай: при дворе появляется новое лицо, пятнадцатилетняя эрцгерцогиня Мария Антуанетта, в силу своего положения – положения будущей королевы – по праву первая дама двора. Ее нужно использовать в борьбе против Дюбарри, и три старые девы сразу же принимаются за работу, делая все, чтобы привлечь на свою сторону эту ничего не подозревающую, опрометчивую девочку. Оставаясь на виду, она должна помочь им, находящимся в тени, загнать и затравить нечистое животное. С кажущейся сердечностью они приближают к себе маленькую принцессу. И уже через несколько недель неожиданно для себя Мария Антуанетта оказывается втянутой в ожесточенную борьбу.
* * *
До своего приезда в Версаль Мария Антуанетта ничего не знала ни о существовании, ни о своеобразном положении мадам Дюбарри: при дворе Марии Терезии, где соблюдались строгие правила нравственности, само понятие «метресса» было неизвестно. На первом званом ужине среди других придворных дам дофина видит разряженную, увешанную драгоценностями особу с пышным бюстом, рассматривающую ее с любопытством, и слышит, как эту особу величают графиней, графиней Дюбарри. Однако преисполненные любви тетушки, опекая неопытную дофину, обстоятельно разъясняют ей все касающееся этой дамы, и уже несколько недель спустя Мария Антуанетта пишет своей матери о «sotte et impertinente créature»[47]. Громко и необдуманно повторяет она все злобные и язвительные замечания, нашептываемые ей любезными тетушками, и скучающий, всегда жадный до подобного рода сенсаций двор получает возможность насладиться замечательным развлечением: Мария Антуанетта вбила себе в голову – или, вернее, тетушки внушили ей – игнорировать эту наглую проныру, которая ходит по версальскому дворцу, пыжась, словно важная птица. В соответствии с железным законом этикета при королевском дворе заговорить с другим может лишь тот, кто стоит на более высокой ступеньке иерархической лестницы. Никогда к высокопоставленной даме дама более низкого звания не обратится первой, она должна почтительнейше ждать, пока заговорят с нею. Естественно, поскольку нет королевы, дофина является дамой самого высокого звания, и она неукоснительно пользуется этим правом. Хладнокровно, издевательски, вызывающе заставляет она эту графиню Дюбарри ждать и ждать обращения к себе. Неделями и месяцами принуждает она эту особу испытывать муки нетерпения, жаждать одного-единственного слова. Конечно, сплетники и подхалимы тотчас же замечают немой поединок и получают от него дьявольское удовольствие. Весь двор, чрезвычайно довольный, греется у огня, искусно раздуваемого тетушками. С напряженным вниманием все следят за Дюбарри, которая, сидя среди других придворных дам, с плохо скрываемым бешенством видит, как эта маленькая дерзкая блондинка оживленно, возможно даже нарочито оживленно, беседует с другими, но стоит лишь ей, графине Дюбарри, попасть в поле зрения Марии Антуанетты, как та сразу же поджимает свои несколько выпяченные габсбургские губки и смотрит на сверкающую бриллиантами графиню как на пустое место, смотрит словно сквозь стекло.
В сущности, Дюбарри не злой человек. Как настоящая женщина из народа, она обладает всеми чертами, присущими людям ее сословия: известным добродушием выскочки, дружеской приветливостью со всеми, кто к ней доброжелателен. Из тщеславия она окажет услугу любому, кто ей польстит, небрежно и щедро одарит всякого, кто ее об этом попросит; ее не назовешь завистливой или недоброй. Но именно потому, что Дюбарри так быстро, сложными путями выбралась из самых низов наверх, ей мало обладать властью – она должна ею чувственно, осязаемо наслаждаться, она хочет греться в лучах непристойного сияния, и, самое главное, она желает, чтобы это сияние считалось пристойным. Сидеть в первом ряду среди придворных дам, носить роскошнейшие платья, владеть лучшими бриллиантами, лучшей каретой, самыми быстрыми рысаками – все это она без труда получает от безвольного, во всем ей послушного любовника, ей ни в чем нет отказа. Но трагикомедия любой незаконной власти (даже Наполеон не избегнет этого!) заключается в том, чтобы добиться признания законной властью. Вот то, к чему так неотступно стремится ее тщеславие. И несмотря на то что графиня Дюбарри окружена сильными мира сего, избалована придворными, помимо всех уже исполненных желаний, она страстно хочет исполнения еще одного – чтобы дофина, первая дама двора, признала ее, чтобы эрцгерцогиня из дома Габсбургов сердечно и приветливо приняла ее. Но мало того что эта petite rousse[48] (так в своей бессильной ярости зовет она Марию Антуанетту), эта маленькая, шестнадцатилетняя дурочка, которая еще и говорить-то прилично по-французски не умеет, которая до сих пор не в состоянии справиться со смехотворной малостью, не может заставить собственного мужа исполнять свои супружеские обязанности, мало того что эта невольная девственница все время поджимает губы и игнорирует ее, мадам Дюбарри, на глазах всего двора – она осмеливается еще совершенно открыто, бесстыдно насмехаться над нею, – над нею, самой могущественной женщиной двора. И вот этого-то Дюбарри терпеть не желает!
* * *
Право в этом принявшем гомерические формы споре о чине, о положении при дворе, несомненно, на стороне Марии Антуанетты. Она более высокого звания, ей незачем говорить с такой особой, как графиня, которая по положению много ниже наследницы престола, даже если на груди этой особы сверкают бриллианты стоимостью в семь миллионов. Однако за спиной Дюбарри стоит настоящая власть: король полностью в ее руках. Нравственно совершенно опустившийся, абсолютно безразличный к интересам государства, своей семьи, подданных, всего света, высокомерный циник – après moi le déluge[49], Людовик XV ищет для себя лишь покоя и удовольствий. Пусть жизнь идет по заведенному порядку, его не заботят нравы и обычаи двора. Король прекрасно понимает, что, займись он ими, пришлось бы начинать с себя. Он достаточно долго правил, а эти оставшиеся несколько лет хочется пожить, пожить для себя, пусть даже все кругом рушится. Какая досада, что внезапно разыгравшаяся дамская война нарушает его покой! В соответствии со своими эпикурейскими принципами он предпочел бы не вмешиваться. Однако Дюбарри прожужжала ему уши, каждодневно повторяя одно и то же: она не позволит девчонке унижать себя, она не хочет быть посмешищем всего двора, он должен ее защитить, сберечь ее честь и тем самым свою собственную. Наконец королю надоедают эти сцены и слезы; он приглашает к себе фрейлину Марии Антуанетты мадам де Ноай, чтобы разъяснить, кто здесь хозяин. Сначала он говорит лишь любезности в адрес супруги своего внука, затем делает несколько замечаний: ему кажется, что дофина позволяет себе высказываться несколько свободнее, чем следует, о том, что видит, и было бы хорошо обратить ее внимание на то, что подобное поведение может оставить весьма неприятное впечатление в интимном кругу семьи. Фрейлина тотчас же (как и ожидал король) передает предупреждение Марии Антуанетте, та рассказывает об этом тетушкам и Вермону, последний – австрийскому посланнику Мерси, который, естественно, страшно взволнован таким сообщением – альянс, альянс! – и специальным курьером отправляет в Вену подробное изложение столь щекотливого дела. Очень неловкая ситуация для набожной, богомольной Марии Терезии! Должна ли она, безжалостно подвергающая порке плетьми дам подобного сорта в своей знаменитой венской комиссии нравов и отправляющая их в исправительный дом, должна ли она предписывать своей дочери учтивое и вежливое отношение к такой твари? Но, с другой стороны, может ли она принять сторону противников короля? Мать, суровая католичка и вместе с тем трезвый политик, оказывается в глубоком конфликте с самой собой. Наконец старой лисе, опытному дипломату, удается найти выход из трудного положения – она поручает все это дело государственному канцлеру. Не сама она пишет дочери, а предлагает канцлеру Кауницу подготовить для Мерси рескрипт: тот должен дать Марии Антуанетте соответствующие рекомендации. Таким образом и нравственные устои сохраняются, и девочке даются советы, как должно ей себя вести. И Кауниц разъясняет: «Отказ в учтивости лицам, принимаемым королем при дворе, оскорбляет весь двор. В равной мере это относится также и к особам, которых сам государь приблизил к себе, и никому не дано права ставить под сомнение обоснованность этого приближения. Выбор государя, монарха должен почитаться беспрекословно».
Сказано ясно, предельно ясно. Но тетушки подзуживают Марию Антуанетту. Прочитав письмо, она небрежно, в своей обычной манере, говорит Мерси: «Да, да» и «Хорошо», но про себя думает, что этот старый парик Кауниц может болтать, сколько ему угодно, но никаким канцлерам она не позволит соваться в ее личные дела. Едва поняв, как ужасно злится глупая особа – «sotte créature», высокомерная девочка получает двойное удовольствие от всего этого дела; как ни в чем не бывало она продолжает свою недобрую игру в молчанку. Каждый день встречаясь с фавориткой на балах, на празднествах, за карточным и даже за обеденным столом короля, она наблюдает, как та ждет, смотрит искоса и дрожит от возбуждения, когда дофина проходит вблизи нее. «Жди, голубушка, жди хоть до второго пришествия». И каждый раз дофина презрительно поджимает губы, едва только ее взгляд случайно падает на эту особу, – с ледяным безразличием проходит она мимо. Слово, так страстно ожидаемое Дюбарри, королем, Кауницем, Мерси и даже втайне Марией Терезией, остается несказанным.
Итак, война объявлена открыто. Словно перед петушиным боем, придворные толпятся вокруг обеих женщин, полных решимости молчать: одна – со слезами бессильной ярости, другая – с презрительной усмешкой превосходства. Кто настоит на своем: законная властительница Франции или незаконная? Каждый хочет видеть исход боя, каждый готов держать пари с другими. Годы и годы Версаль не был свидетелем такого занимательного спектакля.
* * *
Но теперь уже рассержен король. Привыкший к тому, что стоит лишь моргнуть глазом, как в этом дворце все раболепно ему повинуются, что каждый лакейски спешит исполнить его приказание прежде, чем он отчетливо произнесет таковое, он, христианнейший владыка Франции, впервые чувствует сопротивление. Девочка-подросток осмеливается открыто ослушаться его приказа. Проще всего было бы, конечно, призвать к себе эту дерзкую упрямицу и дать ей нагоняй. Но в душе этого безнравственного и крайне циничного человека еще шевелится какая-то робость: королю все же неприятно приказать взрослой жене своего внука, чтобы она общалась с его, короля, метрессой. И в этом затруднительном положении Людовик XV поступает точно так же, как поступила Мария Терезия в аналогичной ситуации: частное, семейное дело он превращает в государственный акт. К своему удивлению, австрийский посланник Мерси получает от французского министерства иностранных дел приглашение для переговоров не в аудиенц-зале, а в покоях графини Дюбарри. Строя всевозможные предположения относительно странного выбора места аудиенции, Мерси начинает догадываться, чем этот выбор продиктован, и оказывается прав: едва он обменивается с министром несколькими словами, как в комнату входит графиня Дюбарри и, сердечно приветствуя его, начинает подробно рассказывать, как несправедливо поступают, приписывая ей недоброжелательные мысли в отношении дофины; она, графиня, оклеветана, подло оклеветана. Доброжелательному Мерси крайне неловко так неожиданно превратиться из представителя императрицы в доверенное лицо Дюбарри, он пытается дипломатично уклониться от прямого ответа. Но тут бесшумно открывается потайная дверь, и вошедший король вмешивается в деликатный разговор. «До сих пор, – говорит он Мерси, – вы были посланником императрицы, прошу вас некоторое время быть моим посланником». Затем он очень откровенно высказывает свое мнение о Марии Антуанетте. Он находит ее очаровательной; но, молодая и очень живая, к тому же замужем за человеком, который не знает, как ее сдерживать, она подпадает под влияние некоторых особ (имеются в виду тетушки, его собственные дочери), дающих подчас плохие советы. Поэтому он просит Мерси использовать все свое влияние, с тем чтобы дофина изменила свое поведение. Мерси сразу понимает – инцидент становится политикой, ему дано прямое и ясное поручение, которое должно быть выполнено: король требует полной капитуляции. Само собой разумеется, Мерси срочно сообщает о положении дел в Вену и, для того чтобы несколько сгладить неловкость своей миссии, накладывает немного косметики на портрет Дюбарри. Она, дескать, не так уж и плоха, да и все ее желание сводится к самой малости – чтобы дофина публично лишь однажды обратилась к ней. Одновременно он посещает Марию Антуанетту, настаивает, не скупится на крайние средства. Он запугивает ее, шепчет ей о яде, с помощью которого при французском дворе не раз устраняли высокопоставленных лиц, и особо красноречиво живописует все следствия ссоры, которая может возникнуть между Габсбургами и Бурбонами. Это – его козыри: он возлагает на Марию Антуанетту всю вину в случае, если из-за ее поведения развалится альянс, дело всей жизни ее матери.
И действительно, обстрел из тяжелых орудий оказывается эффективным: Мария Антуанетта дает себя запугать. Со слезами гнева на глазах она обещает посланнику в определенный день во время партии в карты обратиться к Дюбарри со словом приветствия. Мерси вздыхает с облегчением. Слава богу! Альянс спасен.
* * *
В интимном кругу двора ожидают необычного гала-представления. Секретно, из уст в уста передается оповещение о спектакле: наконец-то нынче вечером дофина впервые обратится к Дюбарри. Добросовестно устанавливаются декорации, заранее уславливаются о необходимых репликах. Вечером, во время приема – так договорились посланник и Мария Антуанетта, – к концу партии в карты, Мерси должен подойти к графине Дюбарри и заговорить с нею. Затем, как бы случайно, проходящая мимо дофина приблизится к посланнику, раскланяется с ним и при этом скажет несколько слов фаворитке. Все отлично спланировано. Но, к сожалению, вечернее представление срывается, тетушки не могут примириться с публичной победой ненавидимой ими соперницы: они сговариваются, чтобы прервать представление прежде, чем настанет черед сцене примирения. Мария Антуанетта является с благими намерениями, спектакль должен состояться. Мерси в соответствии с разработанным сценарием как бы случайно приближается к мадам Дюбарри и завязывает с ней разговор. И Мария Антуанетта начинает предусмотренный планом постановки обход присутствующих. Она беседует с одной дамой, с другой, затем со следующей, несколько затягивает этот разговор, может быть из трусости, досады или из-за некоторого возбуждения. Теперь между нею и Дюбарри только одна дама, последняя; еще пара минут – и она подойдет к Мерси и фаворитке. В этот решающий момент мадам Аделаида, основная подстрекательница среди тетушек, совершает смелый поступок. Она быстро подходит к Марии Антуанетте и говорит повелительно: «Уже пора, пойдем! Мы должны ждать короля у мадам Виктории». Застигнутая врасплох, Мария Антуанетта пугается, лишаясь мужества; растерявшись, она не решается отказать тетушке, и в то же время ей не хватает находчивости быстро сказать несколько ничего не значащих слов ожидающей Дюбарри. Она краснеет и в замешательстве уходит, скорее даже бежит, а слово, страстно ожидаемое, обещанное, завоеванное дипломатическими ухищрениями, согласованное четырьмя действующими лицами, – слово это остается непроизнесенным. Окружающие ошеломлены. Пьеса сорвана; не примирение принесла она, а новое оскорбление. Злопыхатели потирают руки, всюду, от парадных покоев до лакейских, говорят, посмеиваясь, о том, что Дюбарри тщетно ждала милости дофины. Но Дюбарри кипит от гнева, и, что еще опаснее, Людовик XV приходит в ярость. «Я вижу, господин Мерси, – говорит он, разозленный, посланнику, – к вашим советам, к сожалению, не прислушиваются. Придется вмешаться мне самому».
* * *
Король Франции гневается и угрожает, мадам Дюбарри неистовствует в своих покоях, австро-французский альянс может развалиться, мир в Европе – под ударом. Немедленно посланник сообщает в Вену о неприятном обороте дел. Требуется участие императрицы, требуется ее выдающийся ум. Должна вмешаться сама Мария Терезия, лишь она, единственная во всем свете, может справиться с этим упрямым, неразумным ребенком. Марию Терезию очень пугают эти события. Отпуская свою дочь во Францию, она действительно предполагала, что ее девочку удастся уберечь от неблаговидного занятия – политики, и еще тогда писала своему посланнику: «Я открыто признаюсь, что не хочу, чтобы моя дочь оказывала какое бы то ни было решающее влияние на государственные дела. Я на себе испытала всю тяжесть этого бремени – управления большой империей, а кроме того, я знаю молодость и легкомыслие моей дочери, а также то, что у нее нет никаких наклонностей к любым серьезным занятиям (к тому же никакими основательными знаниями она не обладает); ничего хорошего ожидать от такой приходящей в упадок монархии, как французская, не приходится. Моей дочери не улучшить положения в стране; скорее всего, оно будет непрерывно ухудшаться; я предпочитаю, чтобы в этом повинен был какой-нибудь министр, а не мой ребенок. Поэтому я не хочу говорить с нею о политике и государственных делах».
Однако на этот раз – таков рок! – старая женщина с трагической судьбой должна изменить сама себе; с некоторых пор у Марии Терезии появились серьезные политические заботы. Сомнительное, не очень-то чистое дельце обделывают в Вене. Вот уж несколько месяцев, как от ненавидимого ею Фридриха Великого, которого она считает посланцем Люцифера на земле, и от Екатерины Российской, которой она тоже нисколько не доверяет, исходит весьма рискованное предложение о разделе Польши, и восторженный прием, который нашла эта идея у Кауница и ее соправителя Иосифа II, смущает ее совесть. «Любые разделы по своей сущности несправедливы и вредны для нас. Я не могу не сожалеть об этом предложении и должна признать, что стыжусь его». Она тотчас же поняла всю неприглядность этой политической идеи, поняла, что это нравственное преступление, разбойничий набег на беззащитную и безвинную страну. «Какое право имеем мы грабить невинных, если всегда считали себя их защитниками?» С искренним негодованием отклоняет она предложение, равнодушная к тому, что ее нравственные соображения могут быть объяснены слабостью. «Я предпочитаю, чтобы нас считали слабыми, нежели бесчестными», – мудро и благородно заявляет она. Но Мария Терезия давно уже не самодержавный властелин. Иосиф II, ее сын и соправитель, грезит о войне, о расширении государства, о реформах, тогда как она, прекрасно понимая искусственность и неустойчивость Австрийской империи, думает лишь о том, чтобы сберечь, сохранить ее в существующих границах. Чтобы противодействовать влиянию матери-императрицы, он робко пытается следовать во всем ее злейшему врагу, солдату до мозга костей, Фридриху Великому, и, к своему глубочайшему огорчению, стареющая женщина видит, что преданнейший ее слуга, человек, так высоко вознесенный ею, Кауниц склоняется перед восходящей звездой ее сына. Измученная, усталая, разочарованная в своих надеждах мать и императрица охотно сложила бы с себя государственную власть. Но чувство ответственности удерживает ее от этого шага. С пророческим прозрением предугадывает она – удивительным образом эта ситуация напоминает ту, в которой оказался Франц Иосиф, старый, усталый человек, до конца дней также не выпустивший власть из своих рук, – что нервозная, беспокойная сущность этих поспешно задуманных сыном реформ может повести к распространению волнений в государстве, сохранить порядок в котором становится все труднее и труднее. Так и борется до последнего часа эта набожная и глубоко порядочная женщина за то, что она ценит превыше всего, – за честь. «Когда все мои земли были определены, я уповала на свои права и на Божью помощь. Однако же в настоящем случае, когда не право на моей стороне, а обязательства, право и справедливость обернулись против меня, я теряю покой, более того, меня гложет беспокойство, мучают укоры сердца, потому что я никогда не обманывала так кого бы то ни было или себя самое, не привыкла выдавать лицемерие за искренность. Честь и вера навсегда утрачены, потеряно именно то, что составляет величайшую ценность и истинную силу настоящей монархии».
Но Фридриха Великого совестливым не назовешь, и он только насмехается у себя в Берлине: «Императрица Екатерина и я, мы два старых разбойника, а вот как будет эта старая ханжа отчитываться перед своим духовником?» Он торопит, Иосиф II запугивает, предсказывая неминуемую войну, если Австрия не присоединится к Пруссии и России. Наконец, вся в слезах, с разбитым сердцем и раненой совестью, императрица Мария Терезия сдается: «Я недостаточно сильна, чтобы самой вести affaires[50], и поэтому, не без великой скорби, даю им идти своей дорогой», – и подписывает соглашение[51] с замечанием, играющим роль тылового прикрытия: «Поскольку советуют мудрые и опытные люди». Но в глубине души она чувствует себя соучастницей преступления и дрожит в ожидании того дня, когда секретный трактат и его следствия станут известны миру. Что скажет Франция? Равнодушно ли стерпит это разбойничье нападение на Польшу, принимая во внимание альянс, или предъявит притязания на свою долю, хотя сама императрица и не считает раздел Польши законным (ведь вычеркивает же Мария Терезия собственноручно из оккупационного декрета слово «законно»). Все зависит лишь от настроения Людовика XV.
Разве мало этих беспокойств, волнений, жгучего конфликта с совестью, так нет, как снег на голову сваливается еще и тревожное письмо Мерси: король рассержен на Марию Антуанетту, он ясно высказал посланнику свое недовольство, и происходит это именно тогда, когда в Вене так искусно водят за нос глуповатого посланника Версаля принца Рогана. За непрерывной чередой празднеств, увеселительных поездок, охот он не замечает возни вокруг Польши. Теперь же из-за того, что Мария Антуанетта не желает говорить с Дюбарри, раздел Польши может повести к серьезным последствиям, возможно даже к войне. Мария Терезия ужасается. Нет, если уж она, пятидесятишестилетняя женщина, должна была принести государственным интересам столь болезненную жертву – совесть, то ее собственному ребенку, шестнадцатилетней девочке, не следует быть бо́льшим католиком, чем сам папа, быть более нравственной, нежели ее мать. Итак, пишется письмо более энергичное, чем прежние, чтобы раз и навсегда сломить упрямство девочки. Конечно, ни слова о Польше, ничего о государственных интересах, все дело (это, должно быть, недешево далось старой императрице) умышленно умаляется: «Боже мой, чего робеть, чего бояться, отчего бы не обратиться к королю, к человеку, который заменяет тебе отца! Или к тем его близким, с которыми тебе советуют обменяться парой слов! Что тут страшного – поздороваться с кем-то! Стоит ли так гримасничать из-за одного слова о нарядах, о каком-нибудь пустяке? Ты дала себя закабалить настолько, что, по-видимому, ни разум, ни чувство долга даже не в состоянии тебя переубедить. Я не могу более молчать. После беседы с Мерси и его сообщения о том, чего требует твой долг и чего желает король, ты осмелилась ослушаться! Какие разумные мотивы ты можешь назвать мне? Никаких. Ты не должна относиться к Дюбарри иначе, чем к другим женщинам, принимаемым при дворе. Как первая подданная короля, ты обязана показать всему двору, что желание твоего повелителя неукоснительно выполняется тобой. Естественно, если бы от тебя потребовали какую-нибудь низость или домогались интимностей, то ни я и никто другой не посоветовал бы тебе быть послушной, но ведь сейчас разговор идет о каком-то ничего не значащем слове, о слове, которое следует произнести не ради дамы, а ради дела, ради твоего повелителя и благодетеля!»
Эта канонада (не совсем честных аргументов) преодолевает противодействие Марии Антуанетты; необузданная, своевольная, упрямая, она никогда не решилась бы сопротивляться авторитету матери. Габсбургская дисциплинированность, безоговорочное подчинение главе семьи восторжествовали, как всегда, и на этот раз. Еще немножко, формы ради, Мария Антуанетта упирается: «Я не говорю „нет“ и не говорю, что вообще никогда с ней не заговорю. Но не могу же я себя заставить заговорить с ней в определенный час определенного дня, с тем чтобы она о нем заранее всех оповестила и могла торжествовать победу». Но в действительности сопротивление дофины уже сломлено, и эти слова всего лишь последний арьергардный бой. Капитуляция предрешена.
* * *
В новогодний день 1772 года кончается наконец эта героико-комическая дамская война, этот день приносит триумф мадам Дюбарри и поражение Марии Антуанетте. Вновь сцена подготавливается к спектаклю, вновь весь двор приглашается свидетелем и зрителем. Начинается большой новогодний прием. Одна за другой, в строгой последовательности, определяемой званием и положением, шествуют мимо дофины придворные дамы, и среди них герцогиня Эгийон, супруга министра, с мадам Дюбарри. Дофина обращается с несколькими словами к герцогине Эгийон, затем поворачивает голову приблизительно в сторону мадам Дюбарри и говорит не прямо ей, но так, что при известном желании можно предположить, что именно ей, – все присутствующие затаили дыхание, боясь пропустить хотя бы единый слог, – говорит так страстно ожидаемые, с такими ожесточенными боями добытые, поразительные, фатальные слова. «Сегодня в Версале на приеме много людей», – произносит она. Семь слов, семь точно отсчитанных слов заставила себя сказать Мария Антуанетта, но какое чрезвычайное событие, более важное, нежели завоевание провинции, более волнующее, нежели столь необходимые реформы, – наконец-то, наконец-то дофина заговорила с фавориткой. Мария Антуанетта капитулировала, мадам Дюбарри победила. В Версале опять все прекрасно. Версаль наверху блаженства. Король принимает дофину с распростертыми объятиями, нежно обнимает ее, словно вновь обретенного ребенка. Глубоко тронутый Мерси благодарит ее; распираемая от счастья, по залам дворца шествует Дюбарри; разозленные тетушки неистовствуют. Весь двор, сверху донизу, от парадных покоев до подвальных служб, возбужден, жужжит, обменивается новостью, обсуждает ее со всех сторон – Мария Антуанетта сказала графине Дюбарри: «Сегодня в Версале на приеме много людей».
Однако эти семь банальных слов таят в себе глубокий смысл. Этими словами узаконивается большое политическое преступление, этими словами куплено молчаливое согласие Франции на раздел Польши. Не только Дюбарри, но и Фридрих Великий и Екатерина этими словами настояли на своем. Унижена не только Мария Антуанетта, но и целая страна.
* * *
Мария Антуанетта побеждена, она знает это, ее юная, еще детская, необузданная гордость получила жестокий удар. Впервые она склонила голову, вторично она не склонит ее до гильотины. Инцидент неожиданно показал, что это мягкосердечное и легкомысленное создание, эта «bonne et tendre Antoinette»[52], как только дело идет о ее чести, обладает духом гордым и непоколебимым. С ожесточением говорит она Мерси: «Один раз я обратилась к ней, но решила этим и ограничиться. Эта женщина меня больше не услышит». И своей матери она дает ясно понять, что после единственной уступки дальнейших жертв не будет: «Вы должны верить мне, я всегда буду отказываться от своих предубеждений, но лишь до тех пор, пока от меня не потребуют чего-либо оскорбительного для меня или затрагивающего мою честь». Не имеет значения, что мать, возмущенная этим первым самостоятельным порывом своей малышки, энергически отчитывает ее: «Ты смешишь меня, думая, что я или мой посланник можем когда-либо дать тебе совет, который вел бы к оскорблению твоей чести или какому бы то ни было покушению на твою добропорядочность. Мне становится страшно за тебя, когда я вижу такое волнение из-за нескольких слов. И когда ты говоришь, что больше не хочешь делать подобное, я дрожу за тебя». Не имеет значения, что Мария Терезия вновь и вновь пишет ей: «Ты обязана обращаться с нею как с любой другой придворной дамой. Ты обязана вести себя так ради меня и короля». Напрасно Мерси и другие беспрестанно настойчиво уговаривают ее, что к Дюбарри следует относиться дружески и тем самым снискать благосклонность короля, все разбивается о пробудившееся чувство собственного достоинства. Губы Марии Антуанетты после того единственного случая, когда она с отвращением произнесла против своей воли ожидаемые слова, теперь упорно сжаты, никакие угрозы, никакие соблазны не заставят их вновь сказать что-либо этой особе. Семь слов сказала она Дюбарри, и никогда ненавистная женщина не услышит от нее восьмого.
* * *
Лишь однажды, 1 января 1772 года, мадам Дюбарри одержала победу над австрийской эрцгерцогиней, над дофиной Франции, и, по всей вероятности, имея таких могущественных союзников, как король Людовик XV и императрица Мария Терезия, придворная кокотка могла бы и далее вести войну против будущей королевы. Однако бывают битвы, после которых победитель, почувствовав силу своего противника, ужасается победе над ним и приходит к мысли: а не лучше ли, не умнее ли убраться с поля боя и заключить мир? Триумф мадам Дюбарри не доставил ей большой радости. Внутренне она, это добродушное, незначительное существо, и с самого начала не испытывала абсолютно никаких враждебных чувств к Марии Антуанетте. Опасно уязвленная в своей гордости, она ничего иного и не желала, как этого маленького удовлетворения. И вот она удовлетворена, более того, сконфужена своей публичной победой, испугана ею. Ибо она достаточно умна, чтобы понимать, что вся ее власть, все могущество держится на нетвердых опорах – на подагрических ногах быстро дряхлеющего человека. Случись апоплексия шестидесятидвухлетнего старика, и уже завтра эта petite rousse может стать королевой Франции. Летр де каше[53] – роковое сопроводительное письмо в Бастилию – подписывается очень быстро. Поэтому, едва победив Марию Антуанетту, мадам Дюбарри тотчас же предпринимает добросовестные и откровенные попытки примириться с нею. Она смягчает свое ожесточение, она смиряет свою гордость; она появляется на всех вечерах дофины и, хотя не удостаивается более ни одним словом, не показывает ни в коей мере своей досады, а, наоборот, непрерывно дает понять дофине через посредство своих доброжелателей и случайных вестников, насколько сердечно она к ней расположена. Сотней способов стремится она оказывать своей единственной противнице непрошеную протекцию у венценосного любовника; наконец, прибегает даже к дерзкому средству: так как Марию Антуанетту не привлечь любезностями, она пытается купить ее благосклонность. При дворе знают – и знают, к сожалению, хорошо, как это покажет пресловутая афера с колье, – что Мария Антуанетта безумно любит драгоценности. И Дюбарри решает – замечательно, что десять лет спустя кардинал Роган последует точно такому же ходу мыслей, – попробовать приручить дофину подарками. Известный ювелир, тот самый Бомер, замешанный впоследствии в афере с колье, обладает бриллиантовыми подвесками, которые оценены в семьсот тысяч ливров. Возможно, Мария Антуанетта тайно или открыто уже восхищалась этими украшениями, может быть, даже высказала желание иметь их, и Дюбарри об этом узнала. И вот однажды по ее поручению одна из придворных дам шепчет дофине, что если та действительно хочет иметь бриллиантовые подвески, то мадам Дюбарри будет счастлива оказать ей услугу, уговорить короля подарить их ей. Но Мария Антуанетта ни единым словом не отвечает на такое наглое предложение, презрительно отворачивается и холодно смотрит мимо своей противницы; нет, даже за все драгоценности мира эта мадам Дюбарри, однажды унизившая ее, не услышит из ее уст восьмого слова. Новая гордость, новая уверенность в себе появилась у этой семнадцатилетней женщины: ей не нужны более драгоценности чьей-то милостью, ибо на своей голове она уже чувствует корону.
Завоевание Парижа
Темными вечерами с холмов, окружающих Версаль, хорошо видно сияние, излучаемое Парижем, – так близко лежит город от дворца. Кабриолет на пружинных рессорах покрывает это расстояние за два часа, пешеход – менее чем за шесть часов. Казалось бы естественным, что новая престолонаследница на второй, на третий или четвертый день после бракосочетания посетит столицу своего будущего королевства. Однако подлинный смысл или, вернее, бессмыслица церемониала как раз в том и заключается, чтобы подавлять или искажать естественное во всех его проявлениях. Между Версалем и Парижем для Марии Антуанетты воздвигнута невидимая преграда – этикет. Впервые посетить столицу наследник престола со своей супругой может лишь особенно торжественно, по специальному извещению, заранее испросив разрешение короля. Но как раз этот торжественный въезд – joyeuse entrée[54] – Марии Антуанетты милые родственники и пытаются как можно больше оттянуть. И хотя все они смертельно ненавидят друг друга: старые тетки-ханжи, Дюбарри и пара честолюбивых братцев, граф Прованский и граф д’Артуа, – в этом они едины. Все они сообща ревностно пытаются закрыть дорогу Марии Антуанетте в Париж; они завидуют тому триумфу, который, очевидно, ожидает ее там как будущую королеву Франции. Каждую неделю, каждый месяц камарилья выискивает и находит новую помеху, новый предлог; проходит шесть, двенадцать, двадцать четыре, тридцать шесть месяцев, год, два, три, а Мария Антуанетта все еще остается за золотой решеткой Версаля. Наконец, в мае 1773 года, Мария Антуанетта теряет терпение и переходит в открытое наступление. Поскольку церемониймейстеры, выслушав ее желание, по-прежнему озабоченно покачивают пудреными париками, она обращается прямо к королю. Он не находит в ее просьбе ничего странного и, питая слабость ко всем красивым женщинам, тотчас же, к досаде придворной клики, дает свое полное согласие прелестной супруге внука. Более того, он предоставляет ей самой определить дату своего торжественного въезда в Париж.
Мария Антуанетта выбирает 8 июня. Но поскольку король дал ей безусловное разрешение, ветренице доставляет удовольствие подшутить над дворцовым регламентом за то, что три года ее не пускали в Париж. И, подобно иным обрученным, которые втайне от своих родных до благословения перед алтарем спешат насладиться прельстительным запретным плодом, Мария Антуанетта уговаривает супруга с деверем перед торжественным въездом в Париж тайно посетить его. За несколько дней до joyeuse entrée они приказывают заложить кареты и в масках, переодевшись, едут на бал в Оперу, в Париж-Мекку, в город, находящийся под запретом. Но так как на следующий день утром все они появляются в Версале к ранней мессе, никто об этом недозволенном приключении не узнает. Обходится без неприятностей, и дофина счастлива. Наконец-то она впервые отомстила ненавистному этикету.
И после того, как запретный плод, Париж, отведан тайком, официальный торжественный въезд оказывается особенно эффектным.
Вслед за королем Франции и Царь Небесный дает на него свое торжественное согласие: 8 июня – безоблачный, сияющий день, зрелище привлекает необозримые толпы зевак. Вся дорога от Версаля до Парижа превращается в единый поток людей, волнующийся, разукрашенный флажками, знаменами, цветами. У городских ворот процессию ожидает маршал Бриссак, губернатор города, в парадной карете, чтобы торжественно вручить мирным завоевателям городские ключи на серебряном подносе. Затем появляются празднично разодетые рыночные торговки и, сдабривая свои поздравления сочными прибаутками, преподносят высоким гостям первые плоды урожая, цветы, фрукты (через полтора десятка лет совсем-совсем по-другому будут они приветствовать Марию Антуанетту!). Гремят пушки Дома инвалидов, Ратуши и Бастилии. Медленно катит королевская карета вдоль дороги, по набережной Тюильри к собору Парижской Богоматери; всюду – в кафедральном соборе, в монастырях, в университете – встречают гостей речами, они проезжают под специально возведенными триумфальными арками, мимо леса флагов и флажков. Однако самым впечатляющим является выражение чувств народа к дофину и его супруге. Со всех улиц гигантского города люди стекаются десятками, сотнями тысяч, чтобы полюбоваться юной парой, и вид этой неожиданно столь восхитительной и восхищенной молодой женщины возбуждает в толпе сильное воодушевление. Люди, ликуя, аплодируют, размахивают шляпами, платками; дети, женщины протискиваются вперед, и, когда Мария Антуанетта с балкона Тюильри видит вокруг себя необозримую толпу воодушевленных людей, она почти пугается: «Мой бог, как много народу!» Но маршал Бриссак склоняет перед ней голову и с истинно французской галантностью отвечает: «Мадам, возможно, его высочеству дофину это не понравится, но вы видите перед собой двести тысяч влюбленных в вас».
Эта первая встреча с народом производит на Марию Антуанетту неизгладимое впечатление. Не склонная по своей природе к глубоким обобщениям, однако одаренная способностью быстро схватывать, она всегда все события вокруг себя воспринимает лишь на основе непосредственных личных впечатлений, на основе чувств и образных представлений. И вот сейчас, когда ее окружает огромная толпа, когда вокруг нее вздымается необозримый лес флагов, воздух сотрясается от многоголосого крика приветствий, безымянная живая масса теплой волной пенится у ее ног, лишь сейчас впервые начинает она догадываться о блеске и величии положения, уготованного ей судьбой. До сих пор в Версале ее именовали Madame la Dauphine[55], но это был всего лишь титул среди тысячи других титулов и званий, некая высокая ступень бесконечной иерархической лестницы дворянских рангов, пустое слово, холодное понятие. И только теперь впервые Мария Антуанетта чувствами постигает пламенный смысл и гордые обязательства, заключенные в словах «престолонаследница Франции». Потрясенная, пишет она своей матери: «Последний вторник был для меня праздником, который я никогда не забуду: наш въезд в Париж. Нам оказали самые высокие почести, но не это тронуло меня глубже всего, а нежность и волнение бедного люда, который, несмотря на то что он обременен налогами, был счастлив видеть нас. В саду Тюильри собралась такая густая толпа, что три четверти часа мы не могли двинуться ни вперед, ни назад и нам пришлось потом еще целых полчаса задержаться на открытой террасе. Я не в состоянии описать Вам, дорогая мама, те знаки любви и радости, которые нам при этом выказывались. И прежде чем отправиться в обратный путь, мы приветствовали народ, помахав ему на прощание рукой, что доставило ему большую радость. Как счастливо сложилось, что в нашем положении так легко завоевать дружбу! И все же нет ничего дороже ее, я очень хорошо почувствовала это и никогда не забуду».
Это едва ли не самые первые глубоко личные слова, которые мы читаем в письмах Марии Антуанетты к своей матери. Сильные впечатления оставляют в ее восприимчивой душе заметный след и радостное нравственное потрясение, вызванное ничем не заслуженной и столь бурно выраженной любовью народа, возбуждают в ней чувство благодарности, чувство великодушия. Но, быстро загорающаяся, Мария Антуанетта столь же забывчива. После нескольких подобных встреч она уже принимает ликование как должное, почести, оказываемые ей, – как безусловно полагающиеся. Радуясь им как ребенок, она принимает их не задумываясь, как и остальные дары жизни. Ей доставляет огромное удовольствие восторженный прием этой толпы, ей очень приятно позволить этому незнакомому, чужому народу любить ее; отныне она наслаждается этой любовью двадцати миллионов как своим законным правом, не подозревая, что право обязывает и что даже самая чистая любовь в конце концов устает, если не чувствует себя вознагражденной.
* * *
Уже первым своим посещением Парижа Мария Антуанетта завоевывает его. Но и Париж тоже сразу же завоевывает Марию Антуанетту. С этого дня она принадлежит Парижу. Часто, а вскоре и слишком часто, начинает она наезжать в этот город соблазнов, город неисчерпаемых удовольствий. Иной раз днем – с соблюдением правил этикета, в сопровождении всех своих придворных дам, порою ночью – с небольшой свитой особо приближенных лиц, чтобы посетить театр, бал и приватно поразвлечься – невинно, а то и несколько рискованно. Лишь теперь, освободившись от однообразного распорядка придворного календаря, этот полуребенок, эта девочка-дикарка обнаруживает, как скучен, как нестерпимо скучен этот стооконный мраморный ящик Версаля со своими придворными реверансами и интригами, со своими чопорными празднествами, как надуты эти язвительные и брюзгливые тетушки, с которыми она по утрам должна слушать мессу, а по вечерам томиться за вязанием чулок. Призрачной, мумиеподобной, надуманной, искусственной по сравнению с непринужденной, волнующей жизнерадостностью Парижа представляется ей вся куртуазность, без внутреннего удовлетворения, без свободы, с напыщенными манерами держать себя, этот вечный менуэт с вечно повторяющимися фигурами, с одними и теми же раз и навсегда установленными движениями и всегда с одним и тем же страхом допустить малейшую оплошность, ничтожнейшую ошибку. Поездка в Париж для Марии Антуанетты – бегство из теплицы, из оранжереи на вольный воздух. Здесь, в сумятице гигантского города, можно исчезнуть, скрыться, ускользнуть от жесткого распорядка дня, определяемого неумолимой стрелкой часов, отдаться игре случая. Здесь можно наслаждаться жизнью, жить только для себя, тогда как там, в Версале, живут лишь для зеркал. И карета с нарядными дамами регулярно – дважды, а то и трижды в неделю – катит в Париж, чтобы вернуться только с рассветом.
Что же видит Мария Антуанетта в Париже? В первые дни из любопытства она осматривает всевозможные достопримечательности, музеи, большие магазины, посещает народные гулянья, а однажды даже выставку картин. Но этим на последующие двадцать лет ее потребность в образовании в пределах Парижа полностью исчерпана. Теперь она отдается исключительно посещению увеселительных заведений, регулярно бывает в Опере, смотрит спектакли в «Комеди Франсез»[56], в Театре итальянской комедии, посещает балы, маскарады, игорные дома, Paris at night, Paris – city of pleasure[57] нынешних богатых американцев. Более всего привлекают ее костюмированные вечера. Свобода маскарада – единственная из свобод, разрешенная ей, пленнице своего положения. Женщина в полумаске может позволить себе шутку, совершенно недопустимую для Madame la Dauphine. Можно с незнакомым кавалером – скучный, неспособный супруг спит дома – провести несколько минут в живой, непринужденной, несколько рискованной беседе, можно свободно говорить с восхитительным молодым шведским графом Акселем Ферзеном, можно, укрывшись под маской, болтать с ним о всякой всячине до тех пор, пока придворные дамы не уведут тебя обратно в ложу, можно танцевать до полного расслабления от усталости горячего гибкого тела. Здесь она имеет право беззаботно смеяться, ах, как великолепно можно провести время в Париже! Но ни разу за все эти годы не переступает она порога дома парижского горожанина, ни разу не присутствует на заседании парламента или академии, не посещает госпиталь или рынок, ни разу не пытается узнать что-либо о повседневной жизни своего народа. В этих увеселительных парижских поездках Мария Антуанетта все время остается в узком кругу светских удовольствий, думая, что уже достаточно сделала для bon peuple – для своего славного, доброго народа, если усталой улыбкой ответила на его восторженные приветствия: ведь восхищенная толпа стоит шпалерами, и, ликуя, приветствуют ее аристократы и богатые горожане, когда она вечером появляется в театре. Всегда и всюду молодая женщина чувствует одобрение своей праздности, своим шумным развлечениям – вечером, когда она едет в город, а усталый люд возвращается с работы домой, и ранним утром, в шесть часов, когда народ идет на работу. Что дурного в этих шалостях, в этой легкомысленной жизни только для себя? В своей порывистой, безрассудной юности Мария Антуанетта считает весь мир счастливым и беззаботным, так как сама она счастлива и беззаботна. И, в душевной простоте полагая, что, отказываясь от удовольствий двора ради театров, балов, маскарадов Парижа, она приближается к народу, на самом-то деле она двадцать лет в своей дребезжащей стеклами роскошной карете на пружинных рессорах проезжает мимо настоящего народа, мимо настоящего Парижа.
* * *
Глубокие впечатления от торжественной встречи, устроенной ей Парижем, как-то меняют Марию Антуанетту. Восхищение посторонних всегда усиливает чувство собственного достоинства: молодая женщина, которую тысячи людей признают красавицей, благодаря этому признанию ее красоты становится еще красивее; нечто подобное происходит и с этой оробевшей девочкой, до сих пор чувствовавшей себя в Версале чужой и ненужной. Новое, молодое чувство – неожиданная для нее самой гордость возникает в ней и полностью уничтожает неуверенность и робость. Исчезает пятнадцатилетняя девочка, опекаемая посланником и духовником, тетушками и другими родственниками, боязливо крадущаяся по комнатам дворца, приседающая в реверансе перед каждой придворной дамой. Внезапно Мария Антуанетта приобретает величественную осанку, которую от нее так долго и безуспешно требовали. Подтянутая, стройная, она, как бы паря, грациозно шествует мимо придворных дам – своих подданных. Все изменяется в ней. Разом проявляется женщина, индивидуальность, даже почерк становится другим: до сих пор неуклюжий, с огромными детскими буквами, он уплотняется в изящных записочках, становится женственно нервным. Правда, нетерпение, беспокойство, отсутствие строгой логической последовательности, опрометчивость – все эти черты ее характера всегда будут обнаруживаться в ее почерке, однако сейчас в нем уже появляется известная независимость. Теперь этой пылкой, созревшей девушке, упоенной полнокровным чувством юности, жить бы личной жизнью, любить бы кого-нибудь. Но политика приковала ее к этому увальню-супругу, до сих пор еще не ставшему мужчиной, и, так как Мария Антуанетта пока не разгадала своего сердца, не знает, кого ей любить, она, восемнадцатилетняя, влюбляется в себя. Сладкий яд лести будоражит ей кровь. Чем больше ею восторгаются, тем больше ей хочется этого, и, прежде чем стать повелительницей по закону, она желает как женщина – своим обаянием, своей привлекательностью – подчинить себе двор, столицу, государство. Почувствовав силу, она хочет проверить себя.
Для первой пробы сил молодой женщины, для проверки того, может ли она диктовать свою волю другим, двору, столице, к счастью, неожиданно появляется отличный повод. Маэстро Глюк закончил свою «Ифигению» и хотел бы, чтобы ее исполнили в Париже. Для очень музыкального венского двора его успех является чем-то вроде дела чести, и Мария Терезия, Иосиф II, Кауниц ожидают от дофины, что она проложит композитору путь к успеху. Выдающимися способностями в распознавании подлинной ценности произведения искусства, безразлично, будь то музыка, живопись или литература, Мария Антуанетта не обладает. У нее есть известный природный вкус, но отнюдь не самостоятельно оценивающий, а пассивно любопытствующий, следующий моде, принимающий с быстро остывающим пылом все признаваемое обществом. На более глубокое понимание у Марии Антуанетты не хватает непременных черт истинно критически мыслящего характера: серьезности, привычки к постоянному труду, рассудительности, чувства уважения к людям. Ведь она ни одной книги не прочла до конца, всегда уклонялась от сколь-нибудь серьезных бесед. Искусство для нее лишь украшение жизни, забава среди других забав; эстетическое наслаждение никогда не вызывает в ней сильных движений души, следовательно, не является подлинным. Музыкой, как, впрочем, и всем другим, она занималась спустя рукава, уроки игры на фортепиано у маэстро Глюка в Вене не многому ее научили. На клавесине она играет по-дилетантски, так же как выступает на сцене любительского театра, как поет в интимном кругу. Предугадать, понять новое и грандиозное в «Ифигении» она, даже не заметившая в Париже своего соотечественника Моцарта, само собой разумеется, не в состоянии. Но Мария Терезия настойчиво рекомендует ей Глюка, и она действительно доброжелательно принимает его, испытывает расположение к этому внешне свирепому, жизнерадостному, веселому человеку. И так как в Париже французская и итальянская оперы плетут коварные интриги, противясь распространению музыки «варваров», Мария Антуанетта желает воспользоваться этим поводом, чтобы показать свою силу. Она настаивает на том, чтобы оперу Глюка, которую господа придворные музыканты признали «неисполнимой», приняли к постановке и немедленно приступили к ее репетиции. Впрочем, протежировать несговорчивому человеку с холерическим темпераментом, одержимому фанатическим упрямством великого художника, не так-то легко. На репетициях, разгневанный, он задает такие головомойки избалованным певицам, что те в слезах бегут жаловаться своим сановным любовникам. Беспощадно терзает он музыкантов, не привыкших к такой тщательности исполнения, распоряжается в театре, словно тиран; сквозь закрытые двери слышны могучие раскаты его голоса, десятки раз грозится он все бросить, вернуться в Вену, и лишь страх перед дофиной, его высокой покровительницей, предотвращает скандал. Наконец, 13 апреля 1774 года, назначается премьера, двор уже заказывает билеты, выездные кареты. Но внезапно заболевает один из певцов. Ему быстро находят замену. Нет, распоряжается Глюк, премьера будет перенесена. В ужасе заклинают его отменить свое решение, ведь двор извещен о премьере. Композитору, к тому же из мещан, да в придачу еще иностранцу, из-за певца, который исполняет свою партию несколько хуже, чем хотелось бы, не следует отменять высокое предписание двора, аннулировать указания всепресветлейших владык. А ему все эти предписания безразличны, кричит твердолобый упрямец, он скорее бросит всю партитуру в огонь, нежели допустит к представлению недостаточно подготовленную оперу. Взбешенный, бросается он к своей покровительнице – Марии Антуанетте. Ее забавляет этот экспансивный человек, она тотчас же становится на сторону bon Gluck[58]. К досаде принцев, выезд отменяется, премьера переносится на 19 апреля. Кроме того, Мария Антуанетта дает указания принять меры к тому, чтобы высокие господа не выражали свистом своего недовольства строптивому музыканту: энергичнейшими способами она открыто подчеркивает, что успех ее земляка – это ее успех.
И действительно, премьера «Ифигении» оказывается триумфом, но скорее это триумф Марии Антуанетты, нежели Глюка. Газеты и публика настроены холодно; они находят, что «опера имеет несколько удачных мест наряду с весьма посредственными», – как всегда, в искусстве грандиозная смелость редко понимается заурядной аудиторией с первого раза. Но Мария Антуанетта вытащила на премьеру весь двор; даже ее супруг, который не пожертвовал бы своей охотой и ради музыки сфер[59], для которого один убитый олень значит куда больше, чем все девять муз, вместе взятые, на этот раз должен быть возле нее. Поскольку нужное настроение устанавливается не сразу, Мария Антуанетта в своей ложе после каждой арии демонстративно аплодирует; из вежливости девери, золовки и весь двор вынуждены прилежно вторить ей, и таким образом вопреки всем интригам этот вечер становится событием в истории музыки. Глюк завоевал Париж, Мария Антуанетта впервые открыто навязала свою волю столице и двору. Это первая победа ее индивидуальности, первая демонстрация силы молодой женщины перед Францией. Еще несколько недель, и титул королевы упрочит власть, которую она уже захватила.
Le roi est mort, vive le roi!
27 апреля 1774 года на охоте Людовик XV внезапно почувствовал усталость. С сильной головной болью возвращается он в свой любимый дворец Трианон. К ночи врачи констатируют лихорадку и вызывают к больному мадам Дюбарри. На следующее утро они, уже обеспокоенные, дают распоряжение перевезти его в Версаль. Даже безжалостная смерть должна подчиниться еще более безжалостным законам этикета: скончаться или хотя бы сколь-нибудь серьезно болеть французскому монарху дозволено лишь на его парадном ложе: «C’est à Versailles, sire, qu’il faut être malade»[61]. Там одр больного тотчас же обступают три аптекаря и одиннадцать врачей, в том числе пять хирургов, всего четырнадцать персон, каждый из которых шесть раз в час щупает пульс государя. И тем не менее лишь случай помогает установить диагноз: когда вечером камердинер высоко поднимает свечу, один из находящихся возле постели обнаруживает на лице его величества подозрительные красные пятна, и мгновенно всему двору, всем во дворце – от подвалов до чердаков – становится ясно: оспа! Ужас охватывает огромное здание, страх заразиться – и в самом деле вскоре заболевает несколько человек – и, вероятно, еще больший страх царедворцев потерять со смертью короля теплое местечко. Дочери проявляют мужество истинно святых, все дни находятся они возле короля, по ночам мадам Дюбарри самоотверженно остается у его ложа. Престолонаследникам же, дофину и дофине, по династическим законам во избежание возможного заражения запрещено переступать порог королевских покоев; вот уже три дня, как их жизнь приобрела для государства особую ценность. Могучим ударом двор расколот надвое: у постели больного короля дежурят и дрожат люди старого поколения, сила и власть вчерашнего дня, тетушки и Дюбарри. Они прекрасно понимают, что с последним вздохом этих горячечных губ кончится все их величие, все их значение. В других покоях дворца собрались люди нового, грядущего поколения: будущий король Людовик XVI, будущая королева Мария Антуанетта и граф Прованский, который тоже чувствует себя претендентом на престол, поскольку его брату Людовику никак не решиться произвести на свет сына. Между этими двумя группами стоит судьба. Никто не смеет войти ни в покои больного, ни в покои, где восходит солнце новой власти. А между этими покоями, в Ой-де-Бёф[62], в большом вестибюле, ждет трусливая, колеблющаяся масса царедворцев, не знающая, на какую карту поставить, на кого рассчитывать – на умирающего короля или на будущего, что предпочесть – заход солнца или его восход.
* * *
Между тем недуг неумолимо разрушает обессиленный, истощенный, изношенный организм короля. Страшно опухшее, покрытое гнойными язвами живое тело разлагается, а умирающий ни на мгновение не теряет сознания. Дочери и мадам Дюбарри должны обладать большим мужеством, чтобы выдержать тошнотворный смрад, заполняющий королевские покои, несмотря на открытые окна. Вскоре медицина отступает, сражение за тело проиграно, начинается другая битва – битва за грешную душу. Но – какой ужас! – священники отказываются подойти к больному, не хотят причастить, исповедать его. Пусть сначала король, так долго живший в безбожье, только лишь ради своих страстей, пусть он сначала действием выкажет свое раскаяние. Прежде всего должен быть устранен камень преткновения, удалена эта блудница; в безутешном отчаянии дежурит она у ложа, которое без благословения Святой Церкви так долго делила с умирающим. С тяжелым сердцем решается король сейчас, в эти последние, ужасные часы своего одиночества, прогнать от себя единственного человека, к которому внутренне так привязан. Но все яростнее душит его ужас перед муками ада. Глухим от сдерживаемых рыданий голосом прощается он с мадам Дюбарри, и тотчас же ее незаметно переправляют в Рюэй[63], маленький замок под Версалем; там ей надлежит ждать: если король поправится, она вернется к нему.
Лишь теперь, после столь очевидного проявления раскаяния, можно допустить короля к исповеди и покаянию. Лишь теперь переступает порог королевской спальни духовник его величества, самый праздный человек в Версале: за последние тридцать восемь лет он ни разу не исповедовал короля. За священником затворяются двери, и толпящиеся в передней и сгорающие от любопытства придворные, к великому своему огорчению, лишаются возможности подслушать (а это было бы так интересно!) перечень грехов короля Оленьего парка[64]. Однако охотники до скандальных анекдотов с часами в руках добросовестно подсчитывают минуты беседы короля со священником, желая определить, сколько времени потребуется Людовику XV на то, чтобы раскаяться в распутстве и прочих грехах. Наконец, точно через шестнадцать минут, вновь распахиваются двери, духовник выходит из спальни. Но по некоторым признакам видно, что полного отпущения грехов Людовик XV еще не получил: от монарха, который на глазах своих детей на протяжении тридцати восьми лет, в стыде и сраме предаваясь плотскому вожделению, ни разу не облегчал исповедью своего сердца, от такого грешника церковь потребует знаков более глубокого смирения, нежели это тайное покаяние. Именно потому, что, находясь на вершине власти, он мнил себя в греховной беспечности неподсудным законам церкви, церковь требует от него предельной покорности перед Всевышним. Публично перед всеми и для всех грешный король должен выказать раскаяние в своем недостойном поведении. Лишь тогда ему будет позволено принять причастие.
Великолепное представление состоится на следующее утро: могущественный самодержец христианского мира должен принести христианское покаяние перед толпой своих подданных. Вдоль всей лестницы дворца стоят гвардейцы под ружьем, швейцарцы образуют шеренги от капеллы до покоев умирающего, барабаны глухо выбивают дробь все то время, пока высшее духовенство с дарохранительницей торжественно шествует под балдахином. У каждого – горящая свеча в руке, за архиепископом и его свитой дофин с обоими братьями, принцы и принцессы сопровождают святыню до самых дверей опочивальни. У порога они останавливаются и преклоняют колена. Лишь дочери короля и принцы, не имеющие права наследования, входят вместе с духовными лицами в покои умирающего.
В глубокой тишине слышно, как кардинал вполголоса обращается к умирающему, в открытые двери видно, как дает он умирающему причаститься. Затем мгновение, полное трепета и благоговения, – кардинал подходит к порогу спальни и, возвысив голос, говорит собравшемуся двору: «Господа, король поручил мне сказать вам, что он молит у Бога прощения за нанесенные им обиды и за тот дурной пример, который он, король, явил своему народу. Если Бог вновь дарует ему здоровье, он обещает искупить свои грехи, быть поддержкой вере и облегчать судьбу своего народа». С постели слышен легкий стон. Лишь стоящие вблизи с трудом могут понять умирающего. «Если бы у меня были силы, я хотел бы сказать это сам».
* * *
Смерть короля ужасна. Не человек умирает, а разлагается распухшая, почерневшая плоть. Но организм Людовика XV отчаянно борется, как если бы силы всех Бурбонов, силы всех его предков объединились в попытке противостоять неудержному распаду. Эти дни непереносимы для окружающих. Прислуга падает в обморок от омерзительного запаха, дочери безумно устали, врачи, потеряв всякую надежду, давно отступились, все нетерпеливее ждет двор окончания страшной трагедии. Внизу стоят сутками нераспрягаемые лошади, молодой Людовик со своей свитой должен во избежание заражения с последним вздохом короля немедленно переехать в Шуази[65]. Уже всадники оседлали коней, уже упакованы кофры, часами сидят в ожидании слуги и кучера. Все взоры прикованы к маленькой зажженной свече, стоящей у окна в комнате умирающего, в соответствующий момент – так условлено – она будет погашена. Но могучее тело старого Бурбона сопротивляется еще день. Наконец в понедельник, 10 мая, в половине четвертого пополудни, свеча гаснет. И тотчас же тихий шепот начинает перерастать в шум. Из комнаты в комнату стремительной волной несется известие, клич, нарастающий, как ветер: «Король умер, да здравствует король!»[66]
Мария Антуанетта и ее супруг ждут в маленькой комнате. Вдруг они слышат какой-то таинственный шум. Все громче, ближе, ближе, из комнаты в комнату катит вал неразборчивых слов. И вот, как порывом ветра, распахиваются двери, вбегает мадам де Ноай, становится на колени и первая приветствует королеву. За ней толпятся другие, их все больше и больше, весь двор, ибо каждый хочет как можно раньше выразить свои верноподданнические чувства, каждый желает обратить на себя внимание, показать, что он был в числе первых поздравителей. Барабаны выбивают дробь, офицеры взмахивают саблями, с сотен уст срывается: «Король умер, да здравствует король!»
Королевой Франции выходит Мария Антуанетта из комнаты, в которую вошла дофиной. И, пока в покинутом дворце со вздохом облегчения укладывают в давно приготовленный гроб лилово-черный труп неузнаваемо изменившегося Людовика XV, чтобы втихомолку его похоронить, карета с новым королем и новой королевой выезжает через золоченые ворота версальского парка. А на улицах их приветствует ликующий народ, как будто со старым королем ушли старые беды и с новыми владыками начинается новая жизнь.
* * *
В своих то слащавых, то слезливых мемуарах старая болтунья мадам Кампан рассказывает, что, как только Людовику XVI и Марии Антуанетте принесли весть о смерти Людовика XV, оба они упали на колени и, всхлипывая, воскликнули: «Боже милосердный, защити нас, храни нас, мы молоды, мы слишком молоды, чтобы править». Это весьма трогательный анекдот, но, Бог тому свидетель, годится он разве что для букваря. Жаль только, что, подобно большинству анекдотов о Марии Антуанетте, ему присущ один маленький недостаток – очень уж он неловко сочинен и лишен психологической правды. Ханжеская растроганность совершенно чужда лишенному темперамента Людовику XVI, известие о кончине деда никак не могло потрясти его своей неожиданностью. Весь двор вот уже восемь дней с минуты на минуту ждал этой смерти с часами в руках. Еще менее можно было ожидать такой реакции от Марии Антуанетты, которая и этот дар судьбы приняла совершенно беззаботно, как нечто само собой разумеющееся. И не потому, что она властолюбива или ей не терпится взять бразды правления в свои руки. Никогда Мария Антуанетта не мечтала уподобиться Елизавете, Екатерине, Марии Терезии: для этого ей не хватает душевных сил, слишком узок ее кругозор, слишком вяла ее натура. Ее желания, как у всякого человека с ординарным характером, не выходят за пределы своего «я». Эта молодая женщина не имеет никаких политических идей, которые ей хотелось бы навязать, у нее нет ни малейшего желания кого-либо поработить или унизить; с самых молодых лет в ней развит инстинкт независимости, сильный, упрямый, подчас детский, она не желает властвовать, но не желает и находиться под чьим-либо влиянием, не желает, чтобы кто-нибудь властвовал над нею. Быть повелительницей – значит для нее только быть свободной самой. Лишь теперь, после пребывания трех с лишним лет под опекой, под неусыпным надзором, она впервые чувствует себя свободной, поскольку возле нее нет никого, кто смог бы ее в чем-либо ограничить (ведь суровая мать живет в тысяче лье от нее, а робкие протесты покорного супруга она пренебрежительно высмеивает). Поднявшись на эту решающую ступень, превратившись из престолонаследницы в королеву, она становится наконец выше всех, подвластная лишь собственному капризу, лишь собственному настроению. Отныне покончено с брюзжанием тетушек, покончено с просьбами к королю о разрешении посетить маскарад, покончено с наглыми выходками ненавистной ей противницы, мадам Дюбарри: завтра же эта creature[67] будет навсегда отправлена в ссылку. Никогда больше не сверкать ей бриллиантами на званых ужинах, никогда не толпиться в ее будуаре королям и князьям для целования руки. Гордо и не стыдясь своей гордости берет Мария Антуанетта уготованную ей корону. «Хотя по воле Бога я уже родилась в том звании, в каком нахожусь сейчас, – пишет она матери, – я все же не могу надивиться милости Провидения, которое выбрало меня для самого могущественного королевства Европы, именно меня, Вашего младшего ребенка». Кто не слышит в этой фразе интонаций радости, тот попросту не желает их слышать. И, чувствуя лишь величие своего положения, а не ответственность его, Мария Антуанетта беззаботно и беспечно всходит на трон.
И, едва вступив на престол, она тотчас же оказывается во власти охватившего ее ликования. Ничего еще они не свершили, эти юные властелины, ничего не обещали, ничего не исполнили, а весь народ уже с восторгом приветствует их. Вот-вот наступит золотой век, грезит всегда верящий в чудо народ, ведь сослана же в изгнание ненавистная метресса, ведь предан земле старый сластолюбец, равнодушный к нуждам народа король, ведь правят отныне Францией молодой, скромный, бережливый, рассудительный, набожный король и восхитительная, ласковая, юная, доброжелательная королева. Во всех витринах красуются портреты новых монархов, любовь к которым еще не испытана временем. Любой их поступок вызывает воодушевление, и даже двор, застывший было в страхе, тоже успокаивается, охваченный общим воодушевлением. Начинается пора балов, парадов и веселья, жизнерадостная пора юности и свободы. Вздохом облегчения встречают смерть старого короля, и погребальный звон со всех колоколен Франции звучит чисто и радостно, как если бы он возвещал праздник.
* * *
По-настоящему глубоко задевает и пугает смерть Людовика XV лишь одного человека в Европе – императрицу Марию Терезию. Ее мучают мрачные предчувствия. Вот уже тридцать изнурительных лет эта монархиня знает, сколь тяжела корона, а как мать она видит слабости и недостатки своего ребенка. Ей искренне хотелось бы отсрочить восшествие дочери на престол на время, пока это легкомысленное и необузданное существо немного созреет, станет более стойким к искушениям расточительства. Тяжело на сердце у старой женщины, смутное ожидание чего-то страшного гнетет ее. «Я очень всем этим взволнована, – пишет она верному посланнику, получив известие, – и еще более озабочена судьбой моей дочери. Судьба ее будет либо блистательной, либо глубоко несчастной. Король, министры находятся в крайне трудном положении, дела государства запутаны и расстроены, а она так молода! У нее никогда не было и, пожалуй, никогда не будет серьезных стремлений». И на горделивое сообщение дочери она отвечает меланхолически: «Я не поздравляю тебя с новым саном, который дорого стоит и обойдется еще дороже, если ты не решишься вести ту же спокойную и непредосудительную жизнь, которую благодаря сердечности и снисходительности этого доброго отца ты вела три года и которая вам обоим, тебе и твоему супругу, снискала расположение и любовь вашей страны. Это расположение народа чрезвычайно важно для вашего теперешнего положения; но в то же время оно обязывает вас и далее прилагать все усилия на благо государству. Вы оба еще так юны, бремя же власти велико. Это меня заботит, поистине очень заботит… Единственное, что я могу вам сейчас посоветовать, – это ничего не решать в спешке. Смотрите на все своими собственными глазами, но ничего не меняйте, пусть все развивается само по себе, иначе возникнет беспорядок, завяжутся бесконечные интриги и вы, мои дорогие дети, попадете в такой хаос, выбраться из которого вам едва ли удастся». Издали, с вершины десятилетиями накопленного опыта, мудрая правительница своим взором Кассандры видит неблагополучие Франции куда отчетливее, чем те, кто находится в самой стране. Настойчиво заклинает она молодых супругов прежде всего поддерживать дружбу с Австрией и тем самым сохранить мир на всей земле. «Нашим обеим монархиям нужен лишь мир, чтобы привести в порядок свои дела. Если мы и дальше будем сотрудничать в тесном согласии, никто не решится помешать нам, и в Европе воцарится счастье и спокойствие. Не только наши народы будут счастливы, но и все другие тоже». Но особенно предостерегает она своего ребенка от опасностей, которые таятся в легкомыслии и жажде удовольствий. «Я боюсь в тебе этого больше всего. Вообще, тебе очень нужно заняться серьезными делами. Не поддавайся соблазнам делать неумеренные траты. Очень важно, чтобы это счастливое начало, которое превзошло все наши ожидания, получило бы достойное продолжение, дало бы вам обоим счастье, чтобы вы сделали счастливым свой народ».
Тронутая озабоченностью матери, Мария Антуанетта обещает и обещает. Она признает свои слабости, клянется исправиться. Но старая женщина, пророчески предчувствуя неблагополучие, не может успокоиться. Она не верит ни счастью этой короны, ни заверениям дочери. И в то время как весь мир восхищается Марией Антуанеттой и завидует ей, императрица пишет своему посланнику, своему поверенному, пишет с тяжким вздохом матери: «Я думаю, ее лучшие годы уже позади».
Семейный портрет королевской четы
В первые недели после восшествия на престол Людовика XVI у художников, скульпторов, граверов по меди и медальеров всей Европы хлопот по горло. И во Франции с большой поспешностью убираются портреты с некоторых, совсем недавних пор уже более не «Возлюбленного»[68] короля Людовика XV и заменяются портретами здравствующих венценосных супругов, портретами, разукрашенными венками и лентами: «Le roi est mort, vive le roi!»
Знающему свое ремесло медальеру приходится не очень-то кривить душой, чтобы польстить королю, чтобы придать нечто цезаристское лицу простоватого, добродушного Людовика XVI. Действительно, если не обращать внимания на короткую, крепкую шею, голову короля никак не назовешь неблагородной: правильный покатый лоб, сильный, пожалуй даже смелый, рисунок носа, полные чувственные губы, мясистый, но пропорциональной формы подбородок образуют внушительный, весьма приятный профиль. Во вмешательстве ретушера, вероятно, более всего нуждаются глаза: очень близорукий, король без лорнета и в трех шагах не узнает человека. Штихель гравера должен хорошенько поработать, чтобы придать некоторую значительность этим выпуклым водянистым глазам с тяжелыми веками. Не лучше обстоят дела у Людовика Неуклюжего и с осанкой. Трудно приходится придворным художникам, пытающимся изобразить короля в торжественном облачении стройным и представительным. Преждевременно ожиревший, малоподвижный и вследствие своей близорукости до смешного неловкий, Людовик XVI, несмотря на высокий рост – почти шесть футов, всегда на всех официальных приемах имеет несчастный вид (la plus mauvaise tournure qu’on pût voir[69]). По блестящему паркету Версаля он идет тяжело, раскачиваясь из стороны в сторону, «словно крестьянин за плугом». Он не умеет ни танцевать, ни играть в мяч, а когда спешит, спотыкается о свою шпагу. Бедняга, он понимает свою физическую неполноценность, и это делает его застенчивым; застенчивость же еще более увеличивает его неуклюжесть. И каждому впервые увидевшему короля Франции кажется, что перед ним жалкий увалень, а не могучий властелин.
Но Людовик XVI отнюдь не глупый и не ограниченный человек; подобно тому как близорукость делает его поведение неуверенным, так и робость, застенчивость, в конечном счете определяемые, вероятно, половой неполноценностью, сковывают его духовно. Поддерживать с кем-нибудь разговор этому болезненно робкому государю стоит каждый раз огромного душевного напряжения. Осознавая этот свой недостаток, зная, как медленно, как тяжело он думает, Людовик XVI испытывает невыразимый страх перед остроумными, развязными людьми, которые за словом в карман не лезут. Но стоит лишь дать ему время, чтобы упорядочить свои мысли, стоит лишь не настаивать на быстрых ответах, на скором решении, и он удивит даже самого скептического собеседника, такого, например, как Иосиф II или Петион, своим, правда не сверкающим, не блестящим, но основательным и прямолинейным здравым смыслом. Как только ему удается счастливо преодолеть свою нервную робость, он ведет себя совершенно нормально. Вообще, чтение и письмо он предпочитает разговору, ведь книги не торопят, не настаивают на быстрых решениях; Людовик XVI, этому трудно поверить, читает много и охотно, у него хорошие познания в истории и географии, он непрерывно совершенствует свой английский, свою латынь, здесь ему помогает блестящая память. В документах и расходных книгах Людовика XVI образцовый порядок; каждый вечер своим четким, круглым, почти каллиграфическим почерком записывает он в дневник скудное содержание своей жизни («застрелено шесть оленей», «принял слабительное»). И несмотря на то что по наивной недальновидности автора в дневнике нет ни слова о событиях всемирно-исторического значения, этот документ производит потрясающее впечатление: так полно он характеризует посредственный, не умеющий самостоятельно мыслить интеллект, который мог бы принадлежать, например, ординарному таможенному ревизору или канцелярскому чиновнику, интеллект, способный лишь к чисто механической, подчиненной деятельности в тени эпохальных событий, к чему угодно, но только не к деятельности государя.
Что-то роковое в натуре Людовика XVI все же есть: кажется, будто не горячая кровь течет в его жилах, а тяжелый свинец медленно движется в них, с трудом превозмогая упрямое противодействие природы. Этот человек, искренне старающийся быть во всем добросовестным, вечно должен преодолевать в себе сопротивление материи, какую-то сонливость, чтобы сделать что-либо, подумать о чем-нибудь, хотя бы только почувствовать что-то. Его нервы, словно старые резиновые тесемки, не могут ни натягиваться, ни вибрировать, они не реагируют на электрические импульсы чувств. Эта прирожденная пониженная нервная чувствительность Людовика XVI является причиной его эмоциональной невозбудимости. Любовь (как в духовном, так и в физическом смысле), радость, удовольствия, страх, боль, тоска – ни одно из этих чувств не может проникать сквозь слоновью кожу его хладнокровия, даже непосредственная угроза жизни не в силах вывести его из летаргии. Его пульс не убыстряется при штурме Тюильри, накануне казни он с аппетитом поест и будет хорошо спать: сон и аппетит – две опоры, на которых покоится его прекрасное самочувствие. Никогда этот человек не побледнеет, даже под пистолетом, наведенным на него, никогда равнодушные глаза его не сверкнут в гневе, ничто не испугает его, но ничто и не вдохновит. Лишь самая грубая физическая нагрузка, слесарные работы, охота способны заинтересовать его, привести в движение. Напротив, все нежное, чувствительное, грациозное – искусство, музыка, танцы – просто не входит в мир его ощущений; ни одна муза, никакие божества, даже Эрос, не могут расшевелить его вялые чувства. В двадцать лет Людовик XVI не вожделел ни к одной женщине, кроме той, которая была определена ему в жены дедом; он счастлив, он доволен ею, как доволен всем в своей прямо-таки вызывающей невзыскательности. И действительно, есть какой-то сатанинский умысел судьбы в том, чтобы от такой тупой, закостенелой натуры потребовать решения, имеющего определяющий смысл для всего столетия, чтобы человека, склонного к созерцательной жизни, поставить перед лицом ужасной мировой катастрофы. Ибо как раз тогда, когда начинается действие, когда мускулы воли должны напрячься для нападения или защиты, этот физически здоровый человек самым жалким образом оказывается слабым: решиться на что-нибудь Людовику XVI каждый раз невыразимо трудно. Он может только уступать, только исполнять желания других, ибо сам ничего иного не желает, кроме покоя, одного лишь покоя. Застигнутый врасплох, он пообещает настойчивому просителю любую должность, а затем ее же с такой же готовностью – другому. Его подчиняет себе любой, едва приблизившийся к нему. Из-за этого поразительного слабоволия Людовик XVI постоянно вновь и вновь оказывается без вины виноватым и при самых честных намерениях бесчестным, игрушкой в руках своей жены, своих министров, бобовым королем[70], безрадостным, без царственной осанки, по-настоящему счастливым, лишь когда его оставляют в покое, и отчаянно теряющимся в часы, когда действительно необходимо приказывать. Революция положила голову этого беззлобного, туповатого человека под нож гильотины. Но если бы она дала ему где-нибудь небольшой крестьянский домик с садиком и какую-нибудь незначительную должность, то осчастливила бы его куда больше, чем в свое время архиепископ Реймсский[71], увенчавший его короной – короной, которую на протяжении двадцати лет он равнодушно нес – без гордости, без радости, без достоинства.
* * *
Ни один из самых льстивых придворных бардов никогда и не отважился бы превозносить как великого властелина этого доброжелательного немужественного человека. И напротив, в своем стремлении восславить, запечатлеть образ королевы любыми средствами художественного воспроизведения – в мраморе, терракоте, фарфоре, пастелью, бесчисленными миниатюрами из слоновой кости, грациозными стихотворениями, – в этом стремлении соревновались самые различные скульпторы, художники, поэты, ибо образ ее, ее манеры полностью соответствовали идеалу ее времени. Нежная, стройная, изящная, пленительная, игривая и кокетливая, с первого часа восшествия на престол девятнадцатилетняя королева становится богиней рококо, совершенным образцом моды и господствующего вкуса. Если женщина желает, чтобы ее считали красивой и привлекательной, она стремится быть похожей на Марию Антуанетту. И при всем этом лицо Марии Антуанетты не так уж выразительно, не так впечатляюще: ровный, тонко очерченный овал с небольшими пикантными неправильностями – с габсбургской, несколько выпяченной губой, с плосковатым лбом; лицо, не одухотворенное ни следами таланта, ни какими-то индивидуальными чертами. Чем-то холодным, какой-то пустотой, словно от портрета на эмали, веет от этого еще не сформировавшегося лица, лица девушки, пока еще интересующейся только собой. Лишь последующие годы – годы зрелости – придадут этому лицу величественную полноту и решительность. Только кроткие глаза, быстро меняющиеся с настроением, способные легко наполниться слезами и тотчас же игриво засверкать, свидетельствуют о живости чувств, а близорукость придает их не очень глубокой, поверхностной голубизне зыбкость и трогательность; но никаких волевых черт, никаких линий, указывающих на сильный характер, нет в этом бледном лице; чувствуется лишь мягкая, податливая натура, подвластная настроению и совсем по-женски всегда следующая только глубинным течениям своих ощущений. Эта нежная грациозность и восхищала всех в Марии Антуанетте. Действительно, в этой женщине по-настоящему существенно женственными являются лишь ее роскошные пепельные, отливающие рыжинкой волосы, фарфоровая белизна и гладкость кожи лица, прелестная округлость форм, совершенные линии плеч, словно выточенных из слоновой кости, холеная красота рук – все цветение и благоухание полураспустившегося девичества, правда слишком мимолетное и утонченное очарование, чтобы его можно было описать.
Ибо даже те немногие художественные портреты, которые наиболее верно передают ее образ, все же утаивают от нас самое существенное в ее облике – невыразимое обаяние ее личности. Портреты, как правило, в состоянии зафиксировать лишь застывшую позу человека, подлинная же притягательная сила Марии Антуанетты – с этим согласны все – в неподражаемом очаровании ее движений. Именно в манере держаться одухотворенно раскрывает Мария Антуанетта прирожденную музыкальность своего тела; когда она, высокая и стройная, проходит вдоль рядов придворных, выстроившихся в Зеркальном зале, когда она беседует, откинувшись в креслах, кокетливая и доброжелательная, когда она, словно окрыленная, стремительно несется по лестнице, перескакивая через ступеньки, когда она естественным, грациозным жестом подает для поцелуя ослепительно-белую руку или нежно обнимает свою подругу за талию, – всегда ее манера держаться без какого-либо напряжения определяется одной лишь женской интуицией. Обычно очень сдержанный, англичанин Гораций Уолпол пишет в совершенном упоении: «С гордо поднятой головой она являет собой олицетворение красоты, в движении же это воплощенная грация». И действительно, подобно амазонке, она прекрасно играет в мяч, в совершенстве владеет искусством верховой езды; где бы ни появилась стройная, гибкая Мария Антуанетта, красивейшие женщины двора пасуют перед ней, они не в состоянии соревноваться с королевой не только в прирожденном изяществе движений и поведения, но и в чувственной привлекательности. Восхищенный Уолпол энергически отклоняет упреки в ее адрес относительно того, что она будто бы в танце не всегда следует ритму. «Это музыка фальшивит», – остроумно возражает он. Именно поэтому – ведь каждая женщина отлично знает секрет своего обаяния – Мария Антуанетта бессознательно любит движение. Беспокойство – присущий ей элемент, и, напротив, быть статичной, сидеть без дела, слушать, читать, размышлять и, в известном смысле, даже спать – все это невыносимое испытание для ее терпения. Постоянно двигаться, что-то начинать, всегда новое, и не доводить до конца, всегда быть занятой и при этом не утомлять себя серьезно, но постоянно чувствовать, что время не стоит на месте, что нужно спешить за ним вслед, обогнать его, опередить! Не сидеть долго за едой, лишь на скорую руку полакомиться кусочком торта или печеньем, не спать долго, не раздумывать. Быстрее, быстрее в переменчивую праздность! И вот все эти двадцать лет со дня восшествия на престол становятся для нее бесконечным кружением вокруг самой себя, кружением, не имеющим ни внутренней, ни внешней цели, пустой тратой времени – по существу, холостым ходом с политической и человеческой точек зрения.
Именно эта неосновательность, эта неспособность дисциплинировать, сдержать самое себя, непрерывное расточительство своих духовных сил, значительных, но неверно используемых, – именно это так глубоко огорчает в Марии Антуанетте ее мать. Глубокий психолог, императрица прекрасно понимает, что одаренная природой, одухотворенная девушка способна на большее, на неизмеримо большее. Следует лишь Марии Антуанетте захотеть стать той, кем она в сущности является, и она будет обладать королевской властью; но таков рок – по инертности, по лености натуры, из стремления к комфорту она постоянно выбирает себе уровень жизни ниже своих собственных возможностей. Как истинная австрийка, она, несомненно, обладает многими талантами, но, к сожалению, у нее нет ни малейшей воли, чтобы серьезно использовать эти свои дарования или хотя бы развить их. Легкомысленно относится она к ним, легкомысленно разбрасывается. «Первое ее побуждение, – говорит о ней Иосиф II, – всегда правильно; прояви она при этом немного настойчивости, задумайся немного глубже, и все было бы прекрасно». Но как раз именно эта необходимость чуть-чуть подумать обременительна при ее переменчивом темпераменте. Ей в тягость думать хоть сколько-нибудь больше, чем это необходимо для внезапного решения, а ее своенравная, свободная натура ненавидит духовную нагрузку любого рода. Лишь развлечений хочет она, лишь легкости во всем, никаких усилий, никакой настоящей работы. При разговорах только язык Марии Антуанетты занят, ум ее бездействует. Когда к ней обращаются, она слушает рассеянно; подкупая чарующей любезностью и блистательной легкостью в беседе, она тотчас же дает мысли угаснуть, едва та возникнет. Мария Антуанетта ни о чем не думает, ничего не прочитывает до конца, ничего не удерживает в памяти, чтобы извлечь какую-то пользу из накапливаемого опыта. Поэтому она не любит книг, не желает иметь дела с документами, избегает всего сколько-нибудь серьезного, требующего настойчивости, упорства, внимания; с большим нежеланием, нетерпеливым, неразборчивым почерком разделывается она с теми письмами, отложить ответ на которые уж более невозможно; даже в письмах к матери часто отчетливо прослеживается это желание иметь все готовым. Только не осложнять себе жизнь, подальше гнать от себя все, что навевает меланхолию, делает голову тяжелой и тупой! Того, кто лучше других приспосабливается к этой лености ее ума, она считает умным человеком, того же, кто требует от нее напряжения ума, – докучливым педантом. Как от огня бежит она от всех советчиков с житейским опытом в свой кружок кавалеров и дам, близких ей по образу мыслей. Только наслаждаться, не дать утомить себя размышлениями, расчетами, мелочными вычислениями – так думает она, так думают все из ее окружения. Жить лишь чувствами и ни о чем не раздумывать – мораль целого поколения, мораль всего Dix-huitième – восемнадцатого века, которому судьба символически определила ее королевой, чтобы она жила с ним и с ним умерла.
* * *
Трудно представить себе двух других молодых людей, которые по характеру так сильно отличались бы друг от друга, как эти двое. Нервами, пульсом крови, малейшими проявлениями темперамента, всеми своими свойствами, всеми особенностями Мария Антуанетта и Людовик XVI представляют собой хрестоматийный образец антитезы. Он тяжел – она легка, он неуклюж – она подвижна и гибка, он неразговорчив – она общительна, он флегматичен – она нервозна. И далее в духовном плане: он нерешителен – она слишком скора на решение, он долго размышляет – она быстра и категорична в суждениях, он ортодоксально верующий – она радостно жизнелюбива, он скромен и смирен – она кокетлива и самоуверенна, он педантичен – она несобранна, он бережлив – она мотовка, он сверхсерьезен – она безмерно легкомысленна, он тяжелый поток с медленным течением – она пена и пляска волн. Он лучше всего чувствует себя наедине с самим собой, она – в шумном обществе; он с тупым чувственным удовольствием любит хорошо, не торопясь поесть и выпить крепкого вина – она никогда не пьет вина, ест мало, между делом. Его стихия – сон, ее – танец; его мир – день, ее – ночь; и стрелки часов их жизни постоянно следуют друг за другом с большим сдвигом, словно солнце и луна на небосводе. В одиннадцать ночи, когда Людовик ложится спать, Мария Антуанетта только начинает по-настоящему жить, нынче – за ломберным столом, завтра – на балу, каждый раз в новом месте; он давным-давно верхом гоняется по охотничьим угодьям, она лишь встает с постели. Ни в чем, ни в одной точке не соприкасаются их привычки, влечения, их времяпрепровождение. Собственно, Мария Антуанетта и Людовик XVI бо́льшую часть своей жизни проводят vie à part[72], и (к большому огорчению Марии Терезии) почти всегда у них – lit à part[73].
Итак, следовательно, неудачный брак, брак, приведший к непрерывным ссорам, брак не переносящих друг друга людей, наводящих друг на друга тоску своим присутствием? Отнюдь нет! Наоборот, вполне удачный брак, а если бы не первоначальная временная мужская несостоятельность супруга, приведшая к известным болезненным результатам, даже совершенно счастливый брак. Ибо для того, чтобы во взаимоотношениях возникла напряженность, с обеих сторон необходимы определенные усилия, нужно волю противопоставить воле, нужна твердость против твердости. Эти же двое, и Мария Антуанетта, и Людовик XVI, уклоняются от любых трений, уходят от любой напряженности в отношениях, он – из-за физической вялости, она – из-за духовной. «Мои вкусы отличны от вкусов короля, – легкомысленно проговаривается Мария Антуанетта в одном письме, – его ничего не интересует, кроме охоты и слесарных работ… Согласитесь, что в кузнице я выглядела бы не очень грациозно, на Вулкана я не похожа, а возьми я на себя роль Венеры, то моему супругу, вероятно, это понравилось бы еще меньше, чем иные мои наклонности». Людовику XVI совсем не по вкусу порывистый, шумный характер ее удовольствий и развлечений, однако этот апатичный человек не имеет ни воли, ни сил энергично вмешиваться. Добродушно усмехается он по поводу ее необузданности и по существу горд тем, что имеет такую удивительную, такую обаятельную жену. В той степени, в какой его вялые чувства вообще способны проявить какие-то движения, этот славный малый неуклюже и основательно, в полном соответствии со своим характером, предан прелестной своей жене, превосходящей его по живости ума. Чувствуя свою неполноценность, он старается стушеваться, не затенять ее. Она, напротив, посмеивается над своим супругом-увальнем, но беззлобно, снисходительно, ибо и она по-своему расположена к нему, как, например, к большому лохматому сенбернару, которого можно почесывать, щекотать и гладить, потому что он никогда не огрызнется, не укусит, останется ласковым и послушным малейшему знаку хозяйки. Подолгу сердиться на своего толстокожего супруга она не может, хотя бы из одного чувства благодарности. Ведь он позволяет ей вести себя, как ей вздумается, следовать своим капризам, тактично отходит на задний план, когда чувствует себя лишним, никогда без приглашения не переступает порога ее комнаты – идеальный супруг, который, несмотря на свою бережливость, всегда оплачивает ее долги и разрешает ей все, а в последние годы их супружеской жизни – даже иметь любовника. Чем дольше Мария Антуанетта живет с Людовиком XVI, тем больше она проникается уважением к этому характеру – в высшей степени достойному, несмотря на отдельные слабости. Из брака, построенного на политических расчетах, на дипломатических соображениях, постепенно возникают настоящие добросердечные отношения, во всяком случае более близкие и душевные, чем в большинстве браков царствующих особ того времени.
Лишь великое и святое слово «любовь» лучше здесь не произносить. Для настоящей любви этому немужественному Людовику недостает энергии сердца; с другой стороны, в симпатии Марии Антуанетты к нему слишком много жалости, слишком много снисходительности, слишком много уступок, чтобы эту индифферентную смесь можно было назвать любовью. Тонко чувствующая и нежная натура ради долга и из соображений государственной необходимости могла и должна была физически отдаться своему супругу. Но было бы просто-напросто нелепицей предположить, что медлительный, вялый, инертный человек, этот Фальстаф[74], может вызвать в такой живой женщине прилив эротической напряженности или удовлетворить эту напряженность. «Любви у нее к нему нет абсолютно», – сообщает в Вену из Парижа Иосиф II коротко и ясно, в своей спокойной и деловитой манере, а когда Мария Антуанетта пишет своей матери о том, что из всех трех братьев ей больше всех, «однако же», нравится тот, который определен ей Богом в мужья, то это «однако же», это предательски прошмыгнувшее в письмо «однако же» говорит больше, чем хотела бы сказать королева, а именно: поскольку я не могла получить лучшего мужа, этот славный, порядочный супруг, «однако же, является приемлемым заменителем. В этом слове – вся прохладность отношений царственных супругов. Мария Терезия в конце концов могла бы удовлетвориться столь эластичным представлением о браке – из Пармы о другой своей дочери она слышит несравненно более неприятные вещи, – если бы Мария Антуанетта могла искусно притворяться и проявлять несколько больше душевного такта в своем поведении, если бы она могла хоть лучше скрывать от других, что ее царственный супруг как мужчина представляет собой нуль, quantité négligeable[75]. Но Мария Антуанетта – и этого Мария Терезия ей простить не может, – бросая подчас неосторожные слова, наносит ущерб чести своего супруга. Одно из таких легкомысленных слов мать, к счастью, вовремя перехватывает первая. Граф Розенберг, друг и советник императрицы, является с визитом в Версаль. Мария Антуанетта проникается симпатией и таким доверием к пожилому галантному господину, что посылает ему в Вену веселое и легкомысленное письмо, в котором рассказывает, как одурачила своего мужа, когда герцог Шуазель просил у нее аудиенции: «Вы, конечно, поверите мне, что я не встретилась с ним, не уведомив предварительно об этом короля. Но Вы представить себе не можете, какую мне пришлось проявить изобретательность, чтобы не создалось впечатления, будто я испрашиваю у короля разрешения на эту аудиенцию. Я сказала ему, что охотно бы приняла господина Шуазеля, но еще не определилась в выборе дня, и сделала это так хорошо, что бедняга (le pauvre homme) сам назвал мне наиболее подходящее время для этой встречи. По-моему, на этот раз я лишь использовала права жены». Легкомысленно пишет она слова «pauvre homme», беспечно запечатывает письмо, полагая, что рассказала лишь веселый анекдот. На языке ее сердца «pauvre homme» звучит совершенно безобидно: «славный, добрый малый». Но в Вене эти слова, выражающие сложные чувства симпатии, жалости и презрения, читают совсем по-другому. Марии Терезии предельно ясно, какая опасная бестактность таится в том, что королева Франции в частном письме именует самого могущественного государя христианского мира, короля Франции, «pauvre homme», в том, что она не почитает своего супруга как монарха. Можно представить себе, в каком тоне иронизирует над повелителем Франции эта ветреница на гуляньях в парках Версаля, на балах-маскарадах со своими подругами Ламбаль и Полиньяк, со своими юными кавалерами! Все это тотчас же самым тщательным образом обсуждается в Вене, а затем Марии Антуанетте отправляется столь энергичное письмо, что Императорский архив многие десятилетия не разрешает его публикацию.
«Я не могу скрыть того, – задает старая императрица нахлобучку дочери, забывшей свой долг, – что меня крайне озадачило твое письмо графу Розенбергу. Что за выражения, что за легкомыслие! Где оно, такое кроткое, такое преданное сердце эрцгерцогини Марии Антуанетты? Я вижу одни лишь интриги, мелочную злобность, издевательства и язвительность; интриговать могла бы какая-нибудь Помпадур, какая-нибудь Дюбарри, но не принцесса, преисполненная доброты, и также не престолонаследница из дома Габсбургов Лотарингских. Твой быстрый успех, льстецы, окружающие тебя с этой зимы, когда ты кинулась в водоворот развлечений, пленилась нелепыми нарядами и модами, – все это пугает меня, приводит в ужас. Эта бешеная гонка от развлечений к развлечениям, хотя ты знаешь, что королю это неприятно, что он сопровождает тебя или терпит все это исключительно из-за своей мягкости, все это заставляло меня высказывать свое беспокойство в моих прежних письмах. Этим письмом я подтверждаю свои опасения. Что за язык! „Le pauvre homme!“ Где уважение, где благодарность за всю его предупредительность? Я оставляю эту тему, хотя много можно было бы сказать тебе еще. Подумай, поразмысли сама надо всем этим… Но если я опять услышу о подобных неприличных выходках, я не смогу промолчать, потому что очень люблю тебя и многое, к сожалению, больше других предвижу, потому что знаю, как ты легкомысленна, как горяча, как необдуманны твои поступки. Твое счастье может очень скоро кончиться, и ты по своей же собственной вине окажешься ввергнутой в величайшее несчастье, и все это – вследствие ужасной жажды наслаждений, которая не дает тебе возможности заняться каким-либо серьезным делом. Какие книги ты читаешь? И ты еще осмеливаешься вмешиваться в важнейшие государственные дела, влияешь на выбор министров? Мне кажется, аббат и Мерси стали неприятны тебе, ведь они не подражают этим низким льстецам и хотят сделать тебя счастливой, а не просто веселиться и извлекать выгоды, пользуясь твоими слабостями. Однажды ты поймешь все это, но будет слишком поздно. Я надеюсь, что не доживу до этого дня, и молю Бога, чтобы он как можно быстрее призвал меня к себе, ибо я уже не могу быть полезной тебе и мне не перенести ни потери моего ребенка, которого буду любить нежно до последнего вздоха, ни его несчастья».
* * *
Не преувеличивает ли она, не слишком ли рано рисует всякие ужасы по поводу этих в общем-то озорства ради написанных слов «pauvre homme»? Но для Марии Терезии сейчас это не случайные слова, а симптом. Внезапно, словно при вспышке молнии, они показывают ей, как мало чтит Людовика XVI его жена, как мало чтут его при дворе. На душе у императрицы неспокойно. Если в государстве пренебрежение к монарху подтачивает едва ли не самую прочную опору – его собственную семью, выдержат ли бурю другие столбы, другие колонны? Устоит ли монархия без монарха, если над ней нависнет угроза, устоит ли трон, находящийся во власти заурядных статистов, у которых ни в крови, ни в сердце нет ничего королевского? Рохля и дама света, он тяжелодум, она слишком опрометчива, – как этим двоим, не умеющим мыслить по-государственному, утвердить свою династию в такое беспокойное время? Нет, она совсем не разгневана на свою дочь – старая императрица лишь очень озабочена судьбой Марии Антуанетты.
И действительно, как сердиться на этих двоих, как осуждать их? Даже Конвенту[76], их обвинителю, очень трудно будет объявить этого «беднягу» тираном и злодеем; ни грана коварства нет ни в одном из них, и, что обычно для большинства заурядных характеров, нет никакой черствости, никакой жестокости, нет ни честолюбия, ни грубого тщеславия. Но, к несчастью, их достоинства не выходят за пределы мещанских ординарных мерок: честное добросердечие, легкомысленная снисходительность, умеренная доброжелательность. Живи они в столь же заурядные, как они сами, времена, они были бы окружены почетом и пользовались бы всеобщим уважением. Но ни Мария Антуанетта, ни Людовик не смогли внутренне измениться, не смогли трагически возвышенной эпохе противопоставить такую же возвышенность сердец; они, пожалуй, знали, как следует с достоинством умереть, но жить ярко и героически они не смогли. Каждого в конце концов настигает его судьба, хозяином которой ему не дано быть. В любом поражении есть и смысл, и вина. Гёте мудро определил их в отношении Марии Антуанетты и Людовика XVI:
- В грязи валяется корона.
- Метла повымела весь дом.
- Король бы не лишился трона,
- Будь он и вправду королем[77].
Королева рококо
Фридрих Великий, смертельный враг Австрии, теряет покой, как только Мария Антуанетта, дочь его давнишней противницы Марии Терезии, вступает на французский престол. Письмо за письмом шлет он прусскому посланнику в Вену, требуя, чтобы тот как можно точнее выведал политические планы императрицы. Действительно, опасность для него велика. Стоит Марии Антуанетте только захотеть, стоит ей лишь приложить ничтожные усилия, и все нити французской дипломатии окажутся в ее руках. Европой станут управлять три женщины – Мария Терезия, Мария Антуанетта и Екатерина Российская. Но, к счастью Пруссии и себе на погибель, Мария Антуанетта ни в малейшей степени не испытывает влечения к решению грандиозных, всемирно-исторических задач, ей и в голову не приходит как-то понять свое время. Единственное, что ее заботит, – это как бы его, это время, провести; небрежно, словно игрушку, берет она корону. Вместо того чтобы обратить себе на пользу доставшуюся ей власть, она желает лишь наслаждаться ею.
В этом первая роковая ошибка Марии Антуанетты: она желает успехов как женщина, а не как королева, маленькие женские триумфы ценятся ею неизмеримо больше, нежели крупные победы, определяющие ход мировой истории. И поскольку ее сердце, увлеченное совсем другими, несравненно менее значительными интересами, не в состоянии дать никакого высокого содержания идее королевской власти, ничего, кроме совокупности ограниченных форм, великая задача забывается ею в преходящих развлечениях, высокие обязанности постепенно становятся актерской игрой. Быть королевой для Марии Антуанетты на протяжении пятнадцати легкомысленных лет означает лишь быть самой изысканной, самой кокетливой, самой элегантной, самой очаровательной и прежде всего самой приятной женщиной двора, перед которой все преклоняются, быть арбитром elegantiarum[78], светской дамой, задающей тон тому высокоаристократическому пресыщенному обществу, которое само считает себя средоточием вселенной. В течение двадцати лет на приватной сцене Версаля, которую можно уподобить японской цветочной клумбе, разбитой над пропастью, она самовлюбленно, с грацией и размахом играет роль примадонны, роль королевы рококо. Но как нищ репертуар этой светской комедии: пара легких коротких сценок для кокетки, несколько пустых интрижек, очень мало души, очень много танцев. В этих играх и забавах нет рядом с ней настоящего короля, нет истинного героя-партнера. Все время одни и те же скучающие зрители-снобы, тогда как по ту сторону позолоченных решетчатых ворот упорно, с нетерпением ожидает свою повелительницу многомиллионный народ. Но она, в ослеплении, не отказывается от роли, без устали пьянит свое безрассудное сердце все новыми и новыми пустяками; гром из Парижа угрожающе докатывается до парков Версаля, а она не отступает от своего. И только когда революция насильно вырвет ее из этого жалкого театра рококо и бросит на огромные трагические подмостки театра мировой истории, ей станет ясно, какую ужасную ошибку она совершила, играя на протяжении двух десятков лет ничтожную роль субретки, дамы салона, тогда как судьба уготовила ей – по ее душевным силам, по ее внутренней энергии – роль героини. Поздно поймет она эту ошибку, но все же не слишком поздно. Когда наступит момент и в трагическом эпилоге пасторали ей придется играть королеву перед лицом смерти, она сыграет в полную силу. Лишь когда легкая игра обернется делом жизни или смерти, когда Марию Антуанетту лишат короны, она станет истинной королевой.
* * *
Вина Марии Антуанетты – в неправильном понимании, вернее, в полном непонимании своего назначения. Вследствие этого королева на протяжении почти двадцати лет жертвует самым существенным ради ничтожных пустяков: долгом – ради наслаждений, трудным – ради легкого, Францией – ради маленького Версаля, действительным миром – ради придуманного ею мира театрального. Эту историческую вину невозможно переоценить – последствия ее огромны. Чтобы прочувствовать всю безрассудность поведения королевы, достаточно взять карту Франции и очертить то крошечное жизненное пространство, в пределах которого Мария Антуанетта провела двадцать лет своего правления. Результат – ошеломляющий. Этот кружок настолько мал, что на обычной карте представляет собой едва ли не точку. Между Версалем, Трианоном, Фонтенбло, Марли, Сен-Клу, Рамбуйе[79] – шестью замками, расположенными друг от друга на близком до смешного расстоянии всего немногих часов езды, – непрерывно и деятельно кружит золотой волчок ее скуки. Ни разу у Марии Антуанетты не возникает потребность ни пространственно, ни духовно переступить пентаграмму, в которую ее заключил глупейший из бесов – бес развлечений. Ни единого раза чуть ли не за два десятилетия королева Франции не пожелала познакомиться со своим государством, посмотреть провинции, повелительницей которых является, моря, омывающие берега страны, горы, крепости, города, кафедральные соборы, обширную, богатую контрастами страну. Ни разу не жертвует она ни одним часом своего праздного времени ради того, чтобы посетить своих подданных или хотя бы подумать о них, ни единого раза не переступает порога дома горожанина; весь этот реальный мир, находящийся вне ее аристократического кружка, для нее просто не существует. Мария Антуанетта даже не подозревает о том, что вокруг Парижского оперного театра простирается гигантский город, погрязший в нищете и пораженный недовольством, о том, что за прудами Трианона с китайскими утками, с прекрасно откормленными лебедями и павлинами, за чистотой и нарядностью построенной по эскизам придворных архитекторов парадной деревни, hameau[80], стоят настоящие крестьянские домики, заваливающиеся от ветхости, с пустыми амбарами и хлевами, о том, что за золоченой оградой королевского парка многомиллионный народ трудится, голодает и надеется. Вероятно, именно это незнание и нежелание знать о всей трагичности и безотрадности мира могло придать рококо характерную для него чарующую грациозность, легкую, безмятежную прелесть. Только тот, кто не подозревает о суровости реального мира, может быть таким беззаботным. Но королева, забывшая свой народ, отваживается на большой риск в игре. Один лишь вопрос следовало бы задать Марии Антуанетте миру, но она не желает спрашивать. Один лишь взгляд нужно было бы бросить в будущее, и она очень многое поняла бы, но она не желает понимать. Она желает оставаться в своем «я» – веселой, юной, спокойной. Ведомая неким обманчивым светом, она непрерывно движется по кругу и в искусственной среде вместе со своими придворными-марионетками впустую растрачивает решающие, невозвратимые годы своей жизни.
В этом ее вина, ее бесспорная вина: оказаться беспримерно легкомысленной перед грандиозной задачей Истории, мягкосердечной – в жесточайшей схватке столетия. Вина бесспорна, и все же Мария Антуанетта заслуживает снисхождения, ибо следует учесть ту меру искушений, которой едва ли смог бы противостоять и более сильный характер. Попав из детской на брачное ложе, в одни сутки, как если бы ей это приснилось, призванная к высокой власти из задних комнат дворца, еще не подготовленная принять ее, духовно еще не пробудившаяся, доверчивая, не очень сильная, не очень деятельная душа вдруг оказывается, словно солнце, центром хоровода восхищенных планет. И каким богатым опытом обладает это поколение Dix-huitième в подлом деле совращения молодой женщины! Как хитро оно обучено интригам и тонкой угодливости, как находчиво в готовности восторгаться любой мелочью, любым пустяком, как искусно в высшей школе галантности и сибаритства, в способности легко принимать жизнь! Искушенные, трижды искушенные во всех соблазнах и слабостях души, царедворцы тотчас же втягивают это неопытное, это совсем еще не знающее себя девичье сердце в свой магический круг. С первого же дня восшествия на престол Мария Антуанетта витает в облаках фимиама безмерного обожания. Что бы она ни сказала – умно, что бы ни сделала – закон, что бы ни пожелала – немедленно исполняется. Ее каприз завтра же становится модой, она совершит глупость – и весь двор с воодушевлением подражает ей. Ее близость – солнце для этой тщеславной, честолюбивой толпы царедворцев; ее взгляд – подарок, улыбка – благодеяние, ее появление – праздник. На ее приемах все дамы, самые пожилые и самые юные, знатнейшие и только что представленные ко двору, стараются изо всех сил – судорожным, смехотворным, бестолковым образом, – только бы, бога ради, хоть на секунду обратить на себя ее внимание, поймать комплимент, одно слово, быть замеченной. На улицах народ, собираясь толпами, вновь доверчиво приветствует ее, в театре при ее появлении все зрители, до единого, вскакивают с мест, а когда она во дворце шествует мимо зеркал, то видит в них великолепно одетую, молодую, прелестную женщину, воодушевленную своим триумфом, беззаботную и счастливую, самую красивую среди тех, кто окружает ее, и, следовательно (ведь она отождествляет свой двор с миром), самую красивую на свете. Как с сердцем ребенка, как с ординарными силами души защищаться от подобного дурманящего, опьяняющего напитка счастья, составленного из всех пряных и сладких эссенций чувств, из взглядов восхищенных мужчин, из восторженной зависти женщин, из преданности народа, из собственной гордости? Как не быть легкомысленной, если все так легко? Если деньги сами плывут в руки, стоит лишь на листке бумаги бегло написать одно слово, единственное слово: «payez»[81], и волшебным образом тысячами катятся дукаты, появляются драгоценные камни, разбиваются сады и парки, воздвигаются дворцы? Если нежный ветерок счастья так мягко и приятно успокаивает нервы? Как не быть безмятежной и беспечной, если самим Небом дарованы крылья, дающие тебе легкость и свободу? Как не потерять почву под ногами, если кругом столько соблазнов?
Эта легкомысленность в восприятии жизни, если рассматривать ее в историческом аспекте, безусловно, является виной Марии Антуанетты, но это также и вина всего ее поколения. И именно из-за полного соответствия духу своего времени Мария Антуанетта стала типичной представительницей Dix-huitième. Рококо, этот изнеженный и хрупкий цветок старой культуры, этот век изящных и праздных рук, век увлеченного игрой, рассеянного, утонченного духа, прежде чем уйти в небытие, пожелал принять телесный образ. В иллюстрированной книге истории век этот невозможно представить ни одним королем, ни одним мужчиной. Изобразить его можно лишь в образе женщины, королевы, и вот этому-то собирательному образу королевы рококо полностью соответствует Мария Антуанетта. Из беспечных – самая беспечная, среди расточительных – самая расточительная, между галантными и кокетливыми женщинами – изысканнейше галантная и осознанно кокетливая, своей личностью она незабываемо отчетливо и предельно точно выразила обычаи, манеры, нормы поведения, искусственный уклад жизни Dix-huitième. «Больше грации и достоинства вложить в поведение невозможно, – говорит о ней мадам де Сталь. – Она обладает удивительной манерой обращения с окружающими, чувствуешь: она знает, что никогда не должна забывать о своем королевском достоинстве, а ведет себя так, как если бы забыла об этом». Мария Антуанетта играет своей жизнью, словно очень тонкой и хрупкой игрушкой. Вместо того чтобы стать великой для всех времен, она стала олицетворением своего времени, и, безрассудно тратя свои внутренние силы, она все же выполнила одну задачу: с нею Dix-huitième достигает совершенства, с нею он приходит к концу.
* * *
Что является первой заботой королевы рококо, когда она просыпается утром в своем замке в Версале? Сообщения из столицы, из страны? Письма посланников о победах армии, об объявлении войны Англии? Конечно же нет. Как обычно, Мария Антуанетта вернулась во дворец лишь в четыре или пять утра; она спит всего несколько часов – ее беспокойная натура не нуждается в длительном покое. День начинается с важной церемонии. Старшая камеристка, ведающая гардеробом, с несколькими рубашками, полотенцами, носовыми платками, и первая камеристка приступают к утреннему туалету королевы. Камеристка с поклоном предлагает для просмотра один из фолиантов, в котором собраны приколотые булавками маленькие образчики материалов всех имеющихся в гардеробе одежд. Марии Антуанетте надлежит решить, какие платья она желает сегодня надеть. Очень трудный, ответственный выбор: ведь для каждого сезона предписывается двенадцать новых нарядных платьев, двенадцать платьев для малых приемов, двенадцать платьев для торжественных церемоний, не считая сотни других, ежегодно обновляемых (подумать только, какой позор, если на королеве мод увидят несколько раз одно и то же платье!). А пеньюары, корсажи, кружевные платочки, косынки, чепчики, плащи, пояски, перчатки, чулки и нижнее белье из невидимого арсенала, который обслуживает армия портных, белошвеек, гардеробщиц! Обычно выбор продолжается довольно долго; наконец с помощью булавок обозначаются образцы туалета, отобранные королевой, платье для приемов, дезабилье для второй половины дня, вечернее парадное платье. С первой заботой покончено. Альбом с образцами материй уносится, выбранная одежда вносится. Неудивительно, что при таком значении, придаваемом туалетам, старшая модистка, божественная мадемуазель Бэртэн, имеет над Марией Антуанеттой власть куда большую, нежели все государственные министры. Этих – дюжины, они легко заменяются, а она – единственная и несравненная. Обычная портниха, вышедшая из самых низов народа, эта дюжая, самоуверенная, бесцеремонная, с вульгарными манерами, законодательница мод крепко держит королеву в своих руках. Из-за нее, за восемнадцать лет до настоящей революции, в Версале свершается революция дворцовая: мадемуазель Бэртэн перечеркивает предписания этикета, запрещающие кому бы то ни было из третьего сословия вход в petits cabinets[82]. Этой артистке своего дела удается то, что не удалось ни одному писателю, ни одному художнику, ни даже Вольтеру, – ее принимает королева. Когда мадемуазель Бэртэн дважды в неделю появляется в Версале со своими новыми образцами фасонов, Мария Антуанетта покидает придворных дам для секретных совещаний с прославленной модисткой в личных покоях, чтобы там при закрытых дверях обсудить с ней и выпустить в свет новую модель – еще более сумасбродную, чем вчерашняя. Само собой разумеется, деловая особа извлекает для себя немалую выгоду из той славы, которая ее окружает. Склонив Марию Антуанетту к разорительным расходам, она налагает жестокую контрибуцию на весь двор, на всю аристократию. Гигантские буквы вывески над ее мастерской на улице Сент-Оноре разъясняют, что она является поставщицей двора ее величества королевы. Заказчикам, которым приходится подолгу ждать, она надменно и небрежно заявляет: «Я занималась с ее величеством». Вскоре на нее начинает работать целый полк портних и вышивальщиц: ведь чем элегантнее одевается королева, тем более неистовствуют другие дамы в стремлении заполучить мадемуазель Бэртэн. Иные из них полновесными золотыми склоняют неверную чародейку к тому, чтобы она сшила им платье по модели, еще не использованной для королевы: роскошь в туалетах так заразительна! Беспокойство в стране, серьезные споры в парламенте, война с Англией – все это далеко не так волнует тщеславное придворное общество, как новый цвет, цвет блохи, введенный мадемуазель Бэртэн в моду, или особенно смело изогнутый турнюр кринолина, или же впервые созданный мануфактурой Лиона шелк особого оттенка. Каждая дама, которая следит за собой, чувствует себя обязанной повторить за другими все фигуры обезьяньего танца, и, вздыхая, иной супруг сетует: «Никогда женщины Франции не тратили такую уйму денег на то, чтобы выглядеть посмешищем».
Но быть в этой сфере королевой Мария Антуанетта считает своим первейшим долгом. Трех месяцев правления ей достаточно, чтобы стать образцом для всего элегантного мира, законодательницей костюмов и причесок; во всех салонах, при всех дворах одерживает она блестящие победы. Конечно, до Вены докатывается волна ее славы, но оттуда приходит безрадостное эхо. Мария Терезия, мечтавшая, чтобы ее ребенок стремился к более достойным целям, с раздражением возвращает посланнику портрет, на котором ее дочь изображена разряженной сверх меры, увешанной драгоценностями, – это портрет актрисы, а не королевы Франции. С досадой предостерегает она дочь, правда, как всегда, напрасно: «Ты знаешь, я постоянно была того мнения, что модам нужно следовать, но не до безрассудства. Красивая молодая женщина, полная очарования королева не нуждается во всей этой чепухе, напротив, простота одежды ей более к лицу, более достойна высокого звания. Ведь королева задает тон, следовательно, весь свет будет стараться повторять ее ложные шаги. Но я люблю мою маленькую королеву и пристально наблюдаю за нею, я, не колеблясь, буду обращать ее внимание на все ее маленькие опрометчивые поступки».
* * *
Вторая забота каждого утра – прическа. К счастью, и здесь творит великий художник господин Леонар, неистощимый и непревзойденный Фигаро[83] рококо. Словно знатная особа, он ежедневно утром приезжает в карете, запряженной шестеркой, из Парижа в Версаль, чтобы с помощью гребня, туалетной воды для волос и всевозможных мазей испытать на королеве свое благородное, неистощимое на выдумки мастерство. Подобно Мансару, великому архитектору, который с большим искусством сооружал на домах названные его именем крыши, господин Леонар возводит на голове каждой прибегающей к его услугам знатной дамы целые башни из волос, формирует сложнейшие пейзажи, жанровые сценки, символические орнаменты. Прежде всего огромными шпильками и с помощью фиксирующих помад волосы поднимаются свечкой вверх, примерно раза в два выше, чем медвежья шапка прусского гренадера, и лишь в воздушном пространстве, в полуметре над уровнем глаз, начинается собственно область творчества художника. На головках дам гребенкой моделируется красочный сложный мир: целые ландшафты и панорамы с плодовыми садами, домами, с волнующимся морем и кораблями на нем; сюжет в этих произведениях искусства, чтобы разнообразить моду, непрерывно следует злобе дня. Все, что занимает умы этих колибри, что заполняет эти в большинстве своем пустые женские головки, должно быть воспроизведено на них. Вызывает опера Глюка сенсацию – тотчас же Леонар изображает прическу à la Iphigénie[84] – с черными траурными лентами и полумесяцем Дианы. Делают королю прививку против оспы[85] – это волнующее событие отображается в «Pouf de I’inoculation»[86]. Входят в моду разговоры о восстании в Америке[87] – сразу же победительницей дня оказывается куафюра «Свобода». Да что там говорить! Еще глупее, еще более мерзко выглядит это бездумное общество придворных, когда в ответ на голодные волнения парижского люда, громившего булочные, не находит ничего разумнее, как выставить на обозрение прическу «Bonnet de la révolte»[88]. Искусственные сооружения на ветреных головках становятся все более и более дикими. Постепенно волосяные башни из-за массивных подкладок и накладных волос оказываются столь высокими, что дамам уже не сесть в карете. Они вынуждены, приподняв юбки, стоять на коленях, чтобы не повредить драгоценное сооружение. Дверные проемы во дворце делают выше, чтобы дамам в парадных туалетах не приходилось часто нагибаться, потолки театральных лож приподнимают. Что же касается особых неудобств, причиняемых этими неземными существами своим возлюбленным, то в современной сатирической литературе об этом можно найти много потешного. Однако, если мода требует, женщины, как известно, готовы на любые жертвы. Королева же, со своей стороны, очевидно, не сможет считать себя настоящей королевой, если не окажется впереди всех в битве за самую элегантную, самую экстравагантную, самую дорогую прическу.
И вновь гремит эхо из Вены: «Я не могу не затронуть тему, к которой так часто возвращаются в газетах, а именно твои прически! Говорят, они располагаются на высоте тридцати шести дюймов от основания волос, а наверху еще перья и ленты!» Но, увиливая от прямого ответа, дочь сообщает chère maman[89], что здесь, в Версале, глаза уже привыкли к такому и весь свет (а весь свет для королевы – это сотня аристократов двора) не находит в этом ничего вызывающего. А мэтр Леонар продолжает строить и строить, пока всемогущему Богу не угодно будет положить конец моде на такие прически. В следующем году с башнями будет покончено, они уступят место еще более разорительной моде – моде на страусовые перья.
* * *
Третья забота: можно ли каждый раз быть одетой по-другому без соответствующих украшений? Нет, королеве требуются более крупные бриллианты, жемчуга больших размеров, чем у прочих. Ей нужно больше колец и перстней, браслетов и диадем, фероньерок[90] и драгоценных камней, больше пряжек, застежек, усыпанных бриллиантами обрамлений для вееров, расписанных Фрагонаром, чем у жен младших братьев короля, чем у других дам двора. Правда, еще из Вены она привезла с собой много бриллиантов, а от Людовика XV получила свадебный подарок – целую шкатулку с фамильными драгоценностями. Но стоит ли быть королевой, если нельзя все время покупать новые, более прекрасные, более дорогие камни? Мария Антуанетта – в Версале это знает каждый, и скоро станет очевидным, что ничего хорошего в этом нет, раз об этом все говорят и перешептываются, – до безумия любит украшения. Нет, не устоять ей перед соблазном приобрести драгоценности, когда эти ловкие и изворотливые ювелиры, переселившиеся из Германии евреи Бомер и Бассанж, показывают ей на обтянутых бархатом пластинах свои последние приобретения, новейшие произведения искусства – очаровательные серьги, перстни, фермуары. И условия, на которых драгоценности предлагаются этими славными людьми, никогда не бывают тяжелыми. Они знают, как проявить свое уважение к королеве Франции, и хотя уступают товар едва ли не за двойную его стоимость, но предоставляют кредит и к тому же при расчетах принимают ее старые бриллианты за полцены. Не замечая унизительности подобных ростовщических сделок, Мария Антуанетта делает долги направо и налево, она уверена, что в крайнем случае ее выручит бережливый супруг.
Но на этот раз из Вены приходит еще более грозное предостережение. «Все вести из Парижа говорят об одном и том же: ты опять купила себе браслет за двести пятьдесят тысяч ливров, тем самым расстроила свои доходы и наделала долгов, и вот, ради поправки дел, ты продаешь за бесценок свои бриллианты… Такие сообщения разрывают мое сердце, в особенности когда я думаю о твоем будущем. Когда же ты образумишься? – с отчаянием взывает мать. – Повелительница унижает себя, столь расточительно наряжаясь, и еще более унижает себя, доводя свои траты в такое время до огромных сумм. Я слишком хорошо знаю этот дух расточительства и не могу об этом молчать, так как люблю тебя ради тебя самой и не собираюсь льстить тебе. Остерегайся! Подобным легкомыслием ты можешь потерять уважение, приобретенное в начале правления. Всем известно, что король очень рассудителен, следовательно, все вины будут на тебе. Молю Бога, чтобы не дал он мне дожить до ужасной катастрофы».
* * *
Бриллианты стоят денег, туалеты стоят денег, и, хотя тотчас же после вступления на престол добродушный супруг удвоил Марии Антуанетте содержание, вероятно, эта щедро наполняемая шкатулка бездонна, ибо в ней всегда ужасающая пустота.
Как же раздобыть деньги? К счастью, черт нашел лазейку для легкомысленных – азартные игры. До Марии Антуанетты игры при дворе короля были невинным вечерним развлечением, как бильярд, например, или танцы: играли в безопасный ландскнехт с маленькими ставками. Мария Антуанетта открыла для себя и других пресловутый фараон, о котором мы от Казановы знаем, что это излюбленная игра всех мошенников и аферистов. Категорический приказ короля, подтверждающий старые распоряжения наказывать штрафом всех застигнутых за любой карточной игрой, Марии Антуанетты и ее окружения не касается: полиция не имеет доступа в салон королевы. А то, что сам король не желает терпеть эти усыпанные золотыми монетами игорные столы, нисколько не беспокоит легкомысленную клику. Игра продолжается и за его спиной, лакеям дано указание при появлении короля немедленно давать предупреждающий знак. И, словно заколдованные, тотчас же исчезают под столом карты, общество как ни в чем не бывало болтает, смеется над славным простаком, а затем партия продолжается. Для оживления игры и увеличения ставок королева допускает к своему столу под зеленым сукном любого, у кого тугая мошна, – у игорного стола оказываются шулера и спекулянты. Проходит немного времени, и по городу ползут слухи, что в салоне королевы идет нечистая игра. Лишь одна Мария Антуанетта ничего не знает об этом. Ослепленная жаждой наслаждений, она не желает ничего знать. Когда она увлечена, ее ничто не удержит. День за днем играет она до трех, до четырех, до пяти часов утра, а однажды – весь двор скандализован – даже всю ночь напролет, перед праздником Всех Святых.
И вновь эхо из Вены: «Азартная игра, несомненно, одно из самых опасных развлечений, ибо привлекает дурное общество и вызывает кривотолки… Становишься рабом одной-единственной мысли: только бы выиграть – и, когда делаешь правильные расчеты, всегда оказываешься в дураках, ведь если играть честно, то выиграть невозможно. Поэтому прошу тебя, любимая дочь: никакой уступчивости, никакой нерешительности. С этой страстью надо порвать сразу же, единым ударом».
* * *
Но платья, украшения, игры – все это занимает лишь полдня, только полночи. Еще одна забота – как провести вторую половину суток, чем занять себя? Прогулки верхом, охота – королевская забава; конечно, королеву всегда сопровождают, изредка супруг, впрочем, он смертельно скучен, чаще же она выбирает живого, подвижного деверя – д’Артуа – или других кавалеров. Иногда, развлечения ради, выезжают на ослах. Правда, это выглядит не так изысканно, но зато, если серый заупрямится, можно очаровательнейшим образом свалиться с него и показать двору кружевное белье и стройные ножки. Зимой, тепло одетые, катаются на санках, летом забавляются по вечерам фейерверками и сельскими балами, маленькими ночными концертами в парке. Несколько шагов с террасы вниз – и она в своем избранном обществе, надежно защищена темнотой, может весело, непринужденно болтать, с полным соблюдением приличий разумеется, но все же играть с огнем, ведь и вся жизнь для нее игра. Пусть некий ехидный придворный пишет брошюру в стихах о ночных похождениях королевы «Le lever de l’aurore»[91] – что из того? Король – снисходительный супруг, на подобные булавочные уколы не реагирует, а она – она прекрасно развлекается. Лишь бы не быть в одиночестве, лишь бы не оставаться по вечерам дома с книгой, с мужем, лишь бы всегда находиться в движении, побуждать к движению окружающих. Стоит появиться новой моде – Мария Антуанетта первая приветствует ее; едва граф д’Артуа (его единственный вклад в культуру Франции) перенимает у Англии бега, уже все видят на трибуне в окружении десятков юных щеголей-англоманов королеву, заключающую пари, страстно возбужденную этим новым видом нервного напряжения. Правда, обычно подобные вспышки ее воодушевления мимолетны. Чаще всего ей уже назавтра скучно то, что вчера восхищало; лишь постоянная, непрерывная смена развлечений в состоянии одержать верх над ее нервозной неугомонностью, вызванной, без сомнения, той альковной тайной. Самым любимым из сотни сменяющих друг друга развлечений, единственным, которым она длительное время увлекается, и правда самым опасным в ее положении является маскарад. Маскарад – это страсть Марии Антуанетты, страсть надолго. Здесь она получает двойное наслаждение: удовольствие быть королевой и – благодаря темной бархатной маске – не быть ею для окружающих, отваживаясь доходить до предельной черты сердечного азарта. Причем ставка в этой игре не деньги, как за карточным столом, а она сама, женщина. В костюме Артемиды или в кокетливом домино можно спуститься с леденящих душу вершин этикета в незнакомую теплую людскую сутолоку, с содроганием ощущать дыхание нежности, близость соблазна, почти соскользнуть в опасную пропасть. Под защитой маски можно позволить себе взять на полчаса под руку элегантного юного английского джентльмена или парой смелых слов дать понять обворожительному шведскому кавалеру Гансу Акселю Ферзену, как нравится он женщине, которая, к сожалению – увы, к сожалению, – будучи королевой, вынуждена сохранять добродетель. То, что эти маленькие проказы после пересудов в Версале тотчас же грубо эротизируются и обсуждаются во всех салонах, то, что такие, например, пустяки, как случай, когда ось придворной кареты ломается в пути и Мария Антуанетта для двух десятков шагов берет наемную карету, чтобы добраться до Оперы, такие пустяки обыгрываются досужими болтунами в нелегальных журналах как фривольные похождения королевы, – об этом Мария Антуанетта либо ничего не знает, либо ничего не хочет знать. Напрасно предупреждает мать: «Я молчала бы, случись это в присутствии короля, но почему-то подобное всегда происходит без него и всегда в обществе самой испорченной молодежи Парижа, причем очаровательная королева самая старшая в этой клике. Газеты, листки, которые раньше доставляли мне радость тем, что славили великодушие и сердечность моей дочери, вдруг внезапно переменились. Ни о чем другом не пишут, кроме как о бегах, азартных играх, бессонных ночах, так что и смотреть на газеты больше не хочется. Но я ничем не в состоянии помочь, ничего не могу изменить, и весь мир, который знает о моей любви и нежности к моим детям, говорит о твоем поведении, обсуждает его. Часто я даже избегаю общества, только бы ничего не слышать об этом».
Однако выговоры не имеют никакой силы над неразумной: слишком далеко зашла она, очень уж глубоко заблуждается и не понимает этого. Почему не наслаждаться жизнью, для чего же она, эта жизнь, если не для наслаждения? И с потрясающей откровенностью отвечает Мария Антуанетта посланнику Мерси на материнские предостережения: «Чего же она хочет? Я страшусь скуки».
* * *
«Я страшусь скуки». Этими словами Мария Антуанетта выразила сущность своего времени, сущность всего своего окружения. Восемнадцатое столетие на исходе, оно выполнило свою миссию. Государство создано, Версаль построен, сложная система этикета завершена, двору, собственно, нечего больше делать. Маршалы, поскольку нет войн, превратились в вешалки для мундиров; епископы, поскольку это поколение не верит более в Бога, стали галантными кавалерами в фиолетовых сутанах; королева, которая не имеет рядом с собой истинного короля и не может вскормить престолонаследника, становится легкомысленной светской дамой. Испытывая скуку, не понимая, что происходит, стоят все они перед мощным потоком времени, любопытствующими руками иной раз погружаются в этот поток, чтобы достать со дна пару блестящих камешков. Смеясь, словно дети, играют со страшной стихией, ведь до поры она так легко и ласково обтекает их пальцы. Но никто из них не чувствует, как течение потока все убыстряется и убыстряется. И когда наконец они поймут, какая опасность грозит им, бегство будет бесполезным, игра окажется проигранной, жизнь – растраченной попусту.
Трианон
Легкой своей рукой, как бы шутя, словно неожиданный подарок, берет Мария Антуанетта корону; слишком молода она, чтобы знать, что жизнь ничего не дает бесплатно и всему, что преподносится судьбой, тайно определена своя цена. Мария Антуанетта и не думает оплачивать дары судьбы. Она принимает права королевы; что же касается обязанностей, здесь она остается в долгу. Ей хотелось бы обладать властью и получать от нее наслаждение, но одно с другим несовместимо. Ей хотелось бы, чтобы все исполняли ее желания, желания королевы, и чтобы она сама спокойно уступала любому своему капризу; она желает обладать полнотой власти государыни и свободой женщины, то есть вдвойне наслаждаться своей юной, исполненной тревог жизнью.
Но в Версале свобода немыслима. В этих ярко освещенных зеркальных галереях ни один шаг не остается незамеченным. Каждое движение регламентировано, каждое слово предательским дуновением ветра передается другим. Здесь и речи не может быть о том, чтобы уединиться или провести несколько минут с кем-нибудь наедине, нет возможности отдохнуть. Король – это центр гигантского часового механизма, ход которого ненарушаем и точен. Любое проявление жизни – от рождения до смерти, от утреннего туалета до отхода ко сну, даже собственно час любви – этот механизм превращает в государственный акт. И повелитель, которому принадлежит все, сам себе не принадлежит. Но Мария Антуанетта ненавидит любой контроль и, едва став королевой, требует от своего уступчивого супруга какого-нибудь убежища, где можно было бы не быть королевой. И Людовик XVI, отчасти по слабости характера, отчасти из галантности, преподносит ей как «утренний дар»[92] маленький летний дворец Трианон – крошечную страну, суверенное государство в громадном Французском королевстве.
* * *
Сам по себе этот подарок не так-то уж и значителен: король дарит Марии Антуанетте Трианон всего лишь как игрушку, которая займет ее праздность и будет приводить ее в восхищение более десяти лет. Этот маленький замок никогда не был рассчитан на постоянное пребывание в нем королевской семьи, он был задуман как de plaisir[93], как buen retiro[94], как временная резиденция. Людовик XV, желая уединиться со своей Дюбарри или другой случайной дамой, весьма часто пользовался этим любовным гнездышком, защищенным от соглядатаев. Искусный механик изобрел хитроумное устройство, с помощью которого стол, накрываемый в кухонном подвальном помещении, поднимался в королевские покои так, что ни один слуга не присутствовал на интимном ужине. За то, что находчивый Лепорелло[95] усилил приятность эротических вечеров, он получил особое вознаграждение – двенадцать тысяч ливров, что, собственно, не очень увеличило расходы на Трианон, который и без этих денег обошелся государственной казне в семьсот тридцать шесть тысяч.
Мария Антуанетта принимает этот расположенный в отдаленной части версальского парка замок, а зеркала его еще хранят отражения фривольных сценок, разыгрывавшихся в его комнатах. Вот она, ее безделушка, едва ли не самая очаровательная из тех, что были созданы французским вкусом, – нежные линии, совершенные формы, настоящая шкатулка для драгоценностей, оправа, достойная юной и изящной королевы. Построенный в простой, слегка стилизованной под античность манере, светящийся белизной в густой зелени садов, в стороне от Версаля и в то же время возле него, он очень миниатюрен, этот дворец фаворитки, принадлежащий ныне королеве. Скромно отделан, не очень-то удобен для жилья, в наше время он был бы домом для одной семьи. Всего семь или восемь комнат: прихожая, столовая, малый и большой салоны, спальня, ванная, небольшая библиотека (lucus a non lucendo[96], ибо, по свидетельству всех, кто с ней общался, Мария Антуанетта за всю жизнь не прочла ни одной книги, разве что бегло перелистала пару романов). В последующие годы королева совсем немногое меняет в убранстве маленького замка. Обнаруживая истинный вкус, она не портит эти помещения, рассчитанные на интимное настроение, ничем роскошным, помпезным, нарочито дорогостоящим. Напротив, она предпочитает новый стиль, который получил имя Louis Seize[97] так же несправедливо, как Америка – имя Америго Веспуччи, – стиль, в котором господствует светлое, нежное, сдержанное. Ее именем, именем этой хрупкой, живой, изящной женщины, следовало бы назвать его, стилем Марии Антуанетты, ибо прелестные, грациозные формы напоминают не тучного, массивного Людовика XVI с его грубыми вкусами, а легкую, очаровательную женщину, изображения которой до сих пор украшают эти покои. Единство стиля во всем: кровать и пудреница, клавесин и веер из слоновой кости, кушетка и миниатюры – все из самого лучшего материала, все самой неброской формы. Казалось бы, хрупкие вещи – на самом же деле долговечные – они соединяют в себе античные линии и французскую грацию. Стиль этот, который и сегодня убедительнее, чем любой другой, заявляет о победоносной власти дамы, о власти женщины с изысканным вкусом, приходит со своей интимностью и музыкальностью на смену драматически помпезным стилям Louis Quinze et Louis Quatorze[98].
Вместо высокомерных, чопорных покоев для торжественных приемов центром двора становится салон, в котором ведут легкую, непринужденную беседу, флиртуют, кокетничают. Резное золоченое дерево заменяет собой холодный мрамор, мягко сверкающий шелк – негнущуюся парчу и тяжелый бархат. Блеклые и нежные краски – матовый, кремовый, цвет персика, весенняя голубизна – заявляют о своем кротком господстве. Это искусство рассчитано на женщин, на весну, на Fêtes galantes[99] и на беззаботное совместное времяпрепровождение. Не к вызывающему великолепию стремятся здесь, не к театральной импозантности, а к неназойливости, приглушенности. Не власть королевы должна подчеркиваться здесь, а прелесть молодой женщины, образ которой тонко воспроизводится всеми окружающими ее предметами. Лишь в этом драгоценном и кокетливом обрамлении изящные статуэтки Клодиона, картины Ватто и Патера, серебряная музыка Боккерини и прочие изысканные творения Dix-huitième приобретают свою истинную ценность. Это несравненное искусство игры блаженной беззаботности непосредственно перед великими потрясениями нигде не действует так оправданно, так убедительно. Навсегда Трианон останется тончайшей, нежнейшей и в то же время небьющейся вазой для этого изысканнейшего цветка: культура рафинированного наслаждения сформировалась здесь как совершенное искусство в осязаемом образе – в виде здания. И зенит и надир рококо, час расцвета и смертный час одновременно, и ныне еще можно увидеть на циферблате маленьких часов с маятником, стоящих на мраморном камине в покоях Марии Антуанетты.
* * *
Трианон – это миниатюрный придуманный мир; символично, что из его окон не видно ни Версаля, ни Парижа, ни селений. За десяток минут можно обойти дворец, и все же это крошечное пространство для Марии Антуанетты значительно важнее, чем целое королевство с двадцатью миллионами подданных. Ибо здесь она чувствует себя не связанной ни церемониями, ни этикетом, ни, пожалуй, даже обычаями. Чтобы ясно показать всем, что на этом небольшом клочке земли повелевает лишь она, и никто более, к досаде двора, строго следующего салическому закону[100], она отдает здесь все приказы не именем короля, а своим собственным: «De par la reine»[101]. Прислуга носит ливреи не королевских цветов – красно-бело-голубые, а ее – красно-серебряные. Даже ее супруг бывает здесь только как гость – впрочем, весьма покладистый и очень тактичный. Он никогда не появляется без приглашения или в неназначенное время, уважая права хозяйки. Но, скромный человек, является сюда охотно, ему здесь уютнее, чем в большом замке: «par ordre de la reine»[102] была отменена всякая суровость и напыщенность, здесь не держат двора, сидят без шляп, в свободных легких платьях, не обращают внимания на табель о рангах, иногда даже пренебрегают званием, в веселом, непринужденном общении исчезает чопорность. Здесь королева чувствует себя прекрасно и вскоре до того привыкает к такому свободному образу жизни, что по вечерам ей все труднее становится возвращаться в Версаль. После того как она отведала этой сельской свободы, все более чужим становится ей двор, все скучнее – обязанности представительства и, вероятно, супружеские тоже, все чаще в течение дня возвращается она в свою веселую голубятню. Охотнее всего она постоянно жила бы в Трианоне. И так как Мария Антуанетта всегда делает то, чего захочет, она действительно переселяется в летний дворец. В опочивальне устанавливается одна, разумеется односпальная, кровать, в которой дородный король едва ли нашел бы для себя место. Как и все прочее, супружеская близость отныне определяется уже не королем; подобно царице Савской, посещавшей царя Соломона, Мария Антуанетта посещает своего славного супруга лишь тогда, когда она этого пожелает (хотя мать очень горячо возражает против «lit à part»). Здесь, в ее постели, он никогда не бывает гостем, ибо Трианон для Марии Антуанетты – счастливое государство девственницы, посвященное лишь цитерам, лишь развлечениям, а к своим развлечениям она никогда не причисляла обязанности, и менее всего супружеские. Она хочет здесь свободно жить для себя самой, не быть никем, кроме как избалованной, боготворимой, вечно молодой женщиной, которая ради тысячи бесполезных, никому не нужных дел забывает все: королевство, супруга, двор, время и весь мир, а иногда – и это, вероятно, ее счастливейшие минуты – даже самое себя.
* * *
Получив Трианон, эта до сих пор ничем не занятая душа нашла наконец занятие, обрела непрерывно обновляющуюся игрушку. И если раньше она заказывала для себя у модистки платье за платьем, у придворных ювелиров – все новые и новые драгоценности, то теперь к этим заботам прибавилась еще одна – забота об украшении своего суверенного государства. Помимо модистки, помимо ювелира, балетмейстера, учителя музыки, учителя танцев теперь архитектор, садовник, художник, декоратор, все эти министры ее миниатюрного королевства, заполняют ее время, которого у нее так много, ах, ужасно много, и усиленно опустошают казну государства. Основное внимание Мария Антуанетта уделяет своему саду, так как, само собой разумеется, он ничем не должен быть похож на старый парк Версаля, ему следует стать самым современным, самым модным, самым своеобразным, самым кокетливым садом всех времен, настоящим и подлинным садом рококо. И на этот раз, сознательно или невольно, Мария Антуанетта этим своим желанием следует изменившемуся вкусу своего времени. Ведь все устали от газонов, вытянутых, словно по линейке генерального контролера королевских построек Ленотра, от живой изгороди, подрезанной словно бритвой, от рассчитанных за чертежным столом холодных орнаментов, долженствующих хвастливо доказать, что Людовик, «король-солнце», вынудил подчиниться заданным им формам не только государство, аристократию, сословия, нацию, но и божий ландшафт. Уже все досыта насмотрелись на эту зеленую геометрию, утомились от этого насилия над природой; человек вне «общества» – Жан Жак Руссо в «Новой Элоизе» дает очень точное определение антитезе регулярного парка: «парк природы».
Конечно, Мария Антуанетта никогда не читала «Новую Элоизу», в лучшем случае о Руссо она слышала как о композиторе, авторе музыкального фарса «Le devin du village»[103]. Но воззрения Руссо в те времена витают в воздухе. У маркизов и герцогов глаза увлажняются, если при них говорят о благородном заступнике невинности (в личной жизни этот «заступник» – homo perversissimus[104]). Они благодарны ему за то, что ко многим существующим средствам от скуки он счастливым образом добавил новый, последний раздражитель – игру в наивность, маскарадный наряд естественности. Само собой разумеется, и Мария Антуанетта желает теперь иметь невинный ландшафт, «естественный» сад, причем самый наиестественный из всех модных естественных садов. И вот она собирает лучших, наиболее утонченных художников, чтобы они по всем канонам искусства выдумали ей самый что ни на есть естественный сад. Ибо – мода времени! – в этом «англо-китайском» саду хотят представить не просто природу, но всю природу, на пространстве площадью в пару квадратных километров – весь мир в игрушечных масштабах. Все должно быть на этом крохотном клочке земли: французские, индийские, африканские деревья, голландские тюльпаны, южные магнолии, пруд и речка, гора и грот, романтические руины и сельские хижины, греческий храм и восточный ландшафт, голландская ветряная мельница, север и юг, запад и восток, самое естественное и самое странное, все искусственное, но производящее впечатление настоящего. Сначала архитектор предполагает соорудить огнедышащий вулкан и построить китайскую пагоду на этой земле площадью с ладонь; к счастью, предварительная смета на эти работы оказывается неприемлемой.
Подгоняемые нетерпением королевы, сотни рабочих начинают колдовать над осуществлением планов инженеров и художников, создавать в сказочно короткие сроки ландшафты – невероятно художественные, умышленно легкие, имеющие безыскусственный вид. Прежде всего по лугу прокладывается тихий, лирически бормочущий ручеек – неотъемлемая принадлежность любой подлинной пасторали. Правда, воду нужно вести из Марли по трубам длиной две тысячи футов, и по этим трубам одновременно утекают немалые деньги, но извилистое русло ручейка выглядит так приятно и естественно! Тихо журча, ручеек впадает в искусственный пруд с искусственным островком, к островку перекинут прелестный мостик, по пруду грациозно плавают белые лебеди в сверкающем оперении. Словно из анакреонтических стихотворений[105], возникает скала с искусственным мхом, с искусно скрытым гротом любви и романтическим бельведером[106]. Ничто не напоминает о том, что этот трогательно-наивный ландшафт предварительно вычертили и раскрасили на бесчисленных листах бумаги, что сделали два десятка гипсовых моделей, в которых ручеек и пруд воспроизводились кусочками зеркального стекла, а луга и деревья, как в игрушках для детей, – раскрашенным мхом. Но дальше, дальше! Каждый год у королевы появляются новые прихоти, все более изысканные; все более естественные сооружения должны украсить ее королевство, она не желает ждать, пока будут оплачены старые счета; теперь у нее есть игра, и она намерена развлекаться. Как бы рассеянные в беспорядке, на самом же деле размещенные романтическими архитекторами с точным расчетом на определенный эффект, появляются в саду чудесные маленькие шедевры, делая его еще более очаровательным. Святилище, посвященное богу стародавних времен, и недалеко, на холме, возвышается Храм любви, его открытая античная ротонда украшена одной из лучших скульптур Бушардона – амуром, вырезающим из палицы Геркулеса меткоразящие стрелы для своего лука. Грот любви так искусно вырублен в скале, что любезничающая в нем парочка своевременно заметит приближающихся и не окажется застигнутой врасплох. Сквозь лесок бегут пересекающиеся дорожки, ведущие к лугу с диковинными цветами; вон сквозь густую зелень светится маленький музыкальный павильон-восьмигранник, сверкающий белизной, и все это с большим вкусом так дополняет друг друга, что действительно во всей этой прелестной преднамеренности не чувствуется ничего искусственного.
Но мода требует еще большего правдоподобия. Чтобы перещеголять природу в естественности, кулисы самого рафинированного ландшафта необходимо перемалевать так, чтобы они выглядели жизненно правдоподобными, и в эту пастораль, самую разительную из всех, которые знала история, к вящему триумфу фальсификаторов истинного, вводятся действующие лица, статисты – настоящие крестьяне, настоящие крестьянки, настоящие коровницы с настоящими коровами, телятами, свиньями, кроликами и овцами, настоящие косари, жнецы, пастухи, охотники, пахари и сыровары, чтобы они охотились и косили, доили коров и обрабатывали поля, чтобы игра марионеток была непрерывной. Новый, еще больший заем в государственной кассе – и по приказу Марии Антуанетты возле Трианона для заигравшихся великовозрастных детей создается кукольный театр, где действующие лица – живые люди, кукольный театр с всамделишными конюшнями, скирдами, амбарами, с голубятнями и курятниками, знаменитая hameau. Великий архитектор Мик и художник Гюбер Робер рисуют, делают наброски, строят восемь крестьянских усадеб, точно воспроизводящих современные крестьянские постройки, дома с соломенными крышами, птичьим двором и навозными кучами. А чтобы эта новехонькая бутафория, боже упаси, не выглядела неправдоподобной среди обошедшейся в копеечку искусственной природы, имитируется даже нищета и запустение действительно убогих хижин. Молотком образуют в стенах трещины, сбивают куски штукатурки, создавая у дома романтический вид, срывают с крыши несколько дранок; Гюбер Робер вырисовывает искусные узоры на деревянных деталях, чтобы они выглядели гнилыми и ветхими, печные трубы коптят до черноты. Зато внутри некоторые из этих внешне убогих хижин убраны с уютом; в них имеются зеркала и печки, бильярд и удобные кушетки. Ведь, если иной раз скуки ради королева пожелает стать героиней в духе Жана Жака Руссо, решит со своими придворными дамами поиграть в пейзан[107], захочет собственноручно приготовить масло, она ни в коем случае при этом не должна испачкать свои пальчики. Если она вздумает посетить своих коров, Брюнетту и Бланшетту, то, само собой разумеется, накануне невидимая рука начистит пол коровника что твой паркет, коровы – белоснежная и рыжая (цвета красного дерева) – будут тщательно вычищены скребницей и пенящееся молоко подадут не в грубых крестьянских ковшах, а в фарфоровых вазах с монограммой королевы, специально изготовленных на собственной его величества мануфактуре в Севре[108]. Эта hameau, милая и сейчас, совсем разрушенная, для Марии Антуанетты является театром, вошедшим в ее жизнь органически, трогательной comédie champêtre[109], как раз под стать ее легкомыслию. Ибо, в то время как во всей Франции задавленный налогами и поборами сельский люд в безмерном возбуждении наконец-то начинает, бунтуя, требовать улучшения невыносимо тяжелого положения, в этой бьющей на эффект потемкинской деревне господствует нелепое, пошлое и лживое благополучие. К пастбищу ведут овечек на голубых ленточках, королева, защищенная от лучей солнца зонтиком, который держит придворная дама, смотрит, как прачки полощут в журчащем ручейке холсты. Ах, как прекрасна она, эта простота, как моральна, как мила, как чисто все и очаровательно в этом райском мире! И жизнь здесь светла и естественна, как молоко, брызжущее из вымени коровы. Надевают платья из тонкого муслина, по-крестьянски простые (заказывают портреты в этом платье за несколько тысяч ливров), со всем легкомыслием пресыщения предаются невинным забавам, славят goût de la nature[110]. Удят рыбу, собирают цветы, прогуливаются – очень редко в одиночку – по петляющим дорожкам, бегают по лугу, смотрят на статистов, на славных пейзан за работой, играют в мяч, танцуют менуэт и гавот не на паркетном полу, а на цветущем лугу, вешают качели между деревьями, забавляются китайской игрой с кольцом, теряют друг друга, блуждают, встречаются между хижинами и в тенистых аллеях, катаются верхом, подшучивают друг над другом, разыгрывают друг перед другом сценки в этом природном театре и, наконец, играют их перед другими.
Постепенно этот вид развлечения становится королеве все более и более интересным. Сначала, для того чтобы иметь возможность принять у себя итальянских и французских комедиантов, она дает указание построить маленький театр, сохранившийся до наших дней, чрезвычайно изящный в своих пропорциях. Каприз обходится всего лишь в сто сорок одну тысячу ливров, но затем, приняв смелое решение, она сама делает прыжок на подмостки сцены. Веселая, шумная компания, окружающая королеву, также увлекается идеей любительских спектаклей, ее деверь, граф д’Артуа, Полиньяк со своими кавалерами охотно присоединяются. Несколько раз появляется даже король, чтобы отдать дань восхищения своей супруге как актрисе, и таким вот образом веселый карнавал в Трианоне продолжается круглый год.
То празднество дается в честь супруга или брата, то в честь иностранных знатных гостей, которым Мария Антуанетта желает показать свое волшебное царство, когда тысячи маленьких, прикрытых разноцветными стеклянными колпачками источников света сияют в темноте, словно аметисты, топазы, рубины, а потрескивающие огненные снопы фейерверка прорезают небо и музыка, невидимая, но близкая, создает невыразимо приятное впечатление. То банкеты на сотни персон, то ярмарочные балаганы, то танцевальные площадки – невинный ландшафт покорно служит великолепным фоном для роскоши. Нет, «на природе» не скучают. Мария Антуанетта удаляется в Трианон не для того, чтобы стать рассудительнее, а для того, чтобы разнообразнее и свободнее развлекаться.
* * *
Полная стоимость Трианона была определена лишь 31 августа 1791 года, она равнялась 1 649 529 ливрам, а в действительности, если учесть утаенные затраты, превысила два миллиона – сумма, сама по себе являющаяся каплей в бочке Данаид[111] королевской бесхозяйственности, но в то же время огромная, если принять во внимание расстроенные финансы и всеобщую нищету. «Вдова Капет» сама будет вынуждена признать перед Революционным трибуналом[112]: «Возможно, что Малый Трианон стоил колоссальных сумм, и, вероятно, больших, чем я сама желала. Расходы все росли и росли». Но и с политической точки зрения каприз королевы обошелся дорого. Ибо, оставив всю камарилью царедворцев Версаля без дела, она лишила двор смысла его жизни. Дама, которая должна подавать ей перчатки, другая, которая благоговейно пододвигает ей стул, придворные дамы и кавалеры, многие сотни гвардейцев, прислуга, льстецы и подхалимы, что делать им, отрешенным от должностей? Ничем не занятые, сидят они день за днем в Ой-де-Бёф, и, подобно бездействующей машине, которая разъедается ржавчиной, этот равнодушно покинутый двор наливается желчью и ядом. Скоро дело доходит до того, что аристократическое общество, как бы тайно сговорившись, начинает уклоняться от участия в придворных празднествах: пусть надменная «австриячка» сама забавляется в своем «petit Schönbrunn»[113], в своей «petite Vienne»[114]; эта аристократия, столь же древняя, как и аристократия габсбургская, считает, что ей слишком мало одного холодного кивка мимоходом. Все более ясной становится фронда высшей французской знати против королевы с момента, как та покинула Версаль. И герцог Леви очень образно описывает сложившуюся ситуацию: «В годы развлечения и легкомыслия, в упоении высшей властью, королева не любила в чем-либо сдерживать себя. Этикет и церемонии были для нее поводом проявить нетерпение, почувствовать скуку. Она считала, что в такое просвещенное столетие, когда люди освободились от всех предрассудков, властелины тоже должны избавиться от стесняющих их оков, короче говоря, смешно думать, будто степень послушания народа зависит от того, сколько часов королевская чета проведет среди скучных и скучающих придворных… За исключением нескольких фаворитов, обязанных своим положением капризу или интриге, весь свет оказался изолированным от двора. Чин, служебные заслуги, вес в обществе, высокое происхождение не являлись основанием к тому, чтобы быть включенным в интимный кружок королевской семьи. Лишь по воскресеньям лица, представленные ко двору, получали возможность видеть их величества в течение короткого времени. Однако большинство из них потеряли вскоре вкус к этим бесполезным мукам, за которые их никто не благодарил; они поняли, что безрассудно являться издалека, чтобы быть так неприветливо принятыми при дворе, и отказались от дальнейших попыток… Версаль – арена, на которой Людовик XIV являл свое великолепие, куда с радостью съезжались со всех концов Европы, чтобы изучить приемы утонченной галантности, чтобы приобщиться к изысканнейшим формам светской жизни, – оказался нынче всего лишь маленьким провинциальным городком, куда отправляются против своей воли, а покинуть стараются как можно скорее».
И эту опасность Мария Терезия предвидела давно и на расстоянии: «Я тоже чувствую скуку и пустоту представительства, но поверь мне, пренебрежение им может повлечь за собой серьезные неприятности, более существенные, чем эти маленькие неудобства, особенно у вас, у такой темпераментной нации». Но там, где Мария Антуанетта не желает понять, нет никакого смысла апеллировать к ее здравому смыслу. Стоит ли поднимать шум из-за того, что она живет в получасе пути от Версаля! В действительности же эти две или три мили навсегда отдалили ее от двора и от народа. Останься Мария Антуанетта жить в Версале, среди французской аристократии, сохрани она традиционные обычаи, – принцы, князья, армия аристократов в час опасности были бы на ее стороне. Или попытайся она, подобно своему брату Иосифу, демократически приблизиться к народу, сотни тысяч парижан, миллионы французов боготворили бы ее. Но Марии Антуанетте, абсолютной индивидуалистке, безразлично расположение и аристократов, и народа, она думает лишь о себе. Из-за Трианона, этого своего любимого каприза, она теряет популярность у всех трех сословий: слишком долго была она наедине со своим счастьем, поэтому окажется одинокой в несчастье и ребяческую игрушку оплатит короной и головой.
Новое общество
Едва Мария Антуанетта устраивается в своем доме, как новая метла начинает по-новому мести. Прежде всего, прочь старых людей: старые люди скучны и безобразны. Они не могут танцевать, не умеют развлекаться, проповедуют осторожность и осмотрительность. Жизнерадостная, легковозбудимая женщина еще с тех пор, когда была дофиной, по горло сыта этими вечными поучениями и сдержанностью. Итак, подальше чопорную воспитательницу мадам Этикет, графиню де Ноай: королеве не требуется быть воспитанной, она может позволить себе все – все, что пожелает! На должную дистанцию следует отдалить данного ей матерью духовника и советчика аббата Вермона, подальше всех тех, в чьем присутствии чувствуешь духовную стесненность! Приблизить к себе только юность – живое, веселое поколение, которое не упустит возможности повеселиться, развлечься, которое не принимает жизнь всерьез! Принадлежат ли эти товарищи по забавам к первым семействам королевства, являются ли они безупречными, честными людьми, не так-то и существенно, особо умными или образованными им также не обязательно быть – образованные люди педантичны, умные же ехидны; достаточно, если они остроумны, могут рассказывать пикантные анекдоты и на празднествах производят хорошее впечатление.
Развлечения, развлечения, развлечения – первое и единственное требование Марии Антуанетты к узкому кругу своих приближенных. Так возле нее собираются «avec tout ce qui est de plus mauvais à Paris et de plus jeune»[115], как, вздыхая, говорит Мария Терезия, «soi disante société»[116], как раздраженно ворчит брат королевы Иосиф II. Казалось бы, вялая, безразличная ко всему, в действительности же в высшей степени эгоистичная клика, члены которой без стеснения получают за необременительную службу (например, за должность maître de plaisir[117]) весьма увесистые ливры и, развлекаясь, не забывают совать в свои карманы арлекинов солидные пенсионы.
Лишь один скучный господин, время от времени появляясь в этом легкомысленном обществе, вносит дисгармонию. Но, к сожалению, от него невозможно избавиться, ибо – об этом чуть было не забыли – он законный супруг милой хозяйки и, кроме того, повелитель Франции. Влюбленный в свою очаровательную супругу, Людовик Снисходительный, получив предварительно разрешение, иногда является в Трианон, смотрит, как веселятся молодые люди, пытается иной раз застенчиво упрекнуть их, если они очень уж беспечно преступают границы условностей или же когда непомерно растут расходы; но стоит лишь королеве засмеяться – и король тотчас же приходит в отличное расположение духа. Да и веселые сторонние наблюдатели питают своего рода снисходительную симпатию к королю, храбро и послушно ставящему печать с факсимиле «Louis» под декретами, которыми королева предоставляет им высшие должности. Добряк никогда подолгу не мешает им, час или два, затем он возвращается в Версаль к своим книгам или в слесарную мастерскую. Как-то раз он задерживается в Трианоне, и королева, торопясь со своими друзьями в Париж, тайно переводит стрелку часов на час вперед. Не заметив маленького обмана, кроткий как овечка король ложится спать в десять вместо одиннадцати, а вся компания элегантных каналий покатывается за его спиной со смеху.
Возвышению идеи королевской власти такие шутки, конечно, не способствуют. Но что делать в Трианоне с таким неловким, неуклюжим человеком? Он не может рассказать двусмысленного анекдота, не умеет от души посмеяться. Боязливый и робкий, как если бы у него болел живот, сидит он среди веселых, развязных людей и зевает в полусне, тогда как остальные лишь к полуночи начинают чувствовать себя по-настоящему хорошо. Он не посещает маскарадов, не принимает участия в азартных играх, не ухаживает за дамами – нет, он просто никому здесь не нужен, этот славный, скучный малый; в обществе Трианона, в королевстве рококо, в этих идиллических полях беззаботности и шалостей ему нет места.
* * *
Итак, в новое общество король не введен. И брат его, граф Прованский, скрывающий свое честолюбие за личиной кажущегося безразличия, опасаясь уронить свое достоинство, почитает за разумное не общаться с этими молокососами. Но поскольку все же кто-то из членов королевской семьи по мужской линии должен сопровождать королеву в ее погоне за развлечениями, роль ангела-хранителя принимает на себя самый младший брат Людовика XVI – граф д’Артуа. Легкомысленный, фривольный и наглый, ловкий и легко приспосабливающийся, он страдает той же болезнью, что и Мария Антуанетта, – боится скуки, не желает заниматься серьезными делами. Бабник, мастер делать долги, щеголь-насмешник, хвастунишка, скорее дерзкий, нежели храбрый, скорее вспыльчивый, нежели пылкий, предводительствует он веселой кликой, ведет ее туда, где появляется новое развлечение, новая мода, новый вид спорта, и вскоре долгов у него оказывается больше, чем у короля, королевы и всего двора, вместе взятых. Но именно такой, каков он есть, он отлично подходит Марии Антуанетте. Она не больно-то уважает этого ветрогона, еще меньше любит его, как бы злые языки ни утверждали обратное. Но он очень близок ей по духу. Брат и сестра по жажде наслаждений, они образуют вскоре неразлучную пару.
Граф д’Артуа – выборный командир лейб-гвардии, с которой Мария Антуанетта предпринимает свои дневные и ночные набеги на все провинции веселой праздности. Этот отряд, впрочем, невелик и непрерывно меняет своих офицеров. Ибо снисходительная королева многое прощает своим спутникам: долги, надменность, вызывающее и слишком панибратское поведение, любовные связи и скандалы. Но любой из них теряет ее благосклонность, едва она начинает по его вине скучать. Некоторое время первенствует барон Безанваль, пятидесятилетний швейцарский аристократ с шумными, бесцеремонными манерами старого солдата, затем предпочтение отдается герцогу Койиньи, он «un des plus constamment favorisés et le plus consultés»[118].
Этим двоим вместе с честолюбивым герцогом Гином и венгерским графом Эстергази дается удивительное поручение – заботиться о королеве, пока она болеет краснухой, что при дворе дает повод к ехидному вопросу: каких четырех придворных дам выбрал бы король при подобной ситуации? Постоянно сохраняет свое место граф Водрей, возлюбленный фаворитки Марии Антуанетты графини Полиньяк; несколько в тени остается наиболее утонченный среди избранников, окружающих королеву, – принц Линь, единственный, кто из своего положения в Трианоне не извлекает материальных выгод, не стремится выторговать себе прибыльную государственную ренту, единственный также, кто в своих мемуарах, уже старым человеком, с благоговением вспоминает о своей королеве. Непостоянными звездами этого идиллического небосклона являются красавец Диллон и юный пылкий сумасброд герцог Лозен. Общение с ними какое-то время представляет известную угрозу целомудрию девственницы поневоле. Лишь с трудом, благодаря энергичным усилиям, посланнику Мерси удается заставить отступить юного безумца Лозена, прежде чем тот успевает завоевать больше, нежели просто симпатию королевы. Граф Адэмар приятно поет под аккомпанемент арфы и принимает деятельное участие в любительском театре; этого оказывается достаточно, чтобы он получил пост посланника в Брюсселе, а затем в Лондоне. Другие же предпочитают оставаться дома и выуживают себе из искусно взбаламученной воды прибыльные должности при дворе. Никто из этих кавалеров, за исключением принца Линя, не обладает истинными духовными достоинствами, никто из них – честолюбием, которое побудило бы использовать особое положение, занимаемое ими при королеве, для осуществления каких-либо широко задуманных в политическом смысле планов, никто из этих героев маскарадов Трианона не станет истинным героем истории. Ни один из этих щеголей внутренне, по-настоящему не уважает Марию Антуанетту. Иным из них молодая кокетливая женщина позволяет несколько больше интимности в общении, чем это подобает королеве, но ни одному, и это бесспорно, она не жертвует собой полностью – ни духовно, ни как женщина. Тот же, кто должен стать единственным для нее и будет им, тот, кто однажды и навсегда завоюет ее сердце, стоит пока еще в тени. И суматошливое поведение статистов, быть может, и служит лишь затем, чтобы скрыть его близость, его присутствие.