Читать онлайн Приключения Тома Сойера бесплатно
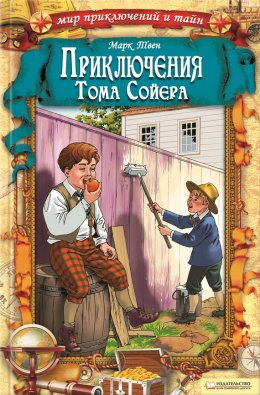
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2012
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2012
© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2012
* * *
Золотое перо Америки
30 ноября 1835 года в США, в деревушке Флорида в штате Миссури, появился на свет ребенок, которого назвали Сэмюэл Ленгхорн Клеменс. Этот год запомнился жителям Земли величественным космическим зрелищем – появлением на небосклоне кометы Галлея, приближающейся к нашей планете раз в 75 лет. Вскоре семья Сэма Клеменса в поисках лучшей жизни переехала в городок Ганнибал в том же Миссури.
Глава семьи умер, когда его младшему сыну не исполнилось и двенадцати лет, не оставив ничего, кроме долгов, и Сэму пришлось зарабатывать на хлеб в газете, которую начал издавать его старший брат. Подросток трудился не покладая рук – сначала в качестве наборщика и печатника, а вскоре и как автор забавных и едких заметок.
Но вовсе не слава «золотого пера» привлекала в эти годы юного Клеменса. Выросший на Миссисипи, он, как позднее и его герои, постоянно ощущал зов могучей и полной волшебного очарования реки. Он мечтал о профессии лоцмана на пароходе и спустя несколько лет действительно стал им. Позже он признавался, что считает это время самым счастливым в своей жизни и, если бы не Гражданская война между северными и южными штатами США, оставался бы лоцманом до конца своих дней.
В рейсах по Миссисипи родился и псевдоним, которым Сэм Клеменс подписывал все свои произведения – двадцать пять увесистых томов. «Марк твен» на жаргоне американских речников означает минимальную глубину, при которой пароход не рискует сесть на мель, – что-то около трех с половиной метров. Это словосочетание стало его новым именем, именем самого знаменитого человека второй половины XIX века в Америке – писателя, создавшего настоящую американскую литературу, сатирика, публициста, издателя и путешественника.
С началом военных действий судоходство по Миссисипи прекратилось и Сэм Клеменс вступил в один из добровольческих отрядов, но быстро разочаровался в бессмысленно жестокой войне, где соотечественники истребляли друг друга, и вместе с братом отправился на западное побережье в поисках заработка. Две недели длилось путешествие в фургоне, и, когда братья добрались до штата Невада, Сэм остался работать на шахте в поселке Вирджиния, где добывали серебро.
Рудокопом он оказался неважным, и вскоре ему пришлось устроиться в местную газету «Территориэл Энтерпрайзис», где он впервые начал подписываться «Марк Твен». А в 1864 году молодой журналист перебрался в Сан-Франциско, где начал писать сразу для нескольких газет, и вскоре к нему пришел первый литературный успех: его рассказ «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» был признан лучшим произведением юмористической литературы, созданным в Америке. В эти годы в качестве корреспондента Марк Твен объездил всю Калифорнию и побывал на Гавайских островах, а его путевые заметки пользовались неслыханной популярностью у читателей.
Но настоящую славу Марку Твену принесли другие путешествия – в Европу и на Ближний Восток. Письма, написанные им в пути, составили книгу «Простаки за границей», которая увидела свет в 1869 году. Писателю не сиделось на месте – в эти годы он успел побывать не только в Европе, но и в Азии, Африке и даже в Австралии. Заглядывал он и в Украину – в Одессу, но совсем ненадолго.
Случайная встреча с другом детства в 1874 году и общие воспоминания о мальчишеских приключениях в городке Ганнибал натолкнули Твена на мысль написать об этом. Книга далась ему не сразу. Поначалу он задумывал ее в форме дневника, но наконец нашел нужную форму, и в 1875 году были созданы «Приключения Тома Сойера». Роман был опубликован через год и в считанные месяцы превратил Марка Твена из известного юмориста в великого американского писателя. За ним закрепилась слава мастера увлекательного сюжета, интриги, создателя живых и неповторимых характеров.
К этому времени писатель с женой и детьми поселился в городке Хартфорд в штате Коннектикут, где и прожил следующие двадцать лет, наполненных литературным трудом и заботами о семье. Почти сразу по окончании «Тома Сойера» Марк Твен задумал «Приключения Гекльберри Финна», но работа над книгой заняла много времени – роман был опубликован только в 1884 году. Полвека спустя Уильям Фолкнер писал: «Марк Твен был первым по-настоящему американским писателем, и все мы с тех пор – его наследники».
После «Гекльберри» Твен создал несколько романов, которые и по сей день завораживают читателей. Среди них «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», «Личные воспоминания о Жанне д’Арк», «Простофиля Уилсон» и другие. Он публиковал сборники рассказов и очерков, сатирические и публицистические произведения, пользовавшиеся неизменным успехом у читателей. Спустя десятилетие он вернулся к своему первому шедевру и создал повести «Том Сойер за границей» и «Том Сойер – детектив».
Жизнь Марка Твена была сложной и насыщенной самыми неожиданными событиями. Он знавал удачи и провалы, бывал богат и беден, вкладывал свои гонорары в безумные предприятия и проекты и часто ошибался в финансовых делах. Так, в 1896 году управляющий издательства, основанного писателем, довел его до краха и оставил Твена без средств к существованию и с гигантскими долгами. Чтобы выпутаться из этой ситуации, Марк Твен перевез свою семью в Европу, а сам в возрасте 65 лет отправился в кругосветное турне с лекциями. Турне продлилось больше года, Твен заработал достаточно, чтобы избавиться от долгов, но в это время скончалась его жена, которая долгие годы была его литературным редактором и бесценным советчиком.
Конец жизни Марка Твена был печальным – несчастья буквально преследовали его. Помимо смерти жены ему пришлось пережить смерть одной из дочерей и неизлечимую болезнь другой. В Америке разразился экономический кризис, причинами которого Твен считал алчность богатых и безнравственность бедных. Писатель, чьи лучшие произведения наполнены мудростью и светлым юмором, разочаровался в человечестве и больше не верил в прогресс и демократию, эти главные американские ценности. Такие мысли звучат в его последних произведениях, многие из которых остались незаконченными, и в «Воспоминаниях», опубликованных только в 1924 году.
За год до смерти Марк Твен сказал другу, что ему остается только дождаться кометы и покинуть вместе с ней Землю, которая так его разочаровала. Он умер 21 апреля 1910 года. Комета Галлея появилась на небосклоне на следующий день.
Глава 1
– Том!
Ни звука.
– Томас!
Молчание.
– Удивительно, и куда провалился этот мальчишка? Где ты, Том?
Нет ответа.
Тетя Полли сдвинула очки на кончик носа и оглядела комнату. Затем подняла очки на лоб и оглядела комнату из-под них. Почти никогда она не глядела на такую ерунду, как мальчишка, сквозь очки; это были парадные очки, и приобретены они были исключительно для красоты, а не ради пользы. Поэтому разглядеть что-либо сквозь них было так же трудно, как сквозь печную дверцу. На минуту она застыла в раздумье, а затем произнесла – не особенно громко, но так, что мебель в комнате могла ее расслышать:
– Ну погоди, дай только добраться до тебя, и я…
Оборвав себя на полуслове, она наклонилась и принялась шарить половой щеткой под кроватью, переводя дух после каждой попытки. Однако ничего, кроме перепуганной кошки, извлечь оттуда ей не удалось.
– Что за наказание, в жизни такого ребенка не видывала!
Подойдя к распахнутой настежь двери, она остановилась на пороге и окинула взглядом огород – грядки томатов, основательно заросших сорняками. Тома не было и здесь. Тогда, повысив голос настолько, чтобы ее было слышно и за забором, тетя Полли крикнула:
– То-о-ом, ты куда пропал?
Позади послышался едва уловимый шорох, и она мгновенно оглянулась – так, чтобы успеть ухватить за помочи мальчишку, прежде чем тот шмыгнет в дверь.
– Так и есть! Я опять упустила из виду чулан. Что тебе там понадобилось?
– Ничего.
– Как это – ничего? А в чем у тебя руки? Кстати, и физиономия тоже. Это что такое?
– Откуда мне знать, тетушка?
– Зато я знаю. Это варенье – вот это что! Сотню раз я тебе твердила: не смей прикасаться к варенью! Подай сюда розгу.
Розга угрожающе засвистела в воздухе – беды не миновать.
– Ой, тетушка, что это там шевелится в углу?!
Пожилая леди стремительно обернулась, подхватив юбки, чтобы уберечь себя от опасности. Мальчик мигом перемахнул через забор огорода – и был таков.
В первое мгновение тетя Полли оторопела, но потом рассмеялась:
– Ну и прохвост! Неужто я так ничему и не научусь? Разве мало я перевидала его каверз? Пора бы уже мне и поумнеть. Но недаром ведь сказано: нет хуже дурака, чем старый дурак, а старую собаку не выучишь новым фокусам. Но, господи боже мой, ведь он каждый день придумывает что-нибудь новенькое – как же тут угадаешь? А главное, знает, где предел моему терпению, и стоит ему меня рассмешить или хоть на минуту сбить с толку, так я даже отшлепать его как следует не могу. Ох, не исполняю я свой долг, хоть это и великий грех! Верно сказано в Библии: кто щадит отпрыска своего, тот его и губит… И что тут поделаешь: Том сущий бесенок, но ведь он, бедняжка, сын моей покойной сестры – и у кого же рука поднимется наказывать сироту? Потакать ему – совесть не велит, а возьмешься за розгу – сердце разрывается. Недаром в Библии говорится: век человеческий краток и полон скорбей. Истинная правда! Вот, пожалуйста: сегодня он отлынивает от школы, значит, придется мне завтра его наказать – пусть потрудится. Жалко заставлять мальчика работать, когда у всех детей праздник, но я-то знаю, что работа для него вдвое хуже розги, а я обязана исполнить свой долг, иначе окончательно погублю душу ребенка.
В школу Том действительно не пошел, поэтому время провел отлично. Он едва успел вернуться домой, чтобы перед ужином помочь негритенку Джиму напилить дров и наколоть щепок для растопки. А уж если по правде – для того, чтобы поведать Джиму о своих похождениях, пока тот будет управляться с работой. Тем временем младший брат Тома Сид подбирал и носил поленья в растопку. Сид был примерный мальчик, не чета всяким сорванцам и озорникам, правда, братом он Тому приходился не родным, а сводным. Неудивительно, что это были два совершенно разных характера.
Пока Том ужинал, то и дело запуская лапу в сахарницу, тетя Полли задавала ему вопросы, которые ей самой казались весьма коварными, – ей хотелось поймать Тома на слове. Как многие очень простодушные люди, она считала себя большим дипломатом, способным на самые изощренные уловки, и полагала, что ее невинные хитрости – верх проницательности и лукавства.
– Что, Том, в школе сегодня было не слишком жарко?
– Нет, тетушка.
– А может быть, все-таки жарковато?
– Да, тетушка.
– Неужто тебе не захотелось выкупаться, Томас?
У Тома похолодела спина – он мигом почуял подвох.
Недоверчиво заглянув в лицо тети Полли, он ничего особенного там не увидел, потому и сказал:
– Нет, тетушка. – И добавил: – Не очень.
Тетя Полли протянула руку и, пощупав рубашку Тома, проговорила:
– И в самом деле ты совсем не вспотел. – Ей доставляло удовольствие думать, что она сумела проверить, сухая ли у Тома рубашка, так, что никто не догадался, зачем ей это понадобилось.
Том, однако, уже учуял, откуда ветер дует, и опередил ее на два хода:
– В школе мальчики поливали головы водой из колодца. У меня она до сих пор мокрая, вот – поглядите-ка!
Тетя Полли огорчилась: какая улика упущена! Но тут же снова взялась за свое:
– Но ведь тебе незачем было распарывать воротник, чтобы окатить голову, правда? Ну-ка, расстегни куртку!
Ухмыльнувшись, Том распахнул куртку – воротник был накрепко зашит.
– Ох, ну тебя, прохвост! Убирайся с моих глаз! Я, признаться, и в самом деле решила, что ты сбежал с уроков купаться. Но не так ты плох, как иной раз кажется.
Тетушка и огорчилась, что проницательность на этот раз ее подвела, и обрадовалась – пусть это было случайностью, но Том сегодня вел себя прилично.
Но тут подал голос Сид:
– Мне кажется, что с утра вы зашили ему ворот белой ниткой, а теперь, глядите – черная.
– Ну да, конечно же белой! Томас!
Ожидать продолжения следствия стало опасно. Выбегая за дверь, Том крикнул:
– Уж я припомню это тебе, Сидди!
Оказавшись в безопасности, Том осмотрел две толстые иголки, вколотые в изнанку лацкана его куртки и обмотанные ниткой: одна – белой, другая – черной.
– Вот чертовщина! Она бы ничего не заметила, если б не этот Сид. И что это за манера: то она зашивает белой ниткой, то черной. Хоть бы что-нибудь одно, за всем ведь не уследишь. Ох, и всыплю же я этому Сиду по первое число!
Даже с очень большой натяжкой Тома нельзя было назвать самым примерным мальчиком в городе, зато он хорошо знал этого самого примерного мальчика – и терпеть его не мог.
Однако спустя пару минут, а возможно и быстрее, он забыл о своих злоключениях. Не потому, что эти злоключения были не такими болезненными и горькими, как несчастья взрослых людей, но потому, что новые, более сильные впечатления вытеснили их из его души, – в точности так же, как взрослые забывают старое горе, начиная какое-нибудь новое дело. Сейчас такой новинкой была особая манера свистеть, которую он только что перенял у одного чернокожего, и теперь было самое время без помех поупражняться в этом искусстве.
Свист этот представлял собой птичью трель – что-то вроде заливистого щебета; и чтобы выходило как надо, требовалось то и дело касаться нёба кончиком языка. Читатель наверняка знает, как это делается, если когда-нибудь был мальчишкой. Понадобились изрядные усилия и терпение, но вскоре у Тома стало получаться, и он зашагал по улице еще быстрее – с его губ слетал птичий щебет, а душа была полна восторга. Он чувствовал себя как астроном, открывший новую комету, – и, если уж говорить о чистой, глубокой, без всяких примесей радости, все преимущества были на стороне Тома Сойера, а не астронома.
Впереди был длинный летний вечер. Внезапно Том перестал насвистывать и замер. Перед ним стоял совершенно незнакомый мальчик чуть старше, чем он сам. Любой приезжий, независимо от возраста и пола, был великой редкостью в захудалом городишке Сент-Питерсберге. А этот мальчишка вдобавок был одет как щеголь. Только вообразите: одет по-праздничному в будний день! Невероятно! На нем были совершенно новая шляпа без единого пятнышка, нарядная суконная куртка, застегнутая на все пуговицы, и такие же новые штаны. И, боже правый, он был в башмаках – это в пятницу-то! У него даже имелся галстук из какой-то пестрой ленты, завязанный у ворота. Вид у щеголя был надменный, чего Том стерпеть уж никак не мог. И чем дольше он смотрел на это ослепительное великолепие, тем выше задирал нос перед франтом чужаком и тем более убогим казался ему собственный наряд. Оба молчали. Если начинал двигаться один из мальчиков, двигался и другой, но боком, сохраняя дистанцию; они стояли лицом к лицу, не отрывая глаз друг от друга, и наконец Том проговорил:
– Хочешь, отколочу?
– Только попробуй! Сопляк!
– Сказал, что отколочу, и отколочу!
– Не выйдет!
– Выйдет!
– Не выйдет!
– Выйдет!
– Не выйдет!
Тягостная пауза, после чего Том снова начал:
– Как тебя звать?
– Не твое собачье дело!
– Захочу – будет мое!
– Чего ж ты не дерешься?
– Поговори еще – и получишь по полной.
– И поговорю, и поговорю – что, слабо?
– Подумаешь, павлин! Да я тебя одной левой уложу!
– Ну так чего не укладываешь? Болтать все умеют.
– Ты чего вырядился? Подумаешь, важный! Еще и шляпу нацепил!
– Возьми да сбей, если не нравится. Только тронь – и узнаешь! Где уж тебе драться!
– Катись к дьяволу!
– Поговори у меня еще! Я тебе голову кирпичом проломлю!
– Да ну?
– И проломлю!
– Ты, я вижу, мастер болтать. Чего ж не дерешься? Струсил?
– Нет, не струсил!
– Трус!
И снова грозное молчание. Затем оба начали боком подступать друг к другу, пока плечо одного не уперлось в плечо другого. Том сказал:
– Давай, уноси ноги отсюда!
– Сам уноси!
Оба продолжали стоять, изо всех сил напирая на соперника и с ненавистью уставившись на него. Однако одолеть не мог ни один, ни другой. Наконец, разгоряченные стычкой, они с осторожностью отступили друг от друга и Том проговорил:
– Ты паршивый трус и слюнявый щенок. Вот скажу старшему брату, чтоб он тебе задал как следует!
– Наплевать мне на твоего старшего брата! У меня тоже есть брат, еще постарше твоего. Возьмет да и перебросит твоего через забор!
Тут следует вспомнить, что у обоих никаких старших братьев и в помине не было. Тогда Том большим пальцем ноги провел в пыли черту и, хмурясь, проговорил:
– Переступишь эту черту, и я тебя так отлуплю, что своих не узнаешь! Попробуй – не обрадуешься!
Франт быстро перешагнул черту и задиристо сказал:
– Ну-ка давай! Только тронь! Чего не дерешься?
– Давай два цента – получишь.
Порывшись в кармане, франт достал два медяка и с усмешкой протянул Тому. Том мигом ударил его по руке, и медяки полетели в пыль. В следующее мгновение оба клубком покатились по мостовой. Они таскали друг друга за волосы, рвали одежду, угощали увесистыми тумаками – и покрыли себя пылью и «боевой славой». Когда пыль немного осела, сквозь дым сражения стало видно, что Том оседлал приезжего и молотит его кулаками.
– Проси пощады! – наконец проговорил он, переводя дух.
Франт молча завозился, пытаясь освободиться. По его лицу текли слезы злости.
– Проси пощады! – Кулаки заработали снова.
Наконец чужак сдавленным голосом запросил пощады, и Том отпустил его, назидательно заметив:
– Будет тебе наука. В другой раз гляди, с кем связываешься.
Франт побрел прочь, отряхивая пыль с куртки, прихрамывая, всхлипывая, сопя и клятвенно обещая всыпать Тому, если «поймает его еще раз».
Вдоволь насмеявшись, Том направился было домой в самом отличном расположении духа, но едва повернулся к чужаку спиной, как тот схватил камень и швырнул в Тома, угодив ему между лопатками, а сам пустился наутек, прыгая, как водяная антилопа. Том преследовал его до самого дома и заодно выяснил, где этот щеголь живет. С полчаса он караулил у ворот, выманивая неприятеля на улицу, но тот только корчил рожи из окна. В конце концов появилась мамаша щеголя, обругала Тома, назвав скверным, грубым и невоспитанным мальчишкой, и велела ему убираться прочь. Что он и сделал, предупредив леди, чтоб ее расфуфыренный сынок больше не попадался ему на дороге.
Домой Том вернулся уже в темноте и, осторожно влезая в окно, наткнулся на засаду в лице тети Полли. Когда же она обнаружила, в каком состоянии его одежда и физиономия, ее решимость заменить ему субботний отдых каторжными работами стала тверже гранита.
Глава 2
Наступило великолепное субботнее утро. Все вокруг дышало свежестью, сияло и было полно жизни. Радостью светилось каждое лицо, и бодрость ощущалась в походке каждого. Белая акация была в полном цвету, и ее сладкий аромат разливался повсюду.
Кардиффская гора – ее вершина видна в городке откуда угодно – сплошь зазеленела и казалась издалека чудесной безмятежной страной.
Именно в этот момент на тротуаре появился Том с ведром разведенной известки и длинной кистью в руках. Однако при первом же взгляде на забор всякая радость покинула его, а душа погрузилась в глубочайшую скорбь. Тридцать ярдов сплошного дощатого забора высотою в девять футов! Жизнь представилась ему бессмысленной и тягостной. С тяжелым вздохом окунув кисть в ведро, Том мазнул ею по верхней доске забора, повторил эту операцию дважды, сравнил ничтожный выбеленный клочок с необозримым континентом того, что еще предстояло покрасить, и в отчаянии уселся под деревом.
Тем временем из калитки вприпрыжку выскочил негритенок Джим с ведром в руке, напевая «Девушки из Буффало». До этого дня Тому казалось, что нет скучнее занятия, чем носить воду из городского колодца, но сейчас он смотрел на это иначе. У колодца всегда полно народу. Белые и черные мальчишки и девчонки вечно торчат там, дожидаясь своей очереди, болтают, меняются игрушками, ссорятся, шалят, а порой и дерутся. И хоть до колодца от их дома каких-нибудь полтораста шагов, Джим сроду не возвращался домой раньше чем через час, а бывало и так, что за ним приходилось кого-нибудь посылать. Поэтому Том сказал:
– Слышь-ка, Джим! Давай я сбегаю за водой, а ты тут пока немножко побели.
– Как можно, мистер Том! Старая хозяйка велела мне мигом принести воду и, сохрани бог, нигде не застревать по дороге. Она еще сказала, что мистер Том наверняка позовет меня красить забор, так чтоб я делал свое дело, не совал нос куда не просят, а уж насчет забора она сама распорядится.
– Да что ты ее слушаешь, Джим! Мало ли что она наговорит! Давай ведро, одна нога здесь – другая там, вот и все. Тетя Полли даже не догадается.
– Ох, боязно мне, мистер Том. Старая хозяйка голову мне оторвет. Ей-богу, оторвет!
– Это она-то? Да она и не дерется совсем. Разве что щелкнет по макушке наперстком, только и делов, – подумаешь, важность! Говорит-то она разное, да только от ее слов ничего не делается, разве что иной раз сама расплачется. Джим, ну хочешь, я тебе шарик подарю? Белый, с мраморными жилками!
Джим заколебался.
– Белый и вдобавок мраморный, Джим! Это тебе не фигли-мигли!
– Ох как блестит! Только очень уж боюсь я старой хозяйки, мистер Том…
– Ну хочешь, я покажу тебе свой больной палец?
Джим был обычным человеком – и не устоял перед таким соблазном. Он поставил ведро, взял мраморный шарик и, выпучив глаза от любопытства, склонился над больным пальцем, пока Том разматывал бинт. В следующую секунду он уже вихрем летел по улице, громыхая ведром и почесывая затылок, Том с бешеной энергией белил забор, а тетя Полли удалялась с поля битвы с туфлей в руке. Глаза ее горели торжеством.
Но рвения Тома хватило ненадолго. Его мысли вернулись к тому, как славно он мог бы провести этот денек, и он снова загоревал. Вот-вот на улице появятся другие мальчишки и поднимут Тома на смех из-за того, что его заставили работать в субботу. Сами-то они отправляются в разные интересные места.
Эта мысль жгла его огнем. Он извлек из карманов все заветные сокровища и устроил им ревизию: сломанные игрушки, шарики, всякая дребедень, может, и сгодятся для обмена, но вряд ли за это можно купить хотя бы час свободы. Убрав с глаз долой свои тощие капиталы, Том выкинул из головы мысль о том, чтобы подкупить кого-либо. Но в эту минуту, полную отчаяния и безнадежности, его вдруг посетило вдохновение. Самое настоящее вдохновение, без всяких преувеличений!
Взявшись за кисть, он продолжил не спеша и со вкусом работать. Вскоре из-за угла показался Бен Роджерс – тот самый мальчишка, чьих ядовитых насмешек Том опасался больше всего. Походка у Бена была беззаботная, он то и дело подпрыгивал – верный признак того, что на сердце у него легко и от жизни он ждет сплошных подарков. Он грыз яблоко и время от времени издавал протяжный гудок, за которым следовал мелодичный перезвон: «Динь-дон-дон, динь-дон-дон» – на самых низких нотах, потому что Бен изображал колесный пароход. Приближаясь к Тому, он сбавил ход, свернул на середину фарватера, слегка накренился на правый борт и стал без спешки подходить к берегу. Вид при этом он имел необыкновенно важный, потому что изображал «Большую Миссури» с осадкой в девять футов. В эту минуту Бен Роджерс был и пароходом, и капитаном, и рулевым, и судовым колоколом, поэтому, отдавая команду, он тут же ее и выполнял.
– Стоп, машина! Динь-динь-линь! – Механик выполнил команду, и пароход медленно причалил к бровке тротуара. – Задний ход! – Обе руки Бена опустились и вытянулись по швам.
– Право руля! Динь-динь-линь! Ч-чу-у! Чу-у! – Правая рука взлетела вверх и принялась описывать торжественные круги: сейчас она изображала главное гребное колесо.
– Лево руля! Динь-динь-линь! Чу-у-чу-у! – Теперь круги описывала левая.
– Стоп, правый борт! Динь-динь-линь! Стоп, левый борт! Малый ход! Стоп, машина! Самый малый! Динь-динь-линь! Чу-у-у-ф-ф! Отдать концы! Да пошевеливайтесь там! Ну где у вас швартовочный конец? Зачаливай за кнехт! Так, теперь попусти!
– Машина стала, сэр! Динь-динь-линь! Шт-шт-шт-ш-ш-ш! – Это пароход сбрасывал пар.
Том продолжал орудовать кистью, не обращая на «Большую Миссури» ни малейшего внимания. Бен прищурился и проговорил:
– Ага, попался-таки! Взяли тебя на буксир!
Ответа не последовало. Том посмотрел на последний мазок взглядом живописца, потом еще раз бережно провел кистью по доскам и отступил, задумчиво созерцая результат. Бен подошел и встал сзади. Том проглотил слюну – до того ему захотелось яблока, но виду не подал и вновь взялся за дело. Наконец Бен произнес:
– Что, старик, приходится потрудиться, э?
Том резко обернулся, словно от неожиданности:
– А-а, это ты, Бен! Я тебя и не заметил.
– Не знаю, как ты, а я иду купаться. Нет желания? Хотя о чем это я – ты, само собой, еще поработаешь. Это дело наверняка поинтересней.
Том с недоумением взглянул на Бена и спросил:
– Это что ты называешь работой?
– А это, по-твоему, что?
Том широко взмахнул в воздухе кистью и небрежно ответил:
– Что ж, может, для кого работа, а для кого и нет. Мне известно только одно: Тому Сойеру это по душе.
– Да брось ты! Скажи еще, что тебе нравится белить!
Кисть по-прежнему равномерно скользила по доскам забора.
– Белить? А почему нет? Небось не каждый день нашему брату случается приводить в порядок забор.
С этой минуты все предстало в новом свете. Бен даже перестал жевать яблоко. Том бережно водил кистью взад и вперед, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться на дело рук своих, добавлял здесь мазок, там штрих и снова оценивал результат, а Бен пристально следил за каждым его движением, и глаза его постепенно разгорались. Внезапно он сказал:
– Слышь, Том, дай-ка и мне побелить чуток.
Том задумался, напустив на себя такой вид, будто и готов был согласиться, но внезапно передумал.
– Нет, Бен, не выйдет. Тетя Полли просто молится на этот забор; понимаешь, он выходит на улицу… Ну если б это было со стороны двора, она бы и слова не сказала… да и я тоже. Но тут… Его знаешь как надо белить? Тут разве что один из тысячи, а то и из двух тысяч мальчишек сумеет справиться как следует.
– Да ты что? Слышь, Том, ну дай хоть мазнуть, ну самую малость! Вот я – я бы тебя пустил, если б оказался на твоем месте.
– Бен, да я бы с радостью, клянусь скальпом! Но как быть с тетей Полли? Джиму тоже хотелось, а она запретила. Сид – тот в ногах у нее валялся, а она и Сиду не разрешила. Такие, парень, дела… Допустим, ты возьмешься, а что-то пойдет не так?
– Брось, Том, я же со всем старанием! Ну пусти, я только попробовать… Слушай, хочешь половину яблока.
– Ну как тебе сказать… Хотя нет, Бен, все-таки не стоит. Что-то я побаиваюсь.
– Я тебе все яблоко отдам!
Без всякой охоты Том выпустил кисть из рук, но душа его ликовала. И пока бывший пароход «Большая Миссури» в поте лица трудился на самом солнцепеке, удалившийся от дел живописец, посиживая в тени на старом бочонке, болтал ногами, хрустел яблоком и строил планы дальнейшего избиения младенцев.
За младенцами дело не стало. Мальчишки ежеминутно появлялись на улице; они останавливались, чтобы позубоскалить над Томом, – и в конце концов оставались красить забор. Как только Бен выдохся, Том выгодно продал следующую очередь Билли Фишеру – за подержанного, но еще очень приличного воздушного змея, а когда тот умаялся, Джонни Миллер приобрел право на кисть за дохлую крысу с привязанной к ней веревочкой – чтобы удобней вертеть в воздухе. Так оно и пошло.
К середине дня из почти нищего Том стал магнатом. Он буквально утопал в роскоши. Теперь у него имелись: двенадцать шариков, поломанная губная гармошка, осколок бутылочного стекла синего цвета, чтобы глядеть на солнце, катушка без ниток, ключ неизвестно от чего, кусок мела, пробка от хрустального графина, оловянный солдатик, пара головастиков, шесть хлопушек, одноглазый котенок, бронзовая дверная ручка, собачий ошейник, рукоятка от ножа, четыре куска апельсиновой корки и старая оконная рама. Том отменно провел время, а забор был покрыт известкой в три слоя! Если бы у него не кончилась побелка, он пустил бы по миру всех мальчишек в городке.
«Жить на свете не так уж скверно», – подумал Том. Сам того не подозревая, он открыл великий закон, управляющий человеческими поступками. Этот закон гласит: для того чтобы мальчишке или взрослому – это все равно кому – захотелось чего-нибудь, нужна только одна вещь: чтобы этого было трудно добиться. Если бы Том Сойер был выдающимся мыслителем вроде автора этой книги, он бы пришел к выводу, что работа – это то, что человек вынужден делать, а игра – то, что он делать совершенно не обязан. И это помогло бы ему уяснить, почему делать искусственные цветы или носить воду в решете есть работа, а сшибать кегли или карабкаться на гору Монблан – приятная забава. Говорят, в Англии есть богачи, которым нравится в летнюю пору править почтовой каретой, запряженной четвериком. Такая возможность стоит им бешеных денег, но, если бы они получали за это жалованье, игра превратилась бы в работу и потеряла всю свою прелесть.
Еще некоторое время Том раздумывал над той переменой, которая произошла в его имущественном положении, а затем отправился с докладом в штаб главнокомандующего.
Глава 3
Когда он явился к тете Полли, та сидела у открытого окна в уютной комнате, служившей сразу спальней, гостиной, столовой и библиотекой. Ласковый летний воздух, тишина, запах цветов и сонное гудение пчел возымели свое действие, и она задремала над рукоделием, потому что поговорить ей было не с кем, кроме кошки, да и та давным-давно спала у нее на коленях. Очки пожилой леди ради их же безопасности были подняты выше лба. Твердо уверенная, что Том давным-давно сбежал купаться, тетя Полли неописуемо удивилась, увидев, что тот сам идет к ней в руки.
Том смиренно произнес:
– Могу я теперь пойти поиграть, тетя?
– Как, уже? И сколько же ты сделал?
– Я закончил, тетя.
– Том, не сочиняй, я этого не люблю!
– Я не сочиняю, тетя. Все готово.
Верить на слово было не в обычае тети Полли. Если б слова Тома оказались правдой хоть на двадцать процентов, она была бы вполне удовлетворена. Поэтому она и отправилась взглянуть на свершившееся чудо собственными глазами.
Когда же она обнаружила, что забор выбелен от начала до конца, и не просто выбелен, а покрыт известкой в два, а то и, страшно представить, в три слоя, и вдобавок по земле проведена белая полоса, ее изумлению не было предела. Она сказала:
– Вот так так! Ничего не скажешь, Том, работать ты можешь, когда захочешь. – Но тут же разбавила комплимент: – Жаль только, что это редко случается. Ну ступай, да приходи вовремя, не то дождешься розги.
Тетя Полли была настолько потрясена малярными талантами Тома, что отправилась в чулан, выбрала там самое большое яблоко и вручила ему, сопроводив назидательной речью о том, насколько приятней бывает награда, если она заработана честно и добродетельно. Как раз в ту минуту, когда она принялась цитировать подходящее место из Библии, Том успел стибрить у нее за спиной пряник.
Выбежав из комнаты, Том увидел, что по наружной лестнице в пристройку второго этажа поднимается Сид. Под рукой хватало комьев сухой земли – и они тотчас замелькали в воздухе, градом осыпая Сида. Прежде чем тетя Полли успела опомниться и прийти ему на выручку, пять-шесть комьев поразили цель, а Том перемахнул через забор – и был таков. В заборе имелась калитка, но у него, как и всегда, времени было в обрез – не делать же ради этой калитки изрядный крюк. Теперь душа его была спокойна: Сид сполна расплатился за то, что указал тете Полли на черную нитку в вороте его рубахи.
Том обогнул свой квартал и свернул в грязный переулок. Благополучно миновав коровник тети Полли и избежав плена и казни, он бегом бросился на городскую площадь, где, заранее сговорившись, уже строились в боевые порядки две армии. Одну из них предстояло возглавить Тому, другую – его закадычному приятелю Джо Харперу. Оба прославленных полководца не снисходили до того, чтобы сражаться собственноручно, – для этого существовала всякая мелюзга. Они вместе восседали на возвышении и руководили боевыми действиями, рассылая приказы через адъютантов.
После жестокой и изнурительной битвы армия Тома одержала блистательную победу. Подсчитали убитых, обменялись пленными и уговорились, когда снова объявлять войну. Был назначен день генерального сражения, потом обе армии построились в походные колонны и удалились, а Том в одиночестве поплелся домой.
Проходя мимо дома, где жил Джеф Тэтчер, он заметил в саду незнакомую девчонку – голубоглазое создание с золотистыми волосами, заплетенными в две длинные косы, в белом летнем платье и вышитых панталончиках. Суровый воин, только что увенчанный лаврами победителя, пал без единого выстрела. Некая Эмми Лоуренс мигом испарилась из его сердца, не оставив там ни малейшего следа. Еще вчера Том был уверен, что будет обожать ее вечно, а оказалось, что это всего-навсего легкое увлечение. Не один месяц он добивался взаимности, только на прошлой неделе она призналась ему в любви; несколько коротких дней он был счастлив и горд, как ни один мужчина на свете, и хватило короткого мгновения, чтобы Эмми покинула его сердце, как случайная гостья.
Некоторое время Том поклонялся новому божеству издали, пока не обнаружил, что девчонка его заметила. Тогда он сделал вид, что понятия не имеет о том, что она здесь, и начал на все лады валять дурака, как это принято у мальчишек, стараясь понравиться и вызвать восхищение. Так он и выкидывал всякие штучки, пока, случайно взглянув в ее сторону во время какого-то головоломного акробатического трюка, не обнаружил, что девочка направляется к дому. Том подошел к забору и прислонился к нему, скрывая досаду, но все-таки надеясь, что она побудет в саду еще немного. Девочка с минуту постояла на крыльце, потом взялась за ручку двери. Когда она переступила порог, Том горестно вздохнул – и тут же просиял: перед тем как окончательно исчезнуть, девочка перебросила через забор слегка помятый цветок анютиных глазок. Том ринулся было вперед, но остановился в двух шагах от цветка. Затем он приставил ладонь козырьком к глазам и начал пристально всматриваться вдаль, словно в конце улицы происходило что-то невероятно интересное. Там, однако, ничего не происходило, и Том, подобрав с земли соломинку, начал устанавливать ее на носу. Так, запрокинув голову и балансируя соломинкой, он все ближе и ближе подбирался к месту, где лежал цветок, и в конце концов наступил на него босой ногой. Гибкие пальцы захватили вконец измочаленное растение, и, прыгая на одной ноге, Том скрылся за углом.
Но ненадолго, только для того, чтобы засунуть цветок под куртку, поближе к сердцу, а может быть, и к желудку – не так уж он был сведущ в анатомии, чтобы разбираться в этаких тонкостях.
Сразу после этого он вернулся к забору и слонялся вдоль него до самой темноты, по-прежнему валяя дурака. Однако новое божество больше не показывалось, и Том тешил себя мыслью, что девочка, может быть, заметила его усилия, случайно бросив взгляд в окно. Домой он возвращался без всякой охоты, едва переставляя ноги в мечтательном оцепенении.
Но за ужином он так разошелся, что тетушка только диву давалась: «Что за бес вселился в этого ребенка?» Попутно Тому влетело за то, что он бросался землей в Сида, но он и ухом не повел, а вместо чистосердечного раскаяния попытался стащить кусок сахару под самым носом у тети Полли и получил за это по рукам.
Тогда Том возмутился:
– Где же справедливость? Тетя, вы же не лупите Сида, когда он таскает сахар.
– Но Сид никогда не доводит человека до белого каления. Ты вообще не вылезал бы из сахарницы, если б я за тобой не приглядывала.
Вскоре она вышла в кухню, и Сид, радуясь безнаказанности, тут же потащил к себе сахарницу. Такую наглость просто невозможно было стерпеть. Однако сахарница внезапно выскользнула из пальцев Сида, упала и разбилась. Том был в восторге. Причем в таком, что прикусил язык и промолчал, решив, что не произнесет ни звука даже тогда, когда вернется тетя Полли, а будет сидеть, пока она не спросит, кто это сделал. Вот тогда придет его час, и наконец-то он полюбуется, как влетит «любимчику». Что может быть приятнее? Восторг до того переполнял его, что он едва сдержался, когда тетя вернулась из кухни и оцепенела над осколками, меча молниеносные взоры поверх очков. Том затаил дыхание: «Вот, вот оно, сейчас!»
В следующее мгновение он растянулся на полу. Карающая десница, сделав свое дело, уже снова была занесена над ним, когда Том завопил:
– Да погодите, тетя, за что? Это же Сид!
От неожиданности тетя Полли застыла. Том ждал, не выразит ли она сожаление, но, как только дар речи вернулся к пожилой леди, она пробормотала:
– Хм!.. Ну, я полагаю, что влетело тебе все равно не зря! Уж наверняка ты что-нибудь натворил, пока меня не было.
Потом, вняв голосу совести, она уже хотела было сказать что-нибудь помягче, но решила, что это может быть расценено как признание того, что она виновата, а дисциплина таких вещей не допускает. Поэтому тетя Полли отвернулась и занялась своими делами, хотя на сердце у нее скребли кошки. Том с уязвленным видом сидел в углу и растравлял раны. Ему-то было известно, что в душе тетушка горько раскаивается, но он не подавал вида, что понимает это. И какое имело значение, что она время от времени бросала на него тоскливый взор, затуманенный слезами? Том тем временем представлял, что лежит на смертном одре и тетя Полли склоняется над ним, вымаливая прощение, но он отворачивается к стене и умирает, так и не обронив ни слова. Каково ей будет тогда? Затем он вообразил, как его, утонувшего в реке, приносят домой: кудри намокли, измученное сердце больше не бьется. О, как она тогда рухнет на его бездыханный труп, как хлынут рекой ее слезы! Как она будет молить Бога, чтоб он вернул ее мальчика, которого она никогда больше не обидит! А он – вот он лежит, бледный и холодный, ничего не чувствующий, бедный маленький страдалец, безропотно вынесший все мучения!
От этих драматических картин Том так расчувствовался, что его начали душить слезы. Он глотал их, ничего не видя вокруг, а когда мигал, слезы текли по щекам и капали с кончика носа. Он так наслаждался своими несчастьями, что ни за что не согласился бы, чтобы какая-нибудь мелкая земная радость вторглась в его душу; он берег свою скорбь, как священную реликвию. Поэтому, когда в комнату впорхнула его сестрица Мэри, сияя от радости, что наконец-то вернулась домой после недели, проведенной на ферме, Том встал и безмолвно покинул комнату. Окруженный зловещим мраком и угрюмыми тучами скорби, он вышел в одну дверь, в то время как радость жизни и солнечный свет ворвались вместе с Мэри в другую.
Оказавшись на улице, он отправился бродить вдали от тех мест, где обычно собирались мальчики. Сейчас ему требовались безлюдные закоулки – они лучше всего соответствовали его настроению. Плот у берега показался ему подходящим местом, и он уселся на самом краю, созерцая мутную глубину реки и мечтая только об одном – утонуть быстро и без мучений. Тут он вспомнил про цветок, извлек его из кармана, смятый и увядший, и это удвоило его сладостную муку. Он принялся размышлять о том, что было бы, если б она узнала. Должно быть, расплакалась, захотела бы обнять его и утешить. А может, отвернулась бы и пошла своей дорогой, как и весь этот холодный и бесчувственный мир. Он мысленно поворачивал эту картину и так и сяк, меняя освещение и персонажей, пока это ему не надоело. В конце концов он поднялся на ноги и со вздохом побрел вдоль берега.
Около половины десятого, почти в полной темноте, Том обнаружил себя на безлюдной улице на пути к дому, где обитала прелестная незнакомка. Оказавшись у знакомой ограды, он постоял с минуту – ни звука, только свеча бросает тусклый отблеск на плотную штору в окне второго этажа. Не там ли незримо присутствует его божество?
Он перелез через забор, осторожно перебрался через цветник и остановился под окном. Довольно долго, с трудом сдерживая волнение, он глядел на него, задрав голову, а затем улегся на землю, сложив руки крестом на груди и сжимая в пальцах увядший цветок. Вот так он и умрет – один на всем белом свете, без крова над головой, без дружеской руки, которая отерла бы предсмертный пот с его ледяного лба, без любящего лица, которое склонилось бы над ним в последние земные мгновения. Наступит солнечное утро, и первое, что она увидит, – его окоченевший труп. Но уронит ли его божество хоть слезинку, вздохнет ли хоть раз о том, что до срока погибла молодая жизнь, подкошенная не знающей жалости рукой?
Внезапно окно распахнулось, грубый голос прислуги нарушил трепетную тишину ночи и целый водопад хлынул на останки мученика.
Едва не захлебнувшись, наш герой вскочил на ноги, отфыркиваясь и отплевываясь. В воздухе просвистел камень, послышалась невнятная брань, зазвенело и посыпалось разлетевшееся вдребезги стекло. Затем едва различимая фигурка перепрыгнула через ограду и растворилась во мраке.
Когда Том, уже дома, огорченно разглядывал при свете огарка свечи свою насквозь промокшую одежду, проснулся Сид. Он уже открыл было рот, чтобы по обыкновению намекнуть на ожидающие брата кары, но передумал и промолчал, смекнув по выражению лица Тома, что это далеко не безопасно.
Том рухнул на кровать, не сочтя нужным отягощать себя еще и молитвой, и Сид мысленно занес это упущение в список прегрешений брата.
Глава 4
Взошедшее солнце заливало своими лучами мирный городок, словно благословляя его. После завтрака тетя Полли собрала всех домочадцев на семейное богослужение. Она начала с молитвы, а затем произнесла небольшую речь, основанную на солидном фундаменте из библейских цитат, скрепленных жиденьким цементом собственных рассуждений; в заключение с этой вершины, как с горы Синай, она огласила суровые заповеди Моисеевы.
После этого Том, как говорится, препоясав чресла, подобно библейским воителям, приступил к заучиванию стихов из Священного Писания. Сид еще несколько дней назад выучил весь урок. Тому пришлось приложить все силы, чтобы затвердить наизусть пять стихов из Нагорной проповеди – он так и не нашел ничего короче.
Но и через полчаса у Тома было довольно смутное представление о словах Спасителя, потому что голова его была занята чем угодно, кроме урока, а руки беспрестанно двигались, отвлекаясь на всевозможные посторонние дела.
Мэри взяла у него книгу, чтобы проверить урок, и Том, спотыкаясь, начал, словно пробираясь сквозь заросли в густом тумане:
– Блаженны… э-э…
– Нищие…
– Ага, нищие… Блаженны нищие… как там дальше-то?
– Духом…
– Ага, духом… Блаженны нищие духом, ибо их… ибо они…
– Ибо они…
– Ибо они… Блаженны нищие духом, ибо они войдут в Царствие Небесное. Блаженны плачущие, ибо они… ибо они…
– У…
– Чего?
– Ибо они у-те… Да не помню я, как там дальше! Блаженны ибо плачущие, ибо они… ибо плачущие… а дальше-то что? Ей-богу, не знаю! Ну что ж ты не подскажешь, Мэри? Не стыдно тебе меня мучить?
– Ах, Том, дурашка ты этакий, вовсе я тебя не мучаю. Просто тебе нужно все как следует выучить. Ничего страшного, зато, когда выучишь, я тебе подарю одну замечательную вещь. Ну, будь умницей!
– Ладно! А что это за штука, Мэри?
– Не важно. Раз я сказала, что она замечательная, значит, замечательная.
– Ну да, ты врать не станешь. Ладно, пойду приналягу.
Том навалился, и любопытство вкупе с ожиданием предстоящей награды сотворили чудо – он добился неслыханных успехов. За это Мэри подарила ему новенький перочинный ножик с двумя лезвиями. Цена ему была не меньше двенадцати с половиной центов, и охвативший Тома восторг потряс его до глубины души. Правда, оба лезвия оказались совершенно тупыми и не резали, зато это было настоящее изделие фирмы Барлоу, а не какая-нибудь подделка, в чем и заключалось главное достоинство подарка. Откуда мальчикам западных штатов было знать, что это грозное оружие можно подделать и что подделка наверняка хуже оригинала, остается тайной, покрытой мраком. Несмотря ни на что, Том ухитрился изрезать этим ножиком буфет и уже приступал к комоду, когда его позвали одеваться в воскресную школу.
Мэри поставила перед ним жестяной таз, полный теплой воды, и вручила кусок мыла. Том, прихватив таз, вышел за дверь и водрузил его на скамейку. Затем он обмакнул мыло в воду и положил его на место; закатал рукава, осторожно вылил воду на землю, вернулся в кухню и начал яростно тереть лицо полотенцем.
Мэри тут же отняла у него полотенце со словами:
– Как тебе не стыдно, Том! Ступай, умойся как следует. Вода тебе не повредит.
Том смутился. В таз снова налили воды; на этот раз он постоял над ним немного, собирая все свое мужество, потом набрал в грудь воздуха и начал умываться. Когда он снова вошел в кухню, зажмурив глаза и ощупью отыскивая за дверью полотенце, по его щекам текла мыльная пена – честное свидетельство праведных трудов. Но едва он отнял от лица полотенце, оказалось, что результат далек от совершенства: его щеки и подбородок белели, как маска, а ниже и выше лежала нетронутая темная целина, захватывая шею и спереди и сзади.
Тут уж Мэри взялась за него сама, и, выйдя из ее рук, он уже ничем не отличался от своих бледнолицых собратьев; мокрые волосы были аккуратно приглажены, их короткие завитки лежали ровно и красиво. Вообще-то, Том всячески старался распрямить свои кудри, прилагая для этого немало стараний; ему казалось, что с кудрями он похож на девчонку, и это его сильно огорчало. Потом Мэри извлекла из шкафа костюм, который Том надевал только по воскресеньям и который назывался «другой костюм», на основании чего нетрудно составить мнение о богатстве его гардероба. После того как он оделся, Мэри навела окончательный порядок: застегнула курточку до самого подбородка, отвернула широкий воротник и расправила его на плечах, стряхнула мелкие соринки щеткой и надела на Тома соломенную шляпу. Теперь он выглядел нарядно и чувствовал себя словно каторжник в кандалах: новый костюм и чистота стесняли его, а он этого не терпел. Последняя надежда, что Мэри забудет про башмаки, рухнула: смазав, как полагается, салом, она принесла их и поставила перед Томом. Это переполнило чашу его терпения, и он заворчал, что вечно его заставляют делать то, чего ему совершенно не хочется. Но Мэри ласково сказала:
– Пожалуйста, Том, будь хотя бы в воскресенье умницей!
И Том, продолжая ворчать и жаловаться, натянул башмаки. Мэри оделась в одну минуту, и дети втроем отправились в воскресную школу, которую Том ненавидел всем сердцем, а Сиду и Мэри, наоборот, нравилось туда ходить.
Занятия в воскресной школе проводились с девяти до половины одиннадцатого, затем начиналось богослужение. Двое из детей оставались на него добровольно, третий тоже, но по иным, куда более земным причинам.
Жесткие скамьи с высокими спинками в приходской церкви могли вместить человек триста; церковь была небольшая, без всяких украшений, с колокольней на крыше, похожей на узкий деревянный шкафчик. В дверях Том слегка приотстал, чтобы потолковать с приятелем, тоже принаряженным по-воскресному:
– Слышь, Билли, есть у тебя желтый билетик?
– А то!
– Что просишь за него?
– А ты что даешь?
– Кусок лакрицы и рыболовный крючок.
– Покажь.
Том все это предъявил. Приятель остался доволен, и они обменялись сокровищами. Сразу же после этого Том обменял два белых шарика на три красных билетика и еще кое-какую мелочь – на два синих.
Еще с четверть часа он подстерегал приходивших мальчиков, приобретая у них билетики разных цветов. Затем вместе с гурьбой чистеньких и шумливых мальчишек и девочек он вошел в церковь, уселся на свое место и первым делом затеял ссору с тем, кто сидел поближе. Сейчас же вмешался важный пожилой учитель, но, едва он отвернулся, Том ухитрился дернуть за вихры мальчишку, сидевшего перед ним, и тотчас как ни в чем не бывало уткнулся в книгу, потом кольнул булавкой другого мальчика, чтобы послушать, как тот заорет, – и получил еще один нагоняй от учителя. Класс, в который ходил Том, был как на подбор: все непоседливые, говорливые и непослушные. Выходя отвечать, ни один не знал урока как следует, все нуждались в подсказках, однако с грехом пополам все-таки каждый добирался до конца и получал награду – синий билетик с текстом из Священного Писания. Такой билетик вручался за два выученных стиха из Библии. Десять синих билетиков можно было обменять на один красный; десять красных – на один желтый; а за десять желтых директор школы вручал ученику Библию в дешевом переплете, стоившую в то время добрых сорок центов. У многих ли из читателей найдется достаточно усердия и прилежания, чтобы заучить наизусть две тысячи стихов, даже за Библию в кожаном переплете с гравюрами Гюстава Доре? Но Мэри таким образом уже заработала две Библии – на это ушло два года терпения и труда, а один мальчик из немецких переселенцев – даже четыре или пять. Однажды этот гений прочел наизусть три тысячи стихов подряд, ни разу не запнувшись; но такое напряжение умственных сил оказалось ему не по плечу, и с тех пор он сделался полным идиотом. Это было страшным несчастьем для школы, потому что в торжественных случаях директор всегда вызывал этого ученика и заставлял его «из кожи вон лезть», как выразился Том. Только старшие ученики умудрялись накопить билетики, долго протомившись за зубрежкой, и удостаивались чести получить в подарок Библию. Потому-то вручение этой награды было событием редким и знаменательным; счастливчик в этот день играл такую выдающуюся роль, что сердца менее упорных и удачливых немедленно загорались честолюбием, которого порой хватало на две-три недели.
Скажем прямо: Том не был одержим духовной жаждой до такой степени, чтобы стремиться к заветной награде, но нет никаких сомнений в том, что всем своим существом он жаждал неувядаемой славы и блеска, который ей сопутствовал.
По обыкновению директор школы встал перед кафедрой, держа в руках молитвенник, и потребовал тишины. Когда директор воскресной школы произносит свою обычную короткую речь, молитвенник со страницей, заложенной пальцем, ему так же необходим, как ноты певице, которая стоит на сцене, готовясь петь соло, – хотя зачем это нужно, никому не известно: ни тот, ни другая никогда не заглядывают ни в молитвенник, ни в ноты. Директор был довольно невзрачным господином лет тридцати пяти, с рыжеватой козлиной бородкой и коротко подстриженными волосами. Верхний край жесткого стоячего воротничка подпирал его уши, а острые углы торчали вперед, достигая уголков рта. Этот воротник, словно лошадиный хомут, позволял ему глядеть только прямо перед собой, и, если требовалось посмотреть вбок, ему приходилось поворачиваться всем корпусом. Подбородок учителя упирался в галстук шириной в десятидолларовую банкноту, с бахромой на концах; носы его ботинок, согласно моде, были сильно загнуты вверх наподобие лыж. Такого результата молодые люди того времени добивались непосильным трудом и адским терпением, часами просиживая у стенки, уперев в нее носы обуви. С виду мистер Уолтерс был сама серьезность, честность и искренность; он до того благоговел перед всем, что свято, и настолько разделял духовное и светское, что, сам того не замечая, в воскресной школе говорил совершенно не таким голосом, как в будние дни.
Свою речь он начал следующими словами:
– А теперь, дети мои, я прошу вас сесть ровно и минуту-другую слушать меня со всем вниманием. Именно так, как должны слушать хорошие и прилежные дети… Вот я вижу, что одна девочка смотрит в окно; она, должно быть, решила, что я где-нибудь восседаю там, на дереве, и беседую с птичками… Я хочу сказать вам, что мне необыкновенно приятно видеть столько опрятных и радостных детей, которые собрались здесь для того, чтобы научиться добру…
И далее в том же роде. Нет никакой надобности приводить эту речь полностью. И она, и ей подобные составлены по одному образцу, а потому и эта нам знакома.
Правда, последняя треть речи директора была несколько омрачена возобновившимися потасовками и иными развлечениями, а также шепотом и возней, которые постепенно распространялись по рядам и докатились даже до таких одиноких и неколебимых праведников, как Сид и Мэри. Но едва прозвучало последнее слово мистера Уолтерса, как всякий шум прекратился и завершение его речи было встречено благоговейным молчанием.
Шепот и пересуды в церкви были вызваны событием из ряда вон выходящим – появлением гостей: адвоката Тэтчера в сопровождении дряхлого старичка, представительного седеющего джентльмена и величественной дамы, – должно быть, его жены, которая вела за руку девочку. Тому Сойеру не сиделось на месте. Он был не в духе, а вдобавок его мучили угрызения совести, и он избегал встречаться взглядом с Эмми Лоуренс, глаза которой пылали любовью. Но едва он заметил маленькую незнакомку, как вся его душа переполнилась блаженством. Мгновение – и он уже усердствовал вовсю: пинал мальчишек, дергал их за волосы, корчил рожи – словом, делал все мыслимое и немыслимое, чтобы окончательно очаровать девочку и заслужить ее благосклонность. В его восторге имелась только одна червоточина – воспоминание о том, как под окном этого ангела его облили помоями, но и это недоразумение вскоре потонуло в волнах счастья, затопивших его душу. Гостей усадили на места для почетных гостей и, как только речь мистера Уолтерса подошла к концу, представили всей школе.
Джентльмен средних лет оказался очень важной персоной – не кем иным, как окружным судьей, самой влиятельной и грозной особой, которую когда-либо приходилось видеть детям. Поэтому им не терпелось узнать, из какого материала он скроен, а возможно, и послушать, как он рычит, но вместе с тем было и немного жутковато. Судья прибыл из Константинополя, городка за двенадцать миль отсюда, значит, немало путешествовал и видел свет. Вот этими самыми глазами седеющий джентльмен видел здание окружного суда, о котором поговаривали, будто его крыша покрыта железом. Торжественное молчание и ряды широко открытых глаз говорили о почтении, которое вызывали подобные мысли. Ведь это был сам знаменитый судья Тэтчер, брат здешнего адвоката! Джеф Тэтчер тут же вышел вперед и на зависть всей школе продемонстрировал, что он на дружеской ноге с великим человеком. О, если б он мог слышать шепот, поднявшийся в рядах, то он усладил бы его душу, как небесная музыка:
– Гляди-ка, Джим! Идет прямо туда! Смотри, протянул ему руку – здоровается! Вот ловко-то! Скажи, небось хотел бы оказаться на месте Джефа?
Мистер Уолтерс проявил неслыханную распорядительность и расторопность, отдавая приказания, делая замечания и рассыпая выговоры направо и налево. Старался и библиотекарь, мелькая взад и вперед с охапками книг и производя тот бесполезный шум, который любит поднимать разное мелкое начальство. Молоденькие наставницы старались, в свою очередь, ласково склоняясь над разгильдяями, которых еще недавно драли за уши, слегка грозили пальчиком маленьким шалунам и гладили по головке прилежных. Усердствовали и молодые учителя, строго выговаривая, проявляя власть, то есть всячески поддерживали дисциплину и порядок. Почти всем учителям тут же понадобилось что-то в книжном шкафу рядом с кафедрой, и они наведывались туда и дважды, и трижды, и всякий раз как бы с неохотой. Девочки тоже старались в меру сил, а уж мальчишки проявляли такое рвение, что жеваная бумага и затрещины сыпались частым градом. И над всем этим возвышался великий человек, благосклонно и снисходительно улыбаясь, кивая всей школе и греясь в лучах собственной славы, – он тоже старался.
И только одного не хватало мистеру Уолтерсу для полного счастья – возможности на глазах у гостей вручить наградную Библию и похвастать каким-нибудь чудом учености. У некоторых школьников имелись желтые билетики, но ни у кого в достаточном количестве – директор уже опросил всех лучших учеников. Он бы отдал все на свете за то, чтобы к немецкому мальчику вернулся разум. Но в ту самую минуту, когда мистер Уолтерс уже был готов впасть в отчаяние, вперед выступил Том Сойер с девятью желтыми, девятью красными и десятью синими билетиками и потребовал заслуженную Библию.
Это было как гром среди ясного дня. Чего-чего, а этого мистер Уолтерс никак не ожидал, по крайней мере, в течение ближайших десяти лет. Но делать нечего: налицо были подписанные счета и по ним предстояло платить. Тома пригласили на возвышение, где восседали судья и прочие небожители, и неслыханная новость была оглашена с кафедры.
Впечатление было потрясающим. Новый герой тотчас вознесся до уровня судьи Тэтчера, и вся школа получила возможность созерцать сразу два чуда вместо одного. Мальчишек жестоко терзала зависть, а больше других страдали те, кто слишком поздно поняли, что сами же и способствовали возвышению презренного выскочки, променяв свои билетики на сокровища, нажитые им путем перепродажи права на побелку забора. Им ничего не оставалось, кроме как презирать себя за то, что они поддались на уловки хитрого проныры и попались на его крючок.
Наконец награда была вручена Тому с самой прочувствованной речью, какую только сумел выжать из себя директор в таких обстоятельствах. Правда, этой речи малость недоставало подлинного вдохновения – бедняга чуял, что тут кроется какая-то мрачная тайна: быть того не могло, чтобы этот вертлявый и рассеянный мальчишка собрал в житницу свою две тысячи библейских снопов, когда всем известно, что ему не осилить и дюжины. Раскрасневшаяся Эмми Лоуренс сияла от гордости и счастья и всячески старалась, чтобы Том это заметил. Но он и глазом не повел в ее сторону, и Эмми задумалась, потом слегка огорчилась, потом у нее возникло смутное подозрение – и вскоре оно окрепло. Она стала наблюдать; один беглый взгляд сказал ей многое – и тут ее ждал удар в самое сердце. От ревности и гнева она едва не расплакалась и тут же возненавидела всех на свете, а больше всех Тома – по крайней мере, так ей казалось.
Тома представили судье, но он не мог произнести ни слова. Язык у него прилип к гортани, сердце учащенно билось, он едва дышал, подавленный не только грозным величием этого государственного мужа, но и тем, что это был ее отец. В эту минуту он с радостью пал бы перед судьей на колени – если бы в школе было темно. Судья погладил Тома по кудрям, назвал его славным мальчуганом и поинтересовался, как его зовут. Том открыл рот, дважды запнулся и пролепетал:
– Том…
– Должно быть не Том, ведь имя твое немного подлиннее?
– Томас…
– Ну вот и славно. Я так и думал. Но у тебя, само собой, есть и фамилия, и ты не станешь ее скрывать от меня?
– Назови джентльмену свою фамилию, Томас, – вмешался учитель, – и не забывай в конце фразы добавлять «сэр»! Веди себя как полагается воспитанному человеку.
– Томас Сойер… сэр.
– Вот и молодец! Маленький трудолюбивый человечек. Две тысячи стихов – это очень много, невероятно много. Но никогда не жалей потраченных усилий: дороже всего на свете знание. Это оно делает нас хорошими, а порой и великими людьми; ты и сам когда-нибудь станешь большим человеком, Томас. И тогда ты оглянешься на пройденный путь и скажешь: «Всем этим я обязан тому, что в детстве имел счастье учиться в воскресной школе. А также моим дорогим учителям, указавшим мне дорогу к свету, и моему доброму директору, который поощрял меня на этом пути, подарил мне роскошную и изящную Библию, которая была моей спутницей на протяжении всей жизни, и дал мне правильное воспитание!» Вот что ты скажешь, Томас, и эти две тысячи стихов станут тебе дороже любых денег – да, да, не сомневайся. А теперь не поведаешь ли ты мне и вот этой леди кое-что из того, что выучил? Ведь мы гордимся мальчиками, которые так замечательно учатся. У меня нет ни малейших сомнений, что тебе известны имена всех двенадцати апостолов. Может быть, ты скажешь нам, как звали тех двоих, что были призваны первыми?
Все это время Том теребил пуговицу, исподлобья поглядывая на судью. Но теперь он побагровел и спрятал глаза. Мистер Уолтерс похолодел. Страшная мысль посетила его – а ну как мальчишка не сможет ответить даже на такой простой вопрос? И с чего бы это судье вздумалось его допрашивать?
Чувствуя, что необходимо что-то сказать, директор проговорил:
– Отвечай джентльмену, Томас. Не нужно бояться!
Том, однако, молчал.
– Уж мне-то он скажет, – вмешалась дама. – Ну же, Томас! Первых двух апостолов звали…
– Давид и Голиаф!..
Опустим же занавес милосердия над финалом этой сцены.
Глава 5
В половине одиннадцатого задребезжал надтреснутый колокол, и вскоре народ начал сходиться к утренней службе. Ученики воскресной школы разбрелись по всей церкви и расселись вместе с родителями, чтобы быть у них на глазах. Явилась и тетя Полли. Сид и Мэри сели рядом с ней, а Тома усадили поближе к проходу и подальше от окна и соблазнительных летних пейзажей. Прихожане заполнили весь храм: престарелый почтмейстер, знававший лучшие дни; мэр с супругой – в городишке, наряду с прочими ненужностями, имелся и мэр; далее – судья, вдова Дуглас, красивая, нарядная женщина средних лет, всем известная своей щедростью и богатством, владелица единственного роскошного особняка во всем городе и устроительница самых блестящих праздников, какими мог похвалиться Сент-Питерсберг; согнутый в дугу майор Уорд с супругой; адвокат Риверсон, новоявленная знаменитость, прибывшая откуда-то издалека, а за ним первая местная красавица в сопровождении стайки юных покорительниц сердец, разряженных в батист и ленты. Вслед за девицами гурьбой ввалились молодые люди, в большинстве своем городские чиновники. Эти напомаженные воздыхатели полукругом стояли на ступенях церкви, покусывая набалдашники своих тросточек, пока девицы не вошли внутрь. И наконец, уже после всех явился Примерный Мальчик Вилли Мафферсон со своей матушкой, с которой он обращался так, будто она была из граненого хрусталя. Он всегда сопровождал матушку в церковь и был в чести у городских дам. Зато мальчишки его на дух не переносили, до того он был праведный и слащавый; вдобавок Вилли постоянно ставили им в пример. Как всегда по воскресеньям, из его заднего кармана торчал белоснежный платочек – он якобы случайно высунулся. У Тома платка отродясь не бывало, поэтому всех мальчиков, у которых водились платки, он считал надутыми франтами.
Когда вся паства собралась, колокол ударил еще раз, подгоняя лентяев и разинь, и в церкви воцарилось торжественное молчание, нарушаемое только хихиканьем певчих на хорах. Это было в порядке вещей: певчие всегда перешептывались и хихикали во время службы. Знавал я один церковный хор, который вел себя прилично, только я уж не помню, где было дело. По-моему, где-то за границей.
Проповедник назвал номер гимна и с большим чувством прочел его от начала до конца на тот особый манер, который пользовался в здешних краях неизменным успехом. Он начал читать вполголоса и постепенно повышал тон, пока, дойдя до определенного места, не сделал сильное ударение на последнем слове и вдруг как бы прыгнул вниз с трамплина:
- О, мне ль блаженствовать в раю,
- Среди цветов покоясь,
- Тогда как братья во Христе
- Бредут в крови по пояс!
Он был широко известен искусством чтения. На церковных собраниях его неизменно просили почитать стихи, и едва он умолкал, как дамы воздевали руки к небесам и, словно обессилев от полноты чувств, роняли их на колени, закатывали глаза и отрицательно качали головами, будто говоря: «Нет, словами этого ни за что не выразить! Это слишком хорошо, чересчур хорошо для нашей грешной земли».
После того как гимн был пропет, его преподобие мистер Спрэг повернулся к доске объявлений и принялся оглашать извещения о собраниях, празднованиях и днях памяти, пока всем не начало казаться, что это будет длиться до второго пришествия. Этого странного обычая до сих пор придерживаются в Америке даже в больших городах, невзирая на множество газет, которыми торгуют на каждом углу. Не мной первым сказано: чем меньше смысла в каком-нибудь обычае, тем труднее от него отделаться.
Затем проповедник приступил к молитве. Это была добротная длинная молитва, и никто не был забыт: в ней упоминались и церковь, и прихожане этой церкви, и другие церкви в городке, и сам городок, и наш штат, и все должностные лица штата, и Соединенные Штаты в целом, и все церкви Соединенных Штатов, и конгресс, и президент, и иные чиновники, и бедные мореплаватели, носящиеся по бурным морям, и угнетенные народы, стонущие под игом европейских монархов и восточных деспотов, и те, кому просиял свет евангельской истины, но они имеют уши, да не слышат, имеют глаза, да не видят, и язычники на островах в океане. Заключалась молитва просьбой, чтобы слова проповедника были услышаны, а семена, им посеянные, взошли во благовремении и принесли обильную жатву. Аминь.
Зашумели юбки, и прихожане, стоявшие все это время, снова уселись. Мальчик, о котором идет речь в этой книге, не получил ни малейшего удовольствия от молитвы, он едва смог дослушать ее до конца, и то через силу. Пока преподобный Спрэг возносил свои слова к Господу, он вертелся на месте и подсчитывал, за что уже молились, – слушать он не слушал, но само перечисление было давным-давно затвержено им наизусть, известно ему было и что за чем следует. И если пастор неожиданно вставлял что-нибудь новенькое, Том мигом улавливал ухом непривычные слова и его охватывало возмущение – такие довески он считал чистой воды жульничеством.
В середине молитвы на спинку скамьи, прямо перед носом Тома, уселась муха и долго не давала ему покоя: она то потирала лапки, то вдруг охватывала ими голову и с такой силой принималась чесать ее, что голова почти отрывалась от туловища; а то она разглаживала крылья задними лапками и одергивала их, словно это были фалды фрака. Одним словом, муха занималась своим туалетом так невозмутимо, словно ей было известно, что она находится в полной безопасности. Так оно и было: как ни чесались у Тома руки, поймать ее он не решался, свято веря, что навеки погубит свою душу, если выкинет такую штуку во время молитвы. Однако, когда проповедник снова возвысил голос, завершая молитву, рука Тома дрогнула и предательски поползла вперед, и, как только прозвучало «аминь», муха оказалась в плену.
В то же мгновение тетя Полли заметила этот его маневр и заставила вернуть насекомому свободу.
Проповедник огласил текст из Библии и пустился в рассуждения о настолько малоинтересных вещах, что вскоре половина прихожан уже клевала носом, несмотря на то что речь шла о преисподней и вечных муках. По ходу дела пастор довел число праведников, которым было предназначено спастись, до столь ничтожной цифры, что и возиться с ними не стоило. Том тем временем считал страницы проповеди: выйдя из церкви, он всегда знал, сколько страниц было прочитано с кафедры, зато почти никогда не знал, о чем читалось. Однако на этот раз он увлекся проповедью, хотя и ненадолго. Проповедник живописно изобразил величественную и трогательную картину того, как наступит Царство Божие, и соберутся народы со всех концов земли, и лев возляжет рядом с ягненком, а младенец поведет их. Но вся высокая мораль и поучительность этой аллегории пропали для Тома даром: он тут же вообразил себя главным действующим лицом. Какая это будет эффектная роль, да еще и на глазах у всех народов, правда, при условии, что лев будет ручной.
Однако божественным младенцем он чувствовал себя недолго. Дальше пошли всякие сухие рассуждения, и мучения Тома возобновились. Но тут он вспомнил об одном из своих сокровищ и извлек его на свет. Это был здоровенный черный жук с острыми челюстями – «рогач», как называл его Том. Жук смирно сидел в коробочке из-под пистонов, но, почуяв волю, первым делом вцепился ему в палец. Том, само собой, отдернул руку, жук отлетел в проход между скамьями и шлепнулся на спину, а укушенный палец Том сунул в рот.
Жук лежал, беспомощно суча лапами и безуспешно пытаясь перевернуться. Том косился на него, всей душой желая его вернуть, но жук был слишком далеко, чтобы он мог до него дотянуться. Другие прихожане, поостыв к проповеди, тоже начали искоса поглядывать на него.
Тут в церковь забежал чей-то пудель, ошалевший от жары и отсутствия хозяев. Завидев жука, он сразу оживился и завертел хвостом. Он описал круг возле добычи, обнюхал ее издали, еще раз обошел вокруг, а затем, осмелев, подошел поближе, оскалил зубы и попытался схватить жука. Промахнувшись, он предпринял еще одну попытку и вскоре вошел во вкус – улегся на живот, так что жук оказался у него между передними лапами, и продолжал игру. В конце концов он утомился возиться с «рогачом» и потерял бдительность. Голова пуделя опустилась, глаза закрылись, он начал сонно клевать носом, пока мордой не коснулся жука. Тот не заставил себя упрашивать и немедленно вцепился в мокрый нос. Раздался истошный визг, пудель бешено затряс головой, жук отлетел на пару шагов в сторону и снова шлепнулся на спину.
Зрители по соседству корчились от хохота, некоторые схватились за платки, женщины прикрывались веерами, а Том был неописуемо счастлив. У пса был дурацкий вид, да он, судя по всему, и чувствовал себя одураченным, но душа его кипела возмущением и жаждала мести. Он приблизился к жуку и взялся за него снова, но теперь уже намного осторожнее: начал ходить вокруг и бросаться на опасное создание со всех сторон, щелкал зубами в каком-нибудь дюйме от жука и мотал головой, хлопая длинными ушами. Однако вскоре ему опять надоело играть с жуком. Он погнался за мухой, но не нашел в этом ничего забавного; последовал за муравьем, тыча нос прямо в пол, но и это ему быстро наскучило. Тогда пудель зевнул с подвывом, вздохнул и, начисто позабыв про жука, уселся прямо на него! Своды церкви огласил дикий вопль, полный боли, и пудель стрелой помчался по проходу. Неистово воя, он пронесся перед алтарем, пересек проход, заметался перед прикрытыми дверями, с визгом пронесся обратно по проходу и, окончательно одурев от боли, начал с быстротой молнии носиться по замкнутой орбите, словно всклокоченная комета. В конце концов страдалец бросился на колени к хозяину. Тот выкинул его в распахнутое окно, и вой, полный скорби, постепенно ослабевая, замер где-то вдали.
К этому времени все прихожане сидели с багровыми лицами, задыхаясь от нечестивого хохота, а проповедь замерла в мертвой точке. Когда же она возобновилась, то шла с перебоями, поскольку не было никакой возможности заставить паству вникнуть в смысл сказанного; даже слова, полные самой возвышенной горечи и обличений, паства, прячась за спинками скамей, встречала раскатами смеха, словно проповедник выкинул невероятно забавное коленце. Трудно вообразить облегчение, с каким было встречено окончание этой пытки. Едва сдерживая гнев, проповедник благословил прихожан и покинул кафедру.
Том Сойер отправился домой в самом радужном настроении. Не так уж и плоха, оказывается, воскресная служба, если внести в нее хоть чуток разнообразия. Только одна мысль огорчала его: он был совсем не против того, чтобы пудель поиграл с «рогачом», однако уносить жука с собой этот пес не имел никакого права.
Глава 6
В понедельник утром Том проснулся, чувствуя себя последним человеком на земле. Так оно и бывало по понедельникам, потому что начиналась новая неделя мучений в школе. И первое, чего ему хотелось с утра в понедельник, – чтобы воскресенья и вовсе не было, тогда темница и кандалы не казались бы такими ненавистными.
Том полежал, размышляя. И тут ему пришло в голову, что недурно было бы заболеть: тогда можно и вовсе не ходить в школу. Впереди смутно забрезжила надежда. Первым делом он обследовал свой организм. Никакой хвори не обнаружилось, и он взялся за дело с самого начала. На этот раз ему показалось, что налицо слабые признаки колик в желудке, и он решил положиться на них. Однако обнаруженные признаки становились все слабее и слабее, пока совсем не исчезли.
Том не остановился на этом, и вскоре нашлось кое-что еще. Один из верхних зубов шатался. Поздравив себя с успехом, Том уже изготовился жалобно застонать, как вдруг ему пришло в голову, что, если он явится к тетушке с такой жалобой, она попросту выдернет шатающийся зуб, а это и в самом деле больно. Тогда он решил оставить зуб на черный день и поискать что-нибудь посерьезнее. Довольно долго ничего подходящего не подворачивалось, но наконец он вспомнил, как доктор рассказывал про одну болезнь, при которой пациент недели на две, а то и на три укладывался в постель, а при неблагоприятном исходе мог и вовсе остаться без пальца.
Выставив намеченный в «больные» палец из-под простыни, Том начал его рассматривать. На самом деле он понятия не имел, какие должны быть симптомы у этой болезни. Но все же, думалось ему, рискнуть стоит. Приняв такое решение, он начал стонать с мало-помалу возрастающим воодушевлением.
Сид тем временем спал, еще ни о чем не подозревая.
Том застонал погромче, и ему показалось, что палец и в самом деле начинает ныть.
Сид и ухом не повел.
Том совсем запыхался. Он перевел дух, слегка собрался с силами и испустил подряд несколько просто выдающихся стонов.
Сид храпел.
Том наконец рассердился. Он позвал: «Сид, Сидди!» – и потряс брата за плечо. Это как будто подействовало, и Том опять принялся стонать. Сид сладко зевнул, потянулся, чихнул и, приподнявшись на локте, уставился на Тома. Стоны не прекращались, и Сид окликнул его:
– Том! Послушай, Том!
Никакого ответа.
– Да Том же! Что с тобой такое? – Сид схватил его за плечи, с испугом заглядывая в глаза.
Том жалобно простонал:
– Не надо, Сид. Не трогай меня…
– Да что с тобой, Том? Я сейчас позову тетю!
– Нет-нет, не зови. Может, оно само пройдет… Не зови никого.
– Да как же не звать? Прекрати, Том, у меня прямо мороз по коже. И давно это с тобой?
– Уже несколько часов. О-о! Не ворочайся так, Сид, ты меня прикончишь.
– Том, чего ж ты раньше меня не разбудил? Ой, ну перестань! Просто сил нет это слышать. Том, да что с тобой творится?
– Я все тебе прощаю, Сид… О-о-х-х!.. Все зло, которое ты мне причинил. Когда я умру…
– Ой, Том, но ты же не умираешь? Не надо, Том, ну перестань ради Бога! Может, еще…
– Я всех прощаю, Сид… О-о-х-х!.. Так и скажи им, Сид. А еще – отдай мою оконную раму и одноглазого котенка той новой девочке, что недавно приехала, и передай ей…
Не дослушав последней воли Тома, Сид сгреб в охапку свою одежду и исчез. Теперь Том и в самом деле страдал, до того разыгралось его воображение, поэтому и стоны звучали вполне естественно.
Сид скатился по лестнице с воплем:
– Тетя Полли, бегите скорее! Том умирает!
– Умирает?
– Да, тетя! Да что же вы стоите – бегите быстрей!
– Чепуха! Ни за что не поверю!
И тем не менее она вихрем понеслась наверх, а следом Сид и Мэри. Лицо у тети Полли побелело, губы дрожали. Бросившись к постели и едва переводя дух, она с трудом вымолвила:
– Ну, Том, Том! Что с тобой случилось?
– Ох, тетушка, я… мне…
– Что такое, Том, что случилось, мой мальчик?
– Ох, тетушка, у меня на пальце… гангрена!
Тетя Полли рухнула на стул и сначала засмеялась, затем расплакалась, а потом и то и другое вместе. Когда силы вернулись к ней, она проговорила:
– Том, ну что ты со мной делаешь! Прекрати эти глупости и немедленно вставай.
Стоны оборвались, и боль в пальце тотчас отступила. Чувствуя себя довольно глупо, Том сказал:
– Тетушка, мне и в самом деле показалось, что это гангрена. Было так больно, что я начисто забыл про свой зуб.
– Вот как! А что там с зубом?
– Шатается и болит, да так, что просто сил нет.
– Только не вздумай опять стонать. Открой рот! Ну да, и в самом деле шатается, только никто от этого еще не умирал. Мэри, подай мне шелковую нитку и горящую головню из кухни.
Том засуетился:
– Ой, тетушка, только не нужно его дергать. Пожалуй, все уже прошло. Теперь он совсем не болит – вот помереть мне на этом месте, ни капельки не болит! Ну, пожалуйста, не надо! Я же все равно пойду в школу!
– Все равно пойдешь? Так вот оно что! Ты все это затеял, только чтобы не ходить в школу, а вместо того податься на реку? Ах, Том, Том, я так тебя люблю, а ты меня просто убиваешь своими выходками!
Орудия уже были наготове. Завязав на шелковой нитке петельку, тетя Полли накинула ее на шатающийся зуб, а другой конец нитки привязала к кровати. А затем, схватив тлеющую головню, ткнула ею чуть ли не в самое лицо мальчику. Том отшатнулся, зуб выскочил и повис на ниточке.
Но за всякое испытание, как известно, полагается награда. Когда Том после завтрака шел в школу, ему завидовали все встречные мальчишки, потому что в верхнем ряду зубов у него теперь зияла изрядная дыра, через которую можно было великолепно плевать совершенно новым способом. За Томом вился хвост любопытных, интересовавшихся этим открытием, а мальчик с порезанным пальцем, до того бывший предметом зависти и поклонения, прозябал в тени Томовой славы. Чтобы скрыть свое огорчение, он пренебрежительно заметил, что не видит ничего особенного в том, чтобы плеваться, как Том Сойер, на что другой мальчик резонно возразил: «Зелен виноград!», – и развенчанному герою пришлось со стыдом убраться прочь.
По пути Том повстречал Гекльберри Финна, сына первого городского пьяницы и тоже в своем роде изгоя. Все городские мамаши от души ненавидели Финна за то, что он был лентяй, озорник и не считался ни с какими правилами, а также за то, что их дети восхищались Геком и стремились ему подражать. Том, как и все прочие мальчики из «почтенных» семей, завидовал положению юного отщепенца, с которым ему строжайше запрещалось водиться. Как раз поэтому он и пользовался любым подходящим случаем, чтобы повидаться с Геком. Финн был вечно одет в обноски с чужого плеча, покрытые пятнами и до того изодранные, что лохмотья реяли по ветру. Вместо шляпы он носил какую-то рвань, от полей которой был откромсан здоровенный кусок фетра в виде полумесяца; чей-то старый сюртук, когда Гек соблаговолял его надеть, доходил ему до пяток, причем задние пуговицы располагались много ниже спины; штаны держались на одной лямке и висели сзади мешком, а обтрепанные штанины волочились в пыли, если Гек не подворачивал их до колен.
Гекльберри делал все, что хотел, не нуждаясь ни в чьем разрешении. В сухую погоду он ночевал на досках первого попавшегося крыльца, а если шел дождь – в пустой бочке. Его никто не заставлял ходить ни в школу, ни в церковь. Захочется ему – пойдет ловить рыбу или купаться и проторчит на реке сколько вздумается. Никто не запрещал ему драться; ему можно было разгуливать по городу до поздней ночи; весной он первым выходил на улицу босиком и последним обувался осенью; ему не надо было ни умываться, ни одеваться во все чистое; и по части ругани он тоже был мастер. Иначе говоря, у этого нищего оборванца было все, что придает жизни смысл. С этим согласились бы все задерганные родителями мальчишки в Сент-Питерсберге.
Первым делом Том окликнул этого романтического бродягу:
– Здорово, Гекльберри!
– Здорово, коли не шутишь.
– Что это у тебя, Гек?
– Дохлая кошка, ясное дело.
– Дай-ка взглянуть. Ты подумай, как окоченела! Ты где ее раздобыл?
– Купил тут у одного.
– А что дал?
– Синий билетик и бычий пузырь. А пузырь я достал на бойне.
– Откуда у тебя синий билетик?
– Купил у Бена Роджерса – за палку для обруча.
– Слушай, Гек, а на что может сгодиться дохлая кошка?
– На что? Сводить бородавки.
– Брось! Я знаю кое-что получше.
– Знаешь ты, как же! Ну, говори, что?
– Гнилая вода.
– Гнилая вода! Да ни черта она не стоит, эта твоя гнилая вода!
– Не стоит, по-твоему? А ты, что ли, пробовал?
– Я – нет. А вот Боб Таннер пробовал.
– Он сам тебе это сказал?
– Допустим, не мне. Он сказал Джефу Тэтчеру, а Джеф – Джонни Беккеру, а Джонни – Джиму Холлису, а Джим – Бену Роджерсу, а Бен – одному негру, а уж тот сказал мне. Вот как оно было!
– Ну и что с того? Все они врут. То есть все, кроме негра. Его я не знаю, только в жизни я не видывал такого негра, чтобы врал на каждом шагу. Чепуха это все! Ты лучше расскажи, как Боб Таннер это делал.
– Известно как: взял да и сунул руку в гнилой пень, где застоялась дождевая вода.
– Днем?
– А когда же еще?
– Стоя лицом к пню?
– Ну да. То есть наверно.
– И он говорил еще что-нибудь?
– Нет, вроде бы ничего. А вообще-то, не знаю.
– Ну! И какой же дурак так сводит бородавки? Нужно пойти одному в самую чащу, найти гнилой пень и ровно в полночь, поворотившись к нему спиной, сунуть руку в воду и сказать: «Ячмень, ячмень, рассыпься, индейская еда, возьми мои бородавки, гнилая вода!», – а потом отбежать на одиннадцать шагов с закрытыми глазами, три раза обернуться на месте и уж после того идти домой. И боже упаси с кем-нибудь разговаривать: если заговоришь – не подействует.
– Да, вот это вроде на что-то похоже. Только Боб Таннер делал не так.
– Ну еще бы: то-то у него и бородавок, как ни у кого во всем городе. Да если б он знал, как обращаться с гнилой водой, то ни одной бы не было. Я и сам свел уйму бородавок таким способом, Гек. Это все из-за возни с лягушками – от них у меня и бородавки. А то еще можно бобовым стручком.
– Верно, стручком хорошо. Я тоже пробовал.
– Да ты что? А как же ты сводил стручком?
– Берешь стручок, лущишь, потом чиркаешь ножом бородавку, чтоб показалась кровь, капаешь на половинку стручка, роешь ямку на перекрестке в новолуние и закапываешь стручок – ровно в полночь. А другую половинку надо сейчас же сжечь. Сообрази: та половинка, на которой кровь, будет все время тянуть к себе другую, а кровь притянет бородавку, вот она и сойдет в два дня.
– Что верно, Гек, то верно. Только когда зарываешь, надо еще сказать: «Стручок в землю, кровь к крови, а ты, бородавка, в огне гори!» – так куда вернее. Джо Харпер тоже так делает, а он, знаешь, где только не побывал! Даже до самого Кунвилла добирался. А как же это их сводят дохлой кошкой?
– Как? Да проще простого: берешь кошку – и прямиком на кладбище в полночь, но только после того, как там похоронили какого-нибудь страшного грешника. Ясное дело: ровно в полночь явится черт, а то и не один; ты этого, конечно, видеть не сможешь, будешь только слышать – вроде ветер шумит, а если повезет, так услышишь и как они там переговариваются. Короче, как потащат они старого греховодника, нужно бросить кошку вслед и тотчас сказать: «Черт за покойником, кошка за чертом, бородавка за кошкой, пошла, бородавка, вон!» Ни следа не останется!
– Смотри-ка! Ты-то сам пробовал, Гек?
– Не пробовал, а слыхал от старухи Хопкинс.
– Ну, тогда дело верное. Всем известно, что она ведьма.
– Известно! Точно, ведьма. Она и отца в два счета околдовала – он мне сам говорил. Идет как-то и видит, что она на него ворожит – порчу напускает. Тогда он схватил первый попавшийся камень, да как швырнет в нее – и попал бы, да она увернулась. И что ты думаешь? В ту же ночь его, пьяного, черт занес на крышу сарая. Доски гнилые оказались, он оступился, да и сломал себе руку.
– Жуть! А почем же он знал, что она на него ворожит?
– Да мой отец такие вещи нутром чует! Так и говорит: если ведьма глядит на тебя в упор, значит, готово – порчу напускает. Особенно если еще и бормочет. Знаешь, почему ведьмы бормочут? Это они «Отче наш» задом наперед читают.
– Слышь, Гек, ты когда собираешься испытывать кошку?
– Сегодня ночью, когда ж еще? Думаю, как раз нынче черти должны явиться за старым охальником Уильямсом.
– Его ж в субботу похоронили! Разве они его не забрали?
– Чушь городишь! Какое же колдовство до полуночи? А там уже и воскресенье. Не думаю я, чтобы чертям было дозволено шастать по кладбищам в святой день.
– Ох ты, а я и не подумал! Верно. Возьмешь меня?
– Возьму, коли не струсишь.
– Еще чего! Так ты мяукнешь?
– Ясное дело. Да и ты мяукни в ответ, чтоб я знал, что ты идешь. А то я в прошлый раз мяукал-мяукал, пока старик Гейз не начал швыряться кирпичами, да еще приговаривает: «Черти бы драли эту кошку!» Ну я ему и ответил – кирпичом в окно. Только ты никому ни звука.
– Да ладно тебе! Мне тогда никак невозможно было мяукать, тетушка следила, а уж сегодня точно мяукну. Слышь, а это у тебя что?
– Да чепуха. Клещ.
– Где взял?
– Ясное дело, в лесу.
– Что просишь?
– Не знаю. Как-то неохота продавать.
– Ну и не надо. Да и клещ какой-то уж больно невзрачный.
– Нам только дай чужого клеща охаять. А я вот им вполне доволен. Как по мне, и такой хорош.
– Клещей везде сколько угодно. Вздумается, я и сам хоть тыщу наберу.
– Чего ж не набрал? Сам знаешь, что тебе такого не сыскать. Это клещ особый, из ранних. В этом году первого вижу.
– Слышь, Гек, хочешь за него мой зуб?
– А ну, покажь!
Том бережно развернул бумажку с зубом, и Гекльберри стал его разглядывать, борясь с искушением. Наконец он спросил:
– Настоящий?
Том оттянул губу и показал дырку.
– Лады, – сказал Гекльберри, – сторговались!
Том водворил клеща в коробочку из-под пистонов, где раньше сидел жук, и мальчишки расстались, причем каждый из них чувствовал себя богачом.
В бревенчатый домик школы, стоявший особняком, Том вошел размашистой походкой человека, который торопится по важному делу. Повесив шляпу на гвоздь, он с озабоченным видом прошмыгнул к своему месту. Учитель, восседавший позади кафедры в просторном плетеном кресле, подремывал, убаюканный мушиным гудением класса. Появление Тома вернуло его к реальности.
– Томас Сойер!
Когда твое имя произносят полностью, ничего хорошего это, как правило, не предвещает.
– Я здесь, сэр.
– Подойдите сюда! Вы, как всегда, опоздали. В чем причина?
Том вознамерился было соврать, чтобы избежать наказания, но тут увидел две толстые золотистые косы, которые узнал мгновенно – исключительно благодаря сверхъестественной силе любви. Увидел он также и то, что единственное свободное место во всем классе находится рядом с этой девочкой. Не колеблясь ни секунды, он заявил:
– Я остановился на минуту, чтобы поболтать с Гекльберри Финном.
Учителя чуть не хватил удар. В немом изумлении он некоторое время взирал на Тома. Гудение прекратилось, и в классе воцарилась гробовая тишина. Кое-кто уже начал подумывать, что этот отчаянный малый окончательно рехнулся.
Учитель ошеломленно переспросил:
– Вы… Что вы сделали? Я не ослышался?
– Нет.
– Томас Сойер, это самое поразительное признание, какое мне когда-либо приходилось слышать. Боюсь, что одной линейки за такой проступок недостаточно. Ну-ка, снимите вашу куртку.
К тому моменту, когда изломались все розги, рука учителя окончательно онемела, после чего последовал приказ:
– А теперь, сэр, ступайте и займите место рядом с девочками! Пусть это послужит вам дополнительным уроком.
Казалось, что смешок, волной пролетевший по классу, смутил Тома; на самом же деле это было вовсе не смущение, а смиренная робость и благоговение перед новым божеством. Или еще точнее: страх, смешанный с радостью, которую сулила такая невероятная удача. Он присел на самый краешек сосновой скамьи, а девочка, задрав носик, отодвинулась как можно дальше. Вокруг зашептались, подталкивая друг друга и перемигиваясь, но Том сидел смирно, сложив руки на длинной приземистой парте. На первый взгляд казалось, что он с головой погрузился в книгу.
Мало-помалу он перестал быть центром внимания и нудное жужжанье зубрежки снова заполнило сонный воздух. Том начал искоса поглядывать на девочку, но она презрительно поджала губы и отвернулась. Когда она заняла прежнюю позицию, перед ней лежал персик. Девочка отодвинула его, но Том тихонько вернул персик на место. Она опять его оттолкнула, но уже без особой враждебности. Том – само терпение – водворил персик на старое место. Девочка к нему не прикоснулась. Тогда Том нацарапал каракулями на грифельной доске: «Возьмите, пожалуйста, – у меня есть еще». Девочка быстро взглянула на доску, но ничего не ответила, а Том принялся рисовать что-то, прикрывая свое творение левой рукой. Сначала девочка как бы не желала ничего замечать, но в конце концов женское любопытство взяло верх. Том по-прежнему рисовал, скрипя грифелем, ничего не видя вокруг и морща нос от усердия. Девочка попробовала исподтишка взглянуть на доску поверх его локтя, но Том и виду не подал, что заметил это. Наконец она сдалась и робко прошептала:
– Могу я на это посмотреть?
Том приоткрыл доску. Там был изображен кособокий домик с двускатной крышей и трубой, из которой клубами валил дым. Увлекшись рисованием Тома, девочка забыла обо всем на свете. После того как шедевр был завершен, она посмотрела на него в задумчивости и шепнула:
– Просто замечательно! А теперь, если можно, нарисуйте человечка.
Маэстро изобразил перед домом человечка, смахивающего на портовый кран. При желании он мог бы перешагнуть через конек кровли, но девочка оказалась не слишком придирчивым судьей и осталась довольна этим монстром. Полюбовавшись на него, она прошептала:
– До чего же красивый! А могли бы вы нарисовать меня?
Том изобразил песочные часы, увенчанные полной луной, приделал к ним ручки и ножки в виде тростинок, а затем сунул в растопыренные пальцы громадный веер. Девочка сказала:
– Чудо как хорошо! Какая жалость, что я не умею рисовать.
– Ерунда, – прошептал Том, – это проще простого. Я вас мигом научу.
– Правда? А когда?
– В большую перемену. Вы идете домой обедать?
– Я могла бы остаться, если хотите.
– Здорово! А как вас звать?
– Бекки Тэтчер. А вас? Ах да, знаю: Томас Сойер.
– Это когда мне собираются всыпать как следует. А если я веду себя прилично – Том. Поэтому зовите меня Том, договорились?
– Хорошо.
Том снова принялся царапать на доске, закрывая написанное от Бекки. На этот раз уже без всякого стеснения она попросила показать, что это такое, но Том ответил:
– Ничего особенного. Всякая чепуха.
– Нет, покажите!
– Ей-богу, не стоит. Вам это будет неинтересно.
– Нет, интересно. Ну, пожалуйста!
– Вы разболтаете.
– Ничего подобного! Даю слово, что не разболтаю.
– Никому-никому? До самой смерти?
– Ни за что на свете. А теперь – показывайте.
– Да вам же и в самом деле неинтересно!
– Ну если вы так со мной поступаете, я сама посмотрю.
Бекки вцепилась своей маленькой ручкой в руку Тома, завязалась короткая схватка, причем Том только делал вид, что сопротивляется, а сам мало-помалу убирал руку, пока не показались слова: «Я вас люблю!»
– Какой противный! – Бекки моментально шлепнула Тома по руке, покраснев при этом, но вообще-то было заметно, что она довольна.
В ту же минуту мальчик почувствовал, как могучая рука словно кузнечными клещами сжимает его ухо и тянет вверх, а затем вперед. Этаким манером его провели через весь класс и водворили на прежнее место под перекрестным огнем ядовитых насмешек. Покончив с этим, учитель постоял над Томом несколько тяжких мгновений и наконец вернулся к своему трону, так и не проронив ни слова. Ухо Тома пылало, но сердце было преисполнено ликования.
Класс снова затих, и Том честно попытался заняться уроком, но для этого он был слишком взволнован. Когда пришел его черед читать вслух, он осрамился как никогда, потом, отвечая по географии, бойко превращал озера в горные хребты, хребты в реки, а реки в пустыни, и таким образом на земле снова воцарился первозданный хаос. За этим последовал диктант, в котором он наделал ошибок в самых легких словах, известных любому младенцу, в результате оказался последним в классе, и оловянная медаль за правописание, которую он с гордостью носил несколько месяцев подряд, досталась другому ученику.
Глава 7
Чем больше Том старался сосредоточиться на ученье, тем больший разброд воцарялся в его голове. Наконец он вздохнул, зевнул и захлопнул книгу. Должно быть, большая перемена никогда не начнется. Воздух в классе был совершенно неподвижен. Бормотанье двадцати пяти усердно зубрящих учеников навевало дремоту, как жужжанье пчел. А за окном в слепящем солнечном блеске сквозь дрожащий от зноя воздух, голубеющий вдали, курчавились зеленые склоны Кардиффской горы; две-три птицы, лениво распластав крылья, парили в высоком небе; на улице не было ни души, кроме пары коров, да и те дремали, привалившись к оградам.
Душа Тома рвалась на волю – к чему-нибудь такому, что помогло бы скоротать эти нестерпимо нудные часы. Его рука скользнула в карман, и вдруг лицо мальчика просияло благодарной, чуть ли не молитвенной улыбкой. С великой осторожностью он извлек на свет коробочку из-под пистонов, открыл и выпустил клеща на длинную крышку парты. Клещ, надо думать, также просиял благодарной, почти молитвенной улыбкой, но преждевременно: как только он пустился наутек, Том загородил ему дорогу булавкой и заставил круто свернуть.
Закадычный приятель Тома Джо Харпер, который сидел рядом, страдая так же отчаянно, как только что страдал Том, немедленно проявил живейший интерес к развлечению и с готовностью принял в нем участие. Джо добыл еще одну булавку из лацкана своей курточки и взялся муштровать пленного со своей стороны. С каждой минутой игра становилась все интереснее, и вскоре Тому показалось, что вдвоем они только толкаются и мешают друг другу и ни тот ни другой не получает полного удовольствия от клеща. Взяв грифельную доску Джо Харпера, он положил ее на парту и разделил пополам, проведя прямую черту сверху донизу.