Читать онлайн Повести Белкина. Пиковая дама (сборник) бесплатно
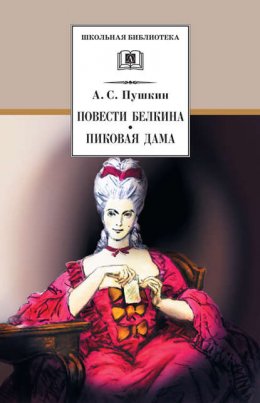
© Коровин В. И., вступительная статья, примечания, 2000
© Шмаринов Д. А., иллюстрации, 1946
© Фаворский В. А., портрет А. С. Пушкина, 1956
© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2002
* * *
1799–1837
О повестях А. С. Пушкина
Осенью 1830 года в Болдине А. С. Пушкин написал пять повестей: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка» – под общим названием «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Этот цикл – первое завершенное прозаическое произведение Пушкина.
Выпуская в свет «Повести Белкина» (для краткости будем называть их так, как принято сокращать это название в литературе), Пушкин взял на себя роль издателя, о чем и говорится в предисловии к ним, подписанном пушкинскими инициалами «А. П.». Авторство же повестей он приписал провинциальному помещику Ивану Петровичу Белкину, записавшему истории, рассказанные ему другими лицами. В примечании к предисловию, сделанном А. С. Пушкиным, указывается: «В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестию рукой автора надписано: слышано мною от такой-то особы (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей. «Смотритель» рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., «Выстрел» подполковником И. Л. П., «Гробовщик» приказчиком Б. В., «Метель» и «Барышня» девицею К. И. Т.». Тем самым Пушкин создал иллюзию фактического существования рукописи И. П. Белкина с его, Белкина, пометами и как бы документально подтвердил, что повести – не плод вздорной выдумки самого Ивана Петровича, а возникли они на реальной почве. Причем рассказчики поведали ему о том, о чем они доподлинно знали. Пушкин подчеркнул и как бы «профессиональную» причастность всех этих людей к известным им историям: подполковник рассказал повесть из военной жизни, приказчик – из быта ремесленников, титулярный советник – историю о чиновнике, смотрителе почтовой станции, девица К. И. Т. – две любовные истории. Пушкин заранее устранил себя из повествования как автора, передав авторские функции людям из провинции, рассказывающим о разных сторонах провинциальной жизни. Он объединил повести фигурой Белкина, который служил в армии, вышел в отставку, поселился в своей деревеньке, бывал по делам в городе, останавливался на почтовых станциях. Кругозор Ивана Петровича ограничен ближайшим околотком. По натуре он человек честный и кроткий, но, подобно большинству, нелюдим, ибо, как выразился рассказчик в «Выстреле», «уединение было сноснее». Как и всякий деревенский помещик, Белкин рассеивает скуку, слушая рассказы о происшествиях, которые вносят что-то поэтическое в его однообразно-прозаическое существование.
И. П. Белкин становится лицом, соединяющим всех рассказчиков и излагающим их истории. Он не выявляет своего авторского лица, своего стиля и слога. Белкин нужен Пушкину не как автор-повествователь с его особой манерой письменной речи, а как автор-пересказчик. Пушкин выдумал Белкина, чтобы дать ему слово. Однако слово это – не индивидуальное, а типовое. Слово не лица, а множества лиц. Слово русской провинции. Голос Белкина в общем хоре голосов неразличим, как неразличимы и голоса его рассказчиков, да и они сами, скрытые за инициалами. Пушкиным найден синтез литературы и действительности, ставший в зрелые годы творчества одним из его писательских устремлений.
Русская жизнь должна была явиться в изображении самих рассказчиков, то есть изнутри. Пушкину было очень важно, чтобы осмысление историй шло не от настоящего автора, уже знакомого читателям, оценивающего жизнь значительно глубже, чем персонажи повестей, а с точки зрения автора выдуманного, представляющего точку зрения человека обыкновенного, происшествиями изумленного, но сути их не постигшего, поскольку в жизни с ним этого не происходило. Для Белкина все рассказы выходят за пределы его обычных интересов, ощущаются необыкновенными (недаром они врезались в его память и даже побудили взяться за перо), оттеняют духовную неподвижность его существования.
События, о которых повествует Белкин, в его глазах выглядят истинно романтическими. В них есть все: дуэли, неожиданные происшествия, счастливая любовь, смерть, тайные страсти, приключения с переодеваниями и фантастические видения. Он находит в них то, что считает «поэтическим», то, что резко выделяется из повседневности, в которую он погружен. В нем тоже жило стремление к романтике. Он тоже хотел вырваться из скучной, тусклой, однообразной жизни.
Доверяя роль основного рассказчика Белкину, Пушкин, однако, не устраняется из повествования. То, что кажется Белкину необыкновенным, Пушкин сводит к самой обыкновенной прозе жизни. И наоборот: самые ординарные сюжеты оказываются полными поэзии и таят непредвиденные повороты в судьбах героев. Тем самым узкие границы белкинского взгляда неизмеримо расширяются. Так, например, бедность воображения Белкина приобретает особую смысловую наполненность: вымышленный повествователь ничего не может придумать и измыслить, разве что поменять фамилии действующих лиц. Названия ближайших сел и деревень заимствованы им и оставлены в неприкосновенности. Но для Пушкина в подобном недостатке заключено достоинство – куда ни кинь глаз, везде происходят или могут произойти случаи, описанные Белкиным. Губернии и уезды так похожи друг на друга, что Иван Петрович, в сущности, прав: не все ли равно, какую деревню назвать, ведь всюду жизнь протекает одинаково.
В «Повестях Белкина» скрещиваются два писательских взгляда. К одному и тому же жизненному материалу у вымышленного и истинного повествователей разное отношение. Незатейливая белкинская проза корректируется Пушкиным: он то ироническое слово вставит, то какую-нибудь притчу вспомнит, например о блудном сыне, то к литературному сюжету отошлет.
Сопоставляются разные манеры изложения: одна – до чрезвычайности скупая, наивная, «бедная», а другая – лукавая, ироничная, лирическая. Первая принадлежит человеку невысокого духовного развития, вторая – национальному поэту, поднявшемуся до высот мировой культуры. Белкин, например, в «Барышне-крестьянке» подробно рассказывает об Иване Петровиче Берестове. Из описания исключены какие-либо личные эмоции повествователя: «В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход и ничего не читал, кроме «Сенатских ведомостей». Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед». Но вот речь идет о ссоре помещиков. И тут в рассказ явно вмешивается Пушкин. После того как приведено суждение Берестова о его соседе, следуют слова: «Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего зоила медведем и провинциалом». Белкин конечно же к журналистам никакого касательства не имел. Вероятно, и слов «англоман», «зоил» он не употреблял.
Пушкин, конечно, не без известного лукавства лишил Белкина художественной фантазии. Прикрываясь им, он как бы отводил от себя возможные упреки в бедности воображения. И, надо сказать, он не ошибся. Вскоре после опубликования «Повестей Белкина» многие критики заговорили об упадке его таланта. К этому неблагозвучному хору присоединил свой голос даже В. Г. Белинский. Критики не захотели заметить, что кажущаяся бедность содержания повестей обусловлена их сутью. В них отразились в типичных своих чертах провинциальная жизнь и быт: любовь в захолустном поместье может быть, например, не менее страстной и трогательной, чем в неистовых романтических повестях, а горе, допустим, смотрителя, до которого и дела-то никому нет, может обернуться подлинной драмой. Поэзия таится в самой настоящей прозе, а то, в чем обыкновенно видят поэзию, – не более чем заурядная проза. Поэзию нужно искать в жизни, и воображение должно быть направлено на действительность, а не на выдумку далеких от нее «историй».
Белкин в изображении жизни тянется к литературному, книжному освещению сюжетов. Пушкин иронически «поправляет» белкинские попытки, выводя повествование из обычного литературного русла и соблюдая точность в описании нравов. Он как бы вступает в «игру» с повествователем. «Игра» различных стилей, придающих особое художественное многоголосие пушкинскому произведению, не исчезает на всем пространстве «Повестей Белкина», она отражает тот богатый, подвижный и противоречивый жизненный мир, в котором пребывают персонажи. Герои повестей и сами постоянно «играют», пробуя себя в разных, порой рискованных ситуациях. Для Пушкина «игра» – неотъемлемая сторона жизни, ибо в ней выражается индивидуальное своеобразие личности и через нее пролегает путь к правде характера.
В повестях Пушкин создает многоступенчатую стилевую структуру. Та или иная история освещается с разных позиций. Например, в «Выстреле» повествователь ведет свой рассказ, будучи молодым и будучи в зрелом возрасте. О герое повести известно и с его слов, и со слов антагониста (графа), и со слов наблюдателя-повествователя (Пушкина).
Авторское присутствие от повести к повести возрастает. Пушкин весьма широко пользуется иронией, сравнивает персонажи с образами других литературных героев, пародирует и переосмысливает старые книжные схемы. Переделывая известные сюжеты, Пушкин часто берет готовые планы, готовые характеры и «вышивает» «по старой канве… новые узоры». Круг литературных произведений, так или иначе втянутых в пушкинский цикл, огромен. Тут и трагедия Шекспира, и романы Вальтера Скотта, и романтические повести А. А. Бестужева-Марлинского, и французская комедия классицизма, и сентиментальная повесть H. М. Карамзина «Бедная Лиза», и фантастические повести Э. Т. А. Гофмана и А. Погорельского, и нравоописательные повести забытых или полузабытых авторов (например, «Отеческое наказание (истинное происшествие)» В. И. Панаева, и многие другие произведения). Пушкинские персонажи надевают на себя различные маски, созданные литературой и вошедшие в жизнь или, наоборот, возникшие в жизни и освещенные литературой.
При таком методе в «Повестях Белкина» чрезвычайно важна точка зрения автора, который заставляет персонаж играть ту или иную роль в соответствии с его характером, душевным складом, манерой поведения, общением с другими персонажами и в связи с той или иной конкретной ситуацией. Понятно, что автор не имеет возможности открыто вмешаться в роль, разыгрываемую персонажем. Его позиция становится ясной из сцепления эпизодов, сцен, разговоров действующих лиц. «Игра» персонажей совершается как по законам реальности, так и по законам литературы. Пушкин пародирует не только поведение персонажей в жизни, но и навязанные им литературные роли. Вместе с тем через пародию раскрывается как комический, так и очень серьезный смысл «игры», достигаемый перестановкой, исключением или новой компоновкой старых фабульных ходов. Поэтому литературные сюжеты и пародируются и преображаются. За каждым сюжетным поворотом и характером у Пушкина скрыта богатая культурная традиция.
Однако содержание повестей не сводится к иронии и пародии. Перелицовывая сюжеты, Пушкин преображал их. Смывая грим с персонажей, он являл их подлинные лица. Ирония и пародия помогали Пушкину достигать художественной истины и передавать сложность жизни.
Каждая повесть Пушкина и весь цикл – вершина художественного совершенства. Так, повесть «Выстрел», открывающая собрание повестей Белкина, издавна служит примером классической композиционной стройности. В первой части повествователь, молодой офицер, рассказывает о Сильвио. Затем Сильвио рассказывает о своем поединке с графом, а потом граф вспоминает о Сильвио. В заключение от лица повествователя передается «молва»: «сказывают» о судьбе Сильвио. Действующие лица, сменяя друг друга, освещают события с разных сторон и сами предстают каждый раз иными. Они увидены глазами друг друга и повествователем, подполковником И. Л. П., рассказавшим эту историю И. П. Белкину. Повествователь предстает сначала романтически настроенным молодым офицером, не имеющим опыта и плохо знающим людей, а затем повзрослевшим человеком, который, выйдя в отставку, поселился в бедной деревеньке. И тогда он иначе смотрит на бесшабашную удаль, озорное молодечество и буйные дни офицерской молодежи: графа он называет «повесой», тогда как по его прежним понятиям эта характеристика была к графу неприложима. Книжное восприятие сменяется более объективным, лишенным черт романтичности. Подобная перемена касается и графа: в молодости он беспечен, не дорожит жизнью, а в зрелом возрасте узнает подлинные жизненные ценности – любовь, семейное счастье, ответственность за близкого ему человека.
Лишь Сильвио на этом фоне остается равным себе от начала до конца повествования. Однако отношение к нему со стороны действующих лиц меняется не в лучшую сторону. Проникая в тайну Сильвио, они постепенно понимают, что герой по природе мститель. И эта сущность его характера скрывается под маской романтической таинственной личности. Он посвящает себя упражнениям в стрельбе и добивается ощутимых успехов, но убийство не входит в его планы: Сильвио мечтает «убить» в мнимом обидчике человеческое достоинство и честь, а также насладиться страхом смерти на лице графа и с этой целью пользуется минутной слабостью противника, заставляя его произвести повторный (незаконный) выстрел. Однако стоит ли тратить жизнь на то, чтобы удовлетворить свое мелкое мстительное чувство и в результате долгих ожиданий и тщательно продуманных действий до смерти напугать ни в чем не повинную молодую женщину, супругу графа? Поступок Сильвио превращается в трагикомический фарс, на который никак не рассчитывал романтический герой и который для обитателей графского дома приобрел зловещий оттенок. К тому же впечатление Сильвио о запятнанной совести графа ошибочно.
После того как Сильвио внушил себе, будто отомстил сполна, его жизнь лишается смысла и ему не остается ничего, кроме поисков смерти. Попытки героизировать «романтического мстителя» несостоятельны. Гибель Сильвио в сражении под Скулянами, в котором победу одержали турки, лишена романтического ореола.
Сентиментальные, романтические, нравоописательные и прочие мотивы раскрываются и в других повестях.
История Марьи Гавриловны, дочери богатых помещиков, бедного прапорщика Владимира и полковника Бурмина в повести «Метель» пронизана таинственностью и случайностью.
Марья Гавриловна и Владимир – романтически настроенные молодые люди, воспитанные на книжных представлениях о жизни. Однако к своим чувствам они относятся серьезно. Автор же ироническими замечаниями подчеркивает незрелость их чувств. Например (курсив всюду мой. – В. К.): «Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и, следственно, была влюблена». «Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать…»
Легкомысленное решение героев тайно обвенчаться приводит из-за стечения обстоятельств к, казалось бы, тупиковой ситуации. Случай (метель) вторгается в их судьбы. Марья Гавриловна венчается не с Владимиром, заплутавшим в дороге, а с незнакомым офицером, проявившим «непонятную, непростительную ветреность», свойственную безответственным повесам, всегда готовым на нечаянное любовное приключение. Поступок Бурмина (незнакомца) приносит несчастье: любовь Марьи Гавриловны и Владимира оказывается невозможной, они прекращают отношения. Марья Гавриловна становится «незамужней женой» неизвестного ей человека и отныне не может устроить свою судьбу – выйти замуж. Бурмин, полюбив Марью Гавриловну, глубоко страдает: он не имеет права на ней жениться, потому что он обвенчан и даже не знает, кто его жена. Марья Гавриловна и Бурмин чувствуют взаимное влечение, но между ними стоит роковое препятствие извне. Оба хранят свои тайны. В конце концов оказывается, что у них одна общая тайна. Под таинственными, сентиментально-романтическими масками приоткрываются лица достойных друг друга людей, осознавших ошибки молодости, но не имеющих возможности их исправить. Неизбежное любовное признание неожиданно проясняет ситуацию: Марья Гавриловна и Бурмин находят друг в друге жену и мужа. Случай (метель) не только разъединил прежних влюбленных (Марью Гавриловну и Владимира), но и соединяет новых влюбленных (Марью Гавриловну и Бурмина).
Пушкин искусно строит повесть, даруя милым обыкновенным людям счастье, которое те обретают через испытания сердца. Со временем они осознали ответственность не только за личную судьбу, но и за судьбу другого человека.
Вместе с тем в повести «Метель» звучит и такая мысль: реальные жизненные отношения «вышиваются» не по канве книжных романтических представлений, а с учетом личных влечений и «общего порядка вещей», в соответствии с господствующими устоями и нравами.
Третья повесть, «Гробовщик», в отличие от других насыщена философским содержанием. Например, новоселье Адрияна Прохорова (у Пушкина – Адриан) не только реально, но и символично. Переселение гробовщика в новый дом осмыслено как обретение им новых жизненных стимулов. От мрачного и угрюмого настроения он переходит к светлому и радостному, к осознанию семейного счастья и подлинных ценностей жизни.
Ремесло Адрияна меняет его отношение к жизни и смерти. Он с ними прямо соприкасается. Живой, он готовит для умерших новые «дома» (гробы, домовины), его клиенты – мертвецы. Он постоянно занят мыслями, как бы не упустить доход и не прозевать смерть еще живущего человека. Адриян создает условия для перехода из мира живых в мир мертвых, стало быть, является необходимым звеном в череде явлений, связанных с жизнью и смертью.
Обычно с гробовщиками и гробокопателями (могильщиками или кладбищенскими ворами) связывалась в литературе философская тема. Гробокопатели рассуждали о бренности жизни, о тщетности человеческих усилий. Адриян Прохоров – не философ, но и он не сторонится рассуждений. Философские мотивы с иронической окраской возникают в его беседе с сапожником Готлибом Шульцем и на вечеринке у последнего, где будочник Юрко, растолковывая гробовщику тост «толстого булочника»: «За здоровье тех, на которых мы работаем, unserer Kundleute!»[1], предлагает ему выпить за здоровье его клиентов, то есть мертвецов. Юрко смеется над тем, что Адриян выполняет роль связующего двух миров – живых и мертвых. Адриян обижается и на Юрко, и на немцев-ремесленников, потому что они выкидывают его из мира как ненужное лицо. Для него рушится установленный от Бога порядок жизни, к которому он привык и в котором занял прочное и, по его понятиям, нужное, необходимое и достойное место. Предложение Юрко наводит Адрияна на мысль пригласить к себе на новоселье, на пир мертвецов, для которых он изготовлял гробы и которых провожал в последний путь. Мир мертвых чужд ему. Несмотря на корысть и расчет Адрияна-ремесленника, душа Адрияна-человека жива и восприимчива к радостям жизни. Пробуждение от сна, в котором мертвецы цепко хватали Адрияна в свои объятия, рисуется Пушкиным как освобождение и обновление всего его существа. К гробовщику возвращается светлое сознание. Он призывает дочерей, обретает покой, вновь приобщается к ценностям семейной жизни. Представление Адрияна об общем порядке мироустройства, нарушенное Юрко и немцами-ремесленниками, восстанавливается в его сознании и настраивает его на светлый философско-иронический лад. Он вновь обретает уверенность в себе и в окружающем его мире.
Повестью «Станционный смотритель» Пушкин положил начало повестям о так называемом «маленьком человеке». Сюжет повести основан на противоречии. Обычно судьба девушки из низших слоев общества, полюбившейся знатному господину, была незавидной и печальной. В литературе подобные сюжеты разрабатывались в сентиментальном и нравоучительном духе.
Самсон Вырин, станционный смотритель, знает о таких историях из жизни. Его «смиренную, но опрятную обитель» украшают также картинки, изображающие «историю блудного сына»: молодой человек отправляется в путь, благословляемый отцом и награждаемый деньгами, затем он проматывает состояние, «окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами», и, нищий, раскаявшийся, возвращается к отцу, который с радостью его принимает и все ему прощает. Литературные сюжеты и лубочные картинки предполагали два исхода: трагический (гибель девушки) и счастливый (вновь обретенное душевное успокоение как для блудного сына, так и для отца-старика).
Сюжет «Станционного смотрителя» развертывается в ином ключе: Дуня с Минским счастлива. Вырин же не верит в возможное счастье дочери и даже не предусматривает его, несмотря на увиденную своими глазами счастливую Дуню во время ее встречи с Минским. Смотритель оказался «слеп». Убежденный в несчастье дочери, он не в состоянии перенести внушенный себе ее мнимый трагический конец. Напрасно надеется он на возвращение Дуни домой, на ее покаяние, которые доставили бы ему радость прощения. Трагедия, таким образом, касается прежде всего отца, не понимающего дочери, сосредоточенного на своих чувствах, а также на типичных представлениях об окончании подобных историй. Переживания Самсона Вырина проистекают из-за его любви и привязанности к дочери, принимающих эгоистический характер.
Эгоизма и душевного холода не лишены и чувства Дуни к отцу. Она испытывает свою вину перед отцом, но к нему не возвращается и только после смерти Вырина посещает его могилу. Дуня жертвует отцом ради новой жизни. Переход из одного социального слоя в другой и распад патриархальных связей представляются Пушкину и закономерными, и чрезвычайно противоречивыми: обретение счастья в новой семье не отменяет трагедии, касающейся прежних устоев и самой жизни человека.
Завершает цикл повесть «Барышня-крестьянка». В основе ее – любовь двух молодых людей, Алексея Берестова и Лизы Муромской, принадлежащих к враждующим, а потом примирившимся семействам соседей-помещиков. Имя героини, как легко догадаться, связано с повестью H. М. Карамзина «Бедная Лиза» и с подражаниями ей. Берестовы и Муромские внешне тяготеют к разным национальным традициям. Берестов – русофил, Муромский – англоман, но их приверженность этим традициям принципиальной роли не играет, каждый из них – обыкновенный русский барин, а их особое предпочтение той или иной культуре, своей или чужой, – наносное поветрие, возникающее от скуки или от каприза. Война Берестова и Муромского – ироническое переосмысление войны Монтекки и Капулетти из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». В отличие от шекспировской вражды она лишена значительности и является не чем иным, как фарсом. Ироническое преображение касается некоторых персонажей повести: Настя, служанка Лизы, была «лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии»; собака Алексея Берестова носит кличку Сбогар (это напоминает об имени героя романа «Жан Сбогар» французского писателя Ш. Нодье) и т. д. «Сентиментально-романтический грим» густо наложен на сюжет. В первую очередь это относится к проделкам Лизы. Она сначала переодевается в крестьянское платье, чтобы поближе узнать молодого барина, а затем – в наряд французской аристократки времен Людовика XIV, чтобы не быть узнанной им.
Под маской крестьянки Лиза приглянулась Алексею, потом и сама почувствовала сердечное влечение к нему. Впоследствии все препятствия, мешающие их любви, преодолеваются (отцы мирятся, социальная рознь устраняется). Пути к браку открыты. Шуточные драматические коллизии рассеиваются. Взаимная склонность героев и намерения их родителей счастливо совпадают. Пушкин смеется над сентиментально-романтическими уловками Лизы и Алексея и, смывая «грим», являет их действительные лица, сияющие молодостью, наполненные радостью жизни.
В повести «Гробовщик» есть у Пушкина одна мысль, которую можно считать его глубочайшим убеждением последних лет: самые непоправимые трагедии в жизни случаются тогда, когда человек теряет устойчивость в бытии, укорененность в мироздании. Можно, а иногда даже и нужно быть недовольным своим социальным, имущественным или каким-либо иным положением. Нет ничего плохого в том, если человек стремится повысить свой статус. Но, добиваясь этого, он не должен нарушать права других людей и – главное – покушаться на переустройство бытия в целом, потому что переделка бытия, мироздания в личных целях ради создания благоприятных условий для себя есть полное презрение ко всем живущим на Земле.
Мир как таковой, Божий мир, в котором мы все живем, устроен раз и навсегда. Он придуман до нас и не нами. Все уже придумано, говорит нам Пушкин, и не в наших силах изменить мироустройство. Речь, понятно, идет о бытии в целом, о мироздании как таковом, о Вселенной, которая держится не только на физических, но и на нравственных основаниях. Если же человек вторгается своей мыслью, чувствами, волей в нерушимое состояние бытия, то его неминуемо ждет гибель, крах, крушение всех его морально преступных замыслов. С ним вместе могут физически, нравственно погибнуть и другие люди. Иначе говоря, трагедия становится неизбежной и неотвратимой, если то или иное лицо попытается изменить бытийный, вселенский порядок в угоду себе. При этом порядок устоит, истина вновь восторжествует, но уже ценой трагедий, роковых испытаний едва ли не для всех втянутых в события людей. Эта философская идея была Пушкину особенно дорога в последние годы творчества. Ею наполнены «маленькие трагедии» и прозаические произведения, в особенности повесть «Пиковая дама», одна из самых глубоких и совершенных в его творчестве, созданная в Болдине осенью 1833 года.
Сюжет повести построен на игре случайности и закономерности. Каждый герой связан с определенной темой: например, образ Германна (фамилия, а не имя!) – с темой социальной и бытийной неудовлетворенности (мечтая занять более высокое социальное положение в обществе и стать богатым, Германн бросает вызов всеобщему мироустройству); образ графини Анны Федотовны – с темой судьбы; образ Томского – с темой незаслуженного счастья. На образ Томского, играющего в повести незначительную роль, падает значительная смысловая нагрузка: пустой, ничтожный светский человек, не имеющий ярко выраженного лица, он воплощает случайное счастье, никак им не заслуженное. Он выбран судьбою, а не выбирает судьбу себе сам, как это делает Германн, стремящийся покорить фортуну. Удача сопутствует Томскому, как она сопутствует графине и всему ее роду. В конце повести сообщается, что «Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине». В его судьбе случайная удача становится закономерностью независимо от каких-либо личных достоинств.
Образ старой графини, Анны Федотовны, непосредственно связан с темой судьбы, постоянно сопряжен с жизнью и смертью, находится на их пересечении. В молодости ее в Париже называли «московской Венерой», ее красота, подобно известной скульптуре, имела черты холодности, мертвенности и окаменения. Она неподвижна, холодна и при встрече с Германном. Однако, находясь между жизнью и смертью, графиня способна на «сильное движение души» под влиянием воспоминаний (при имени покойного Чаплицкого) и страха (перед пистолетом Германна).
После кончины графиня оживает в сознании Германна, является ему как его видение, сообщая при этом, что она посетила его не по своей воле. Какова эта воля – злая или добрая, – неизвестно. В повести есть указания на демоническую силу графини (она, в образе видения, называет Германну три карты, а их тайна открыта ей графом Сен-Жерменом, причастным к демоническому миру), на ее демоническое лукавство (однажды мертвая графиня «насмешливо взглянула» на Германна, «прищуривая одним глазом», в другой раз он увидел в карте «пиковая дама» старуху графиню, которая «прищурилась и усмехнулась»), на ее добрую волю («Прощаю тебе мою смерть, с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне…»), на ее мистическую месть, поскольку Германн не выполнил условие, поставленное графиней («…в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама».).
Через рассказ Томского о графине и светском авантюристе Сен-Жермене, спровоцированный историческим анекдотом, образ Германна также связывается с темой судьбы. Германн испытывает судьбу, надеясь овладеть тайной закономерностью счастливого случая. Иначе говоря, он стремится исключить для себя случай и превратить карточный успех в закономерный. Однако, вступая в «зону» случая, он гибнет, и его гибель становится столь же случайной, сколь и закономерной.
В Германне сконцентрированы разум, расчетливость, подавляющая честолюбие твердая воля, сильные страсти и огненное воображение. Он – игрок в душе. Игра в карты символизирует игру с судьбой. «Превратный» смысл карточной игры отчетливо обнаруживается для Германна в его карточной дуэли с Чекалинским. Расчетливость и рациональность Германна вступают в противоречие со страстями и огненным воображением. Воля, сдерживающая страсти и воображение, в конце концов оказывается посрамленной, поскольку Германн, независимо от собственных усилий, подпадает под власть обстоятельств и выступает орудием чужой, не понятой им тайной силы, превращающей его в жалкую игрушку.
Первоначально он, казалось бы, умело использует свои «добродетели» – расчет, умеренность и трудолюбие – для достижения успеха; строит планы, благодаря которым надеется вырвать у графини тайну трех карт. Его расчет сбывается: он появляется под окнами Лизаветы Ивановны, добивается ее улыбки, обменивается с ней письмами и, наконец, получает от нее согласие на любовное свидание. И вот он в доме графини. Однако встреча с графиней, несмотря на уговоры и угрозы Германна, не приводит к успеху: ни одна из заклинательных формул предлагаемого героем «договора» не действует на графиню. Анна Федотовна умирает от страха. Расчет оказался напрасным. Разыгравшееся воображение обернулось пустотой.
С этого момента завершается один период жизни Германна и начинается другой. Он, с одной стороны, подводит черту под своим авантюрным замыслом: заканчивает любовное приключение с Лизаветой Ивановной, признавшись при этом, что она никогда не была героиней его романа, а только орудием его честолюбивых и корыстных замыслов; решает просить прощения у мертвой графини, но не из собственно моральных соображений, а из-за эгоистической выгоды – уберечь в дальнейшем свою судьбу от вредного влияния старухи. С другой стороны, тайна трех карт по-прежнему владеет его сознанием, Германн не может отделаться от наваждения, поставить точку. Из неудачливого авантюриста и героя социально-бытовой повести, бросающего свою возлюбленную, он превращается в измельчавший персонаж фантастической повести, в сознании которого реальность перемешивается с видениями и даже замещается ими. Все его видения (явление мертвой старухи; сообщенный ею секрет трех карт; условия, выдвигаемые покойной Анной Федотовной, в том числе и требование жениться на Лизавете Ивановне) – плоды помутненного сознания, исходящие словно бы из потустороннего мира. Идея трех карт окончательно овладевает им, выражаясь во все бо́льших признаках сумасшествия (Стройную девушку он сравнивал с тройкой червонной. «У него спрашивали: «который час», он отвечал: «без пяти минут семерка». Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза».).
Узнав тайну трех карт, Германн уверен, что исключил случай из своей жизни, что проиграть он не может, что закономерность успеха ему подвластна. Испытать свое всевластие ему помогает опять-таки случай – прибытие из Москвы в Петербург знаменитого игрока Чекалинского. В этом Германн вновь видит некий перст судьбы, то есть проявление все той же необходимости, которая как будто к нему благосклонна. В нем снова оживают расчетливость, хладнокровие, воля, но теперь они играют не на его стороне. Будучи совершенно уверен в удаче, в том, что подчинил случай себе, Германн неожиданно «обдернулся», вытащил из колоды другую карту. Психологически это совершенно объяснимо: тот, кто слишком уверовал в свою непогрешимость и в свой успех, часто небрежен и невнимателен. Самое парадоксальное состоит в том, что закономерность не поколеблена: туз выиграл. Но всевластие случая, этого «бога-изобретателя», не отменено. Германн думал, что он исключил случай из своей судьбы игрока, а тот покарал его.
Последняя игра Германна с Чекалинским была поединком с судьбой. Чекалинский это чувствовал, а Германн нет, ибо он полагал, что судьба в его власти. Чекалинский трепетал, Германн был спокоен.
В философском смысле Германн понят Пушкиным как ниспровергатель фундаментальных основ бытия, его коренных незыблемых устоев. Мир держится на подвижном равновесии закономерности и случайности. Ни то, ни другое нельзя изъять или уничтожить. Всякие попытки перекроить мировое устройство (не социальное, не общественное, а именно бытийное) чреваты катастрофой. Это вместе с тем не означает, что судьба одинаково благосклонна ко всем людям, что она воздает всем по заслугам и равномерно, справедливо распределяет удачи и неудачи. Томский, например, принадлежит к «избранным», удачливым героям, Германн – к «неизбранным», к неудачникам. Бунт против законов бытия, где необходимость так же всевластна, как и случай, приводит к краху. Исключив случай, Германн сошел с ума именно из-за случая, через который проявилась закономерность. Его идея уничтожить фундаментальные основы мира, созданные свыше, поистине безумна.
Действие законов необходимости и случайности присуще и социальному порядку. Если изменения социальной и личной судьбы затрагивают коренное мироустройство, как в случае с Германном, то они кончаются крахом. Если же, как в судьбе Лизаветы Ивановны, они не грозят законам бытия, то могут венчаться удачей. Лизавета Ивановна «была пренесчастное создание», «домашней мученицею», занимающей незавидное положение в социальном мире. Она одинока, унижена, хотя достойна счастья. Она жаждет изменить эту участь и ждет любого «избавителя», надеясь с его помощью сделать свою судьбу лучше. Однако свою надежду она не связывала исключительно с Германном. Ее с ним свела судьба, и она стала его невольной соучастницей. При этом Лизавета Ивановна не строит расчетливые планы. Она доверяется жизни, и условием перемены социального положения для нее все-таки остается чувство любви. Это смирение перед жизнью уберегает Лизавету Ивановну от власти демонической силы. Она искренно раскаивается в своем заблуждении относительно Германна и страдает, остро переживая невольную вину в смерти графини. Именно ее Пушкин награждает счастьем, не скрывая при этом иронии: Лизавета Ивановна повторяет судьбу своей благодетельницы – у нее «воспитывается бедная родственница». Но эта ирония относится скорее не к участи Лизаветы Ивановны, а к социальному миру в целом, который не делается счастливее. Отдельные участники социальной истории, прошедшие через невольные прегрешения, страдания и раскаяние, удостаивались личного счастья и благополучия.
Что же касается Германна, то он, в отличие от Лизаветы Ивановны не удовлетворенный социальным порядком, бунтует и против него, и против законов бытия. Пушкин сравнивает его с Наполеоном и Мефистофелем. Войны Наполеона были вызовом человечеству, странам и народам. Наполеоновские претензии носили всеевропейский и даже вселенский характер. Мефистофель вступал в гордое противоборство с Богом. Для нынешнего «Наполеона» и «Мефистофеля» в образе Германна этот масштаб слишком велик и обременителен. Новый герой сосредоточивает свои усилия на деньгах, он способен лишь напугать и довести до смерти отжившую старуху. Однако он ведет игру с судьбой с той же страстью, с той же беспощадностью, с тем же презрением к человечеству и к Богу, как это было свойственно Наполеону и Мефистофелю. Подобно им, он не принимает Божьего мира в его законах, не считается с людьми вообще и с каждым человеком в отдельности. Люди для него – орудие удовлетворения его честолюбивых, эгоистических и корыстных желаний. Тем самым в заурядном и обыкновенном человеке нового буржуазного мира Пушкин увидел те же наполеоновские и мефистофельские начала, но снял с них ореол героики и романтического бесстрашия. Содержание страстей измельчало, съежилось, но не перестало угрожать человечеству. А это означает, что социальный порядок по-прежнему чреват катастрофами и катаклизмами и что Пушкин испытывал недоверие к идее всеобщего счастья в обозримом для него времени. Вместе с тем он не лишает мир надежды. В этом убеждает не только судьба Лизаветы Ивановны, но и – косвенно, от противного – крах Германна, идеи которого безумны и закономерно ведут к разрушению личности.
«Повести Белкина» и «Пиковая дама», как и вся пушкинская проза, оказали огромное влияние на последующую русскую литературу. Русские писатели обращались к пушкинским сюжетам, отдельным мотивам и образам. Отголоски пушкинской прозы звучат в произведениях И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. Например, к образу «маленького человека», введенного в русскую литературу Пушкиным, впоследствии добавили новые грани Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов. Разрушительные эгоистические идеи, связанные с образом Германна, которого Ф. М. Достоевский назвал истинно «петербургским» типом, волновали многих русских писателей. В прозе Пушкина они видели образцы жанра и гармоничного стиля. Так, Ф. М. Достоевский считал фантастику «Пиковой дамы» непревзойденной и недосягаемой по своему искусству.
Высоко ценится умение Пушкина подчинять литературных героев власти обстоятельств, одновременно оставляя за ними свободу выбора. С человека никогда не снимается ответственность за совершенные им поступки. Он может изменить себе или пасть жертвой обстоятельств, но может противостоять им и подняться над ними.
Художественная проза Пушкина отличается стремительностью письма, точностью и краткостью, уравновешенностью, гармоничностью слога. Пушкин сразу вводит читателя в действие своих произведений, его проза «глагольна», описания в ней подчинены динамике, развитию сюжета. Слово у Пушкина точно и живо описывает предмет, событие, душевное состояние человека. Пушкин мастерски передает чувства своих героев, рисуя их жесты, позы, мимику.
Пушкинская проза – одно из «прекрасных начал» русского словесного искусства XIX–XX веков и эталон совершенства на все времена.
Валентин Коровин
Повести покойного Ивана Петровича Белкина
От издателя
Г-жа П р о с т а к о в а
То, мой батюшка, он еще сызмала к историям охотник.
С к о т и н и н
Митрофан по мне.
Недоросль*[2]
Взявшись хлопотать об издании Повестей И. П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трафил иной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина; но, к сожалению, ей невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнестись по сему предмету к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету, и на письмо наше получили нижеследующий желаемый ответ. Помещаем его безо всяких перемен и примечаний, как драгоценный памятник благородного образа мнений и трогательного дружества, а вместе с тем как и весьма достаточное биографическое известие.
Милостивый Государь мой ** **!
Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23 сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое желание иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим моим удовольствием исполняю сие ваше желание и препровождаю к вам, милостивый государь мой, всё, что из его разговоров, а также из собственных моих наблюдений запомнить могу.
Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине. Покойный отец его, секунд-майор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пелагее Гавриловне из дому Трафилиных. Он был человек не богатый, но умеренный, и по части хозяйства весьма смышленый. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то почтенному мужу был он, кажется, обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году вступил он в службу в пехотный егерский полк (числом не упомню), в коем и находился до самого 1823 года. Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину.
Вступив в управление имения, Иван Петрович, по причине своей неопытности и мягкосердия, в скором времени запустил хозяйство и ослабил строгий порядок, заведенный покойным его родителем. Сменив исправного и расторопного старосту, коим крестьяне его (по их привычке) были недовольны, поручил он управление села старой своей ключнице, приобретшей его доверенность искусством рассказывать истории. Сия глупая старуха не умела никогда различить двадцатипятирублевой ассигнации от пятидесятирублевой; крестьяне, коим она всем была кума, ее вовсе не боялись; ими выбранный староста до того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович принужден был отменить барщину и учредить весьма умеренный оброк; но и тут крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие более двух третей оброка платили орехами, брусникою и тому подобным; и тут были недоимки.
Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я почитал долгом предлагать и сыну свои советы и неоднократно вызывался восстановить прежний, им упущенный, порядок. Для сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал плута старосту и в присутствии Ивана Петровича занялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сначала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и прилежностию; но как по счетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался сим первым сведением и далее меня не слушал, и в ту самую минуту, как я своими разысканиями и строгими допросами плута старосту в крайнее замешательство привел и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею досадою услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственные распоряжения и передал его дела (как и он сам) распоряжению Всевышнего.
Сие дружеских наших сношений нисколько, впрочем, не расстроило; ибо я, соболезнуя его слабости и пагубному нерадению, общему молодым нашим дворянам, искренно любил Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодого человека столь кроткого и честного. С своей стороны, Иван Петрович оказывал уважение к моим летам и сердечно был ко мне привержен. До самой кончины своей он почти каждый день со мною виделся, дорожа простою моею беседою, хотя ни привычками, ни образом мыслей, ни нравом мы большею частию друг с другом не сходствовали.
Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случалось мне видеть его на́веселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почесться может); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая[3].
Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частию у меня находятся, частию употреблены его ключницею на разные домашние потребы. Таким образом прошлою зимою все окна ее флигеля заклеены были первою частию романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большею частию справедливы и слышаны им от разных особ[4]. Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим, а названия сел и деревень заимствованы из нашего околотка, отчего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения.
Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудною лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер, несмотря на неусыпные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей и тому подобного. Он скончался на моих руках на 30-м году от рождения и похоронен в церкви села Горюхина близ покойных его родителей.
Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волоса русые, нос прямой; лицом был бел и худощав.
Вот, милостивый государь мой, всё, что мог я припомнить касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля моего. Но в случае, если заблагорассудите сделать из сего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать; ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным. С истинным моим почтением и проч.
1830 году Ноября 16.
Село Ненарадово.
Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставленные нам известия и надеемся, что публика оценит их искренность и добродушие.
А. П.
Выстрел
Стрелялись мы.
Баратынский*
Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним остался еще мой выстрел).
Вечер на бивуаке*
I
Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.
Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сертуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось при том рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большею частию военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.
Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтёру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему; но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти, и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме».
Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут; но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой ваканции.
На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился.
Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу всё было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние.
Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио…
Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде сего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня; по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностию. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему; мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мере я заметил раза два в нем желание со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились.
Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа, – сказал им Сильвио, – обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас, – продолжал он, обратившись ко мне, – жду непременно». С сим словом он поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.
Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Всё его добро было уже уложено; оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общею; пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», – сказал он тихо. Я остался.
Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание.
– Может быть, мы никогда больше не увидимся, – сказал он мне, – перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение; но я вас люблю, и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление.
Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я молчал, потупя глаза.
– Вам было странно, – продолжал он, – что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р***. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его.
Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал:
– Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив.
Любопытство мое сильно было возбуждено.
– Вы с ним не дрались? – спросил я. – Обстоятельства, верно, вас разлучили?
– Я с ним дрался, – отвечал Сильвио, – и вот памятник нашего поединка.
Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотою кистью, с галуном (то, что французы называют bonnet de police[5]); он ее надел; она была прострелена на вершок ото лба.
– Вы знаете, – продолжал Сильвио, – что я служил в *** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Бурцова*, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло.
Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливца столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих и которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил, а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.
Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому; но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу счастия. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства… Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти, – сказал я ему, – вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать». – «Вы ничуть не мешаете мне, – возразил он, – извольте себе стрелять, а впрочем, как вам угодно: выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.
Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой настал…
Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.
– Вы догадываетесь, – сказал Сильвио, – кто эта известная особа. Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!