Читать онлайн На берегах Невы. На берегах Сены. На берегах Леты бесплатно
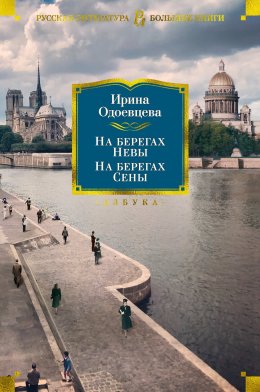
Предисловие
Я всю жизнь писала свои книги с тайной надеждой, что когда-нибудь меня будут читать и в моей стране…
И. В. Одоевцева
Ирина Владимировна Одоевцева вернулась на родину в город своей юности Петербург в апреле 1987 года в возрасте 92 лет.
«Как можно было в таком возрасте решиться на этот шаг?» – изумлялись одни. «Только в таком возрасте и можно было рискнуть», – шутили другие.
А она вернулась первой ласточкой свободы легко и безоглядно и, могу засвидетельствовать, никогда не пожалела об этом.
По невероятному совпадению она поселилась на Невском, как раз рядом с Домом искусств, где в 20‐е годы было общежитие литераторов. Там жили ее друзья. Оттуда увели чекисты в последний путь ее учителя и друга Николая Степановича Гумилева.
…«Я всю жизнь писала свои книги с тайной надеждой, что когда-нибудь меня будут читать и в моей стране», – говорила Ирина Владимировна в своем интервью для газеты «Неделя», когда в Москве вышла ее книга «На берегах Невы».
«Конечно, я и представить себе не могла, что доживу до этого.
До сих пор не могу поверить в свершившееся чудо, не могу прийти в себя от радости, что я дома. У меня такое чувство, что я получила и получаю слишком много. Как будто мне выпала доля получить за всех тех, кто не дожил до встречи с родиной. И хотя моя жизнь последние годы была полна несчастий, я каждый день благодарю благословенное время, когда я смогла вернуться на родную землю».
…Во время короткой хрущевской оттепели, пришедшейся на мою юность, когда что-то полуусеченное цензорами стали печатать, что-то просачивалось из эмиграции, попала ко мне книга Одоевцевой «На берегах Невы». За одну ночь я прочитала и запомнила эту книгу почти наизусть. Мои любимые поэты ожили и заговорили на ее страницах: Блок, Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Кузмин…
Книга, написанная на одном дыхании, была больше поэзией, чем прозой. Проза поэта. Художники говорили мне потом, что можно по этой книге писать портреты, настолько в ней живые образы.
Все повествование ведется в настоящем времени. Получается, что это не литературный пантеон, а рассказ, даже своеобразный репортаж с места событий, благодаря которому мы, читатели, словно присутствуем при происходящем.
Книга просто пронзила меня, заставив испытать ту же любовь, что испытывала сама Ирина Владимировна, вспоминая об этих людях.
Особенно, конечно, замечателен с любовью воссозданный образ Гумилева, совершенно живой со всеми достоинствами и со всеми человеческими слабостями поэта. Книга эта – настоящий памятник Гумилеву.
Павел Лукницкий записывал за Гумилевым каждое слово. Но ведь разница между прозой поэта и документальной информацией все равно как между фотографией и живописным портретом.
«О, память сердца! Ты сильней рассудка памяти печальной» (Батюшков).
Способность воссоздания чувства в воспоминаниях давно получила название «память сердца».
Этой способностью Одоевцева обладала в полной мере. Она говорила: «Гумилев был большим поэтом и очень сильной личностью. Влияние его было так сильно, что, я думаю, останься он в живых, поэзия шла бы совсем по другому пути. Он сам мне говорил, что только теперь чувствует в себе новые силы и по-другому будет писать». Пример тому его последние стихи «Цыгане» и гениальный «Заблудившийся трамвай», где он предсказал свою судьбу:
- В красной рубашке, с лицом, как вымя,
- Голову срезал палач и мне,
- Она лежала вместе с другими
- Здесь, в ящике скользком, на самом дне.
Для Одоевцевой Гумилев был другом, учителем.
И героем! В своей «Поэме о Гумилеве» она так и сказала:
- …Потом поставили к стенке
- И расстреляли его.
- И нет на его могиле
- Ни холма, ни креста – ничего.
- Но любимые им серафимы
- За его прилетели душой,
- А в небе звезды пели:
- «Слава тебе, герой!»
О себе в книге Ирина Владимировна сумела сказать очень мало, но при этом перед глазами вставал образ тоненькой студистки с веткой черемухи в руке, уверенной, что она стоит на пороге безмерного счастья, всеобщей любви и прекрасной жизни, которой не будет конца.
Но ведь писала-то она о тех, чей трагический конец ей был уже известен, однако сумела сохранить их для нас как бы живущими на этой земле! Мысль о ее собственной судьбе уже никогда не покидала меня. Одоевцева внушала мне такую любовь, что, теперь я уже не сомневаюсь, – это и предопределило нашу с ней встречу.
Драгоценная книга была из Парижа. Хотелось о многом еще спросить и узнать. Но Париж был для меня тогда так же далек, как космос.
…Прошло много лет. И вот в 1986 году я попадаю в Париж по туристической визе всего на четыре дня. Бросаюсь на поиски Ирины Владимировны Одоевцевой, имея несколько телефонов русских эмигрантов.
Нынешнему читателю даже и не понять специфической особенности туризма той поры. Поездка была приурочена к празднику газеты «Юманите», и автобус двигался только по означенному маршруту.
Но мне удалось дозвониться до сестер Гржебиных (дочерей издателя Гржебина) и встретиться с ними.
Обзвонив все дома престарелых, больницы, всех своих русских знакомых, они разыскали телефон и адрес Ирины Владимировны Одоевцевой.
И вот я открываю ключом, что был «под половичком», дверь квартиры на улице Касабланка, вхожу в комнату, где лежит в постели очень худая женщина. Оказывается, Ирина Владимировна сломала ногу (шейку бедра), перенесла шесть неудачных операций и уже навсегда прикована к постели.
Присаживаюсь рядом и выпаливаю: «Ирина Владимировна, я ваша читательница и почитательница, я приехала в Париж только ради вас, я нашла ваш дом в Петербурге во имя вас, ходила вашими тропинками, обожаю вашу книгу, она у нас не издана, но будет, будет, у меня и сейчас ее все читают…» Что с ней было – трудно описать. Блеснули зеленые глаза, она сразу приподнялась, всплеснула красивыми руками с длинными, тонкими пальцами: «Боже мой, вы, наверное, ангел с неба, дайте до вас дотронуться…»
Тут мы плачем обе и говорим обо всем сразу, как очень близкие люди.
Она сказала мне тогда, что всегда мечтала вернуться домой и даже делала безуспешные попытки в этом направлении. И что последнее и самое большое ее желание – вернуться на Родину и там умереть.
Я рассказала об Ирине Владимировне всем корреспондентам, познакомила с ней корреспондента «Литературной газеты» Сабова, и он написал потом в газете об Ирине Владимировне огромную статью.
Вернувшись в Москву, я опубликовала маленькую заметку в «Московских новостях» «Русская квартира на парижской улице», в которой описала все, что случилось со мной в Париже.
Шла перестройка, и то, что нельзя было вчера, стало вдруг возможным. Уже в апреле 1987 года мы встречали Одоевцеву в Пулково.
На Родине она прожила три с половиной года. Было много радостей и трудностей.
Но были изданы огромным тиражом две книги – «На берегах Невы» и «На берегах Сены»: 250 тысяч первая и 500 тысяч – вторая.
И пришло настоящее признание на родине. Книгу раскупили мгновенно. По всем каналам телевидения, по всем программам радио прошли с Ириной Владимировной интервью. Были авторские вечера – в Центральном доме литераторов, в Доме актера, в Центральном доме работников искусств, в Переделкино.
Залы были полны.
И наконец-то Ирина Владимировна получила читателя. И какого!
К ней приходили, приезжали поблагодарить, поклониться, поцеловать руку.
«Как подумаю, что меня читают сотни тысяч людей, какое это счастье для писателя, – говорила Ирина Владимировна, – я одна из последних, видевшая и слышавшая их, моих дорогих современников, я – только живая память о них».
Умерла Ирина Владимировна 14 октября 1990 года. Похоронили ее на Волковом кладбище.
Она была женщиной выдающейся, уникальной. Аристократически нежная и одновременно необычайно сильная духом.
С невероятным мужеством перенося тяжелый недуг, она умела и других людей выводить из состояния уныния, умела жить с легким превосходством над бытом и всегда говорила: «Возраста не существует». Она была щедра и доброжелательна. Взыскательна к людям, умела всем все прощать. За долгий свой век она видела и слышала многое. Ясный ум до глубокой старости и феноменальная память позволили ей сохранить и возродить для нас в воспоминаниях тех, кого она встречала, кто ее окружал.
* * *
Одоевцева – это литературный псевдоним Ираиды Густавовны Гейнике, родившейся 27 июля 1895 года в Риге в семье обрусевшего немца, крупного адвоката.
Фамилия ее матери была – Одоевцева.
Ученица Гумилева, «маленькая поэтесса с большим бантом», как она сама назвала себя в одном из стихотворений, была уже известна в литературных кругах своего пореволюционного времени.
- Все мне было удача, забава
- И звездой путеводной – судьба,
- Мимолетно коснулась слава
- Моего полудетского лба.
Все начиналось так. И все кончилось в 1921 году. Смерть Блока, жуткая гибель Гумилева.
В 1922 году она выходит замуж за поэта Георгия Иванова, и они вместе покидают Россию.
В эмиграции Ирина Владимировна прожила 65 лет. Первый сборник стихов «Двор чудес» она выпустила еще в России в 1921 году. В Париже было издано пять книг стихов: «Контрапункт», «Десять лет», «Золотая цепь» и «Портрет в рифмованной раме», а также роман «Ангел смерти», «Зеркало», «Изольда», «Оставь надежду навсегда». И две книги воспоминаний: «На берегах Невы» и «На берегах Сены».
Анна Колоницкая
На берегах Невы
Посвящаю свою книгу Анне Колоницкой
Георгий Иванов
- На берегах Невы
- Несется ветер, разрушеньем вея…
Предисловие
Это не моя автобиография, не рассказ о том,
- Какой я была,
- Когда здесь на земле жила…
Нет. И для меня: «Воспоминания, как острый нож они». Ведь воспоминания всегда regrets ou remords[1], а я одинаково ненавижу и сожаление о прошлом, и угрызения совести. Недаром я призналась в стихах:
- Неправда, неправда, что прошлое мило.
- Оно как разверстая жадно могила,
- Мне страшно в него заглянуть…
Нет, я ни за что не стала бы описывать свое «детство, отрочество и юность», своих родителей и, как полагается в таких воспоминаниях, несколько поколений своих предков – все это никому не нужно.
Я пишу не из эгоистического желания снова окунуться в те трагические, страшные и прекрасные, несмотря на все ужасы, первые пореволюционные годы.
Я пишу не о себе и не для себя, а о тех, кого мне было дано узнать «на берегах Невы».
Я пишу о них и для них.
О себе я стараюсь говорить как можно меньше и лишь то, что так или иначе связано с ними.
Я только глаза, видевшие их, только уши, слышавшие их.
Я одна из последних, видевшая и слышавшая их, я только живая память о них.
Авторы воспоминаний обыкновенно клянутся и божатся, что все, о чем они рассказывают, – чистейшая, стопроцентная правда – и тут же делают ошибки за ошибками.
Я не клянусь и не божусь.
Очень возможно, что и у меня найдутся ошибки и неточности. Я совсем не претендую на непогрешимость, граничащую со святостью.
Но я утверждаю, что пишу совершенно честно и правдиво.
Многих удивляет, что я так точно, так стенографично привожу слова и разговоры. Как могла я все так точно запомнить? А не сочиняю ли я их? Нет ли в моих воспоминаниях больше Dichtung, чем Warheit?[2]
Но, положа руку на сердце, я ничего не сочиняю и не выдумываю. Память у меня действительно прекрасная. Я помню слово в слово то, что слышала сорок – и даже больше – лет тому назад.
Впрочем, по-моему, в этом нет ничего поразительного. Спросите кого-нибудь из ваших пожилых знакомых, как он держал выпускные экзамены или как шел в первый бой, и вы получите от него самый – до мелочей – точный ответ.
Объясняется это тем, что в тот день и час внимание его было исключительно напряжено и обострено и навсегда запечатлело в его памяти все происходившее.
Для меня в те годы каждый день и час был не менее важен, чем экзамен или первый бой.
Мое обостренное, напряженное внимание регистрировало решительно все и на всю жизнь записало в моей памяти даже незначительные события.
Все же приведу пример моей памяти.
Как-то, совсем недавно, я напомнила Георгию Адамовичу о забавном эпизоде его детства. Он и его сестра Таня «выживляли» большого игрушечного льва, по утрам потихоньку вливая ему в пасть горячий чай и суя в нее бутерброды. До тех пор, пока, к их восторгу, лев не задергал головой и не «выживился». Но тут-то он и лопнул пополам и залил ковер своим содержимым.
Георгий Адамович, сосредоточенно сдвинув брови, слушал меня.
– Что-то такое было… Мы действительно, кажется, «выживляли» льва, – неуверенно проговорил он. – Да, да! Но, скажите, откуда вам это известно?
– Как откуда? Ведь вы сами рассказывали мне о «выживлении» картонного льва в июле 1922 года у вас на Почтамтской, и как вы впервые были с вашей француженкой в Опере на «Фаусте» и она, указывая на Мефистофеля, вздохнула: «Il me rappelе mon Polonais!»[3]
Адамович кивнул:
– Да. Все это так и было. Теперь и я вспомнил. Но как странно – вы помните случаи из моего детства, которые я забыл, – и прибавил улыбаясь: – Я могу засвидетельствовать, что вы действительно все помните, решительно все, – можете ссылаться на меня…
Теперь, оглядываясь назад, я иногда спрашиваю себя, не ошибаюсь, не преувеличиваю ли я? Были ли они – те, о ком я пишу, – действительно так очаровательны и блестящи? Не казались ли они мне такими «в те дни, когда мне были новы все ощущенья бытия», оттого что поэтов я тогда считала почти полубогами?
Но нет. Я уверена, что не ошибаюсь. Я стараюсь относиться к ним критически и не скрываю их теневых сторон.
Но стоит мне закрыть глаза и представить себе Гумилева, Блока, Мандельштама, и я сейчас же вижу их лица, окруженные сияньем, как лики святых на иконах.
Да, я восхищалась ими. Я любила их. Но ведь любовь помогает узнать человека до конца – и внешне и внутренне. Увидеть в нем то, чего не могут разглядеть равнодушные, безучастные глаза.
Зинаида Гиппиус часто повторяла: «Когда любишь человека, видишь его таким, каким его задумал Бог».
Возможно, что и для меня сквозь их земные оболочки просвечивал их образ, задуманный Богом.
Я согласна с Габриелем Марселем, что «любовь дарует бессмертие» и что, произнося: «Я тебя люблю», – тем самым утверждаешь: «Ты никогда не умрешь».
Не умрешь, пока я, любящий тебя, буду жить и помнить тебя.
Я пишу эти воспоминания с тайной надеждой, что вы, мои читатели, полюбите как живых тех, о ком я вспоминаю. Полюбите их, воскресите их в своей памяти и в сердцах.
И тем самым подарите им бессмертие.
Вы, мои современники, и вы, те, кто будет читать, – я и на это самоуверенно надеюсь – «На берегах Невы», когда меня уже давно не будет на свете.
Ноябрь 1918 года.
Огромные ярко-рыжие афиши аршинными буквами объявляют на стенах домов Невского об открытии Института живого слова и о том, что запись в число его слушателей в таком-то бывшем великокняжеском дворце на Дворцовой набережной.
В зале с малахитовыми колоннами и ляпис-лазуревыми вазами большой кухонный стол, наполовину покрытый красным сукном. За ним небритый товарищ в кожаной куртке, со свернутой из газеты козьей ножкой в зубах. Перед столом длинный хвост – очередь желающих записаться.
Запись происходит быстро и просто. Но вот уже моя очередь. Товарищ в кожаной куртке спрашивает:
– На какое отделение, товарищ?
– Поэтическое, – робко отвечаю я.
– Литературное, – поправляет он. И критически оглядев меня: – А не на театральное ли? Но так и запишем. Имя, фамилия?
Я протягиваю ему свою трудкнижку, но он широким жестом отстраняет ее.
– Никаких документов. Верим на слово. Теперь не царские времена. Языки иностранные знаете?
От удивления я не сразу отвечаю.
– Ни одного не знаете? Значения не имеет. Так и запишем.
Но я, спохватившись, быстро говорю:
– Знаю. Французский, немецкий и английский.
Он прищуривает левый глаз.
– Здорово! А вы не заливаете? Действительно знаете? Впрочем, значения не имеет. Но так и запишем. И чего вы такая пугливая? Теперь не те времена – никто не обидит. И билета вам никакого не надо. Приняты, обучайтесь на здоровье. Поздравляю, товарищ!
Я иду домой на Бассейную, 60. Я чувствую, что в моей жизни произошел перелом. Что я уже не та, что вчера вечером и даже сегодня утром.
Институт живого слова.
Нигде и никогда за все годы в эмиграции мне не приходилось читать или слышать о нем.
Я даже не знаю, существует ли он еще.
Скорее всего он давно окончил свое существование.
Но был он одним из самых фантастических, очаровательных и абсолютно нежизнеспособных явлений того времени.
Его основатель и директор Всеволод Гернгросс-Всеволодский горел и пылал священным огнем и заражал своим энтузиазмом слушателей «Живого слова».
Я никогда не видела его на сцене. Думаю, что он был посредственным актером.
Но оратором он был великолепным. С первых же слов, с первого же взмаха руки, когда он, минуя ступеньки, как тигр вскакивал на эстраду, он покорял аудиторию.
О чем он говорил? О высоком призвании актера, о святости служения театральному делу. О том, что современный театр зашел в тупик и безнадежно гибнет. О необходимости спасти театр, вывести его на большую дорогу, преобразить, возродить, воскресить его.
Вот этим-то спасением, преображением, возрождением театра и должны были заняться – под мудрым водительством самого Всеволодского – собравшиеся здесь слушатели «Живого слова».
Всеволодский, подхваченный неистовым порывом вдохновения и красноречия, метался по эстраде, то подбегал к самому ее краю, то, широко раскинув руки, замирал, как пригвожденный к стене.
Обещания, как цветочный дождь, сыпались на восхищенных слушателей.
– Вы будете первыми актерами не только России, но и мира! Ваша слава будет греметь! Отовсюду будут съезжаться смотреть и слушать вас! Вы будете чудом, немеркнущим светом! И тогда только вы поймете, какое счастье было для вас, что вы поступили в «Живое слово»…
Слушателей охватывала дрожь восторга. Они верили в свое непостижимо прекрасное будущее, они уже чувствовали себя всемирными преобразователями театра, увенчанными лучами немеркнущей славы.
Всеволодский был не только директором «Живого слова», но и кумиром большинства слушателей – тех, что стремились стать актерами. Кроме них, хотя и в несравненно меньшем количестве, были стремившиеся стать поэтами и ораторами.
Лекции пока что происходят в Тенишевском училище, но «Живое слово» в скором времени собирается переехать в здание Павловского института на Знаменской.
В будущую пятницу лекция Гумилева. Стихов Гумилева до поступления в «Живое слово» я не знала, а те, что знала, мне не нравились.
Я любила Блока, Бальмонта, Ахматову.
О том, что Гумилев был мужем Ахматовой, я узнала только в «Живом слове». Вместе с прочими сведениями о нем – Гумилев дважды ездил в Африку, Гумилев пошел добровольцем на войну, Гумилев в то время, когда все бегут из России, вернулся в Петербург из Лондона, где был прекрасно устроен. И наконец, Гумилев развелся с Ахматовой и женился на Ане Энгельгардт. На дочери того самого старого профессора Энгельгардта, который читает у нас в «Живом слове» китайскую литературу.
– Неужели вы не слыхали? Не знаете? А еще стихи пишете…
Нет, я не знала. Не слыхала.
Первая лекция Гумилева в Тенишевском училище была назначена в пять.
Но я пришла уже за час, занять место поближе.
Зал понемногу наполняется разношерстной толпой. Состав аудитории первых лекций был совсем иной, чем впоследствии. Преобладали слушатели почтенного и даже чрезвычайно почтенного возраста. Какие-то дамы, какие-то бородатые интеллигенты вперемежку с пролетариями в красных галстуках. Все они вскоре же отпали и, не получив, должно быть, в «Живом слове» того, что искали, – перешли на другие курсы.
Курсов в те времена было великое множество – от переплетных и куроводства до изучения египетских и санскритских надписей. Учиться – и даром – можно было всему, что только пожелаешь.
Пробило пять часов. Потом четверть и половину шестого. Аудитория начала проявлять несомненные признаки нетерпения – кашлять и стучать ногами.
Всеволодский уже два раза выскакивал на эстраду объявлять, что лекция состоится, непременно состоится:
– Николай Степанович Гумилев уже вышел из дома и сейчас, сейчас будет. Не расходитесь! Здесь вы сидите в тепле. Здесь светло и тепло. И уютно. А на улице холод и ветер и дождь. Черт знает, что творится на улице. И дома ведь у вас тоже нетоплено и нет света. Одни коптилки, – убедительно уговаривал он. – Не расходитесь!
Но публика, не внимая его уговорам, начала понемногу расходиться. Моя соседка слева, нервная дама с вздрагивающим на носу пенсне, шумно покинула зал, насмешливо кивнув мне:
– А вы что, остаетесь? Перезимовать здесь намерены?
Мой сосед слева, студент, резонно отвечает ей:
– Столько уже ждали, можем и еще подождать. Тем более что торопиться абсолютно некуда. Мне по крайней мере.
– И мне, – как эхо вторю я.
Я действительно готова ждать хоть до утра.
Всеволодский, надрываясь, старается удержать слушателей:
– Николай Степанович сейчас явится! Вы пожалеете, если не услышите его первую лекцию. Честное слово…
Не знаю, как другие, но я, несомненно, очень жалела бы, если бы не услышала первой лекции Гумилева.
– Он сейчас явится!..
И Гумилев действительно явился.
Именно «явился», а не пришел. Это было странное явление. В нем было что-то театральное, даже что-то оккультное. Или, вернее, это было явление существа с другой планеты. И это все почувствовали – удивленный шепот прокатился по рядам.
И смолк.
На эстраде, выскользнув из боковой дверцы, стоял Гумилев. Высокий, узкоплечий, в оленьей дохе с белым рисунком по подолу, колыхавшейся вокруг его длинных худых ног. Ушастая оленья шапка и пестрый африканский портфель придавали ему еще более необыкновенный вид.
Он стоял неподвижно, глядя прямо перед собой. С минуту? Может быть, больше, может быть, меньше. Но мне показалось – долго. Мучительно долго. Потом двинулся к лекторскому столику у самой рампы, сел, аккуратно положил на стол свой пестрый портфель и только тогда обеими руками снял с головы – как митру – свою оленью ушастую шапку и водрузил ее на портфель.
Все это он проделал медленно, очень медленно, с явным расчетом на эффект.
– Господа, – начал он гулким, уходящим в нёбо голосом, – я предполагаю, что большинство из вас поэты. Или, вернее, считают себя поэтами. Но я боюсь, что, прослушав мою лекцию, вы сильно поколеблетесь в этой своей уверенности.
Поэзия совсем не то, что вы думаете, и то, что вы пишете и считаете стихами, вряд ли имеет к ней хоть отдаленное отношение.
Поэзия такая же наука, как, скажем, математика. Не только нельзя (за редчайшим исключением гениев, которые, конечно, не в счет) стать поэтом, не изучив ее, но нельзя даже быть понимающим читателем, умеющим ценить стихи.
Гумилев говорит торжественно, плавно и безапелляционно. Я с недоверием и недоумением слушаю и смотрю на него.
Так вот он какой. А я и не знала, что поэт может быть так не похож на поэта. Блок – его портрет висит в моей комнате – такой, каким и должен быть поэт. И Лермонтов, и Ахматова…
Я по наивности думала, что поэта всегда можно узнать.
Я растерянно гляжу на Гумилева.
Острое разочарование – Гумилев первый поэт, первый живой поэт, которого я вижу и слышу, и до чего же он не похож на поэта!
Впрочем, слышу я его плохо. Я сижу в каком-то бессмысленном оцепенении. Я вижу, но не слышу. Вернее, слышу, но не понимаю.
Мне трудно сосредоточиться на сложной теории поэзии, развиваемой Гумилевым. Слова скользят мимо моего сознания, разбиваются на звуки.
- И не значат ничего…
Так вот он какой, Гумилев! Трудно представить себе более некрасивого, более особенного человека. Все в нем особенное и особенно некрасивое. Продолговатая, словно вытянутая вверх голова, с непомерно высоким плоским лбом. Волосы, стриженные под машинку, неопределенного цвета. Жидкие, будто молью траченные брови. Под тяжелыми веками совершенно плоские глаза.
Пепельно-серый цвет лица. Узкие бледные губы. Улыбается он тоже совсем особенно. В улыбке его что-то жалкое и в то же время лукавое. Что-то азиатское. От «идола металлического», с которым он сравнивал себя в стихах:
- Я злюсь как идол металлический
- Среди фарфоровых игрушек.
Но улыбку его я увидела гораздо позже. В тот день он ни разу не улыбнулся.
Хотя на «идола металлического» он все же и сейчас похож… Он сидит чересчур прямо, высоко подняв голову. Узкие руки с длинными ровными пальцами, похожими на бамбуковые палочки, скрещены на столе. Одна нога заброшена на другую. Он сохраняет полную неподвижность. Он, кажется, даже не мигает. Только бледные губы шевелятся на его застывшем лице.
И вдруг он резко меняет позу. Вытягивает левую ногу вперед. Прямо на слушателей.
– Что это он свою дырявую подметку нам в нос тычет? Безобразие! – шепчет мой сосед-студент.
Я шикаю на него.
Но подметка действительно дырявая. Дырка не посередине, а с краю. И полкаблука сбито, как ножом срезано. Значит, у Гумилева неправильная, косолапая походка. И это тоже совсем не идет поэту.
Он продолжает торжественно и многословно говорить. Я продолжаю, не отрываясь, смотреть на него.
И мне понемногу начинает казаться, что его косые плоские глаза светятся особенным таинственным светом.
Я понимаю, что это о нем, конечно, о нем Ахматова писала:
- И загадочных, темных ликов
- На меня поглядели очи…
Ведь она была его женой. Она была влюблена в него.
И вот уже я вижу совсем другого Гумилева. Пусть некрасивого, но очаровательного. У него действительно иконописное лицо – плоское, как на старинных иконах, и такой же двоящийся загадочный взгляд. Раз он был мужем Ахматовой, он, может быть, все-таки «похож на поэта»? Только я сразу не умею разглядеть.
Гумилев кончил. Он, подняв голову, выжидательно оглядывает аудиторию.
– Ждет, чтоб ему аплодировали, – шепчет мой сосед-студент.
– Может быть, кому-нибудь угодно задать мне вопрос? – снова раздается гулкий, торжественный голос.
В ответ молчание. Долго длящееся молчание. Ясно – спрашивать не о чем.
И вдруг из задних рядов звенящий, насмешливо-дерзкий вопрос:
– А где всю эту премудрость можно прочесть?
Гумилев опускает тяжелые веки и задумывается, затем, будто всесторонне обдумав ответ, важно произносит:
– Прочесть этой «премудрости» нигде нельзя. Но чтобы подготовиться к пониманию этой, как вы изволите выражаться, премудрости, советую вам прочесть одиннадцать книг натурфилософии Кара.
Мой сосед студент возмущенно фыркает:
– Натурфилософия-то тут при чем?
Но ответ Гумилева явно произвел желаемое впечатление. Никто больше не осмелился задать вопрос.
Гумилев, выждав немного, молча встает и, стоя лицом к зрителям, обеими руками возлагает себе на голову, как корону, оленью шапку. Потом поворачивается и медленно берет со стола свой пестрый африканский портфель и медленно шествует к боковой дверце.
Теперь я вижу, что походка у него действительно косолапая, но это не мешает ее торжественности.
– Шут гороховый! Фигляр цирковой! – возмущаются за мной. – Самоедом вырядился и ломается!
– Какая наглость, какое неуважение к слушателям! Ни один профессор не позволил бы себе… – негодует мой сосед студент.
– Я чувствую себя лично оскорбленной, – клокочет седая дама. – Как он смеет? Кто он такой, подумаешь!
– Тоже, африканский охотник выискался. Все врет, должно быть. Он с виду вылитый консисторский чиновник и в Африке не бывал… Брехня!
Это последнее, что доносится до меня. Я бегу против ветра, только бы не слышать отвратительных возмущенных голосов, осуждающих поэта. Я не с ними, я с ним, даже если он и не такой, как я ждала…
Много месяцев спустя, когда я уже стала «Одоевцева, моя ученица», как Гумилев с гордостью называл меня, он со смехом признался мне, каким страданием была для него эта первая в его жизни, злосчастная лекция.
– Что это было! Ах, господи, что это было! Луначарский предложил мне читать курс поэзии и вести практические занятия в «Живом слове». Я сейчас же с радостью согласился. Еще бы! Исполнилась моя давнишняя мечта – формировать не только настоящих читателей, но, может быть, даже и настоящих поэтов. Я вернулся в самом счастливом настроении. Ночью проснувшись, я вдруг увидел себя на эстраде – все эти глядящие на меня глаза, все эти слушающие меня уши – и похолодел от страха. Трудно поверить, а правда. Так до утра и не заснул.
С этой ночи меня стала мучить бессонница. Если бы вы только знали, что я перенес! Я был готов бежать к Луначарскому отказаться, объяснить, что ошибся, не могу… Но гордость удерживала. За неделю до лекции я перестал есть. Я репетировал перед зеркалом свою лекцию. Я ее выучил наизусть.
В последние дни я молился, чтобы заболеть, сломать ногу, чтобы сгорело Тенишевское училище – все, все что угодно, лишь бы избавиться от этого кошмара.
Я вышел из дома, как идут на казнь. Но войти в подъезд Тенишевского училища я не мог решиться. Все ходил взад и вперед с сознанием, что гибну. Оттого так и опоздал.
На эстраде я от страха ничего не видел и не понимал. Я боялся споткнуться, упасть или сесть мимо стула на пол. То-то была бы картина!
Я принес с собой лекцию и хотел читать ее по рукописи. Но от растерянности положил шапку на портфель, а снять ее и переложить на другое место у меня уже не хватило сил.
О господи, что это был за ужас! Когда я заговорил, стало немного легче. Память не подвела меня. Но тут вдруг запрыгало проклятое колено. Да как! Все сильнее и сильнее. Пришлось, чтобы не дрыгало, вытянуть ногу вперед. А подметка у меня дырявая. Ужас! Не знаю, не помню, как я кончил. Я сознавал только, что я навсегда опозорен. Я тут же решил, что завтра же уеду в Бежецк, что в Петербурге после такого позора я оставаться не могу.
И зачем только я про одиннадцать книг натурфилософии брякнул? От страха и стыда, должно быть. В полном беспамятстве.
– Но у вас был такой невероятно самоуверенный, важный тон и вид, – говорю я.
Гумилев весь трясется от смеха.
– Это я из чувства самосохранения перегнул палку. Как тот чудак, который, помните:
- На чердаке своем повесился
- Из чувства самосохранения.
Нет, правда, все это больше всего походило на самоубийство. Сплошная катастрофа. Самый страшный день моей жизни.
Я, вернувшись домой, поклялся себе никогда больше лекций не читать. – Он разводит руками. – И, как видите, клятвы не сдержал. Но теперь, когда у меня часто по две лекции в день, мне и в голову не приходит волноваться.
И чего, скажите, я так смертельно трусил?
Январь 1919 года. Голодный, холодный, снежный январь. Но до чего интересно, до чего весело! В «Живом слове» лекции сменялись практическими занятиями и ритмической гимнастикой по Далькрозу. Кони возглавлял ораторское отделение, гостеприимно приглашая всех на свои лекции и практические занятия.
Я поступила, конечно, на литературное отделение. Но занималась всем, чем угодно, и кроме литературы: слушала Луначарского, читавшего курс эстетики, Кони, самого Всеволодского и делала ритмическую гимнастику.
Гумилев, со времени своей лекции еще перед Рождеством, в Тенишевском училище ни разу не показывался.
Независимо от отделения, на которое они поступили, всем слушателям ставили голос и всех учили театральной дикции актеры Александринского театра – Юрьев, Железнова, Студенцов и, главное, Всеволодский. Я благодаря своей картавости попала в дефективную группу к «великому исправителю речевых недостатков» актеру Берлянду. Он при первом же знакомстве со мной, желая, должно быть, заставить меня энергичнее взяться за работу, заявил мне:
– Посмотреть на вас, пока молчите, – да, конечно… А как заговорите, вы просто для меня горбунья, хромоножка. Одним словом – уродка. Но не впадайте в отчаяние. Я помогу вам. Я переделаю вас. Обещаю. Я вами специально займусь.
Обещание свое ему исполнить не удалось. Я так на всю жизнь и осталась «горбуньей, хромоножкой, одним словом – уродкой». Впрочем, по своей, а не по его вине. К «исправительным упражнениям» я относилась без должной настойчивости и не соглашалась сто раз подряд выкрикивать звонко: «Де-те-те-де, де-те-те-де-раа. Рак, рыба роза-pa!» – в то время, как рядом со мной другие «дефективники» по-змеиному шипели: «Ш-ш-ш-шило-шут!» Или распевали: «Ло-ло-ло-ла-лук-луна-ложь!»
Я, к огорчению махнувшего на меня рукой Берлянда, ограничилась только постановкой голоса, скандируя гекзаметр: «Он перед грудью поставил свой щит велелепный». Но и тут не вполне преуспела. Что, кстати, меня нисколько не печалило. Ведь я не собиралась стать актрисой. Я хотела быть поэтом. И только поэтом. Ничто, кроме поэзии, меня серьезно не интересовало.
Мы – слушатели «Живого слова», «живословцы» – успели за это время не только перезнакомиться, но и передружиться. Я же успела даже обзавестись «толпой поклонников и поклонниц» и стала считаться первой поэтессой «Живого слова». Кроме меня, не было ни одной настоящей «поэтессы».
Самый «заметный» из поэтов, Тимофеев, жил, как и я, на Бассейной, 60, и, возвращаясь со мной домой, поверял мне свои мечты и надежды, как брату-поэту, вернее, сестре-поэту.
Он был так глубоко убежден в своей гениальности, что считал необходимым оповестить о ней великолепными ямбами не только современников, но и – через головы их – потомков:
- – Потомки! Я бы взять хотел,
- Что мне принадлежит по праву —
- Народных гениев удел,
- Неувядаемую славу!
- И пусть на хартьи вековой
- Имен народных корифеев,
- Где Пушкин, Лермонтов, Толстой, —
- Начертан будет Тимофеев!
На «хартьи вековой» начертать «Тимофеев» ему, конечно, не удалось. Все же такой грандиозный напор не мог пропасть совсем даром. Это он, много лет спустя, сочинил знаменитые «Бублички», под которые танцевали фокстрот во всех странах цивилизованного мира:
- Купите бублички,
- Горячи бублички,
- Гоните рублички
- Ко мне скорей!
- И в ночь ненастную
- Меня, несчастную,
- Торговку частную,
- Ты пожалей.
- Отец мой пьяница,
- Он этим чванится,
- Он к гробу тянется
- И все же пьет!
- А мать гулящая,
- Сестра пропащая,
- А я курящая —
- Смотрите – вот!
«Бублички» действительно – и вполне справедливо – прославили своего автора. Но в те дни Тимофеев мечтал не о такой фокстротной славе. Лира его была настроена на высокий лад. Он торжественно и грозно производил запоздалый суд над развратной византийской императрицей Феодорой, стараясь навек пригвоздить ее к позорному столбу. На мой недоуменный вопрос, почему он избрал жертвой своей гневной музы именно императрицу Феодору, он откровенно сознался, что ничего против нее не имеет, но, узнав о ее существовании из отцовской энциклопедии Брокгауза и Ефрона, не мог не воспользоваться таким великолепным сюжетом.
Понятно, мои «кружевные» стихи пользовались у слушателей и в особенности у слушательниц несравненно большим успехом. Все они были ярыми поклонницами Лидии Лесной и Веры Инбер и, захлебываясь от восторга, декламировали:
- Дама с тонким профилем ноги
- выломала жемчуг из серьги… —
и тому подобный вздор. Из моих стихов им, как, впрочем, и мне самой, особенно нравилось:
- Я сижу на сафьяновом красном диване.
- За окном петербургская снежная даль.
- И я вижу, встает в петербургском тумане
- Раззолоченный, пышный и милый Версаль.
- Все сегодня мне кажется странно и ложно.
- Ты сегодня особенно страстен и дик,
- И мне хочется крикнуть тебе: «Осторожно!
- Ты сотрешь мои мушки, сомнешь мой парик!»
- Электрический свет и узоры карниза,
- Все предметы и люди чужие вокруг.
- Я сегодня не я. Я сегодня маркиза. —
- Не сердись на маркизу, мой ласковый друг.
Когда в начале февраля нас известили, что в следующую пятницу состоится лекция Гумилева с разбором наших стихов, не только вся литературная группа, но все мои «поклонники» пришли в волнение.
Гумилев на первой своей лекции объявил, что вряд ли наше творчество имеет что-нибудь общее с поэзией. Естественно, Гумилев и предполагать не может, какие среди нас таланты. И, главное, какой талант – я. Было решено удивить, огорошить его, заставить пожалеть о его необоснованном суждении. Но какое из моих стихотворений представить для разбора? Долго спорили, долго советовались. Наконец выбор пал на «Мирамарские таверны». Гумилев, как известно, любитель экзотики и автор «Чужого неба». Его не могут не пленить строки:
- Мирамарские таверны,
- Где гитаны пляшут по ночам…
или:
- Воздух душен и пьянящ.
- Я надену черное сомбреро,
- Я накину красный плащ…
Эти «Таверны», каллиграфически переписанные на большом листе особенно плотной бумаги, не мной, а одним из моих «поклонников» будут положены поверх всех прочих стихов. И Гумилев сразу прочтет и оценит их. Оценит их и, конечно, меня, их автора. В этом ни у меня, ни у других сомнения не возникало.
В ночь с четверга на пятницу я плохо спала от предчувствия счастья. Я радостно замирала, представляя себе изумление Гумилева.
– Я поражен, – скажет он. – Эти стихи настоящего большого поэта. Я хочу сейчас же познакомиться с ним.
И я встану со своего места и подойду к кафедре. Гумилев спустится с нее, низко поклонится мне и пожмет мне руку своей длинной, узкой рукой.
– Поздравляю вас.
И все зааплодируют.
В мечтах мне это представлялось чем-то вроде венчания Петрарки – все же в миниатюре. Я не сомневалась, что все произойдет именно так. Я была уверена, что в жизни сбывается все, чего сильно и пламенно желаешь. А я ли не желала этого с самого детства?
В тот день я оделась и причесалась особенно тщательно и долго крутилась перед зеркалом, расправляя большой черный бант в волосах. Без этого банта меня тогда и представить себе нельзя было.
Дома, как и в «Живом слове», все знали о моем предстоящем торжестве. И здесь, и там никто не сомневался в нем.
Класс, где должен был произойти разбор стихов, был переполнен слушателями других отделений. Я скромно уселась на предпоследнюю скамью. С краю. Чтобы, когда Гумилев попросит «автора этих прекрасных стихов» выйти на середину класса, другим не пришлось бы вставать, пропуская меня.
На этот раз Гумилев не опоздал ни на минуту. «Живое слово» очень хорошо отапливалось, и Гумилев оставил у швейцара свою самоедскую доху и ушастую оленью шапку. Без самоедской дохи и ушастой шапки у него, в коричневом костюме с сильно вытянутыми коленями, был гораздо менее экзотичный вид. Держался он, впрочем, так же важно, торжественно и самоуверенно. И так же подчеркнуто медленно взошел на кафедру, неся перед собой, как щит, пестрый африканский портфель. Он отодвинул стул, положил портфель на тоненькую стопку наших стихов и, опершись о кафедру, обвел всех нас своими косящими глазами.
Я тогда впервые испытала странное, никогда и потом не менявшееся ощущение от его косого, двоящегося взгляда. Казалось, что он, смотря на меня, смотрит еще на кого-то или на что-то за своим плечом. И от этого мне становилось как-то не по себе, даже жутко.
Оглядев нас внимательно, он медленно сел, скрестил руки на груди и заговорил отчетливо, плавно и гулко, повторяя в главных чертах содержание своей первой лекции. Казалось, он совсем забыл об обещании разобрать наши стихи. Лица слушателей вытянулись. Осталось только четверть часа до конца лекции, а Гумилев все говорит и говорит. Но вдруг, не меняя интонации, он отодвигает портфель в сторону.
– Не пора ли заняться этим? – И указывает своим непомерно длинным указательным пальцем на листы со стихами. – Посмотрим, есть ли тут что-нибудь стоящее?
Неужели он начнет не с меня, а возьмет какой-нибудь другой лист? Я наклоняюсь и быстро трижды мелко крещусь. Только бы он взял мои «Таверны»!
Гумилев в раздумье раскладывает листы веером.
– Начнем с первого, – заявляет он. – Конечно, он неспроста положен первым. Хотя не окажется ли, по слову евангелиста, первый последним?
Он подносит лист с «Мирамарскими тавернами» к самым глазам.
– Почерк, во всяком случае, прекрасный. Впрочем, не совсем подходящий для поэта, пожалуй. Не без писарского шика.
Я чувствую, что холодею. Зачем, зачем я не сама переписала свои стихи? А Гумилев уже читает их, как-то особенно твердо и многозначительно произнося слова, делая паузу между строками и подчеркивая рифмы. Мое сердце взлетает и падает с каждым звуком его гулкого голоса. Наконец он откладывает листок в сторону и снова скрещивает руки по-наполеоновски.
– Так, – произносит он протяжно. – Так! Подражание «Желанию быть испанцем» Козьмы Пруткова: «Тореадор, скорей, скорее в бой! Там ждет тебя любовь!»
Он усмехается. Не улыбается, а именно усмехается. Не только злобно, язвительно, но, как мне кажется, даже кровожадно. В ответ – робкий, неуверенный смех. Несколько голов поворачиваются в мою сторону с удивлением. А Гумилев продолжает:
– До чего красиво! До чего картинно!
- Я надену черное сомбреро,
- Я накину красный плащ… —
по-моему, сомбреро и плащ одно и то же, но, может быть, автор настоящий испанец и лучше знает?
Теперь уже громко смеются. Смеются почти все. Злорадно, предательски. Неужели у меня хватит сил вынести эту пытку? Неужели я не упаду в обморок? Нет, сил, как всегда, больше, чем думаешь. И я продолжаю слушать. Гумилев отодвигает рукав пиджака и смотрит на свои большие никелированные часы.
– К сожалению, время в Испании летит стрелой, – говорит он с комическим вздохом. – Приходится спешно покинуть гитан и гидальго. Аривидерчи! Буоно ноче! Или как это у вас, испанцев! – Он прищелкивает пальцами: – Олэ! Олэ! До следующей корриды!
Теперь хохочут все. До слез. До колик.
– Олэ! Олэ! – несется отовсюду. Гумилев с презреньем отбрасывает мой листок и вынимает новый из середины стопки.
– Посмотрим, что тут такое?
Я сквозь шум в ушах слышу:
- Осенний ветр свистит в дубах,
- Дубы шуршат, дубы вздыхают…
Пять очень медленно прочитанных строф. И я их все выслушиваю.
– Что же? Довольно грамотно, – произносит Гумилев будто с сожалением. – Только скучное о скучном. Хотя и шуршащие, но дубовые стихи. – И он начинает зло критиковать их. Снова смеются. Но – или это мне только кажется – не так громко, не так предательски. И в голосе Гумилева нет издевательских, злорадных ноток, когда он говорит устало:
– А остальное разберем – если вы еще не убедились, что и разбирать не стоит, – в следующий раз.
Он берет свой портфель и не выходит, а торжественно покидает класс. За ним бежит Тимофеев и сейчас же, давясь от смеха, доносит ему, что «испанские стихи принадлежат той рыженькой с бантом».
Об этом я узнала много позже. Но не от Гумилева. Как это ни странно, за все мои ученические годы Гумилев никогда не вспоминал о том, что он чуть было не зарезал меня. Меня, «свою лучшую ученицу». Гумилев притворялся, что так и не узнал, кому принадлежали высмеянные им испанские стихи. Я же притворялась, что верю этому.
Я давным-давно научилась смотреть на себя, ту, прежнюю, —
- Как души смотрят с высоты
- На ими брошенное тело.
Разве это была я? И все-таки у меня и сейчас сжимается сердце, когда я вспоминаю, как в тот снежный вечер возвращалась домой.
Я не помню, как вышла из класса, спустилась по лестнице, прошла через сад и очутилась на улице.
Я помню только мрачные сумерки, снег и зловещее карканье ворон на углу Бассейной и Греческого.
Обыкновенно я весело кричала каркающим воронам:
– На свои головы! На свои головы каркаете!
Но сейчас я молча слушала их карканье. Конечно, на мою голову. На чью же еще, кроме моей?
Дома меня встретили радостными расспросами. Но я, сбросив шубку прямо на пол – пусть другие вешают ее, если хотят, – махнула рукой.
– Не пришел. Не пришел Гумилев! Напрасно целый час ждали. Не пришел! У меня голова болит. Я пойду лягу. И обедать не буду.
То, что я пожаловалась на головную боль – у меня никогда не болела голова – и главное то, что я пожелала лечь и не обедать, испугало моих домашних – а вдруг я заболела? И они заходили на носках и стали шепотом советоваться, не позвать ли доктора.
У себя в комнате я заперла дверь на ключ и действительно легла. «Легла, как ложатся в гроб», – сказала я себе громко.
На следующий день я проснулась поздно. Лучше всего было бы умереть от горя и позора. Но раз умереть не удалось, надо продолжать жить.
Но как и чем? Ведь я жила только стихами.
И вот оказалось, что я ошиблась.
После вчерашнего возврата к поэзии быть не могло. С поэзией все покончено, раз и навсегда.
Я пролежала сутки в кровати, позволяя домашним ухаживать за собой. За это время я успела все обдумать и решить.
На третий день я записалась на кинокурсы, находившиеся совсем близко, на Суворовском проспекте.
Нет, я не собиралась стать кинематографической звездой, но мне необходимо было найти какое-нибудь занятие.
На кинокурсах меня опять спросили, знаю ли я иностранные языки – вопрос особенно нелепый в годы немого кинематографа, – умею ли я ездить верхом и править автомобилем?
Верхом я ездила с раннего детства, но об управлении автомобилем понятия, конечно, не имела, что, впрочем, не помешало моему условному принятию на кинокурсы.
– Через три недели состоится зафильмованный экзамен, после которого выяснится, кто принят и кто исключен, – нахмурившись, объявил заведующий. И помолчав с минуту, добавил, улыбаясь дружелюбно: – Впрочем, вам, товарищ, бояться не надо. Вижу, что фотогеничны. И даже очень. Вы-то приняты будете.
Но это обещание не обрадовало меня. Я чувствовала себя здесь совсем не на своем месте. Здесь ничем, кроме кинематографа, не интересовались и часами спорили о Вере Холодной, Мозжухине, Франческе Бертини, Максимове. Но до них всех мне не было решительно никакого дела.
Я чувствовала себя одинокой, несчастной и, чтобы не переживать в сотый раз гибели всех моих надежд, до изнеможения занималась гимнастикой, карабкалась по лестницам, раскачивалась на трапеции. Гимнастике отдавались утренние часы, в остальное время разыгрывали всевозможные театральные сцены, что было довольно забавно и, главное, мешало думать о моем горе.
На кинокурсах жили, как под дамокловым мечом, нервничали, интриговали, заранее стараясь перебежать друг другу дорогу в ожидании страшного экзамена.
Я одна не проявляла нервности, что принималось остальными за самонадеянность.
– Знает, что будет принята, и задирает нос!
Как-то, почти накануне экзамена, выйдя из дома, я не свернула на Суворовский, а пошла вниз по Бассейной, не отдавая себе отчета, куда я иду. И только дойдя до Знаменской, поняла, что иду в «Живое слово». Иду оттого, что не могу не идти.
Первый, кто меня встретил в вестибюле, был Всеволодский. Он обхватил меня за плечи, заглядывая мне в лицо.
– Наконец-то! Вы что, больны были? Ай! Ай! Еще похудели. Но теперь поправились? Ну, слава богу, слава богу!
Он повел меня с собой в класс и объявил радостно:
– Смотрите, вот она! Вернулась к нам. Ведь как мы все по ней скучали! И вот она с нами опять! Теперь мы уж ее не отпустим!
И я сразу почувствовала себя прежней, окруженной дружбой и любовью. Будто Гумилев не выставлял меня к позорному столбу, будто надо мной никогда не глумились все эти мои друзья и поклонники.
В тот же день я слушала лекцию Луначарского и профессора Энгельгардта, читавшего о китайской литературе, слушала с тем же увлечением, как прежде.
– А завтра будем праздновать юбилей Кони, – сейчас же сообщили мне. – Как хорошо, что вам удастся присутствовать на нем!
Да, это было очень хорошо. Кони мы все глубоко уважали. Я радовалась, что буду на его юбилее.
Кони исполнилось семьдесят пять лет. Возраст, казавшийся нам, слушателям «Живого слова», почти мафусаиловым.
Юбилей, стараниями Всеволодского, удался на славу. Стены ярко освещенного зала были разукрашены звездами и лавровыми венками с красными лентами.
На эстраде восседал сам юбиляр, окруженный группой ораторов, восхвалявших его в юбилейных речах.
Маленький, сухонький, сгорбленный Кони с тоской в глазах выслушивал многословные, пустозвонные приветствия Луначарского, Всеволодского, Юрьева, Студенцова и каких-то незнакомых нам комиссаров и представителей печати.
Но, когда на эстраду поднялся один из слушателей «Живого слова» и начал пространно и восхищенно перечислять все события, приведшие Россию к революции, Кони вдруг заерзал на месте и поднял руку.
– Знаю, знаю, верю! Кончайте, голубчик, скорей. Невтерпеж мне!
Оратор поперхнулся на полуфразе.
– Благодарная Россия! Вам! вас!.. Благодарная Россия… – Он покраснел, смутился и крикнул: – Поздравляет! – и, пятясь, спрятался за широкую спину Луначарского.
Кони быстро встал и трижды поклонился:
– Сердечно благодарю всех.
И ни с кем не прощаясь, мелкой, старческой походкой заковыляв к выходу, покинул актовый зал под аплодисменты присутствующих.
Мы гурьбой бросились за ним. Каждому из нас – ведь мы все были его учениками – хотелось лично поздравить его и пожать ему руку. Он, держась за перила, уже спускался по широкой лестнице. Швейцар подал ему шубу и распахнул перед ним дверь. Кони нахлобучил котиковую шапку и ринулся в сад.
Все это было похоже на бегство.
В саду он, оглянувшись с испугом, почти с отчаянием на нас, уже успевших выбежать вслед за ним на крыльцо, махнул рукой, будто отгоняя нас, сошел с расчищенной, утоптанной аллеи, ведущей к выходу, и, утопая по колени в снегу, направился к группе черневших деревьев.
Мы остановились, сбитые с толку. Что же это такое? Почему он бежит от нас, словно мы свора гончих, преследующая оленя?
Мы смотрели на него, застыв на месте, не смея двинуться за ним.
А он остановился около деревьев, спиной к нам. Постояв так несколько минут, он снова заковылял по снегу, уже не к нам, а прямо к выходу.
Вот он выбрался на расчищенную аллею и медленно и устало, еще более сгорбившись, дошел до распахнутых ворот, ведущих на улицу.
Вот черная тень его мелькнула на снегу и пропала.
Я все еще стояла в полной растерянности, не понимая, что произошло.
Это был первый юбилей, на котором мне привелось присутствовать.
Но разве таким должен быть юбилей?
А я могла из-за него простудиться. Ведь я выбежала на мороз в одном платье без шубки и ботиков.
Вернувшись в «Живое слово», я зажила прежней восхитительной, полной жизнью.
Я была почти счастлива.
«Почти» – ведь воспоминание о моем «позоре» все еще лежало, как тень, на моей душе.
На лекции Гумилева я, конечно, не ходила. Мои друзья поддерживали меня в моем решении навсегда «вычеркнуть» из памяти Гумилева.
– Очень он вам нужен, подумаешь! – Теперь они, будто сговорившись, осуждали его за тогдашнее.
– Кто же не знает, что сомбреро – шляпа, а не плащ?
– Но почему же вы хохотали? – спрашивала я.
– Оттого, что он так смешно ломался. Мы не над вашими стихами, а над ним смеялись. Честное слово! Ей-богу! Неужели не верите?
Я качала головой. Нет, я не верила. И все-таки мне было приятно, что они так дружно осуждают Гумилева и по-прежнему восхищаются моими маркизами и гитанами.
Я перестала мечтать о славе, но снова начала писать стихи – в прежнем стиле, как бы назло Гумилеву.
Особенным успехом пользовалось мое стихотворение, кончавшееся строфой:
- Ни Гумилев, ни злая пресса
- Не назовут меня талантом.
- Я маленькая поэтесса
- С огромным бантом.
Да, казалось, я примирилась с тем, что с поэзией все кончено, что я из поэта превратилась в «салонную поэтессу».
Я стала ревностно обучаться у Кони ораторскому искусству, слушала лекции Луначарского, Энгельгардта и самого Всеволодского, мне ставили голос. Но с наибольшим удовольствием, пожалуй, я занималась ритмической гимнастикой по Далькрозу. В ней, несмотря на полную немузыкальность, я чрезвычайно отличалась.
Всеволодский даже спросил меня и другую успешную далькрозистку, согласны ли мы отправиться на год в Швейцарию к Далькрозу – разумеется, на казенный счет.
Конечно, это был чисто риторический вопрос – никого из «Живого слова» не отправили к Далькрозу. Но это свидетельствовало о планетарном размахе Всеволодского.
Хотя я и не ходила на лекции Гумилева, но я не могла не интересоваться тем, что на них происходит.
– Нет, разбора стихов больше не было. Никто больше не пожелал подвергаться такому издевательству. Но практические занятия – обучение, как писать стихи, – очень забавны.
Я жадно слушала.
– К следующему четвергу мы должны написать стихотворение на заданные рифмы, – рассказывает мне живословка, непохожая на остальных. Она – дама. И даже немолодая дама, годящаяся мне в матери. Очень милая, всем интересующаяся.
Она берет меня под руку и спокойно и уверенно убеждает меня:
– Вам непременно надо ходить на его занятия. Это просто необходимо. Вы многому научитесь у него. Забудьте обиду.
– Никогда! – упрямо отвечаю я. – Никогда в жизни!
Но я все же беру листок с рифмами, переписанными ею для меня. И соглашаюсь дать ей написанные мною стихи, с тем чтобы она выдала их за свои.
Ведь это меня ни к чему не обязывает. Я только проверю себя – могу ли я или не могу исполнить задание. Действительно ли я уже так безнадежно бездарна?
В тот же вечер я заперлась у себя в комнате и написала стихотворение на данные Гумилевым рифмы:
- Нет, я не верю, что любовь обман.
- Из дальних стран китаец косоглазый
- Привез измены и греха заразы.
- Позорной страстью дух твой обуян.
- Но неприступны городские стены.
- Сны наших жен белее моря пены.
- Их верность – золото, их честь – гранит.
- За синими мечети куполами,
- За городом, за спящими садами,
- Там, на заре, китаец твой убит.
Я отдала его моей покровительнице – снова взяв с нее слово, что она выдаст его за свое.
И стала ждать, ни на что не надеясь.
А все-таки… Вдруг Гумилев похвалит его? Нет, этого не будет, уверяла я себя.
Но Гумилев действительно похвалил и даже расхвалил мое стихотворение.
Рифмы, оказалось, были взяты из его собственного усеченного сонета.
Гумилев сказал:
– Этот сонет можно было бы напечатать. Он, право, не хуже моего. Он даже чем-то напоминает пушкинскую «Черную шаль».
Я слушала и не верила. Гумилев не мог этого сказать. Я стала расспрашивать всех, и все повторяли одно и то же: «Можно напечатать. Похож на „Черную шаль“». Что же это такое? Я недоумевала. Значит, я не бездарна? Значит, моя жизнь еще не кончена?..
Теперь, когда оглядываюсь назад, мне ясно, что Гумилеву было известно, кто автор сонета, похожего на «Черную шаль», и он, пожалев «рыженькую с бантом», снова «перегнул палку» уже в сторону чрезмерных похвал.
И все же я не пошла на следующую лекцию Гумилева. Я выдерживала характер. Хотя эта выдержка давалась мне нелегко.
Я, как тень, металась по коридору мимо класса, где вел занятия Гумилев, и только из остатка самоуважения не подслушивала у дверей.
И однажды случилось невероятное: Гумилев, окончив занятия, вышел раньше обыкновенного из класса и спустился по лестнице.
Я, сама не зная почему, стала тихо спускаться за ним. Он, надев свою доху и оленью ушастую шапку, не пошел к двери, а круто повернул прямо на меня. Я, как это бывает во сне, почувствовала, что окаменела и не могу двинуться с места.
– Почему вы больше не приходите на мои занятия? – спросил он, глядя на меня одним глазом, в то время как другой глаз смотрел в сторону, будто внимательно разглядывая что-то.
И под этим двоящимся взглядом я не нашла в себе даже силы ответить.
– Почему вы не приходите? – повторил он нетерпеливо. – Непременно приходите в следующий четверг в четыре часа. Мы будем вместе переделывать ямбы на амфибрахии. Вы знаете, что такое амфибрахии?
Я молча покачала головой.
– А знать необходимо. – Он улыбнулся и неожиданно прибавил: – Вас зовут Наташа.
Не вопрос, а утверждение.
Я снова покачала головой.
– Нет. Совсем нет, – проговорила я быстро, холодея от ужаса за нелепое «совсем нет».
Гумилев по-своему оценил мой ответ.
– Вы, мадемуазель, иностранка?
– Нет, я русская, – ответила я с раскатом на «р» – «рррусская». И будто очнувшись от этого картавого раската, бросилась от него вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.
– Так в четверг. Не забудьте, в четыре часа. Я вас жду, – донесся до меня его голос.
Забыть? Разве можно забыть? И разве я могла не пойти, когда он сказал – я вас жду!
И я в четверг уже сидела в классе, когда вошел Гумилев. В тот день я узнала, что такое амфибрахий.
И даже впервые услыхала имя Георгия Иванова.
Гумилев, чтобы заставить своих учеников запомнить стихотворные размеры, приурочивал их к именам поэтов – так, Николай Гумилев был примером анапеста, Анна Ахматова – дактиля, Георгий Иванов – амфибрахия.
Но кто такой амфибрахический Георгий Иванов, я не знала, а Гумилев, считая нас сведущими в современной поэзии, не пояснил нам.
В тот же день мы переделывали «Птичку Божию» в ямбы:
- А птичка Божия не знает
- Работы тяжкой и труда…
и так далее.
И я с увлечением, забыв о прошлом, подыскивала слова.
С тех пор я стала постоянной посетительницей лекций Гумилева, но старательно избегала встречи с ним в коридоре.
Через месяц я уже понимала, что Гумилев был прав, что мои прежние стихи никуда не годятся, и сожгла тетрадь, где они были записаны.
«Вот эта синяя тетрадь с моими детскими стихами» медленно горела в камине, а я смотрела, как коробятся и превращаются в пепел строки, бывшие мне когда-то так дороги.
Ведь Гумилев говорил: лучше все, что вы написали прежде, сжечь и забыть. Из огня, как феникс, должны восстать новые стихи.
Но мои новые стихи совсем не были похожи на феникса. Ни легкокрылости, ни полета в них не было. Напротив, они, хотя и соответствовали всем правилам Гумилева, звучали тяжело и неуклюже и давались мне с трудом. И они совсем не нравились мне.
Не нравились мне и стихи, сочиненные под руководством Гумилева на практических занятиях, вроде обращения дочери к отцу-дракону:
- Отец мой, отец мой,
- К тебе семиглавый —
- В широкие синие степи твои
- Иду приобщиться немеркнущей славы
- Двенадцатизвездной твоей чешуи…
И хотя я поверила Гумилеву, что «испанцы и маркизы – пошлость», но семиглавый дракон с двенадцатизвездной чешуей меня не очаровал. Гумилев сам предложил строчку – «Двенадцатизвездной твоей чешуи», и она была принята единодушно. Все, что он говорил, было непреложно и принималось на веру.
Да, учиться писать стихи было трудно. Тем более что Гумилев нас никак не обнадеживал.
– Я не обещаю вам, что вы станете поэтами, я не могу в вас вдохнуть талант, если его у вас нет. Но вы станете прекрасными читателями. А это уже очень много. Вы научитесь понимать стихи и правильно оценивать их. Без изучения поэзии нельзя писать стихи. Надо учиться писать стихи. Так же долго и усердно, как играть на рояле. Ведь никому не придет в голову играть на рояле, не учась. Когда вы усвоите все правила и проделаете бесчисленные поэтические упражнения, тогда вы сможете, отбросив их, писать по вдохновению, не считаясь ни с чем. Тогда, как говорил Кальдерон, вы сможете запереть правила в ящик на ключ и бросить ключ в море. Теперь же то, что вы принимаете за вдохновение, просто невежество и безграмотность.
Я ежилась от таких речей. Надо действительно быть всецело преданным поэзии, чтобы выдержать эту «учебу».
Я не пропускала ни одной его лекции и дома исписывала целые тетради всевозможными стихотворными упражнениями.
Сколько рондо, октав, газелл, сонетов я сочинила в те дни!
Был уже май месяц, когда Гумилев, войдя в класс, заявил:
– Сообщаю вам сенсационную новость: на днях открывается Литературная студия, где главным образом будут изучать поэзию.
И он стал подробно рассказывать о Студии и называть имена писателей и поэтов, которые будут в ней преподавать.
– Вам представляется редчайший случай. Неужели вы не сумеете им воспользоваться? – Он оглядел равнодушные лица слушателей. – Боюсь, что никто, – и вдруг протянул руку, длинным пальцем указывая на меня, – кроме вас. Ваше место там. Я уже записал вас. Не протестуете?
Нет, я не протестовала. Мне казалось, что звезды падают с потолка.
Гумилев был прав – из «Живого слова» никто, кроме меня, не перешел в Литературную студию.
Литературная студия открылась летом 1919 года.
Помещалась она на Литейном в доме Мурузи, в бывшей квартире банкира Гандельблата.
Подъезд дома Мурузи был отделан в мавританском стиле «под роскошную турецкую баню», по определению студистов.
Когда-то, как мне сейчас же сообщили, в этом доме жили Мережковский и Зинаида Гиппиус, но с другого подъезда, без восточной роскоши.
В квартире банкира Гандельблата было много пышно и дорого обставленных комнат. Был в ней и концертный зал с эстрадой и металлической мебелью, крытой желтым штофом.
В первый же день Гумилев на восхищенное восклицание одной студистки, ощупавшей стул: «Да весь он из серебра. Из чистого серебра!» – ответил тоном знатока:
– Ошибаетесь. Не из серебра, а из золота. Из посеребренного золота. Для скромности. Под стать нам. Ведь мы тоже из золота. Только для скромности снаружи высеребрены.
«Мы», конечно, относилось к поэтам, а не к студистам.
Впрочем, из студистов, не в пример живословцам, многие вышли в люди, и даже в большие люди.
Одновременно со мной в Студию поступили Раиса Блох, талантливейший рано умерший Лева Лунц, Нельдихен, еще не успевший кончить школы Коля Чуковский и Вова Познер, Шкапская и Ада Оношкович-Яцына.
Ко времени открытия Студии Гумилев уже успел многому научиться и стать более мягким. Разбор стихов уже не представлял собой сплошного «избиения младенцев». Ни Коле Чуковскому, ни Вове Познеру, ни Лунцу не пришлось пережить того, что пережила я.
Напротив, все для них сошло гладко и легко – как, впрочем, на этот раз и для меня.
На первой лекции Гумилева мы сами читали свои стихи, и Гумилев высказывал снисходительные суждения.
Помню стихи, которые читал Коля Чуковский, его милое мальчишеское большеносое лицо, его удивительно чистую белую рубашку с разорванным от плеча рукавом.
Гумилев очень похвалил его стихи:
- Я плохо жил,
- Я время лил, как воду —
и второе, начинавшееся:
- То не ангелы, то утки
- Над рекой летят.
– Вполне хорошо и, главное, не банально! – одобрил он важно.
Очень похвалил он и Вову Познера, хорошенького черноглазого, черноволосого мальчика, даже еще более картавого, чем я.
Особенно ему понравились стихи Лунца. Впрочем, Лева Лунц не только нравился, но и поражал своей даровитостью – в Студии и в университете. Он уже был студентом.
В тот день читала и я свой, уже заранее, в «Живом слове», одобренный Гумилевым сонет:
- Всегда всему я здесь была чужою,
- Уж вечность без меня жила земля,
- Народы гибли и цвели поля,
- Построили и разорили Трою…
и так далее.
Вот это «построили и разорили Трою» и заслужило одобрение Гумилева.
– Сколько раз говорили о разорении Трои, и никто, кроме вас, не вспомнил, что ее и «построили».
В тот день читались, конечно, и очень слабые стихи, но Гумилев воздерживался от насмешек и убийственных приговоров, ограничиваясь только кратким: «Спасибо. Следующий», – и отметкой на лежавшем перед ним листке.
Когда мы все – нас было не больше двадцати – прочли свои стихи, Гумилев объявил, что поделил нас на две группы – для успешности занятий. Я вместе с Чуковским, Познером и Лунцем попала в первую группу.
Но, забегая вперед, должна сказать, что и в Студии, вначале, как и в «Живом слове», из лекций и практических занятий Гумилева получалось немного.
Хотя Гумилев победил уже свою застенчивость и сумел отделаться от «бесчеловечной жестокости выносимых им приговоров», но он еще не понимал своей аудитории, недооценивал ее критического отношения и ее умственного развития. Он старался во что бы то ни стало поразить ее воображение и открыть перед ней еще неведомые горизонты. Он не умел найти нужного тона и держался необычайно важно и торжественно.
И в Студии многие не выдерживали его «учебы». С каждой лекцией у Гумилева становилось все меньше слушателей.
Но Гумилев, сохраняя олимпийское величие, оглядывал редеющие ряды своих слушателей:
– Я очень рад, что никчемный элемент отпадает сам собой. Много званых, мало избранных. – И он поднимал, как бы призывая небо в свидетели, свою узкую руку.
В Студии занятия происходили ежедневно, и я, при всем желании, не могла совмещать их с «Живым словом». Надо было сделать выбор. И я, конечно, выбрала Студию.
Все же я не порывала с «Живым словом» совсем, по-прежнему занимаясь ритмической гимнастикой, постановкой голоса… Гумилев продолжал свои лекции и практические занятия, в «Живом слове» до конца 1920 года у него оставалось всего три-четыре слушателя – включая меня, бессменно присутствовавшую на его лекциях и занятиях.
К концу своей жизни он стал одним из самых популярных лекторов и всецело овладел искусством подчинять себе аудито-рию.
Но это было зимой 1920/21 года. Теперь же шло лето 19-го. Очень жаркое лето. Дни казались бесконечно длинными.
Летнее время было декретом отодвинуто на целых три часа назад, и утро нормально начиналось с восходом солнца, а день кончался в 9 часов вечера. Это было удобно, мы все лето обходились без освещения, что придавало жизни какой-то фантастический оттенок, какой-то налет нереальности. Дни были удивительно голубые, поместительные, длинные, глубокие и высокие. В них как будто незримо присутствовало и четвертое измерение.
Казалось, что трех измерений для них, как и для всего тогда происходившего, мало.
На Невском между торцами зеленела трава. В сквере напротив нашего блока домов Бассейной, как и в Таврическом саду, щелкали соловьи. Соловьи залетали даже в деревья под наши окна.
Однажды я проснулась от соловьиного пения под моим окном. От луны было совсем светло. Я села на низкий подоконник. Мне казалось, что захлестывающее чувство счастья сейчас унесет меня в открытое окно и я разорвусь на куски – распадусь звездной пылью и лунным сиянием. От счастья.
Мне вдруг стало страшно, я спрыгнула с подоконника, добежала до кровати, забралась в нее и натянула одеяло на голову, спасаясь от непомерного чувства счастья. И сейчас же за-снула.
Но и во сне чувство счастья не покидало меня.
Все, что я с детства желала, все, о чем мечтала, вот-вот исполнится. Я стояла на пороге. Скоро, скоро и я смогу сказать:
– Сезам, откройся!
Скоро и я буду поэтом. Теперь я в этом уже не сомневалась. Надо только немножко подождать. Но и ожиданье уже счастье, такое счастье, или, точнее, такое предчувствие счастья, что я иногда боюсь не выдержать, не дождаться, умереть – от радости.
Так жила я в то лето, первое «настоящее лето» в моей жизни. До него все было только подготовкой.
А жить в Петербурге в те дни было нелегко. В кооперативных лавках выдавали мокрый, тяжелый хлеб, нюхательный табак и каменное мыло – даром.
На Бассейной мешочники и красноармейцы предлагали куски грязного сахара, держа его для приманки на грязной ладони, и покупатели, осведомляясь о цене, ощупывали кусок сахара и, не сойдясь в цене, клали его обратно.
Правила гигиены, всякие микробы и миазмы, которых так опасались прежде: «Не трогай деньги! Пойди вымой руки!» – были теперь забыты.
Как и чем я питалась, я плохо помню. Конечно, и я бывала голодна. Но я научилась не обращать внимания на голод.
В те дни я, как и многие, научилась «попирать скудные законы бытия». В те дни я, как и многие, стала более духовным, чем физическим существом. «Дух торжествует над плотью» – дух действительно торжествовал над моей плотью. Мне было так интересно жить, что я просто не обращала внимания на голод и прочие неудобства.
Ведь все это было ничтожно, не существовало по сравнению с великим предчувствием счастья, которым я дышала. Ахматова писала:
- И так близко подходит чудесное
- К покосившимся грязным домам,
- Никому, никому не известное,
- Но от века желанное нам.
Значит, и она тоже, пусть и не так, как я, испытывала таинственное очарование этих дней. И для нее тоже это было «от века желанное». Для нее и для многих других. Для каждого по-своему.
Литстудия открылась летом. В июле месяце. Июль обыкновенно до революции предоставлялся отдыху от занятий и развлечениям.
Но теперь все изменилось, все перепуталось. Каникулы вообще не существовали больше или, вернее, каникулы продолжались круглый год. Ведь в принципе во время каникул занимаешься именно тем, делаешь именно то, что хочешь. А теперь мне впервые предоставлено право делать то, заниматься тем, чем я хочу.
В это лето я сделала еще одно удивительное открытие. Я вдруг почувствовала, что Петербург мой город и действительно принадлежит мне. Исчезло все столичное, чопорное, чужое. Петербург стал чем-то вроде своего имения, по лесам и полям которого бродишь целыми днями.
– Что ж? В деревнях мужикам часто приходилось голодать, а теперь и мы, баре, поголадываем, зато как интересно стало жить, – говорил Михаил Леонидович Лозинский.
Михаил Леонидович Лозинский, последний поэт-символист и переводчик, только входивший тогда в славу. Очаровательный, изумительный, единственный Лозинский.
Когда Лозинский впервые появился в Студии за лекторским столом, он тоже разочаровал меня. Большой, широкоплечий, дородный. Не толстый, нет, а доброкачественно дородный. Большелицый, большелобый, с очень ясными большими глазами и светлой кожей. Какой-то весь насквозь добротный, на иностранный лад, вроде василеостровского немца. Фабрикант, делец, банкир. Очень порядочный и буржуазный. И, безусловно, богатый. Это о таких, как он, писал Маяковский:
- Ешь ананасы, рябчиков жуй,
- день твой последний приходит, буржуй.
С буржуазно-барственным видом Лозинского мне было труднее примириться, чем даже с нелепой фигурой Гумилева в короткой широкой дохе и ушастой шапке.
Лозинский заговорил – спокойно, плавно и опять как-то барственно, приятным полнозвучным баритоном. О переводе стихов. И привел несколько примеров переводов. Сначала оригинал по-французски и английски – с прекрасным выговором, – потом по-русски.
Помню, как он произнес, великолепно скандируя, каждое слово падало звонко:
- Valmiki le poète immortel est très vieux…[4]
Я не любила Леконт де Лиля, но тут вдруг почувствовала всю красоту и силу этих слишком парнасских стихов. Лозинский читал стихи лучше всех тогдашних поэтов, но сам он был, хотя и прекрасный переводчик, слабый поэт. И это тем более непонятно, что он владел стихом, как редко кто во всей русской поэзии, и обладал, по выражению Гумилева, «абсолютным слухом и вкусом».
Лозинский считал себя последним символистом. Но и среди символистов он вряд ли мог рассчитывать на одно из первых мест.
Помню его отдельные строки:
- Рука, что гладит ласково
- И режет, как быка… —
или:
- Печаль и радость прежних лет
- Я разливаю в два стакана… —
или еще:
- И с цепью маленькие руки,
- Похожие на крик разлуки.
Эти руки, «похожие на крик», да еще не просто на крик, а на «крик разлуки», – как будто при разлуке кричат как-то особенно, – не свидетельствуют о совершенном вкусе, как и рука, что «режет, как быка».
Абсолютный вкус и слух Лозинский проявлял лишь в отношении чужих стихов и, главное, в переводах.
Была у него, впрочем, одна вполне «абсолютная» строфа и совсем не символистская:
- Проснулся от шороха мыши,
- И видел большое окно,
- От снега белые крыши, —
- …А мог умереть давно…
За ней шла вторая строфа «с расширением темы», ненужная и потому не удержавшаяся у меня в памяти. Гумилев советовал отбросить ее, но Лозинский не послушался его.
Гумилев вспоминал всегда это: «А мог умереть давно», когда хотел доказать, что Лозинский не только переводчик, но и поэт.
Но спорящие приводили в доказательство своей правоты слова Брюсова:
– Нет ни одного поэта, как бы плох он ни был, хоть раз в жизни не написавшего хорошей строфы. Даже Ратгауз – образец бездарности – автор простых и удачно найденных строк:
- День проходит,
- Меркнет свет.
- Мне минуло
- Сорок лет…
Роль Лозинского в кругах аполлонцев и акмеистов была первостепенной. С его мнением считались действительно все. Был он также библиофил и знаток изданий. Это ему сборники стихов акмеистов обязаны своей эстетической внешностью – ему и типографии Голике.
Гумилев говорил о Лозинском, внимательно рассматривающем принесенный на его суд проект обложки:
- Лозинский глаз повсюду нужен,
- Он вмиг заметит что-нибудь.
И действительно, «лозинский глаз» всегда замечал «что-нибудь».
– Вот эту букву надо поднять чуть-чуть и все слово отнести налево на одну десятую миллиметра, а эта запятая закудрявилась, хвостик слишком отчетлив.
Лозинский, прославленный редактор журнала «Гиперборей».
Гумилев скоро прочтет мне шуточные стихи, посвященные пятницам в «Гиперборее»:
- Выходит Михаил Лозинский,
- Покуривая и шутя,
- Рукой лаская исполинской
- Свое журнальное дитя.
- У Николая Гумилева высоко задрана нога,
- Для романтического лова нанизывая жемчуга.
- Пусть в Царском громко плачет Лева,
- У Николая Гумилева
- Высоко задрана нога.
- Печальным взором и молящим
- Глядит Ахматова на всех.
- Был выхухолем настоящим
- У ней на муфте драный мех…
Прочтет с комментариями. Я в этот день узнаю, что Ахматова была очень самолюбива и совсем не понимала шуток, когда они касались ее, и что строки «Был выхухолем настоящим // У ней на муфте драный мех» привели ее в негодование и она страстно протестовала против них.
– Женщина, к сожалению, всегда женщина, как бы талантлива она ни была! – прибавит он, а мне будет трудно ему поверить, так это не вяжется с образом Ахматовой, созданным моим воображением.
Но всего этого, как и того, какой Лозинский исключительный собеседник и до чего он остроумен, я тогда, конечно, не знала.
Переводами мне не очень хотелось заниматься. Никакого влечения к ним я не испытывала и удивлялась энтузиазму, с которым за них бралось большинство студистов.
Переводчицы стихов из меня так и не вышло. Я скорее присутствовала на занятиях Лозинского, чем принимала в них деятельное участие.
Среди особенно преданных «переводчиков» была Раиса Блох, в 1943 году замученная гитлеровцами. Была она тогда очень молодая, полная – редкость в те голодные годы, когда большинство из нас, и особенно я, были так тонки, так «умилительно тонки», что, по выражению Гумилева: «Ветер подует, сломает или унесет. Взмахнете бантом, как крылом, – и только вас и видели».
Раиса Блох производила скорее впечатление тяжести, что не мешало ее девически невинному и нежному виду.
Когда приехавший с юга Осип Мандельштам впервые прочел свои стихи:
- Сестры тяжесть и нежность,
- Одинаковы ваши приметы…
Лозинский кивнул, сохраняя присущую ему серьезность:
– Понимаю. Это вы про Раису Блох. Тяжесть и нежность – очень характерно для нее.
Раиса Блох, кроме Студии, училась еще и в университете. В Литстудии она больше всего занималась переводами. К Гумилеву на занятия ходила редко, хотя и писала уже тогда стихи. Вот одно из них:
- А я маленький воробей,
- На заборе нас не мало есть,
- Из пращи меня не убей,
- Дай допеть мою дикую весть.
Этот «маленький воробей» с его «дикой вестью» веселил студистов, и Раису Блох прозвали «маленьким воробьем» и «диковестницей». Впрочем, смеялись очень добродушно, безобидно и весело, Раиса Блох была на редкость мила и симпатична – ее все любили.
В те дни мы вообще смеялись очень много. Смеялись так же легко, как и плакали. Плакать приходилось часто – ведь аресты и расстрелы знакомых и близких стали обыкновенным, почти будничным явлением, а мы еще не успели, по молодости лет, очерстветь душой.
Но возвращаюсь к Лозинскому – Ада Оношкович-Яцына была его любимейшей ученицей. Такой же «лучшей ученицей» Лозинского, как я – Гумилева.
Ада Оношкович не была красивой, ни даже хорошенькой. Но этого ни она, ни другие не замечали. В ней кипела такая бурная молодость, она была полна такой веселой силой и энергией, что никому и в голову не приходило заметить, красива она или нет.
Однажды она явилась в Студию с торчащими во все стороны короткими волосами и объяснила весело:
– Надоело причесываться каждое утро. Вот я сама и остриглась. Я теперь похожа на Египетский мост. Разве не хорошо?
И действительно вышло очень хорошо – став еще немного некрасивей, она стала еще очаровательней. Кстати, она показала очень передовой вкус, предвосхитив моду на сорок лет, – ведь теперь многие кинематографические звезды причесываются такими Степками-растрепками, уродуя себя.
Но тогда понятия о женской красоте еще не эволюционировали. И все же «египетский мост», хотя и не нашел подражательниц, был нами одобрен.
Ада Оношкович, несмотря на дарование, не стала настоящим поэтом, не выступала на поэтических вечерах и нигде не печаталась.
Но, как это ни удивительно, стихи ее были известны и нравились Маяковскому, хотя мы, петербуржцы, почти не имели с ним сношений. Не только мы, молодые, но и наши мэтры.
Осенью 1920 года Маяковский приехал «удивить Петербург» и выступил в только недавно открывшемся Доме искусств. Огромный, с круглой, коротко остриженной головой, он скорее походил на силача-крючника, чем на поэта. Читал он стихи совсем иначе, чем было принято у нас. Скорее по-актерски, хотя – чего актеры никогда не делали – не только соблюдая, но и подчеркивая ритм. Голос его – голос митингового трибуна – то гремел так, что стекла звенели, то ворковал по-голубиному и журчал, как лесной ручеек.
Протянув в театральном жесте громадные руки к оглушенным слушателям, он страстно предлагал им:
- Хотите, буду от мяса бешеным
- И, как небо, меняясь в тонах,
- Хотите, стану невыразимо нежным, —
- Не мужчина, а облако в штанах?..
В ответ на эти необычайные предложения зал восторженно загрохотал. Казалось, все грохотало, грохотали стулья, грохотали люстры, грохотали потолок и пол под звонкими ударами женских ног.
– Бис, бис, бис!.. – неслось отовсюду.
Гумилев, церемонно и прямо восседавший в первом ряду, поднялся и, даже не взглянув на Маяковского, стал медленно продвигаться к выходу сквозь кольцо обступивших эстраду буйствовавших слушательниц.
Когда по окончании чтения я пришла в отведенную для поэтов артистическую, прилегающую к зрительному залу, Гумилев все еще находился в ней. Прислушиваясь к крикам и аплодисментам, он, морщась брезгливо, проговорил:
– Как видите, не ушел, вас ждал. Неужели и вас… и вас разобрало? – И, не дожидаясь моего ответа, добавил, продолжая прислушиваться к неистовым крикам и аплодисментам: – Коллективная истерика какая-то. Позор!.. Безобразие!
Вид обезумевших, раскрасневшихся, потных слушательниц, выкрикивающих, разинув рты: «Ма-я-ков-ский, Ма-я-ков-ский!» – казался и мне отвратительным и оскорбительным.
Да, я испытывала чувство оскорбления и обиды. Ведь ничего подобного не происходило на «наших» выступлениях. Ни Блоку, ни Гумилеву, ни Кузмину не устраивали таких неистовых, сумасшедших оваций.
И когда Гумилев, не дожидаясь появления в гостиной триумфатора – его все еще не отпускала буйствующая аудитория, – предложил мне:
– Идем домой. Вам совсем незачем знакомиться с ним, – я согласилась.
Уже пересекая Невский, Гумилев, всю дорогу говоривший о «Кристабель» Кольриджа, недавно переведенной Георгием Ивановым для «Всемирной литературы», вдруг сказал:
– А ведь Маяковский очень талантлив. Тем хуже для поэзии. То, что он делает, – антипоэзия. Жаль, очень жаль…
Маяковский уехал на следующий день из Петербурга. Между ним и нами снова встала глухая стена равнодушия и, пожалуй, даже враждебности. Мы не интересовались его новыми стихами, он же открыто презирал петербургских поэтов: «Мертвецы какие-то. Хлам! Все до одного, без исключения…»
Поздней осенью 1922 года, уже в Берлине, на вечеринкe у художника Пуни, я в первый и в последний раз встретилась с Маяковским.
Шкловский уверял, что когда-нибудь наше время будут называть Пуническим, по «знаменитому Пуни». Но в 1922 году слава Пуни еще не гремела.
Жена Пуни, растрепанная и милая, старается объединить гостей если и не беседой, то напитками. Сколько бутылок, и как быстро пустые бутылки заменяются новыми.
В маленьких мансардных комнатах много гостей – Белый, Оцуп, художник Альтман, только что приехавший из России Шкловский, Бахрах и еще много других, незнакомых мне. Лиля Брик, красивая, немного скуластая, внимательноглазая, в фантастической кружевной шляпе, похожей на крылья коричневой бабочки, сидит рядом с Маяковским на диване. Они вдвоем образуют не то центр, не то какой-то остров в этом волнующемся людском море.
Маяковский вдруг громко спрашивает, указывая на меня пальцем:
– Кто эта девушка, которая ничего не пьет и ни с кем не целуется?
Я действительно ничего не пью. Не научилась еще.
– Ирина Одоевцева, – отвечает Оцуп.
Маяковский кивает:
– Ах, знаю, знаю.
- Я иду с своей судьбой не в ногу
- На французских тонких каблучках.
Недурно. Очень недурно.
Но Шкловский машет на него рукой. Шкловский – наш петербуржец, мы с ним в приятельских отношениях.
– Нет, совсем нет! Это Ада Оношкович написала. А Ирина Одоевцева – это «Лошадь поднимет ногу одну»… «Баллада об извозчике». Слыхали, конечно?
Но Маяковский, «конечно», не слыхал. Он пожимает плечами.
– Лошадь? Лошадь следовало бы мне оставить. Все равно лучше не скажешь: «Лошадь, вам больно?» А про французские каблучки ей бы подошло. Мило про каблучки. Девически мило. Мне нравится. Даже очень.
Но, к сожалению, Аде Оношкович вряд ли стало известно, что ее стихи нравились Маяковскому, самому Маяковскому. Умерла она в 30-х годах, о чем я узнала уже в Париже.
Как началась моя дружба с Гумилевым? Но можно ли наши отношения назвать дружбой?
Ведь дружба предполагает равенство. А равенства между нами не было и быть не могло. Я никогда не забывала, что он мой учитель, и он сам никогда не забывал об этом.
Говоря обо мне, он всегда называл меня «Одоевцева – моя ученица».
Однажды Чуковский – к тому времени я уже стала самостоятельным поэтом, автором баллад и членом Второго цеха – насмешливо предложил ему:
– Вместо того чтобы всегда говорить «Одоевцева – моя ученица», привесьте-ка ей просто на спину плакат «Ученица Гумилева». Тогда всем без исключения будет ясно.
Да, дружбы между нами не было, хотя Гумилев в редкие лирические минуты и уверял меня, что я его единственный, самый близкий, незаменимый друг.
Его другом я, конечно, не была. Но у Гумилева вообще не было ни одного друга.
Ни в мое время, ни, судя по его рассказам, и в молодости.
Были приятели, всевозможные приятели, начиная с гимназической скамьи, были однополчане, были поклонники и ученики, были женщины и девушки, влюбленные в него и те, в которых он – бурно, но кратковременно – влюблялся.
Был синдик Сергей Городецкий, деливший с Гумилевым власть в Первом цехе поэтов, члены Цеха и аполлонцы – Осип Мандельштам, Мишенька Кузмин, Георгий Иванов и остальные. Ближе всех других ему был, пожалуй, Лозинский.
С ними всеми, как и многими другими, Гумилев был на «ты». Он вообще, несмотря на свою «чопорность» и церемонность, удивительно легко переходил на «ты».
С поэтами-москвичами отношения оставались более далекими – даже с теми, которых он, как Ходасевича и Белого, очень высоко ставил.
Тогда, в начале лета девятнадцатого года, я и мечтать не смела, что скоро, очень скоро я не только буду здороваться «за руку» с Гумилевым, но что Гумилев будет провожать меня домой.
В Студии занятия, в отличие от «Живого слова», происходили не вечером, а днем, и кончались не позже шести часов.
Только что кончилась лекция Гумилева, и я в вестибюле надевала свою широкополую соломенную шляпу, – несмотря на революцию, мы не выходили из дома без шляпы. И даже без перчаток. Перчаток у меня было множество – целые коробки и мешки почти новых, длинных бальных перчаток моей матери, сохранявшихся годами аккуратно, «на всякий случай». И вот действительно дождавшихся «случая».
Я перед зеркалом заправляла бант под шляпу и вдруг увидела в рамке зеркала рядом со своим лицом улыбающееся лицо Гумилева.
От удивления я, не оборачиваясь, продолжала смотреть в зеркало на него и на себя, как будто это не наши отражения, а наш общий портрет.
Это, должно быть, длилось только мгновение, но мне показалось, что очень долго.
Лицо Гумилева исчезло из зеркала, и я обернулась.
– Вы, кажется, – спросил он, – живете в конце Бассейной? А я на Преображенской. Нам с вами по дороге, не правда ли?
И не дожидаясь моего ответа, он отворил входную дверь, пропустив меня вперед.
Я иду рядом с Гумилевым. Я думаю только о том, чтобы не споткнуться, не упасть. Мне кажется, что ноги мои невероятно удлинились, будто я, как в детстве, иду на ходулях. Крылья за плечами? Нет, я в тот первый день не чувствовала ни крыльев, ни возможности лететь. Все это было, но потом, не сегодня, не сейчас.
Сейчас – я совершенно потрясена. Это слишком неожиданно. И скорее мучительно.
Гумилев идет со мной рядом, смотрит на меня, говорит со мной, слушает меня.
Впрочем, слушать ему не приходится. Я молчу или односложно отвечаю: «да» и «нет».
Кровь громко стучит в моих ушах, сквозь ее шум доносится глухой голос Гумилева:
– Я несколько раз шел за вами и смотрел вам в затылок. Но вы ни разу не обернулись. Вы, должно быть, не очень нервны и не очень чувствительны. Я – на вашем месте – не мог бы не обернуться.
Я еще более смущаюсь от упрека – поэты нервны и чувствительны, и он бы на моем месте…
– Нет, – говорю я. – Я нервна. Я очень нервна.
И будто в доказательство того, что я действительно очень нервна, руки мои начинают дрожать и я роняю свои тетрадки на тротуар. Тетрадки и листы разлетаются веером у моих ног. Я быстро нагибаюсь за ними и стукаюсь лбом о лоб тоже нагнувшегося Гумилева. Шляпа слетает с моей головы и ложится рядом с тетрадками.
Я стою красная, не в силах пошевельнуться от ужаса и стыда.
Все погибло. И навсегда…
Убежать, не попрощавшись? Но я застыла на месте и бессмысленно слежу за тем, как Гумилев собирает мои записки и аккуратно складывает их. Он счищает пыль с моей шляпы и протягивает ее мне.
– Я ошибся. Вы нервны. И даже слишком. Но это пройдет.
- Бывают головокруженья
- У девушек и стариков, —
цитирует он самого себя. – Наденьте шляпу. Ну, идемте!
И я снова шагаю рядом с ним. Он как ни в чем не бывало говорит о движении на парижских улицах и как трудно их пересекать.
– А у нас теперь благодать, иди себе по середине Невского, никто не наедет. Я стал великим пешеходом. В день верст двадцать делаю. Но и вы ходите совсем недурно. И в ногу, что очень важно.
Я не заметила, что иду с ним в ногу. Мне казалось, напротив, что я все время сбиваюсь с шага.
Возле пустыря, где прежде был наш Бассейный рынок, я останавливаюсь. Раз Гумилев живет на Преображенской, ему надо здесь сворачивать направо.
Но Гумилев продолжает шагать.
– Я провожу вас и донесу ваши тетрадки. А то, того и гляди, вы растеряете их по дороге.
И вдруг совершенно неожиданно добавляет:
– Из вас выйдет толк. Вы очень серьезно занимаетесь, и у вас большие способности.
Неужели я не ослышалась? Неужели он действительно сказал: «У вас большие способности. Из вас выйдет толк»?
– До завтра, – говорит Гумилев.
Завтра? Но ведь завтра у него в Студии лекции нет. Только через три дня, в пятницу. Не до завтра, а до послепослезавтра, но я говорю только:
– До свиданья, Николай Степанович.
Спасибо! Спасибо за проводы и, главное, за «из вас выйдет толк». Неужели он действительно думает, что из меня может выйти толк?
Я вхожу в подъезд нашего дома, стараясь держаться спокойно и благовоспитанно. Я не позволяю себе оглянуться. А вдруг он смотрит мне вслед?
Но на лестнице сразу исчезают моя сдержанность и благовоспитанность. Я перескакиваю через три ступеньки. Я нетерпеливо стучу в дверь – звонки давно не действуют.
Дверь открывается.
– Что ты так колотишь? Подождать не можешь? Пожар? Потоп? Что случилось?
– Случилось! – кричу я. – Случилось! Гумилев! Гумилев…
– Что случилось с Гумилевым?
– Гумилев меня проводил! – кричу я в упоенье.
Но дома меня не понимают.
– Ну и?..
Как «ну и…»? Разве это не чудо? Не торжество?
Я бегу в залу, кружусь волчком по паркету, ношусь взад и вперед большими парадными, «далькрозированными» прыжками, чтобы как-нибудь выразить свой восторг. И вдруг на бегу поджимаю ногу и падаю навзничь. Этому меня тоже научила ритмическая гимнастика. Это совсем не опасно. Но мой отец в отчаянии.
– Сумасшедшая! Спину сломаешь. Довольно, довольно!.. Успокойся!..
Но я ничего не слышу. Я в экстазе, в пароксизме радости.
Такой экстаз, такой пароксизм радости я видела только раз в моей жизни, много лет спустя, в фильме «La ruée vers l’or»[5] – Чаплин от восторга выпускает пух из подушек и, совсем как я когда-то, неистовствует.
Успокойся!.. Но разве можно успокоиться? И разве можно будет сегодня ночью уснуть? И как далеко до завтра, до послепослезавтра!..
Но уснуть все же удается. И завтра очень скоро наступает. И в Студии все идет совсем обыкновенно – лекция Чуковского. Лекция Лозинского. И вот уже конец. И надо идти по той самой дороге, где вчера…
Я нарочно задерживаюсь, чтобы одной возвратиться домой, чтобы все снова пережить. Вот тут, в вестибюле, он сказал: «Нам по дороге», – и распахнул дверь и снял шляпу, пропуская меня, будто я важная дама. До чего он вежлив и церемонен…
Я иду по тому же тротуару, по которому я вчера шла вместе с Гумилевым, и повторяю: «Из вас выйдет толк…»
Мне кажется, что Гумилев все еще идет рядом со мной. Как глупо я вела себя вчера. Вряд ли он еще раз захочет проводить меня домой. Но и этого единственного раза и воспоминаний о нем мне хватит надолго. На очень долго.
– О чем вы так задумались?
Я подымаю глаза и вижу Гумилева. Он стоит в своем коричневом поношенном пиджаке, в фетровой шляпе, с портфелем под мышкой, прислонившись к стене, так спокойно, будто он у себя дома, а не на улице.
– Как вы долго не шли. Я жду вас тут уже кусочек вечности.
– Отчего?.. – спрашиваю я только.
Но это значит: отчего вы меня ждете? И он понимает.
– Я возвращался после лекции у красноармейцев. Очень славные красноармейцы. Ведь я вчера сказал вам – до завтра, помните? А я всегда держу слово. Вы в этом убедитесь, когда вы меня лучше узнаете… Вы ведь меня еще совсем не знаете.
Да, я тогда действительно еще совсем не знала его.
С этого дня я стала его узнавать – все лучше и лучше. Я все же ни тогда, ни теперь не могу сказать, что знала его совсем, до конца.
Кто был Гумилев?
Поэт, путешественник, воин, герой – это его официальная биография, и с этим спорить нельзя.
Но… но из четырех определений мне хочется сохранить только «поэт». Он был прежде всего и больше всего поэтом. Ни путешественника, ни воина, ни даже героя могло не выйти из него – если бы судьба его сложилась иначе. Но поэтом он не мог не быть.
Он сам говорил:
– Я родился поэтом, а не стал им, как другие. Мои самые далекие детские воспоминания уже свидетельствуют об этом. Мое мироощущение всегда было поэтическим. Я был действительно
- Колдовской ребенок,
- Словом останавливавший дождь…
Гумилев утверждал, что стихотворение тем богаче и совершеннее, чем больше разнообразных и даже противоречивых элементов входят в него.
Если это определение отнести не к стихотворению, а к поэту – Гумилев был совершенным поэтом. Сколько в нем совмещалось разнообразных элементов и противоречивых черт.
Знал ли кто-нибудь Гумилева по-настоящему, до конца? Мне кажется – нет. Никто.
Гумилеву очень нравилось, что я старалась никому не подражать. Никому. Даже Ахматовой. Особенно Ахматовой.
И в «Живом слове», и в Студии слушательницы в своих стихотворных упражнениях все поголовно подражали Ахматовой, властительнице их дум и душ.
Но как часто бывает, слишком страстное увлечение принесло поклонницам Ахматовой не только добро, но и зло.
Они вдруг поняли, что они тоже могут говорить «о своем, о женском». И они заговорили.
На лекциях Гумилева мне пришлось быть свидетельницей безудержного потока подражаний Ахматовой.
Чаще всего эти подражания принимали даже несколько комический оттенок и являлись попросту перепевами и переложениями стихов «Четок». В них непременно встречалась несчастная любовь, муж, сын или дочка. Ведь в «Умер вчера сероглазый король» говорилось о дочке.
Так, семнадцатилетняя Лидочка Р., краснея и сбиваясь, читала высоким, срывающимся голосом перед Гумилевым, царственно восседавшим на кафедре:
- Сердце бьется медленно, устало,
- На порог я села на крыльцо.
- Я ему сегодня отослала
- Обручальное кольцо.
Лицо Гумилева выражает удивление. Он пристально вглядывается в нее.
– Никак не предполагал, что вы уже замужем. Позвольте узнать – давно?
Лидочка Р. еще сильнее краснеет.
– Нет. Я не замужем, нет!
Гумилев недоумевающе разводит руками:
– Как же так? Помилуйте. Кому же вы отослали кольцо? Жениху? Любовнику?..
Лидочка закусывает нижнюю губу в явном, но напрасном усилии не расплакаться и молчит.
– А, понимаю! – продолжает Гумилев. – Вы просто взяли мужа, как и крыльцо, из ахматовского реквизита. Ах вы бедная подахматовка!
«Подахматовками» Гумилев называл всех неудачных подражательниц Ахматовой.
– Это особый сорт грибов-поганок, растущих под «Четками», – объяснял он, – подахматовки. Вроде мухоморов.
Но, несмотря на издевательства Гумилева, «подахматовки» не переводились.
Уже не Лидочка Р., а другая слушательница самоуверенно продекламировала однажды:
- Я туфлю с левой ноги
- На правую ногу надела.
– Ну и как? – прервал ее Гумилев. – Так и доковыляли домой? Или переобулись в ближайшей подворотне?
Но, конечно, многие подражания были лишены комизма и не служили причиной веселья Гумилева и его учеников. Так строки:
- Одною болью стало больше в мире,
- И в небе новая зажглась звезда… —
даже удостоились снисходительной похвалы мэтра.
– Если бы не было: «Одной улыбкой меньше стало. Одною песней больше будет», – прибавил он.
Мы с Гумилевым часто ходили гулять не только летом, но и осенью, и даже зимой.
В Летнем саду мы бывали редко. Летний сад был гораздо дальше, хотя в то время мы «расстоянием не стеснялись». Сейчас кажется совершенно невероятным, что мы, преодолевавшие не меньше пятнадцати верст в день, еще находили силы для прогулок – силы и охоту.
Таврический сад. Снег скрипит под ногами. Как тихо, как безлюдно. Мы одни. Кроме нас, нет никого. Ни у кого нет ни времени, ни желания гулять. Только мы и вороны на снежных деревьях.
Гумилев читает свои стихи:
- Все чисто для чистого взора.
- И царский венец и суму,
- Суму нищеты и позора
- Я все беспечально возьму…
И тем же тоном:
– Воронам не нравится. Вот они и каркают.
– Вороны глупы и ничего не понимают в стихах, – говорю я. – На свою голову каркают! На свою!..
Мы подходим к пруду и, держась друг за друга, спускаемся на лед.
– Здесь я когда-то каталась на коньках.
– Совсем не нужно коньков, чтобы кататься, – заявляет Гумилев и начинает выделывать ногами замысловатые фигуры, подражая конькобежцам, но, поскользнувшись, падает в сугроб. Я стою над ним и смеюсь, он тоже смеется и не спешит встать.
– Удивительно приятно лежать в снегу. Тепло и уютно. Чувствую себя настоящим самоедом в юрте. Вы идите себе домой, а я здесь останусь до утра.
– Конечно, – соглашаюсь я. – Только на прощание спрошу вас:
- В самом белом, в самом чистом саване
- Сладко спать тебе, матрос?
И уйду. А завтра
- Над вашим смертным ложем
- Взовьется тучей воронье…
Но он уже встает, забыв о своем желании остаться лежать в сугробе до утра, отряхает от снега доху и спрашивает недовольным тоном:
– Почему вы цитируете Блока, а не меня?
Мы выбираемся на берег. Еще день и совсем светло. Но на бледно-сером зимнем небе из-за снежных деревьев медленно встает большая круглая луна. И от нее в саду еще тише, еще пустыннее. Я смотрю не отрываясь на луну. Мне совсем не хочется больше смеяться. Мне грустно, и сердце мое сжимается, как от предчувствия горя. Нет, у меня никогда не будет горя! Это от луны, – уговариваю я себя. И будто бессознательно желая задобрить луну, протягивая к ней руки, говорю:
– Какая прелестная луна!
– Очень она вам нравится? Правда? Тогда мне придется… Вы ведь знаете, – важно заявляет он, – мне здесь все принадлежит. Весь Таврический сад, и деревья, и вороны, и луна. Раз вам так нравится луна, извольте…
Он останавливается, снимает оленью ушастую шапку и отвешивает мне церемонный поклон:
– Я вам луну подарю. Подарок такой не снился египетскому царю.
Много лет спустя, уже после войны, в Париже, я вставила его тогдашние слова в свои стихи.
- А третий мне поклонился,
- Я вам луну подарю.
- Подарок такой не снился
- Египетскому царю.
Сделав мне такой царский подарок, Гумилев не забыл о нем, а часто вспоминал о своей щедрости.
– Подумайте только, кем вы были и кем вы стали. Ведь вам теперь принадлежит луна. Благодарны ли вы мне?
Да, я была ему благодарна. Я и сейчас еще благодарна ему.
Гумилев был моим настоящим учителем и наставником. Он занимался со мной каждый день, давал книги поэтов, до тех пор знакомых мне только по имени, и требовал критики прочитанного. Он был очень строг и часто отдавал обратно книгу.
– Вы ничего не поняли. Прочтите-ка еще и еще раз. Стихи не читают как роман. – И, пожимая плечами, добавлял: – Неужели я ошибся в вас?
Чтобы доказать ему, что он не ошибся, я просиживала часами над стихами, не нравившимися и непонятными мне, стараясь вникнуть в них.
Так я благодаря Гумилеву узнала и изучила всевозможных поэтов – не только русских, но и английских, французских и даже немецких, хотя сам Гумилев немецкого языка не знал. И помнил по-немецки только одну строку, которую приписывал Гейне:
- Их бин дер гот дер мýзика.
Этот «гот дер мýзика», как единственный пример немецкого стихосложения, часто вспоминался им.
Книг у Гумилева было множество. Ему удалось с помощью своих слушателей-красноармейцев привезти из Царского Села свою библиотеку.
Но мне доказать, что Гумилев «не ошибся» во мне, было иногда не по силам. Так, однажды он достал с полки том Блейка и протянул его мне. С Блейком я была знакома с детства и собиралась уже удивить Гумилева своими познаниями:
– Tiger, tiger in the wood… [6]– начала я.
Но Гумилев, не обратив внимания на «тайгера», открыл книгу.
– Вот тут я не совсем понимаю. Вы лучше знаете английский, чем я. Читайте вслух и переводите.
И я послушно стала читать. Я читала и ничего не понимала. Какие-то философские термины, какие-то математические исчисления, извлечение корней – тут же нарисованных. Отдельные понятные слова в непонятном сочетании. Я с трудом прочла полстраницы и остановилась.
– Ну, переводите же!
– Не могу, Николай Степанович. Я ничего не понимаю.
– Почему же вы не понимаете?
– Оттого, что слишком сложно. Я даже не поняла, о чем это.
Гумилев разочарованно развел руками и свистнул.
– Вот так-так! Значит, вы невежественны, как карп?
Я киваю.
– Даже невежественнее карпа, по-видимому, – ничего не понимаю.
– А я всегда был уверен, что поэты самые умные из людей и что философию они постигают, не учась ей. Что ж, я, по-видимому, ошибся. Я очень ошибся в вас.
Я мигаю обиженно и морщу нос.
– Ах, пожалуйста, – неожиданно раздражается Гумилев, – не вздумайте плакать. Если посмеете заплакать, я с вами перестану заниматься. Кисейные недотроги, обижающиеся на каждое слово, не могут быть поэтами. Поняли? Запомнили?
Я поняла и даже кивнула в знак того, что запомнила.
– Ну, вот и отлично, – одобрил меня Гумилев. – Но неужели вы совсем не знаете философии? Ведь философия необходима поэту. Неужели вы не читали «Критики чистого разума» Канта?
– Не читала, – сознаюсь я. – Пробовала, но не поняла.
– И Шопенгауэра не читали? И Ницше?
– Не читала.
– Неужели? – Левый глаз Гумилева с недоверием уставляется на меня, правый с таким же недоверием и любопытством смотрит в огонь печки.
– Даже забавно. Но ничего. Мы это исправим. – Он встает, идет в спальню и возвращается, держа в руке книгу в синем сафьяновом переплете.
– Начнем с Ницше. К тому же он еще и поэт. Это совсем легко, увидите. Легко и понятно. Вот вам – «Так говорил Заратустра». Если и это не поймете, ну тогда я действительно ошибся.
Но я поняла. И Гумилев в награду подарил мне своего «Так говорил Заратустра» в сафьяновом переплете, сделав на нем в шутку неприятную надпись из «Бориса Годунова».
- Учись, мой сын: наука сокращает
- Нам опыты быстротекущей жизни…
Этот Ницше прибыл со мной в эмиграцию и погиб только во время бомбардировки нашего дома в Биаррице в 1944 году.
Ницше я прочла без особого труда. Прочла я и «По ту сторону добра и зла», и все книги Ницше, бывшие у Гумилева.
Ницше – знакомство с ним помогло мне многое понять в самом Гумилеве. Я поняла, что Ницше имел на него огромное влияние, что его напускная жестокость, его презрение к слабым и героический трагизм его мироощущения были им усвоены от Ницше.
И часто потом я подмечала, что он сам, не отдавая себе в этом отчета, повторял мысли Ницше.
Он говорил:
– Герои и великие поэты появляются во времена страшных событий, катастроф и революций. Я это чувствую.
Или:
– В каком-то смысле мне иногда хочется, чтобы люди стали еще злее и мир еще более ужасным и страшным. Люди, не умеющие переносить несчастие, возбуждают во мне презрение, а не сочувствие.
Но я знала, что это только поза, только игра в бессердечие и жестокость, что на самом деле он жалостлив и отзывчив. И даже сентиментален.
Как он любил вспоминать свое детство! У него теплел голос и менялось выражение лица, когда он произносил:
– Я был болезненный, но до чего счастливый ребенок… Мое детство было до странности волшебным, – рассказывал он мне. – Я был действительно колдовским ребенком. Я жил в каком-то мною самим созданном мире, еще не понимая, что это мир поэзии. Я старался проникнуть в тайную суть вещей воображением. Не только вещей, но и животных. Так, у нашей кошки Мурки были крылья, и она ночами улетала в окно, а собака моей сводной сестры, старая и жирная, только притворялась собакой, а была – это я один знал – жабой. Но и люди вокруг меня были не тем, чем казались, что не мешало мне их всех – зверей и людей – любить всем сердцем. Мое детское сердце. Для поэта важнее всего сохранить детское сердце и способность видеть мир преображенным.
О своем детстве он мог говорить без конца.
– Детство самая главная, самая важная часть жизни. У поэта непременно должно быть очень счастливое детство. – И, подумав, добавлял: – Или очень несчастное. Но никак не скучное, среднее, серое. Я родился поэтом, а не стал им, как другие. Да, я действительно был колдовской ребенок, маленький маг и волшебник. Таким я сам себя считал. Тогда уже во мне возникло желание воплотить
- мечту мою,
- Будить повсюду обожанье.
В сущности, это ключ к пониманию меня. Меня считают очень сложным, но это неправильно – я прост. Вот когда вы меня хорошо узнаете, вы поймете, до чего я прост.
- Когда вы меня хорошо до конца узнаете…
Но мне, повторяю, несмотря на наши почти ежедневные встречи, так и не удалось его узнать – до конца.
Мы возвращаемся из Таврического сада.
– Я в молодости был ужасным эстетом и снобом, – рассказывает Гумилев, – я не только носил цилиндр, но завивал волосы и надевал на них сетку. И даже подкрашивал губы и глаза.
– Как? Не может быть. «Конквистадор в панцире железном», африканский охотник подкрашивался, мазался?
Должно быть, в моем голосе звучит негодование.
Гумилев отвечает не без обиды:
– Да, представьте себе, мазался. Тогда это, с легкой руки Кузмина, вошло в моду, хотя это вас и возмущает. Почему одним женщинам позволено исправлять природу, а нам запрещено? При дворе Генриха III мужчины красились, душились и наряжались больше женщин, что не мешало им быть бесстрашными и храбрыми, как львы.
– Нет, все-таки противно, – говорю я. – И у вас, наверно, был презабавный вид.
Гумилев недовольно пожимает плечами.
– Другая эпоха, другие вкусы. Мы все были эстетами. Ведь не я один. Много поэтов тогда подкрашивалось. Теперь мне это и самому смешно. Но тогда очень нравилось – казалось необычайно смело и остро. Впрочем, я все это бросил давно, еще до женитьбы на Ахматовой.
Мы продолжаем идти, и он снова «погружается в воспоминания»:
– Я ведь всегда был снобом и эстетом. В четырнадцать лет я прочел «Портрет Дориана Грея» и вообразил себя лордом Генри. Я стал придавать огромное значение внешности и считал себя очень некрасивым. И мучился этим. Я действительно, должно быть, был тогда некрасив – слишком худ и неуклюж. Черты моего лица еще не одухотворились – ведь они с годами приобретают выразительность и гармонию. К тому же, как часто у мальчишек, ужасный цвет кожи и прыщи. И губы очень бледные. Я по вечерам запирал дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. Я твердо верил, что могу силой воли переделать свою внешность. Мне казалось, что я с каждым днем становлюсь немного красивее. Я удивлялся, что другие не замечают, не видят, как я хорошею. А они действительно не замечали.
Я в те дни был влюблен в хорошенькую гимназистку Таню. У нее, как у многих девочек тогда, был «заветный альбом с опросными листами». В нем подруги и поклонники отвечали на вопросы: «Какой ваш любимый цветок и дерево? Какое ваше любимое блюдо? Какой ваш любимый писатель?»
Гимназистки писали – роза или фиалка. Дерево – береза или липа. Блюдо – мороженое или рябчик. Писатель – Чарская.
Гимназисты предпочитали из деревьев дуб или ель, из блюд – индюшку, гуся и борщ, из писателей – Майн Рида, Вальтер Скотта и Жюль Верна.
Когда очередь дошла до меня, я написал не задумываясь: «Цветок – орхидея. Дерево – баобаб. Писатель – Оскар Уайльд. Блюдо – канандер».
Эффект получился полный. Даже больший, чем я ждал. Все стушевались передо мною. Я почувствовал, что у меня больше нет соперников, что Таня отдала мне свое сердце.
И я, чтобы подчеркнуть свое торжество, не стал засиживаться, а отправился домой, сопровождаемый нежным, многообещающим взглядом Тани.
Дома я не мог сдержаться и поделился с матерью впечатлением, произведенным моими ответами. Она выслушала меня внимательно, как всегда.
– Повтори, Коленька, какое твое любимое блюдо. Я не расслышала.
– Канандер, – важно ответил я.
– Канандер? – недоумевая, переспросила она.
Я самодовольно улыбнулся:
– Это, мама, – разве ты не знаешь? – французский очень дорогой и очень вкусный сыр.
Она всплеснула руками и рассмеялась.
– Камамбер, Коленька, камамбер, а не канандер!
Я был потрясен. Из героя вечера я сразу превратился в посмешище. Ведь Таня и все ее приятели могут спросить, узнать о канандере. И как она и они станут надо мной издеваться. Канандер!..
Я всю ночь думал, как овладеть проклятым альбомом и уничтожить его. Таня, я знал, держала его в своем комоде под ключом.
Проникнуть в ее комнату, взломать комод и выкрасть его невозможно – у Тани три брата, родители, гувернантка, прислуга – к ней в комнату не проскользнешь незамеченным.
Поджечь ее дом, чтобы проклятый альбом сгорел? Но квартира Тани в третьем этаже, и пожарные потушат пожар прежде, чем огонь доберется до нее.
Убежать из дому, поступить юнгой на пароход и отправиться в Америку или Австралию, чтобы избежать позора? Нет, и это не годилось. Выхода не было.
К утру я решил просто отказаться от разделенной любви, вычеркнуть ее из своей жизни и больше не встречаться ни с Таней, ни с ее приятелями. Они, к счастью, все были не в одном со мною классе, и мне не стоило большого труда избегать их.
Но все это оказалось тщетной предосторожностью. Никто из них, по-видимому, не открыл, что такое «канандер». Нелюбопытные были дети. Неинтеллигентные.
Таня напрасно присылала мне розовые записки с приглашением то на именины, то на пикник, то на елку. Я не удостаивал их ответом. А на гимназическом балу она прошла мимо меня, не ответив на мой поклон.
– А вы все продолжали ее любить? – спрашиваю я.
Он машет рукой.
– Какое там. Сразу как ножом отрезало. От страха позора прошло бесследно. У меня в молодости удивительно быстро проходила влюбленность.
– Не только в молодости, но и сейчас, кажется, Николай Степанович, – замечаю я насмешливо.
Он весело кивает:
– Да, что греха таить. На бессмертную любовь я вряд ли способен. Хотя кто его знает? Голову на отсечение не дам. Ведь я сам Дон Жуан до встречи…
Но о Дон Жуане он в тот день не успевает мне ничего рассказать.
Прямо перед нами толпа прохожих. На что они смотрят? Мы подходим ближе и видим яростно грызущихся собак, грызущихся не на жизнь, а на смерть. Они сцепились так, что кажутся большим, оглушительно рычащим, катающимся по мостовой клубком черно-рыжей взъерошенной шерсти. Прохожие кричат и суетятся вокруг них.
– Воды! Притащите воды. Надо их разлить. А то загрызут друг друга.
– Откуда достать воды?
– А жаль, красивые, здоровые псы! Ничего с ними не поделаешь.
Кто-то боязливо протягивает руку, стараясь схватить одну из собак за ошейник.
– Осторожно! Разъярились псы, осатанели, отхватят руку! Их бы из рогатки, тогда пожалуй!.. Или оглоблей.
– Если бы мы были в Англии, – говорит Гумилев, – тут уже начали бы пари держать. Кто за черного, кто за рыжего. Азартный народ англичане.
Гумилев выпрямляется и тем же шагом идет прямо на грызущихся собак.
– А я готов пари держать, что псиный бой кончится вничью.
– Николай Степанович! – Я не успеваю удержать его за полу дохи. – Ради бога, не трогайте их!
Он властным жестом раздвигает прохожих, и они расступаются перед ним, – и вдруг он, не останавливаясь, а продолжая спокойно идти, со всех сил бьет ногой в кружащихся на снегу, сцепившихся мертвой хваткой собак.
Мгновенье – и собаки, расцепившись, отскакивают друг от друга и с воем стремглав, поджав хвосты, бросаются в разные стороны.
И вот их уже не видно.
А Гумилев так же спокойно, не удостаивая вниманием всеобщее одобрение прохожих, возвращается ко мне.
– Этому приему я научился еще у себя в имении. У нас там злющие псы овчарки. Надо только правильно удар рассчитать, – говорит он с напускным равнодушием, но я вижу, что он очень горд одержанной победой. Будто он разнял дерущихся львов, рискуя жизнью.
– Я так испугалась. Ведь они могли вас разорвать на куски, вы просто герой, Николай Степанович!
Он снисходительно улыбается мне:
– Ну уж и герой!.. Скажете тоже…
В тот вечер Гумилев позвонил мне по телефону, предупреждая меня, что, если я ничем не занята, он зайдет ко мне через час.
Я ничем не была занята, но если бы у меня не было ни минуты свободной, я все равно ответила бы:
– Конечно приходите! Я страшно рада.
Гумилев очень редко пользовался телефоном, и то, что он позвонил мне, меня действительно страшно обрадовало. Я не видела его несколько дней. Он уезжал в Бежецк к матери и жене и только сегодня вернулся.
Я ради такого исключительного случая решила затопить камин в кабинете. Обыкновенно у нас топилась только «буржуйка» в столовой. У Гумилева камина не было, а ему очень нравилось сидеть на медвежьей шкуре, глядя в огонь камина.
– До чего приятно, – говорил он, жмурясь от удовольствия, – будто меня шоколадным тортом угощают.
Я заняла у наших соседей четыре полена, с обещанием отдать шесть поленьев на будущей неделе. Ростовщические условия, но я согласилась на них.
Гумилев пришел вовремя. Он всегда был очень точен и ненавидел опаздывать.
– Пунктуальность – вежливость королей и, значит, поэтов, ведь поэты – короли жизни, – объяснял он, снимая свою оленью доху и ушастую шапку, известную всему Петербургу.
В те дни одевались самым невероятным образом. Поэт Пяст, например, всю зиму носил канотье и светлые клетчатые брюки, но все же гумилевский зимний наряд бил все рекорды оригинальности.
Мы уселись в кабинете перед камином. Он очень доволен своей поездкой и рассказывает мне о ней.
– Как быстро растут дети. Леночка уже большая девочка, бегает, шумит и капризничает. Она и Левушка как две капли воды похожи на меня. Они оба разноглазые.
«Разноглазые», то есть косые. Меня это скорее огорчало. Особенно Леночка. Бедная Леночка! А ее мать такая хорошенькая.
– Левушка очень милый и умный мальчик, а Леночка капризна. Знаете, мне иногда трудно поверить, что это мои дети, что я их отец. Отец – как-то совсем неприложимо ко мне. Совсем не подходит. Я хотел бы вернуться в детство.
Peut-on jamais guérir de son enfance?[7]
Как это правильно. Мне, слава богу, не удалось «guérir de mon enfance».
Он поправляет дрова в камине, хотя они сухие и хорошо горят. Но ему всегда хочется, чтобы пламя было еще ярче и дрова еще скорее сгорали. Он говорит, задумчиво глядя в огонь:
– Ничего так не помогает писать стихи, как воспоминания детства. Когда я нахожусь в особенно творческом состоянии, как теперь, я живу будто двойной жизнью: наполовину здесь, в сегодняшнем дне, наполовину там, в прошлом, в детстве. В особенности ночью.
Во сне – не странно ли – я постоянно вижу себя ребенком. И утром, в те короткие таинственные минуты между сном и пробуждением, когда сознание плавает в каком-то сиянии, я чувствую, что сейчас, сейчас в моих ушах зазвучат строчки новых стихов. Но, конечно, иногда это предчувствие обманывает. И сколько ни бьешься, ничего не выходит.
И все же это ощущение, если его только уметь сохранить, помогает потом весь день. Легче работать и веселее дышать.
Хорошо тоже вспоминать вслух свое детство. Тогда переживаешь его острее от желания заставить другого почувствовать то же, что чувствую я. Но это редко удается. Трудно найти настоящего слушателя, способного действительно заинтересоваться чужим детством. Сейчас же начнутся бесконечные банальные рассказы. – Он поворачивается ко мне. – А вот мне Бог послал ваши уши, – добавляет он полунасмешливо. – Всегда готовые меня слушать уши. Это очень приятно. Ведь все хотят говорить не «обо мне и о тебе», как полагается в идеальной беседе, а «обо мне и о себе». Слушать никто никого не желает. За уши я вас больше всего и ценю. За хорошие уши, умеющие слушать.
Да, я умела слушать. Не только слушать, но и переживать вместе с ним его воспоминания. И запоминать их навсегда.
Он подбрасывает новое полено в камин, последнее полено. Но в моем «дровяном запасе» еще сломанный стул и два ящика. Следовательно, можно не жалеть о полене.
– Меня очень баловали в детстве, – продолжает Гумилев. – Больше, чем моего старшего брата.
Он был здоровый, красивый, обыкновенный мальчик, а я – слабый и хворый. Ну конечно, моя мать жила в вечном страхе за меня и любила меня фантастически, так,
- Как любит только мать
- И лишь больных детей.
И я любил ее больше всего на свете. Я всячески старался ей угодить. Я хотел, чтобы она гордилась мной.
Он мечтательно улыбается, снова глядя в огонь, и продолжает:
– Это было летом в деревне. Мне было шесть лет. Моя мать часто рассказывала мне о своих поездках за границу, об Италии. Особенно о музеях, о картинах и статуях. Мне казалось, что она скучает по музеям.
И вот в одно июльское утро я вбежал к ней в спальню очень рано. Она сидела перед туалетом и расчесывала свои длинные волосы. Я очень любил присутствовать при том, как она причесывается и одевается с помощью горничной Вари. Тогда ведь это было длительное и сложное дело – корсет, накрахмаленные нижние юбки, платье, застегивающееся на спине бесконечными маленькими пуговками. Но в то утро я нетерпеливо стал дергать ее за руку: «Идем, идем, мама, в сад. Я приготовил себе сюрприз».
Я был так взволнован, что она уступила и как была, в пеньюаре, в ночных туфельках, с распущенными волосами, согласилась идти со мной.
В саду я взял ее за руку:
– Закрой глаза, мама, и не открывай, пока я не скажу. Я поведу тебя.
И она, смеясь, дала мне вести себя по дорожке. Я был так горд. Я задыхался от радости.
– Вот, мама, смотри. Это я для тебя! Это музей! Твой музей!
Она открыла глаза и увидела: на клумбе между цветов понатыканы шесты, на них извивались лягушки и ящерицы. Четыре лягушки, две жабы и две ящерицы. Поймать их мне стоило большого труда.
– Это для тебя, мама. Я сам все сделал! Для тебя!
Она с минуту молча смотрела, будто не понимая, потом вырвала свою руку из моей.
– Как ты мог! Какой ужас! – И, не оглядываясь, побежала в дом.
Я бежал за ней, совершенно сбитый с толку. Я ждал восторженных похвал и благодарности, а она кричала:
– Скверный, злой, жестокий мальчишка! Не хочу тебя видеть!
Добежав до крыльца, я остановился и заплакал. Она не поняла. Она не сумела оценить моего первого творчества. Я чувствовал себя оскорбленным. Раз она не любит меня, не хочет меня больше видеть, я уйду от нее. Навсегда. И я повернул обратно, прошел весь сад, вышел на дорогу и пошел по ней в лес. Я знал, что в лесу живут разбойники, и тут же решил стать и сам разбойником, а может быть даже – у меня всегда были гордые мечты, – стать атаманом разбойников.
Но до леса мне дойти не удалось – он был в пяти верстах. Меня очень скоро хватились, и за мной уже неслась погоня. Брат и двое дворовых верхом, мама в коляске.
Пришлось вернуться.
Нет, меня не бранили и не наказали за попытку бегства из дома. Напротив даже. Возвращение блудного сына было, как и полагается, пышно отпраздновано – мать подарила мне книжку с картинками и игрушечный лук со стрелами, а к обеду подали мои любимые вареники с вишнями. Но моей разбойничьей карьере был положен конец. А жаль! Из меня мог бы выйти лихой атаман разбойников.
Он смеется, и я тоже смеюсь. Я никак не могу представить себе Гумилева разбойничьим атаманом. Впрочем, как и гусаром Смерти, или африканским охотником на львов. Не могу. У него для этого на редкость неподходящая наружность. Он весь насквозь штатский, кабинетный, книжный. Я не понимаю, как он умудрился наперекор своей природе стать охотником и воином.
А он, внимательно глядя мне в лицо, уже отвечает мне, будто читает мои мысли:
– Я с детских лет был болезненно самолюбив. Я мучился и злился, когда брат перегонял меня в беге или лучше меня лазил по деревьям. Я хотел все делать лучше других, всегда быть первым. Во всем. Мне это, при моей слабости, было нелегко. И все-таки я ухитрялся забираться на самую верхушку ели, на что ни брат, ни дворовые мальчишки не решались. Я был очень смелый. Смелость заменяла мне силу и ловкость.
Но учился я скверно. Я почему-то «не помещал своего самолюбия в ученье». Я даже удивляюсь, как мне удалось окончить гимназию. Я ничего не смыслю в математике, да и писать грамотно не мог научиться. И горжусь этим. Своими недостатками следует гордиться. Это их превращает в достоинства.
Я недоумеваю. Я спрашиваю:
– Но какое же достоинство безграмотность?
Он нетерпеливо дергает плечом.
– Ах, всегда вы со своей плоской, трехмерной логикой. Моя безграмотность совсем особая. Ведь я прочел тысячи и тысячи книг, тут и попугай стал бы грамотным. Моя безграмотность свидетельствует о моем кретинизме. А мой кретинизм свидетельствует о моей гениальности. Поняли? Усвоили? Ну, ну, не хохлитесь! Не морщите нос! Я шучу.
Он, конечно, шутил. Впрочем, только наполовину. В свою гениальность он верил. И нисколько не стеснялся своей безграмотности. Писал он действительно непостижимо неправильно. Когда ему указывали на его ошибки, он только удивленно качал головой:
– Кто его знает! Вы, пожалуй, правы. Пусть будет по-вашему.
Мне давно хотелось узнать, когда он начал сочинять стихи. Мне казалось, что непременно совсем маленьким, еще до времен музея.
– Нет, – говорит он, – гораздо позже музея. Как ни странно, я, несмотря на то что создал себе свой особый мир, в котором
- …Каждый куст придорожный
- Мне шептал: поиграй со мной,
- Обойди меня осторожно
- И узнаешь, кто я такой, —
несмотря на мое поэтическое восприятие жизни и мира, о стихах не помышлял.
Зато с какой невероятной силой обрушились они на меня и завладели мною в четырнадцать лет. Мы переселились в Тифлис. И там, когда я проезжал впервые по Военно-Грузинской дороге, это и началось. Кавказ просто ошеломил меня. На меня вдруг нахлынули стихи Пушкина и Лермонтова о Кавказе. Я их знал и любил уже прежде. Но только здесь я почувствовал их магию. Я стал бредить ими и с утра до вечера, и с вечера до утра твердил их. Там же, в Тифлисе, я впервые напечатал в «Тифлисском листке» свои стихи. Такой уж я был решительный и напористый. Читать их вам не хочу. Верьте на слово, что дрянь. Да еще и демоническая. Не хочу. И не буду. Не приставайте.
Он отмахивается от меня рукой.
– Но запомните: с опубликованием своих шедевров спешить не надо. Как я жалел, что выпустил «Путь конквистадоров». Не сразу, конечно. Жалел потом. Скупал его и жег в печке. А все-таки, к моему стыду, этот «Путь конквистадоров» еще и сейчас где-то сохранился. Ничего не поделаешь. Не надо торопиться. И все же много стихов «Романтических цветов», уже настоящей книги, было написано еще в гимназии. Как, например:
- Мой старый друг, мой верный Дьявол,
- Пропел мне песенку одну…
Этот «старый друг» явился результатом двойки, полученной мною на уроке алгебры. И утешил меня.
Но это было уже в Царском, в последних классах.
В Тифлисе мы провели два года. Там-то я впервые и почувствовал себя тем самым поэтом, который
- верил ветрам юга,
- В каждом шуме слышал вздохи лир,
- Говорил, что жизнь его подруга,
- Коврик под его ногами – мир.
Гумилев любил играть во всевозможные, часто им самим тут же выдуманные игры. Особенно в «театр для себя».
Осенью 1919 года, накануне второй годовщины Октябрьской революции – ее готовились пышно отпраздновать, – он с таинственным видом сказал мне:
– Завтра и мы с вами попразднуем и повеселимся. Не спрашивайте как. Увидите. Наденьте только ваше рыжее, клетчатое пальто и рыжую замшевую шапочку.
Мое рыжее, клетчатое пальто – я им впоследствии поменяюсь в стихах со статуей в Летнем саду:
- А она уходит, напевая,
- В рыжем, клетчатом пальто моем —
мое клетчатое пальто, привезенное мне во время войны из Лондона. Оно не очень теплое, а в Петербурге в конце октября холодно, и я уже ходила в шубке.
Но Гумилев настаивал:
– Наденьте непременно клетчатое пальто. Я зайду за вами в три часа, завтра.
Он пришел ровно в три. Хотя часов у него не было. Не только на руке или в кармане, но даже дома.
Его часы остановились еще летом. Часовщик за починку запросил несуразно дорого. Купить новые оказалось невозможным. С тех пор Гумилев научился определять время без часов, «шестым чувством-бис» – чувством времени.
– У гениев и кретинов чувство времени безошибочно. А я, как известно, помесь гения с кретином. Нет ничего удивительного, что за три месяца я ни разу никуда не опоздал. Все же, – рассказывал он мне как-то, – я сегодня утром так увлекся, переводя старинные французские песенки, что забыл обо всем, даже и о том, что должен быть на заседании «Всемирной литературы» на Моховой. Выхожу на улицу, спрашиваю первого встретившегося прохожего: «Простите, который час?» Тот в ответ развел недоумевающе руками: «А кто его знает?» – и побрел дальше.
Вот если бы у меня была кошка, я бы, как китайцы, по ее зрачкам определял время, до полминуты. Но заведешь кошку – она всех мышей переловит. А я их берегу на случай настоящего голода, про черный день. Михаил Леонидович Лозинский даже пустил слух, что я не только прикармливаю их, но и предательски здороваюсь со старшей мышью за лапку. Вздор. Не верьте. Даже по отношению к мыши я предателем быть не могу…
Я открыла Гумилеву сама – и ахнула. Он стоял в дверях в длинном, почти до пят, макферлане-крылатке, с зонтиком под мышкой. На шее – шотландский шарф. На голове большая кепка, похожая на блин с козырьком. Полевой бинокль через плечо на ремне.
– Hallo! – приветствовал он меня, – Let’s go![8] – И он со смехом объяснил мне, что мы с ним англичане. Он – приехавший на Октябрьские торжества делегат Labor Party[9], а я его секретарша.
Критически оглядев меня, он кивнул:
– Отлично. Настоящая english girl in her teens[10], и даже волосы у вас английские – «оберн». Ведь и я настоящий англича-нин, а?
Не знаю, как я, но он на англичанина совсем не был похож. Разве что на опереточного, прошлого века. И где только он откопал свой допотопный макферлан и эту нелепую кепку? Но он сам был так доволен своим видом, что я согласилась, сдерживая смех:
– Стопроцентный английский делегат.
– Помните, мы не говорим по-русски. Не понимаем ни слова. И в Петербурге впервые.
Мы вышли на Невский и там ходили в толпе, обмениваясь впечатлениями, и громко спрашивали, указывая пальцем то на Гостиный двор, то на Аничков дворец, то на Казанский собор:
– What is that?[11] – После многократно повторенного ответа Гумилев снимал с головы свой блин и невозмутимо флегматически заявлял:
– I see. Thank you ever so much[12]: Коза-Сабо (Казанский собор).
И хотя мы и видом, и поведением напоминали скорее ряженых, чем англичан, до нас все время доносилось:
– Англичане! Смотри, английские делегаты!
Я, не в силах сдержаться, громко смеялась. Гумилев же сохранял англосаксонскую выдержку.
Мы проделали все, что полагалось: смотрели на процессии, аплодировали и даже подпевали. Оба мы были абсолютно безголосы и лишены слуха. Но нам, как гостям-англичанам, все было позволено. Стоявший рядом с нами красноармеец с явным удовольствием и даже умилением слушал, как Гумилев выводил глухим, уходящим в нёбо голосом тут же сымпровизированный им перевод «Интернационала». Я же, между двумя приступами смеха, душившего меня, только выкрикивала какое-то вау-лау, лау-вау-ююю!
Окончив, к общему удовольствию, пение, мы вместе с толпой двинулись дальше. Гумилев стал спрашивать «The way to Wassilo Ostow»[13], повторяя настойчиво «уосило осто». Но никто, несмотря на явное желание помочь иностранцу, не мог понять, чего он добивается. Гумилев благодарил, улыбался, азартно повторяя: – Wonderfull! О, yes! Your great Lenine! Karl Marx! О, yes![14] – и пожимал тянувшиеся к нему со всех сторон руки.
Какой-то особенно любезный товарищ вдруг громко заявил:
– Должно, от своих отбились. Заплутались. Надо их на трибуны доставить. Где милиционер?
Гумилев горячо – Thank you. Thank you![15] – поблагодарил его и, подхватив меня под руку, бросился со мной назад, в обратную сторону, будто увидел в толпе англичанина.
Забежав за угол, мы остановились перевести дух. Тут было тихо и пусто.
– Ох, даже жарко стало. – Гумилев весь трясся от смеха. – Хороши бы мы были на трибуне! Представляете себе? Еще сняли бы нас! И завтра наши портреты появились бы в «Красной газете»! И никто, решительно никто нас бы не узнал. Ну, нечего время терять, идем!
И мы снова вышли на Невский и смешались с толпой. Так мы проходили до самого вечера, в полном восторге.
Когда в толпе начались пляски, мы, хотя и с большим трудом, в особенности я, удержались и не пустились в пляс. Гумилев, для большей убедительности подняв зонтик к звездному небу, заявил:
– An Englishman does not dance in the street. It is shocking![16] – А я, ослабев от смеха, в изнеможении прислонилась к стене:
– Довольно. Больше не могу. Ведите меня домой!..
На следующий день в Студии Гумилев рассказал Лозинскому об «английских делегатах». Но Лозинский отнесся к нашему развлечению очень неодобрительно:
– С огнем играешь, Николай Степанович. А что было бы, если бы вас забрали в милицию?
– Ничего не было бы, – перебил его Гумилев. – Никто тронуть меня не посмеет. Я слишком известен.
Лозинский покачал головой:
– Я совсем не уверен, что не посмеют, если захотят. Не надо «им» подавать повода. Ты слишком легкомыслен.
– А ты, Михаил Леонидович, слишком серьезен и благоразумен. Мне скучно без развлечений.
Лозинский не сдавался:
– Никто не мешает тебе развлекаться, чем и как хочешь. Только не задевай «их». Оставь «их» в покое!
Гумилев достал свой большой черепаховый портсигар и постучал папиросой по крышке. Как всегда, когда был раздражен.
– Ты недорезанный буржуй, вот ты кто, Михаил Леонидович. Нам друг друга не понять. Тебе бы только покой и возможность работать у себя в кабинете. А мне необходимо vivre dangereusement[17]. Оттого мне вчера и весело было, что все-таки чуточку опасно – в этом ты прав. Без опасности и риска для меня ни веселья, ни даже жизни нет. Но тебе этого не понять…
Дома, когда я проболталась о том, как мы веселились на Октябрьских торжествах, мне сильно попало. Отец хотел даже «объясниться по этому поводу» с Гумилевым.
– Ты отдаешь себе отчет, что могла очутиться на Шпалерной с обвинением в шпионаже? – горячился отец. – Никто не поверил бы, что нашлись идиоты, для забавы разыгрывающие англичан-делегатов!
Нет, я не «отдавала себе отчета». Мне казалось, что перепуганные, затравленные «буржуи» боятся даже собственной тени и делают из мухи слона. И я, защищаясь, повторяла:
– Если бы ты знал, как весело было. И как мы смеялись.
– А если бы тебя и твоего Гумилева поволокли расстреливать, вы бы тоже смеялись и веселились?
На это отвечать было нечего.
Но в те дни я не верила не только в возможность быть расстрелянной, но и просто в опасность. «Кай смертен», и с ним, конечно, случаются всякие неприятности. Но меня это не касается. У меня было особое чувство полной сохранности, убеждение, что со мной ничего дурного не случится.
Зима 1919/20 года. Очень холодная, очень голодная, очень черная зима.
Я каждый день возвращаюсь поздно вечером из Института живого слова одна. По совершенно безлюдным, темным – «хоть глаз выколи» – страшным улицам. Грабежи стали бытовым явлением. С наступлением сумерек грабили всюду. В полной тишине, в полной темноте иногда доносились шаги шедшего впереди. Я старалась приблизиться к ним. Мне и в голову не приходило, что сейчас может вспыхнуть свет электрического фонарика и раздастся грозное: «Скидывай шубу!» – мою котиковую шубку с горностаевым воротничком. Я ее очень любила. Не как вещь, а как живое существо, и называла ее Мурзик.
Мурзик нравился и Гумилеву. Иногда утром, зайдя неожиданно ко мне, Гумилев предлагал:
– А не прогулять ли нам Мурзика по снегу? Ему ведь скучно на вешалке висеть.
Я всегда с радостью соглашалась.
Проходя мимо церкви, Гумилев всегда останавливался, снимал свою оленью ушастую шапку и истово осенял себя широким крестным знамением, «на страх врагам». Именно «осенял себя крестным знамением», а не просто крестился.
Прохожие смотрели на него с удивлением. Кое-кто шарахался в сторону. Кое-кто смеялся. Зрелище действительно было удивительное. Гумилев, длинный, узкоплечий, в широкой дохе с белым рисунком по подолу, развевающемуся как юбка вокруг его тонких ног, без шапки на морозе, перед церковью, мог казаться не только странным, но и смешным.
Но чтобы в те дни решиться так резко подчеркивать свою приверженность к гонимому «культу», надо было обладать гражданским мужеством.
Гражданского мужества у Гумилева было больше, чем требуется. Не меньше, чем легкомыслия.
Однажды на вечере поэзии у балтфлотцев, читая свои африканские стихи, он особенно громко и отчетливо проскандировал:
- Я бельгийский ему подарил пистолет
- И портрет моего государя.
По залу прокатился протестующий ропот. Несколько матросов вскочило. Гумилев продолжал читать спокойно и громко, будто не замечая, не удостаивая вниманием возмущенных слушателей.
Кончив стихотворение, он скрестил руки на груди и спокойно обвел зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов.
Гумилев ждал и смотрел на матросов, матросы смотрели на него.
И аплодисменты вдруг прорвались, загремели, загрохотали.
Всем стало ясно: Гумилев победил. Так ему здесь еще никогда не аплодировали.
– А была минута, мне даже страшно стало, – рассказывал он, возвращаясь со мной с вечера. – Ведь мог же какой-нибудь товарищ-матрос, «краса и гордость красного флота», вынуть свой небельгийский пистолет и пальнуть в меня, как палил в «портрет моего государя». И заметьте, без всяких для себя неприятных последствий. В революционном порыве, так сказать.
Я сидела в первом ряду между двумя балтфлотцами. И так испугалась, что у меня, несмотря на жару в зале, похолодели ноги и руки. Но я не думала, что и Гумилеву было страшно.
– И даже очень страшно, – подтвердил Гумилев. – А как же иначе? Только болван не видит опасности и не боится ее. Храбрость и бесстрашие не синонимы. Нельзя не бояться того, что страшно. Но необходимо уметь преодолеть страх, а главное, не показывать вида, что боишься. Этим я сегодня и подчинил их себе. И до чего приятно. Будто я в Африке на львов поохотился. Давно я так легко и приятно не чувствовал себя.
Да, Гумилев был доволен. Но по городу пополз, как дым, прибитый ветром «слух» о «контрреволюционном выступлении Гумилева». Встречаясь на улице, два гражданина из «недорезанных» шептали друг другу, пугливо оглядываясь:
– Слыхали? Гумилев-то! Так и заявил матросне с эстрады: «Я монархист, верен своему государю и ношу на сердце его портрет». Какой молодец, хоть и поэт!
Слух этот, возможно, дошел и до ушей, совсем не предназначавшихся для них. Вывод: Гумилев монархист и активный контрреволюционер, – был, возможно, сделан задолго до ареста Гумилева.
…Шесть часов вечера. Падает снег. Я иду домой с родственных именин. По Бассейной.
Я сегодня ни в Студии, ни в «Живом слове» не была. И не видела Гумилева.
Меня ждут дома. Но я сворачиваю на Преображенскую. Ничего, опоздаю к обеду – к этому у меня уже привыкли.
Я поднимаюсь с черного хода. Парадный недавно заколотили – для тепла и за ненадобностью. «Нет теперь господ, чтобы по парадным шляться!»
Дверь кухни открывает Паша, старая, мрачная домработница, неизвестно, как и почему служащая у Гумилева. То ли Аня – вторая жена Гумилева, дочь профессора Энгельгардта – оставила ее мужу в наследство, уезжая с новорожденной дочкой в Бежецк, то ли сам Гумилев, угнетенный холостым хозяйством, предложил мешочнице, продававшей на углу яблоки из-под полы:
– Хотите у меня работать? Сыты будете.
Как бы там ни было, но Паша верой и правдой служила Гумилеву, к их обоюдному удовольствию. Исчезла она – и опять по неизвестной мне причине, не то умерла, не то ей снова захотелось мешочничать – весной 1921 года.
Сейчас она еще здесь и встречает меня мрачно-фамильярным:
– Входите. Дома!
Эта Паша, несмотря на свою мрачность, была не лишена стремления к прекрасному. Иногда, когда Гумилев читал мне стихи, дверь комнаты, где мы сидели, вдруг открывалась толчком ноги и на пороге появлялась Паша.
Гумилев недовольно прерывал чтение:
– Что вам, Паша?
– А ничего, Николай Степанович, – мрачно отвечала Паша, уютно прислонившись к стенке, спрятав руки под передник. – Послушать пришла стишки. Только и всего.
И Гумилев, благосклонно кивнув ей, продолжал чтение, будто ее и не было в комнате. Как-то он все же спросил ее:
– Нравится вам, Паша?
Она застыдилась, опустила голову и прикрыла рот рукой:
– До чего уж нравится! Непонятно и чувствительно. Совсем как раньше в церкви бывало.
Ответ этот поразил Гумилева:
– Удивительно, как простой народ чувствует связь поэзии с религией! А я и не догадывался.
Впустив меня, Паша возвращается к примусу, а я, стряхнув снег с шубки и с ног, иду через холодную столовую.
Никогда я не входила к Гумилеву без волнения и робости. Я стучу в дверь.
– Войдите!
И я вхожу.
- Низкая комната, мягкая мебель,
- Книги повсюду и теплая тишь…
Впрочем, я лучше приведу полностью все это стихотворение, написанное мною под Рождество 1920 года:
- Белым полем шла я ночью,
- И странник шел со мной.
- Он тихо сказал, качая
- Белоснежной головой:
- – На земле и на небе радость —
- Сегодня Рождество!
- Ты грустна оттого, что не знаешь, —
- Сейчас ты увидишь его.
- И поэт прошел предо мною,
- Сердцу стало вдруг горячо.
- И тогда сказал мне странник:
- – Через правое взгляни плечо.
- Я взглянула – он был печальный,
- Добрый был он, как в стихах своих,
- И в небе запели звезды,
- И снежный ветер затих.
- И опять сказал мне странник:
- – Через левое плечо взгляни.
- Я взглянула.
- Поднялся ветер,
- И в небе погасли огни.
- А он стал злой и веселый,
- К нему подползла змея,
- Под тонкой рукой блеснула
- Пятнистая чешуя.
- Год прошел и принес с собою
- Много добра и много зла,
- И в дом пять, по Преображенской,
- Я походкой робкой вошла:
- Низкая комната. Мягкая мебель,
- Книги повсюду и теплая тишь.
- Вот сейчас выползет черепаха,
- Пролетит летучая мышь…
- Но все спокойно и просто,
- Только совсем особенный свет:
- У окна папиросу курит
- Не злой и не добрый поэт.
Да, все совсем так, как в моем стихотворении. Все правильно – и разбросанные повсюду книги, и теплая тишь, и сказочное ощущение, что «вот сейчас выползет черепаха, пролетит летучая мышь», и «особенный свет», таинственно освещающий курящего Гумилева. Свет горящей печки. Ведь Гумилев курит не у окна, а у печки.
Гумилев встает и церемонно здоровается со мной, прежде чем помочь мне снять шубку. Он совсем не удивлен моим неожиданным приходом, хотя вчера было условлено, что мы сегодня не увидимся.
– Я вас ждал. Я знал, что вы сейчас придете.
– Ждали? Но ведь я совсем не собиралась идти к вам. Я шла домой.
Гумилев пожимает плечами.
– Шли домой, а пришли ко мне. Оттого, что мне очень хотелось вас сейчас увидеть. Я сидел здесь у печки и заклинал огонь и звал вас. И вот – вы пришли. Против своей воли пришли.
Я не знаю, шутит он или говорит серьезно. Но я стараюсь попасть ему в тон:
– Должно быть, я действительно почувствовала. И потому пришла к вам.
Он пододвигает зеленое креслице к печке.
– Мне сегодня ужасно тяжело с утра. Беспричинно тяжело, – искренно и просто признается он. Даже голос его звучит иначе, чем всегда, тише и мягче. – Как я одинок, господи! Даже поверить трудно.
– Одиноки? – недоверчиво переспрашиваю я. – Но ведь у вас столько друзей и поклонников. И жена, дочь и сын, и брат. И мать.
Он нетерпеливо машет рукой.
– Ах, все это не то! Это все декорация. Неужели вы не понимаете? У меня нет никого на свете. Ни одного друга. Друзей вообще не существует. До чего я одинок! Даже поверить нельзя. Я всегда сам по себе. Всегда «я», никогда ни с кем не «мы». И до чего это тяжело.
Он вздыхает, глядя в огонь.
Я понимаю, что ему очень тяжело, очень грустно. Я молчу, не зная, чем ему помочь. И можно ли вообще ему помочь? Что ему сказать? Что?
Он поворачивает ко мне лицо, освещенное снизу пламенем печки. Один из его косящих глаз продолжает смотреть в огонь, другой выжидательно останавливается на мне.
Я, как всегда, чувствую себя неловко под его раздвоенным взглядом. Я растерянно моргаю и молчу. Все утешения кажутся мне такими ничтожными и глупыми.
Он продолжает молчать, и мне становится невыносимо его молчание. И этот взгляд. Мне хочется вскочить, схватить его за руку и вместе с ним побежать по снежным улицам в Дом литераторов.
Там светло, шумно и многолюдно. Там всегда можно встретить Кузмина с Юрочкой Юркуном. И мало ли еще кого?
Но я молчу. И Гумилев, глядя на меня, вдруг неожиданно улыбается. Конечно, он смеется надо мной. У меня, должно быть, от смущения и незнания, что сказать, очень комичный вид. Но я отвечаю улыбкой на его улыбку.
– Вот мне и легче стало, – говорит он повеселевшим голосом. – Просто от вашего присутствия. Посмотрел на ваш бант. Такая вы забавная, в особенности когда молчите. Как хорошо, что вы пришли.
Да, очень хорошо. В этот снежный зимний вечер он не говорил, как обычно, о поэзии, поэтах и стихах, а только о себе, о своем одиночестве, о смерти.
– Все мы страшно, абсолютно одиноки. Каждый замурован в себе. Стучи не стучи, кричи не кричи, никто не услышит. Но ничто не спасает от одиночества, ни влюбленность, ни даже стихи. А я к тому же живу совсем один. И как это тягостно! Знаете, я недавно смотрел на кирпичную стену и завидовал кирпичикам. Лежат так тесно прижавшись друг к другу, все вместе, все одинаковые. Им хорошо. А я всюду один, сам по себе. Даже в Бежецке. В первый же день мне становится скучно. Я чувствую себя не на своем месте даже в своей семье. Мне хочется скорее уехать, хотя я к ним всем очень привязан и очень люблю свою мать. – Он разводит руками. – А вот поймите, я там чувствую себя еще более одиноким, чем здесь.
Он поправляет игрушечной саблей горящие в печке поленья и продолжает:
– Я в последнее время постоянно думаю о смерти. Нет, не постоянно, но часто. Особенно по ночам. Всякая человеческая жизнь, даже самая удачная, самая счастливая, – трагична. Ведь она неизбежно кончается смертью. Ведь как ни ловчись, как ни хитри, а умереть придется. Все мы приговорены от рождения к смертной казни. Смертники. Ждем – вот постучат на заре в дверь и поведут вешать. Вешать, гильотинировать или сажать на электрический стул. Как кого. Я, конечно, самонадеянно мечтаю, что
- Умру я не на постели
- При нотариусе и враче…
Или что меня убьют на войне. Но ведь это, в сущности, все та же смертная казнь. Ее не избежать. Единственное равенство людей – равенство перед смертью. Очень банальная мысль, а меня все-таки беспокоит. И не только то, что я когда-нибудь, через много-много лет, умру, а и то, что будет потом, после смерти. И будет ли вообще что-нибудь? Или все кончается здесь на земле: «Верю, Господи, верю, помоги моему неверию…»
Он на минуту замолкает, глядя на пляшущее в печке пламя. И вдруг, повернувшись ко мне, неожиданно предлагает:
– Давайте пообещаем друг другу, поклянемся, что тот, кто первый умрет, явится другому и все, все расскажет, что там.
Он протягивает мне руку, и я, не колеблясь, кладу в нее свою.
– Повторяйте за мной, – говорит он медленно и торжественно. – Клянусь явиться вам после смерти и все рассказать, где бы и когда бы я ни умерла. Клянусь.
Я послушно повторяю за ним:
– Клянусь!
Он, не выпуская моей руки, продолжает еще торжественнее:
– И я клянусь, где бы и когда бы я ни умер, явиться вам после смерти и все рассказать. Я никогда не забуду этой клятвы, и вы никогда не забывайте ее. Даже через пятьдесят лет. Даже если мы давно перестали бы встречаться. Помните, мы связаны клятвой.
Он выпускает мою руку, и я прячу ее в карман юбки. Мне становится очень неуютно. Что я наделала? Зачем я поклялась? Ведь я с детства до ужаса, до дрожи боюсь привидений и всяких сношений с загробным миром.
– Естественно и логично, что я умру первый. Но знать ничего нельзя. Молодость, к сожалению, не защищает от смерти, – серьезно продолжает он и вдруг перебивает себя: – Что это вы как воробей нахохлились? И отчего вы такая бледная? Неужели испугались?
Я энергично трясу головой, стараясь улыбнуться:
– Нет. Совсем нет.
– Ну и слава богу! Пугаться нечего. Ведь и я, и вы доживем до самой глубокой старости. Я меньше чем на девяносто лет не согласен. А вы, насколько мне известно, хотите дожить до ста. Так ведь?
– До ста с хвостиком, – поправляю я. – К тому времени, наверно, изобретут эликсир долголетия.
– Непременно изобретут, – соглашается он. – Как мне нравится в вас это желание жить как можно дольше! Ведь обыкновенно молодые девушки заявляют: «Я хочу умереть в двадцать пять лет. Дальше жить неинтересно». А вы – сто с хвостиком! – Он смеется. – Молодец! Ведь чем дольше живешь, тем интереснее. И, я уверен, самое лучшее время – старость. Только в старости и в детстве можно быть совсем, абсолютно счастливым. А теперь хорошо бы чаю попить. – Он встает. – Пойдем скажем об этом Паше.
Мы идем на кухню. Но кухня пуста. Паши нет.
– Должно быть, пошла хвоститься за хлебом в кооператив, – говорит Гумилев. – Ничего, я хитрый, как муха, и сам могу приготовить чай.
Он наливает воду в большой алюминиевый чайник, снимает кастрюльку с примуса и ставит на него чайник. Все это он проделывает с видом фокусника, вынимающего живого кролика из своего уха.
Мы садимся за кухонный стол и ждем, пока вскипит вода. Ждем долго.
– Удивительно некипкая, глупая вода, – замечает Гумилев. – Я бы на ее месте давно вскипел.
И как бы в ответ крышка чайника начинает громко хлопать.
– Вот видите, – торжествует Гумилев, – обиделась и сразу закипела. Я умею с ней обращаться. Вода, как женщина, – надо ее обидеть, чтобы она вскипела. А то бы еще час ждали.
Мы возвращаемся к печке пить чай.
Гумилев достает из шкафа кулек с «академическим изюмом».
– Я сегодня получил академический паек. И сам привез его на саночках, – рассказывает он. – Запрягся в саночки и в своей оленьей дохе чувствовал себя оленем, везущим драгоценный груз по тайге. Вы бы посмотрели, с какой гордостью я выступал по снегу. – И вдруг перебивает себя: – А обещание свое вы никогда не забывайте. Никогда. И я не забуду…
Но Гумилев так и не сдержал своего обещания и не являлся мне.
Только раз, через несколько дней после его расстрела, я видела сон, который хотя и отдаленно, но мог быть принят за исполнение обещания. За ответ.
Тогда же я написала стихотворение об этом сне:
- Мы прочли о смерти его.
- Плакали горько другие.
- Не сказала я ничего,
- И глаза мои были сухие.
- А ночью пришел он во сне
- Из гроба и мира иного ко мне,
- В черном старом своем пиджаке,
- С белой книгой в тонкой руке.
- И сказал мне: плакать не надо,
- Хорошо, что не плакали вы.
- В синем раю такая прохлада,
- И воздух легкий такой,
- И деревья шумят надо мной,
- Как деревья Летнего сада…
С. К. Маковский в своих воспоминаниях «На Парнасе „Серебряного века“» совершенно честно описал того Гумилева, которого видел и знал. Но до чего этот Гумилев не похож на моего!
Не только внутренне, но даже внешне. Маковский пишет, что Гумилев был блондин среднего роста, тонкий и стройный, с «неблагообразным лицом, слегка косящий, с большим мясистым носом и толстыми бледными губами».
Портрет этот относится к 1909 году.
Я же увидела Гумилева только в конце 1918-го. Но все же вряд ли он мог так измениться.
Гумилев сознавал, что сильно косит, но, как ни странно, гордился этим как особой «божьей отметиной».
– Я разноглазый. И дети мои все разноглазые. Никакого сомнения, что я их отец, – с удовлетворением повторял он.
Гумилев находил свои руки поразительно красивыми. Как и свои уши. Его уши, маленькие, плоские и хорошо поставленные, были действительно красивы. Кроме них, решительно ничего красивого в нем не было.
Он не сознавал своей «неблагообразности» и совсем не тяготился ею. Напротив, он часто говорил, что у него очень подходящая для поэта внешность.
Николай Оцуп в своей монографии о Гумилеве, прочитанной им в Сорбонне и потом напечатанной в «Опытах», вывел из некрасивости Гумилева целую теорию, объясняющую его поэтический и жизненный путь. Там же Оцуп доказывает, что «Гондла» – автобиографическое произведение и что Гумилев чувствует себя горбуном.
Все это, конечно, чистая фантазия, и я удивляюсь, как Оцуп, хорошо знавший Гумилева, мог создать такую неправдоподобную теорию.
С духовным обликом, по Маковскому, дело обстоит еще хуже. Гумилев, в его описании, какой-то простачок-недоучка, более чем недалекий, одержимый поэзией и ничем, кроме поэзии, не интересующийся.
Гумилев действительно был «одержим поэзией», но ни простачком-недоучкой, ни недалеким он не был.
Мне не раз приходилось слышать фразу: «Гумилев был самым умным человеком, которого мне довелось в жизни встретить».
К определениям «самый умный» или «самый талантливый» я всегда отношусь с недоверием.
«Самым умным» назвать Гумилева я не могу. Но был он, безусловно, очень умен, с какими-то иногда даже гениальными проблесками и, этого тоже нельзя скрыть, с провалами и непониманиями самых обыкновенных вещей и понятий.
Помню, как меня поразила его реплика, когда Мандельштам назвал одного из сотрудников «Всемирной литературы» вульгарным.
– Ты ошибаешься, Осип. Он не может быть вульгарным – он столбовой дворянин.
Я думала, что Гумилев шутит, но он убежденно добавил:
– Вульгарным может быть разночинец, а не дворянин, запомни.
Мандельштам обиженно фыркнул и покраснел. Сам он, понятно, дворянином не был.
Конечно, это могло быть только позой со стороны Гумилева, но Мандельштам насмешливо подмигнул мне и сказал, когда мы остались одни:
– Не без кретинизма ваш мэтр.
Необразованным Гумилева назвать никак нельзя было. Напротив. Он прочел огромное количество книг, и память у него была отличная.
Он знал поэзию не только европейскую, но и китайскую, японскую, индусскую и персидскую.
Неправильно также, что он ограничивался изучением одной поэзии. Он считал, что поэту необходим огромный запас знаний во всех областях – истории, философии, богословии, географии, математике, архитектуре и так далее.
Считал он также, что поэт должен тщательно и упорно развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Что надо учиться видеть звуки и слышать цвета, обладать слышащими глазами и зрячими ушами, чтобы воспринимать жизнь во всей ее полноте и богатстве.
– Большинство людей, – говорил он, – полуслепые и, как лошади, носят наглазники. Видят и различают только знакомое, привычное, что бросается в глаза, и говорят об этом привычными штампованными готовыми фразами. Три четверти красоты и богатства мира для них пропадает даром.
В своих воспоминаниях Маковский уверяет, что Гумилев не знал ни одного иностранного языка. Это не так. Французский язык он знал довольно хорошо. Правда, известный факт перевода «chat Minet»[18] не свидетельствует об этом. Непонятно, как он мог спутать chat Minet с православными Четьями минеями, которые француженка-католичка никак, конечно, читать не могла.
И все же, несмотря на злосчастного chat Minet, Гумилев свободно, хотя и с ошибками – в них он не отдавал себе отчета – говорил и писал по-французски. И читал даже стихи à livre ouvert[19] – трудных и сложных поэтов, как Heredia, Mallarmé, Rimbaud[20]– и переводил их, не задумываясь, очень точно.
С английским дело обстояло хуже, хотя Гумилев провел несколько месяцев в Англии и рассказывал мне, что на большом обеде у какого-то лорда он рассказывал о своих путешествиях по Африке.
Я сомневаюсь, чтобы гости лорда что-нибудь поняли. Выговор у него был отчаянный, но читал он довольно бегло. Немецкого языка он не знал и жалел, что не знает. Он считал его лучшим, после русского, для стихов. Он иногда заставлял меня читать ему немецкие стихи – балладу Шиллера «Der Handschuh»[21] он особенно любил. Слушал он, непременно прислонясь к стене, сложив руки на животе – изображая прислугу Пашу, и, подражая ей, говорил, вздыхая: «Красиво! Непонятно и чувствительно! Если бы не лень, обучился бы».
Но думаю, что обучиться ему мешала не только лень, но и отсутствие способностей к языкам, как и ко многому другому.
Гумилев очень любил сладкое. Он мог «ликвидировать» полфунта изюма или банку меда за один вечер, весь месячный академический паек.
– Я не только лакомка. Я едок-объедало, – с гордостью говорил он. – Я могу один съесть целого гуся.
Но это явное хвастовство. Гуся он в те дни никак съесть не мог – по простой причине, что гусей тогда и в помине не было.
Аппетит у него действительно был большой. Когда через год открылись «нелегальные» столовые, мне часто приходилось присутствовать при его «пантагрюэлевских трапезах».
– Приглашаю вас, – говорил мне Гумилев, выходя из Студии, – на пантагрюэлевскую трапезу, – и мы шли в маленькую темную квартиру на Фурштадтской, ничем не напоминавшую ресторан.
В двух комнатах, спальне и столовой, стояли столы, покрытые пестрой клеенкой. Вид широкой кровати со взбитыми подушками, по-видимому, не портил аппетита посетителей – в спальне обедающих бывало больше, чем в соседней столовой.
Гумилев обыкновенно усаживался в столовой, в конце стола.
Усевшись, он долго и основательно изучал меню, написанное на клочке оберточной бумаги, потом, подозвав хозяйку, заказывал ей:
– Борщ. Пирог с капустой. Свиную отбивную в сухарях и блинчики с вареньем. С клубничным вареньем.
И только заказав все, оборачивался ко мне:
– А вы? Берите что хотите.
Я неизменно благовоспитанно отвечала:
– Спасибо. Я сыта.
И Гумилев, не удивляясь тому, что я «сыта», не споря, соглашался.
– Барышне подадите стакан чаю, раз ее ничто не соблазняет.
Я наблюдала за своим стаканом чая, с каким наслаждением он «ликвидировал» одно блюдо за другим, не переставая говорить о стихах.
Сейчас меня удивляет, что я, голодная – я тогда всегда была голодна, – могла спокойно слушать его, глядя на «свиную отбивную в сухарях», чувствуя ее запах. Ведь я столько месяцев не ела ни кусочка мяса. А это так вкусно! И как мне хочется обгрызть хоть оставшуюся у него на тарелке косточку.
– Вы напрасно отказались. Превкусная котлета! – говорит Гумилев и, обращаясь к хозяйке: – Дайте еще порцию!
У меня замирало сердце. Неужели он заказал эту порцию для меня! Но нет! Надежда напрасна. Он аккуратно съедает «еще порцию», не прерывая начатого разговора.
Конечно, если бы я сказала: «Пожалуйста, дайте мне борщ, котлету и пирожное», он бы не выказал неудовольствия. Но раз я благовоспитанно отказалась, он не считает нужным настаивать, – по-плюшкински: «хороший гость всегда пообедавши».
Мне и сейчас непонятно, как можно есть в присутствии голодного человека.
Но раз я не заявляла о своем голоде, Гумилев попросту игнорировал его. Не замечал. В голову не приходило.
Его жена, Аня Энгельгардт, как все продолжали ее звать, однажды пожаловалась мне:
– Коля такой странный. Вчера на вечере в Доме поэтов мы подходили к буфету. Он ест одно пирожное за другим: «Бери, Аня, если хочешь». Вот если бы он положил мне на тарелку пирожное. А то он ест, а я только смотрю. Он даже не заметил.
Возможно, что он действительно не замечал. Он был очень эгоистичен и эгоцентричен. И к тому же мы с Аней сами были виноваты – не брали «что хотите» – от скромности и чрезмерной благовоспитанности. Такие глупые!
Аня Энгельгардт приезжала раз в год на несколько дней к мужу – рассеяться и подышать петербургским воздухом.
«Рассеяться» ей, бедной, действительно было необходимо. Она жила в Бежецке у матери и тетки Гумилева, вместе с дочкой Леночкой и Левой, сыном Гумилева и Ахматовой.
Гумилев не раз вспоминал при мне, как она в ответ на его вопрос – хочет ли она стать его женой? – упала на колени и всхлипнула: «Я не достойна такого счастья!»
Жизнь в Бежецке назвать «счастьем» никак нельзя было. Скорее уж там: «Было горе. Будет горе. Горю нет конца».
Аня Энгельгардт казалась четырнадцатилетней девочкой не только по внешности, но и по развитию.
Очень хорошенькой девочкой, с большими темными глазами и тонкими, прелестными веками. Я никогда ни у кого больше не видела таких век.
В то июльское воскресенье 1920 года, когда она открыла мне кухонную дверь, я, хотя и знала, что к Гумилеву на три дня приехала его жена, все же решила, что эта стриженая девочка-ломака в белой матроске, в сандалиях и коротких чулках никак не может быть женой и матерью.
Она же сразу признала меня и, как-то особенно извернувшись, звонко крикнула через плечо:
– Коля! Коля! Коля! К тебе твоя ученица пришла!
То, что я ученица ее мужа, она никогда не забывала. И это иногда выражалось очень забавно.
Так, уже после расстрела Гумилева она во время одного из моих особенно удачных выступлений сказала:
– И все-таки я отношусь к Одоевцевой как королева. Ведь я вдова Гумилева, а она только его ученица.
Но была она премилая девочка, и жилось ей не только в Бежецке, но и в Петербурге нелегко. Гумилев не был создан для семейной жизни. Он и сам сознавал это и часто повторял:
– Проводить время с женой так же скучно, как есть отварную картошку без масла.
Еще об эгоизме Гумилева.
Весной 1921 года обнаружилось, что Анна Николаевна, как он подчеркнуто официально звал свою жену, почему-то не может продолжать жить в Бежецке и должна приехать в Петербург.
К тому времени Паши уже не было. Вместе с Аней приехала и Леночка.
– Можно с ума сойти, хотя я очень люблю свою дочку, – жаловался Гумилев. – Мне для работы необходим покой. Да и Анна Николаевна устает от хозяйства и возни с Леночкой.
И вот Гумилев разрубил гордиев узел, приняв соломоново решение, как он, смеясь, говорил.
В Доме искусств тогда жило много писателей.
Гумилев решил перебраться в Дом искусств. В бывшую баню Елисеевых, роскошно отделанную мрамором. С потолком, расписанным амурами и богинями. Состояла она из двух комнат. У Гумилева был свой собственный «банный» кабинет.
– Я здесь чувствую себя древним римлянином. Утром, завернувшись в простыню, хожу босиком по мраморному полу и философствую, – шутил он.
Жить в Доме искусств было удобно. Здесь Гумилев читал лекции, здесь же вместе с Аней и питался в столовой Дома искусств.
Но возник вопрос: как быть с Леночкой? Детям в Доме искусств места не было. И тут Гумилев принял свое «соломоново решение». Он отдал Леночку в один из детдомов.
Этим детдомом, или, по-старому, приютом, заведовала жена Лозинского, его хорошая знакомая. Гумилев отправился к ней и стал ее расспрашивать, как живется детям в детдоме.
– Прекрасно. Уход, и пища, и помещение – все выше похвал, – ответила она. Она была одной из тех возвышенно настроенных интеллигенток-энтузиасток, всей душой преданных своему делу, – их было немало в начале революции. Гумилев улыбался.
– Я очень рад, что детям у вас хорошо. Я собираюсь привести вам мою дочку – Леночку.
– Леночку? Вы шутите, Николай Степанович? Вы хотите отдать Леночку в детдом? Я правильно поняла?
– Совершенно правильно. Я хочу отдать Леночку вам.
Она всплеснула руками:
– Но это невозможно. Господи!..
– Почему? Вы ведь сами сейчас говорили, что детям у вас прекрасно.
– Да, но каким детям? Найденным на улице, детям пьяниц, воров, проституток. Мы стараемся для них все сделать. Но Леночка ведь ваша дочь.
– Ну и что из этого? Она такая же, как и остальные. Я уверен, что ей будет очень хорошо у вас.
– Николай Степанович, не делайте этого! Я сама мать, – взмолилась она. – Заклинаю вас!
Но Гумилев только упрямо покачал головой:
– Я уже принял решение. Завтра же я привезу вам Леночку.
И на следующий день дочь Гумилева оказалась в детдоме.
Передавая мне этот разговор, Гумилев недоумевал:
– Как глубоки буржуазные предрассудки. Раз детям хорошо в детдоме, то и Леночке там будет хорошо. Смешно не пользоваться немногими удобствами, предоставленными нам. Тогда и хлеб и сахар по карточке брать нельзя – от большевиков.
Был ли Гумилев таким эгоистом? Таким бессердечным, жестоким, каким казался?
Нет, конечно нет!
Он был добр, великодушен, даже чувствителен. И свою дочку Леночку очень любил. Он уже мечтал, как он будет с ней гулять и читать ей стихи, когда она подрастет.
– Она будет – я уверен – умненькая, хорошенькая и милая. А когда она влюбится и захочет выходить замуж, – говорил он со смехом, – я непременно буду ее ревновать и мучиться, как будто она мне изменила. Да, отцы ведь всегда ревнуют своих дочерей – так уж мир устроен.
Он никогда не проходил мимо нищего, не подав ему. Его холод, жестокость и бессердечие были напускными. Он ими защищался как щитом.
– Позволь себе только быть добрым и слабым, сразу все бросятся тебе на горло и загрызут. Как раненого волка грызут и сжирают братья-волки, так и братья-писатели. Нравы у волков и писателей одинаковые.
– Но вы ведь – я знаю – очень добры, Николай Степанович, – говорила я.
– Добр? – Гумилев пожимал плечами. – Возможно, если бы я распустил себя, то был бы добр. Но я себе этого не позволяю. Будешь добрым – растаешь, как масло на солнце, и поминай как звали поэта, воина и путешественника. Доброта не мужское качество. Ее надо стыдиться, как слабости. И предоставить ее женщинам.
Гумилев действительно стыдился не только своей доброты, но и своей слабости. От природы у него было слабое здоровье и довольно слабая воля. Но он в этом не сознавался никому, даже себе.
– Я никогда не устаю, – уверял он. – Никогда.
Но стоило ему вернуться домой, как он надевал войлочные туфли и садился в кресло, бледный, в полном изнеможении.
Этого не полагалось замечать, нельзя было задавать ему вопроса:
– Что с вами? Вам нехорошо?
Надо было просто «не замечать», взять книгу с полки или перед зеркалом «заняться бантом», как он говорил.
Длились такие припадки слабости всего несколько минут. Он вставал, отряхивался, как пудель, вылезший из воды, и как ни в чем не бывало продолжал разговор, оборвавшийся его полуобморочным молчанием.
– Сократ говорил: «Познай самого себя». А я говорю: «Победи самого себя». Это главное и самое трудное, – часто повторял он. – Я, как Уайльд, – побеждаю все, кроме соблазна.
Он вечно боролся с собой, но не мог побороть в себе «paresse-délice de l’âme»[22] – по Ларошфуко, желания валяться на кровати, читая не Ронсара или Клеменса Брентано, а «Мир приключений», – и жаловался мне на себя, комически вздыхая.
«Мира приключений» он стыдился как чего-то неприличного и прятал его под подушку от посторонних глаз. Зато клал на подушку «на показ» для посетителей том «Критики чистого разума» или «Одиссею», хотя он их больше «ни при какой погоде не читал».
Он был вспыльчив, но отходчив. Рассердившись из-за какого-нибудь пустяка, он принимал скоропалительное решение:
– Никогда не прощу. Никогда не помирюсь. Кончено!
Но на следующий же день встречался и разговаривал с тем, с кем навсегда все было «кончено», как ни в чем не бывало.
– Главное не объясняться. Никаких «я тебя», «ты меня», которые так любят женщины. Запомните это правило. Оно вам пригодится в жизни – никаких «выяснений отношений», в особенности любовных. Ах, если бы Ахматова не говорила с первого же года: «Николай, нам надо объясниться…» На это я неизменно отвечал: «Оставь меня в покое, мать моя!..»
Был он и довольно упрям, что тоже скорее свидетельствует о слабой воле. Сколько я ни встречала упрямых людей, все они были слабовольны.
Гумилев признавался:
– Я знаю, что не прав, но сознаться в этом другому мне трудно. Не могу. Как и просить прощения. Зато терпеть не могу, когда у меня просят прощения. Надо забывать. Раз забыто, так и прощено.
– А как же, Николай Степанович, афоризм: «Мужчина прощает, но не забывает. Женщина не прощает, но забывает», – значит, вы поступаете по-женски? Вы женственны?
Но упрек в женственности возмущает Гумилева:
– Вздор. Чепуха. Женщины памятливы на обиды, памятливы до ужаса. Вы, например, не забываете ни одной обиды, никакого зла.
– И никакого добра, – добавляю я, – у меня хорошая память. Но, может быть, это во мне мужская черта?
Гумилев смеется:
– Ну знаете, мужских черт в вас днем с огнем не сыщешь. Вас бы в Средние века сожгли на костре, как ведьму. И не только оттого, что вы рыжая.
Я говорю:
– Вот и опять обида. Я ее прощу, но не забуду.
Гумилев продолжает смеяться:
– Быть названной ведьмой – комплимент, а не обида, в особенности для пишущей стихи. Зинаида Гиппиус очень гордилась тем, что ее считают и даже в печати называют ведьмой. Ведьмовское начало схоже с вдохновением. Ведьмы сами были похожи на стихотворения. Вам скорее лестно, что вас сожгли бы на костре. Непременно сожгли бы. И правильно бы поступили.
На следующий день я принесла Гумилеву две строфы:
- Вьется вихрем вдохновенье
- По груди моей и по рукам,
- По лицу, по волосам,
- По цветущим рифмами словам.
- Я исчезла. Я – стихотворенье,
- Посвященное вам.
И вторую:
- А ко мне сегодня в лунном свете
- Прилетела рыжая сестра
- И со мной осталась до утра.
- И во сне вложила в сердце мне
- Уголек из своего костра.
Гумилев, что с ним не часто случалось, одобрил их и меня:
– У поэта должно быть плюшкинское хозяйство. И веревочка пригодится. Все, что вы слышали или читали, тащите к себе, в стихи. Ничего не должно пропадать даром. Все для стихов.
Стихи я тогда писала каждый день. По совету, вернее, даже по требованию Гумилева. Он говорил: «День без новых стихов пропащий день».
Я ежедневно давала Гумилеву свои стихи на суд – «скорый и немилостивый», как он сам его определил.
Как-то я пришла к нему с букетом первой сирени. Я весной и летом постоянно ходила с цветами. Выходя из дома, я покупала у уличных мальчишек, будущих беспризорных, цветы и так и носила их с собой целый день, воображая, что я гуляю по саду, где цветет сирень, жасмин и черемуха.
Гумилеву очень нравилось мое «хождение с цветами», как он его называл. Он сам с удовольствием принимал участие в прогулках с черемухой или сиренью, в игре в цветущий сад и даже сочинил о наших прогулках с цветами строфу:
- Снова идем мы садами
- В сумерках летнего дня,
- Снова твоими глазами
- Смотрит весна на меня.
Но сегодня, хотя день солнечный и голубой – настоящий «прогульный день», по его выражению, он не желает выходить из дома.
– Нет, лучше позанимаемся, садитесь, слушайте и отвечайте.
Он берет из моих рук сирень и кладет ее передо мной на стол.
– Представьте себе, что вы еще никогда не видели сирени, не знаете ее запаха, даже не трогали ее, – что вы скажете о ней неизбитыми, нешаблонными словами?
И я как могу стараюсь описать сирень, ее влажную хрупкость и благоухание и двенадцатилепестковую звездочку, приносящую счастье.
Он внимательно выслушивает меня.
– Совсем неплохо. А теперь стихами то же самое или что хотите о сирени, без лишних слов, ямбом. Не более трех строф. Не задумываясь. Даю вам пять минут.
Я зажмуриваюсь от напряжения и почти сразу говорю:
- Прозрачный, светлый день,
- Каких весной немало,
- И на столе сирень,
- И от сирени тень.
- Но хочет Гумилев,
- Чтобы без лишних слов
- Я б ямбом написала
- Об этой вот сирени
- Не более трех строф
- Стихотворенье.
Брови Гумилева удивленно поднимаются. В его раскосом взгляде – один глаз на меня, другой в сторону на сирень – вспыхивают искры.
– Хорошо. Даже очень. Вы действительно делаете мне честь как ученица. Вы моя ученица номер первый. Гордость моей Студии. Предсказываю вам – вы скоро станете знаменитой. Очень скоро.
Сердце мое, вылетев из груди, бьется в моем горле, в моих ушах.
Не может быть! Неужели? Наконец! Наконец-то. Гумилев хвалит меня, и еще как!
Я вскакиваю и начинаю кружиться по кабинету. Гумилев недовольно смотрит на меня.
– Не кружитесь волчком, вы собьете меня с ног. Да перестаньте же!
Но я не перестаю. Я кружусь от восторга, захлестывающего меня.
– Вы скоро будете знаменитой, – повторяю я нараспев.
– Господи! – вздыхает Гумилев. – Как вас унять?
И вдруг он, подойдя ко мне, двумя руками берет меня за талию. Мне кажется, что он хочет кружиться и танцевать со мной. Но ноги мои уже не касаются пола. Я в воздухе. Он поднимает меня. И вот я уже сижу на шкафу, и он притворно строго говорит, грозя мне пальцем:
– Сидите тут тихо. Совсем тихо. Мне надо докончить перевод. Не мешайте мне.
Я сижу в полном недоумении на шкафу, свесив ноги. Что же это такое?
Гумилев, посадив меня на шкаф, поворачивается ко мне спиной и возвращается к столу. Он сбрасывает мою сирень на пол – и раскладывает перед собой толстую рукопись. Что же это такое в самом деле?
Сидеть на шкафу неудобно. Паша, по-видимому, никогда не вытирает пыль на шкафу, и он оброс ею, как мохом. От пыли и от обиды щекочет в носу. Но я молчу. Я выдерживаю характер.
Страницы рукописи шуршат. Красный карандаш в руке Гумилева делает пометки на полях. Гумилев молча перелистывает рукопись. Он ни разу даже не повернул головы, не взглянул на меня.
Я не выдерживаю:
– Николай Степанович. Меня ждут дома!
Гумилев вздрагивает, как от неожиданности, и вот уже он стоит передо мною.
– Ради бога, простите! Я совсем забыл. Мне казалось, что вы давно ушли.
Притворяется он или действительно забыл обо мне? В обоих случаях обидно, во втором даже еще обиднее.
Он осторожно снимает меня со шкафа.
Мое платье и руки перепачканы пылью. Он достает щетку:
– Почиститесь. Или давайте лучше я.
Но я отстраняю щетку. Я слишком оскорблена.
– Не надо. Я спешу. И так пойду. – Я натягиваю перчатки на запыленные руки. Молча. С видом оскорбленного достоинства.
– Неужели вы сердитесь?
Я поднимаю с пола сирень. Иду на кухню.
– Нисколько не сержусь. Мне надо домой, – говорю я сдержанно и холодно.
Глупо показывать обиду, да он все равно не поймет.
Но он, кажется, понимает.
Он достает с полки большой мешок.
– Вот возьмите. Я приготовил для вас. Тут двадцать селедок из академического пайка. На хлеб выменяете.
От селедок я не отказываюсь. Селедки действительно можно выменять на хлеб. Или на сахар. Пригодятся. Еще как пригодятся.
– Спасибо, – говорю я так же холодно. И беру мешок с селедками и мой полузавядший букет сирени.
Гумилев открывает передо мной кухонную дверь.
– Не сердитесь. И помните, вы действительно скоро будете знамениты.
Я иду домой. Мешок с селедками очень тяжелый и оттягивает руки. Нести его и сирень неудобно. Бросить сирень? Но я прижимаю ее к груди, придерживая подбородком. И улыбаюсь мечте о будущей славе.
Нет, я не предчувствую, не догадываюсь, что предсказание Гумилева «вы скоро будете знаменитой» действительно исполнится не когда-нибудь там, а молниеносно скоро…
Как это ни странно, меня «открыл» не мой учитель Гумилев, а Георгий Иванов. Произошло это важное в моей жизни событие 30 апреля 1920 года.
Гумилев за несколько дней сообщил мне, что у него в будущую субботу в пять часов вечера прием в честь приехавшего из Москвы Андрея Белого. С «поэтическим смотром». Выступят Оцуп, Рождественский и я.
И Оцуп, и Рождественский хотя и молодые, но настоящие поэты. Я же только – студистка. Выступать с ними на равных началах мне чрезвычайно лестно.
В субботу, 30 апреля я прихожу к Гумилеву за полчаса до назначенного срока. Оцуп и Рождественский уже здесь, и оба, как и я, взволнованы.
«Смотр» почему-то происходит не в кабинете, а в прихожей. Перед заколоченной входной дверью три стула – для нас. На пороге столовой – два зеленых кресла – для Гумилева и Белого.
Гумилев распоряжается как режиссер. Он усаживает меня на средний стул, справа Рождественский, слева Оцуп.
– Николай Авдеевич, ты будешь читать первым. Каждый по два стихотворения. Давайте прорепетируем!
И мы репетируем.
– Громче. Отчетливее, – командует Гумилев, – держитесь прямо. Голову выше.
Я чувствую себя на сцене. Мной овладевает актерский «трак».
Напряженное ожидание. Наконец – стук в кухонную дверь.
– Андрей Белый прибыл! – громко объявляет Гумилев.
«Прибыл». В дворцовой карете с ливрейными лакеями или, по крайней мере, в сверкающем, длинном «бенце» прибыл, а не пришел пешком.
Гумилев спешит на кухню с видом царедворца, встречающего коронованную особу.
Мы все трое, как по команде, встаем.
Об Андрее Белом ходит столько легенд, что для меня он сам превратился в легенду. Мне не совсем верится, что он сейчас появится здесь.
В Студии рассказывают, что он похож на ангела. Волосы как золотое сиянье. Ресницы – опахала. Глаза – в мире нет подобных глаз. В него все влюблены. Нельзя не влюбиться в него. Вот увидите сами. Он – гений. Это чувствуют даже прохожие на улице и уступают ему дорогу. В Москве, задолго до войны, все были без ума от него. Но он, устав от славы, уехал, скрылся за границей. Во время войны он в Швейцарии, в Дорнахе, строил Гетеанум. С доктором Штейнером.
Потом он вернулся в Россию. Он здесь. И я сейчас увижу его.
Из кухни доносятся голоса. Слов не разобрать. Шаги…
Гумилев, особенно чопорный и будто весь накрахмаленный, с церемонным поклоном пропускает перед собой… Но разве это Андрей Белый? Не может быть!
Маленький. Худой. Седые, легкие как пух волосы до плеч. Черная атласная шапочка не вполне закрывает лысину. Морщинистое, бледное лицо. И большие, светло-голубые, сияющие, безумные глаза.
– Борис Николаевич, – голос Гумилева звучит особенно торжественно, – позвольте вам представить двух молодых поэтов: Николая Оцупа и Всеволода Рождественского.
Оцуп и Рождественский, не сходя с мест, молча кланяются. Но Андрей Белый уже перелетел прихожую и трясет руку Оцупа, восторженно заглядывая ему в глаза.
– Так это вы Оцуп? Я слыхал. Я читал. Оцуп! Как же! Как же… – И, не докончив фразы, бросается к Рождественскому.
– Вы, как я и думал, совсем Рождественский. С головы до ног – Рождественский. Весь как на елке!
Рождественский что-то смущенно бормочет. Гумилев, хотя церемония представления явно разворачивается не по заранее им установленному плану, указывает на меня широким жестом:
– А это – моя ученица.
Без фамилии. Без имени.
Сияющие, безумные глаза останавливаются на мне.
– Вы – ученица? Как это прекрасно! Всегда, всю жизнь оставайтесь ученицей! Учитесь! Мы все должны учиться. Мы все ученики.
Он хватает мою руку, высоко поднимает ее и, встряхнув, сразу выпускает из своей. Потом быстро отступает на шаг и оглядывается. Будто сомневается, нет ли здесь еще кого-то, кого он не заметил, не одарил сиянием своих глаз и своего восхищения.
И вот он уже снова рядом с Гумилевым. Движения его легки, отрывчаты и неожиданны. Их много, их слишком много.
Он весь движение – руки простерты для полета, острые колени согнуты, готовы пуститься вприсядку. И вдруг он неожиданно весь застывает в какой-то напряженной, исступленной неподвижности.
Гумилев пододвигает ему кресло.
– А теперь, с вашего позволения, Борис Николаевич, начнется чтение стихов.
Белый кивает несколько раз.
– Стихи? Да, да. Непременно стихи. Стихи – это хорошо!
Он садится, вытягивает шею, поворачивает голову в нашу сторону. Вся его поза подчеркивает, что он весь слух и внимание.
Первым, как было условлено, читает Оцуп. Спокойно. Внятно. Уверенно:
- О, жизнь моя. Под говорливым кленом,
- И солнцем проливным, и легким небосклоном,
- Быть может, ты сейчас последний раз вздыхаешь…
- Быть может, ты сейчас, как облако, растаешь…
Белый, встрепенувшись, начинает многословно и истово хвалить:
– Я был уверен… Я ждал… И все же я удивлен – лучше, еще лучше, чем я думал…
Но я не слушаю. Я, зажмурившись, повторяю про себя свои стихи. Только бы не забыть, не сбиться, не оскандалиться.
Дирижерский жест Гумилева в мою сторону.
– Теперь вы!
Я встаю – мы все всегда читали стихи стоя – и сейчас же начинаю:
- Всегда, всему я здесь была чужая.
- Уж вечность без меня жила земля…
Прочитав первое стихотворение, я делаю паузу и перевожу дух.
Но эта полминутная тишина выводит Белого из молчания и оцепенения.
Он весь приходит в движение. Его глаза сверкают. Голос звенит:
– Инструментовка… Аллитерация… Вслушайтесь, вслушайтесь! «Всегда всему я». Ведь это а-у-я. А-у-я! – И вдруг, подняв к потолку руку, уже поет: – А-у-я! Аллилуйя! – Он поворачивает к Гумилеву бледное восторженно-вдохновенное лицо, скосив на меня глаза. – Как она могла? Сразу же без подготовки. В первой же строчке – Аллилуйя! Осанна Вышнему! Осанна Учителю!
Я слушаю. Казалось бы, я должна испытывать радость от этих похвал. Но нет. Мне по-прежнему неловко. Мне от этих «аллилуй» и «осанн» стыдно – за себя, за него, за Гумилева. Не надо. Не надо…
Ведь я чувствую, я знаю, он говорит это так, нарочно, зря. Ему совсем не понравились мои стихи. Он вряд ли их даже слышал. Только первую строчку и слышал.
Он заливает меня сиянием своих глаз, но вряд ли видит меня. Я для него просто не существую. Как, впрочем, и остальные. Я для него только предлог, чтобы воскликнуть: Аллилуйя! Осанна Андрею Белому!
Торжественно-официальный голос Гумилева: «Еще!»
И я читаю «Птицу». И дочитав, покорно жду.
Но, видно, Белый истратил на меня слишком много красноречия. Он молчит. И Гумилев, убедившись, что Белый о «Птице» ничего не желает сказать, делает знак Рождественскому.
Рождественский закидывает голову и сладостно и мелодично начинает выводить нараспев свое прелестное – всех, даже Луначарского, восхищавшее стихотворение:
- Что о-ни с то-бою сде-ла-ли,
- Бедная мо-я Мос-ква!
Окончив, Рождественский от волнения вытирает лоб платком.
Новый взрыв восторга Белого. И я опять понимаю, что он не слушал, что он хвалит не стихи Рождественского, а жонглирует словами.
– Замечательно находчиво! Это они – они. О-ни! О – эллипсис. О – дыра. Дыра – отсутствие содержания. Дыра, через которую ветер вечности уносит духовные ценности. О – ноль! Ноль – моль. Моль съедает драгоценные меха – царственный горностай, соболь, бобер. – И вдруг, понизив голос до шепота: – У меня у самого котиковая молью траченная шапка там на кухне осталась. И сердце тоже, тоже траченное молью.
Рождественский выжидательно смотрит на Гумилева. Ему по программе полагается прочесть еще свое, тоже всех очаровывающее:
- Это Лондон, леди. Узнаете?
Но можно ли прервать словесные каскады Белого? Гумилев незаметно качает головой, и Рождественский, вздохнув, снова занимает свое место.
А Белый, разбрасывая фонтаном брызги и блестки вдохновения, поднимается в доступные ему одному, заоблачные выси.
– Мое бедное сердце, траченное молью! А ведь сердце – лев. И значит – травленный молью котик на голове и травленный молью лев в груди. – Всплеск рук. – Un lion mité![23] И я сам – un lion mité! Ужас! Ужас! Но ведь у меня, как у каждого человека, не только сердце, но и печень, желудок, легкие. Печень – волк, желудок – пантера, легкие – лебедь, широко раскинувший крылья, легкий двукрылый лебедь. Мое тело – лес, где все они живут. Я чувствую их в себе. Они все еще здоровые, только вот сердце – лев, бедный лев, бедный lion mité. Они загрызут его. Я боюсь за него. Очень боюсь! – и неожиданно перебивает он себя: – А вы, Николай Степанович, тоже чувствуете их в себе?
Гумилев совершенно серьезно соглашается:
– Конечно. Часто чувствую. Особенно в полнолунные ночи.
И Гумилев начинает выкладывать какие-то обрывки схоластических познаний о соотношении органов человеческого тела с зверьми и птицами, согласно утверждениям оккультистов.
– Гусь, например…
Белый болезненно морщится и вежливо поправляет:
– Не совсем так. Нет, совсем не так! Гусь тут ни при чем. Гусь, тот сыграл свою роль при сотворении мира в древнеегипетском мифе. Помните? В начале был только остров в океане. На острове четыре лягушки. И четыре змеи. И яйцо. – Белый привстает, простирает руки вперед, на мгновение он застывает, кажется, что он висит в воздухе. Лицо его вдруг перекашивается. Он почти кричит: – Яйцо лопнуло! Лопнуло! Из яйца вылупился большой гусь. Гусь полетел прямо в небо и… – Он весь съеживается, прижимает руки к груди. – Гусь стал солнцем! Солнцем! – Он с минуту молчит, закрыв глаза, будто ослепленный гусем-солнцем. Потом поворачивается к Гумилеву и внимательно, пристально смотрит на него, как бы изучая его лицо.
– Если человек похож на гуся, вот, скажем, как вы, Николай Степанович, это значит, что он отмечен солнцем. Символом солнца!
Гумилев улыбается смущенно и в то же время гордо. Лестно быть отмеченным солнцем. Хотя сходство с гусем скорее обидно. Но он не спорит.
Я смотрю на Белого. Кого он мне напоминает? И вдруг вспоминаю – профессора Тинтэ из сказки Гофмана «Золотой горшок».
Как я сразу не догадалась? Ведь Белый вылитый профессор Тинтэ, превращавшийся в большую черную жужжащую муху. Меня бы не очень удивило, если бы Белый вдруг зажужжал черной мухой под потолком.
Гумилев встает.
– А теперь, Борис Николаевич, пожалуйте чай пить. – Полукивок в сторону наших стульев. – И вы, господа.
Как будто без этого пригласительного полукивка нас троих могли оставить в прихожей, как зонтик или калоши.
В столовой на столе, покрытом белой скатертью, чашки, вазочки с вареньем, с изюмом, медом, сухариками и ярко начищенный, клокочущий самовар. Полный парад.
Обычно Гумилев пьет чай прямо на пестрой изрезанной клеенке, из помятого алюминиевого чайника. Самовар я у него вижу в первый раз. Я впервые присутствую на приеме у Гумилева.
Мы рассаживаемся в том же порядке – с одной стороны стола Оцуп, я и Рождественский, с другой Белый и Гумилев у самовара.
Я очень боялась, что Гумилев заставит меня разливать чай. Но нет. Он сам занялся этим.
Белый вскакивает, подбегает к самовару, смотрится в него, как в зеркало, строя гримасы.
– Самовар! – блаженно вздыхает он. – Настоящий томпаковый, пузатый! С детства люблю глядеться в него – так чудовищно и волшебно. Не узнаешь себя. А вдруг я действительно такой урод и все другие видят меня таким и только я не знаю? – И оторвавшись от самовара, вернувшись на свое место: – С детства страстно люблю чай. Горячий. Сладкий-пресладкий. И еще с вареньем.
Он накладывает себе в чашку варенья, сухарики хрустят на его зубах. Он жмурится от удовольствия. От удовольствия? Или от желания показать, какое невероятное удовольствие он сейчас испытывает?
– Ведь я в Москве, – глаза его ширятся, становятся пустыми, – почти голодаю. Нет, не почти, я просто голодаю. Хвосты! Всюду хвосты! Но я не умею стоять в хвостах. Я не могу хвоститься. Я – писатель. Я должен писать. Мне некогда писать. И негде, – с ужасом: – Негде! У меня ведь нет комнаты. Только темная, тесная, грязная каморка. И за стеной слева пронзительное з-з-з-з! – пила, а справа трах, трах, трах! – топор. Дуэт, перекличка через мою голову, через мой мозг – пилы и топора. Мозг мой пилят и рубят. А я должен писать!
Гумилев пододвигает Белому изюм.
– Да, Борис Николаевич, трудные, очень трудные времена!..
– Трудные? Нет, нет. Совсем не трудные! Трудные времена благословенны. Времена, полные труда. Я хочу трудиться, а мне не дают, – как самовар, шумит и клокочет Белый. – Поймите, не дают! Скажите, что мне делать?.. Что? Что мне делать, Николай Степанович?
Гумилев недоумевающе и скорбно разводит руками.
– Право, Борис Николаевич…
И вдруг как бы в ответ раздается дробный стук в кухонную дверь. Лицо Гумилева сразу светлеет.
– Это Георгий Иванов, – говорит он с облегчением.
Гумилев встает. Без официальной церемонности. С гостеприимной улыбкой. Два шага навстречу уже входящему Георгию Иванову.
– Как хорошо, что ты пришел, Жоржик! Я уже боялся, что ты за обедом у Башкирова забудешь о нас.
Да, хорошо, очень хорошо, что Георгий Иванов в тот вечер не остался у Башкирова. Не столько для Гумилева, как для меня. Если бы в тот вечер… Но не стоит гадать о том, что было бы, если бы не было…
Георгий Иванов здоровается с Белым, и Белый, уже сияющий восторгом встречи, рассыпается радостными восклицаниями:
– Как я рад! Так страшно давно… Наконец-то!
Отулыбавшись и сказав несколько приветственных слов Белому, Георгий Иванов кивает Оцупу:
– Здравствуй, Авдей!
Авдей – это удивляет меня. Ведь Оцупа зовут Николай. Николай Авдеевич.
Я молча подаю руку Георгию Иванову. В первый раз в жизни. Нет. Без всякого предчувствия.
Георгия Иванова я уже видела на улице, возвращаясь с Гумилевым из Студии, и в самой Студии, где он изредка, мимолетно появлялся.
Он высокий и тонкий, матово-бледный, с удивительно красным большим ртом и очень белыми зубами. Под черными, резко очерченными бровями живые, насмешливые глаза. И… черная челка до самых бровей. Эту челку, как мне рассказал Гумилев, придумал для Георгия Иванова мэтр Судейкин. По-моему – хотя Гумилев и не согласился со мной – очень неудачно придумал.
Георгий Иванов чрезвычайно элегантен. Даже слишком элегантен по «трудным временам». Темно-синий, прекрасно сшитый костюм. Белая рубашка. Белая дореволюционной белизной. Недавно маленькая девочка из нашего дома сказала про свое плохо выстиранное платьице: «Оно темно-белое, а мне хочется светло-белое!»
У Георгия Иванова и рубашка, и манжеты, и выглядывающий из кармана носовой платок как раз светло-белые. У Гумилева все это темно-белое.
На Оцупе ловко сидящий френч без признаков какой бы то ни было белизны и ловкие ярко-желтые высокие сапоги, вызывающие зависть не только поэтов.
Белый же весь, начиная со своих волос и своего псевдонима – Белый, – сияюще-белый, а не только светло-белый. Впрочем, рубашка на нем защитного цвета. Но она не защищает его от природной белизны.
Георгий Иванов садится напротив меня, но я отвожу глаза, не решаясь смотреть на него. Я знаю от Гумилева, что он самый насмешливый человек литературного Петербурга. И вместе с Лозинским самый остроумный. Его прозвали «общественное мнение».
– Вам непременно надо будет постараться понравиться ему. Для вас это, помните, очень важно, – настаивал Гумилев.
Георгий Иванов весело рассказывает, что он только что обедал у Башкирова, у поэта Башкирова-Верина. И тот прочел ему свои стихи:
- …И я воскликнул, как в бреду:
- Моя любовь к тебе возмездие,
- Бежим скорее на звезду!..
– Я посвятил эти стихи одной восхитительной баронессе, – объяснил Башкиров-Верин. – С ней действительно хочется подняться к звездам.
А подававшая пирог курносая девчонка-горничная громко фыркнула:
– Полно врать, Борис Николаевич. Какая там еще баронесса? Ведь вы это мне написали!
Все смеются, Белый особенно заливчато и звонко.
– Полно врать, Борис Николаевич! – повторяет он. – Это и мне часто следует говорить. Как правильно! Как мудро! Ах, если бы у меня была такая курносая девчонка-горничная! – И уже совсем другим тоном, грустно и серьезно: – Ведь я вру. Я постоянно вру. Не только другим. Но и себе. И это страшно. Очень страшно.
Снова тягостное молчание. Всем неловко. Гумилев старается спасти положение.
– Ты опоздал, Жоржик. Мы здесь с Борисом Николаевичем слушали без тебя стихи, – и как утопающий хватается за соломинку, – может быть, послушаем еще?
Георгию Иванову, по-видимому, не очень хочется слушать стихи. Но он соглашается.
– Отлично. С удовольствием. Стихи Николая Авдеевича и Всеволода Александровича я, впрочем, и сам могу наизусть прочитать. А вот твою ученицу, – он кивает мне, улыбаясь, – еще ни разу слышать не пришлось.
Я холодею от страха. Неужели же мне еще придется читать?
– Прочтите что-нибудь, – говорит Гумилев.
Но я решительно не знаю что. Я растерянно моргаю. И ничего не могу вспомнить.
Гумилев недоволен. Он стучит папиросой по крышке своего черепахового портсигара. Он терпеть не может, когда поэты ломаются.
– У вас же так много стихов. Какое-нибудь. Все равно какое.
Но я продолжаю молчать.
– Ну, хотя бы, – уже раздраженно говорит он, – хотя бы эту вашу «Балладу о толченом стекле».
Балладу? Неужели он хочет, чтобы я прочла ее? Ведь я написала ее еще в октябре. Я была уверена, что мне наконец удалось сочинить что-то стоящее, что-то свое. Я принесла ее Гумилеву чисто переписанной. Но он, прочитав ее, нахмурился:
– Что ж? Очень хорошо. Только сейчас никому не нужно. Никому не понравится. Большие, эпические вещи сейчас ни к чему. Больше семи строф современный читатель не воспринимает. Сейчас нужна лирика, и только лирика. А жаль – ваша баллада совсем недурна. И оригинальна. Давайте ее сюда. Уложим ее в братскую могилу неудачников. – И он спрятал мою балладу в толстую папку своих забракованных им самим стихов. Это было в октябре. И с тех пор он ни разу не вспоминал о ней.
– Если не помните наизусть, я принесу вам рукопись, – предлагает он.
– Нет, я помню.
И я не задумываясь начинаю решительно:
- БАЛЛАДА
- О ТОЛЧЕНОМ СТЕКЛЕ
- Солдат пришел к себе домой,
- Считает барыши…
Я произношу громко и отчетливо каждое слово. Я так переволновалась, не зная, какие стихи прочесть, что сейчас чувствую себя почти спокойно.
Гумилев слушает с благодушно-снисходительной улыбкой. И значит, все в порядке.
- …Настала ночь.
- Взошла луна.
- Солдат ложится спать.
- Как гроб, тверда и холодна
- Двуспальная кровать…
Гумилев продолжает все так же благодушно, снисходительно улыбаться, и я решаюсь взглянуть на Георгия Иванова.
Он тоже слушает. Но совсем иначе. Без снисходительной улыбки. Он смотрит на меня во все глаза, с острым, колючим любопытством. Наверно, хочет разглядеть и запомнить «ученицу Гумилева» во всех подробностях. И завтра же начнет высмеивать мой бант, мои веснушки, мою картавость и, главное, мою злосчастную балладу. Зачем только Гумилев заставил меня читать ее? Ведь он сам предупреждал меня:
– Бойтесь попасть на зубок Георгию Иванову – съест!
И вот сам отдал меня на съедение ему.
Мне становится страшно. Я произношу с трудом, дрожащим голосом:
- И семь ворон подняли труп
- И положили в гроб…
Георгий Иванов порывисто наклоняется ко мне через стол.
– Это вы написали? Действительно вы? Вы сами?
Что за нелепый, что за издевательский вопрос?
– Конечно я. И конечно сама.
– Правда, вы? – не унимается он. – Мне, простите, не верится, глядя на вас.
Теперь не только он, но и Оцуп и Рождественский с любопытством уставляются на меня. У Гумилева недоумевающий, даже слегка растерянный вид. Наверно, ему стыдно за меня.
Я чувствую, что краснею. От смущения, от обиды. Мне хочется встать, убежать, провалиться сквозь пол, выброситься в окно. Но я продолжаю сидеть. И слушать.
– Это замечательно, – неожиданно заявляет Георгий Иванов. – Вы даже не понимаете, до чего замечательно. Когда вы это написали?
Отвечать мне не приходится. За меня отвечает Гумилев.
– Еще в начале октября. Когда я – помнишь – в Бежецк ездил. Только чего ты, Жоржик, так горячишься?
Георгий Иванов накидывается на него.
– Как чего? Почему ты так долго молчал, так долго скрывал? Это то, что сейчас нужно, – современная баллада! Какое широкое эпическое дыхание, как все просто и точно…
Георгий Иванов – о чем я узнала много позже – был великим открывателем молодых талантов. Делал он это с совершенно не свойственной ему страстностью и увлечением. И даже с пристрастностью и преувеличением. Но сейчас его странное поведение окончательно сбивает меня с толку. Он продолжает расхваливать мою «современную балладу».
– Современной балладе принадлежит огромная будущность. Вот увидите, – предсказывает он. – Вся эта смесь будничной повседневности с фантастикой, с мистикой…
Но тут Белый – ему, по-видимому, давно надоело молчать, и ему, конечно, нет никакого дела до моей баллады – не выдерживает.
– Мистика, – подхватывает он. – Символика ворон. Так и слышишь в каждой строфе зловещее карканье. Кра-кра-кра! Но египетский бог… Ра…
– В особенности в таком картавом исполнении, – насмешливо бросает Георгий Иванов.
– Но бог Солнца Ра… – не слушая, продолжает Белый с увлечением.
От смущения я плохо понимаю. Но слава богу! Слава солнечному богу Ра, я уже не в центре общего любопытства и внимания.
Разговор, вернее монолог Белого, прерываемый остротами Георгия Иванова, течет пенящимся горным ручьем.
Чаепитие окончено. Все встают и переходят в кабинет.
Я незаметно выскальзываю на кухню. Гумилев нагоняет меня.
– Неужели вы уже уходите? Можете уйти?
– Меня ждут дома. Я обещала.
Он помогает мне надеть пальто.
– Вы, кажется, не отдаете себе отчета в том, что произошло. Признаюсь, я не думал, что это случится так скоро. Запомните дату сегодняшнего дня – 30 апреля 1922 года. Я ошибся. Но я от души поздравляю вас!..
Поздравляет? С чем? Я не спрашиваю. Я подаю ему руку.
– Спасибо, Николай Степанович! Спокойной ночи.
– Счастливой ночи, – говорит он.
И я выхожу на улицу.
Это было в субботу, 30 апреля. Сегодня вторник, 3 мая. Я на публичной лекции Чуковского «Вторая жена». О Панаевой.
Зал набит. Чуковский, как всегда на публичных своих выступлениях, гораздо менее блестящ, чем в Студии. Он читает по тетрадке, не глядя на слушателей. И от этого многое теряется. И все-таки очень интересно. Ему много хлопают. Он кончил. Он встает. К нему, как всегда, подбегает толпа студистов и молодых поклонников. Он идет по коридору. Они бегут за ним. Он выше всех, его видно в толпе. Он что-то говорит, жестикулируя и спрутообразно извиваясь. И вдруг останавливается и, повернув, идет решительно прямо на меня. Публика расступается. Вокруг него и меня образуется пустое место.
Чуковский кланяется, как всегда «сгибаясь пополам». Этот поклон предназначается мне. И все видят.
– Одоевцева, я в восторге от вашей баллады! – говорит он очень громко. И все слышат. Нет, может быть, он произносит другие слова – от волнения я плохо слышу. Но смысл их – восхищение моей балладой.
– Я очень прошу вас записать «Толченое стекло» в «Чукоккалу». Обещаете?
Я ничего не обещаю. У меня для обещания нет голоса. Я даже кивнуть головой не могу.
Но ведь его «обещаете» – только цветок риторического красноречия, поднесенный им мне.
«Чукоккала» – святая святых, тетрадь в черном кожаном переплете. Только знаменитости удостаиваются чести писать в ней.
Чуковский снова отвешивает мне нижайший театральный поклон. Он идет к выходу. Я стою на том же месте. Гумилев трогает меня за плечо:
– Идемте!
Слушатели все еще толпятся вокруг меня. Теперь они идут за нами с Гумилевым. До меня доносится: «Как ее зовут? Как? Одоевцева? Какое такое „Стекло“? Кто она такая?»
Мы на Невском. Гумилев говорит взволнованно:
– Вот видите. И случилось. Поздравляю вас!
Но я не понимаю. Откуда Чуковский знает? Почему? И Гумилев рассказывает, что он вчера, в понедельник, брился в парикмахерской Дома искусств рядом с Чуковским и прочел ему «Толченое стекло» наизусть. И Чуковский, как Георгий Иванов, пришел в восторг.
– И вот результат. Поздравляю. Я думал, что вы будете знаменитой. Но не думал, что так скоро. Теперь вас всякая собака знать будет.
«Всякая собака» – вряд ли. Петербургские собаки были по-прежнему заняты своими собачьими делами. Но действительно, с вечера 3 мая я стала известна в литературных – и не только литературных – кругах Петербурга.
Так. Сразу. По щучьему велению. Не успев даже понять, как это случилось.
С этой весны для меня началась уже настоящая литературная жизнь и понеслась ускоренным, утроенным, удесятеренным темпом. Не хватало времени, чтобы перевести дух. Столько событий кружилось и кружило нас снежным вихрем. Лекции сменялись литературными вечерами и концертами, концерты танцевальными вечерами. Все это происходило в Доме литераторов и в Доме искусств. Были и настоящие балы.
Столько событий! И мое первое публичное выступление.
3 августа 1920 года я читала впервые «Балладу о толченом стекле» на литературном утреннике Дома литераторов. Уже как настоящий, полноценный поэт. Ведь никаких ученических и дилетантских выступлений здесь не полагалось.
Волновалась ли я? Не особенно. Я в мечтах давно пережила все свои выступления и успехи. И когда они наконец стали реальностью, отнеслась к ним довольно сдержанно.
В день моего первого выступления Гумилев зашел за мной. Я вышла к нему уже готовая, в туфлях на высоких каблуках и чулках. В обыкновенное время я, следуя тогдашней моде, ходила в носочках. Но для торжественного выступления они – я понимала – не годятся. На мне синее платье. Не белое кисейное с десятью воланами, не розовое, а синее шелковое. Для солидности. И в волосах, как птица, бант. Синяя птица – в цвет платья и как у Метерлинка.
Гумилев осматривает меня внимательно.
– Бант снимите. Бант тут не к месту.
Я не сразу уступаю. Ведь бант часть меня. Без него я не совсем существую.
Но Гумилев настаивает:
– Верьте мне, с бантом слишком эффектно.
Выступать с бантом он разрешил мне только через два месяца.
– Теперь вам не только можно, но и следует выступать с бантом. Он еще поднимет вашу популярность…
Мое первое выступление прошло вполне благополучно, хотя и не сопровождалось овацией.
Мне, как и профессору Карсавину, выступавшему передо мной, в меру поаплодировали.
Большего в Доме литераторов ждать не приходилось. Аудитория здесь была тонно-сдержанная, не то что в Доме искусств.
Объяснялось это ее составом – большинство здешних слушателей достигло почтенного и даже сверхпочтенного возраста и давно научилось «властвовать собой» и не проявлять бурно своих чувств и симпатий, тогда как в Доме искусств преобладал «несовершеннолетний, несдержанный элемент».
Все же и Гумилев, и я остались вполне довольны моим первым выступлением.
Но этим дело не ограничилось. Через три дня Гумилев с таинственным видом подвел меня к стене, на которой, как тогда полагалось, была наклеена «Красная газета», и ткнул пальцем в нижний фельетон.
– Читайте! Только дайте я вас под руку возьму, чтобы вы в обморок не упали. Обо мне в «Красной газете» фельетонов никогда не появлялось! Куда там! Лариса Рейснер вас прославила, и как еще! С первого же вашего появления. Поздравляю и завидую!
Ни ему, ни мне, ни, конечно, и самой Ларисе Рейснер, – писавшей стихи и вполне дружески относившейся к поэтам, – не пришло в голову, что такое «прославление» могло кончиться для меня трагично. Она в своем фельетоне сообщала, что «изящнейшая поэтесса» в талантливой балладе возвела клевету на красноармейца, обвиняя его в подмешивании стекла к продаваемой им соли, то есть в двойном преступлении – не только в мешочничестве, но и в посягательстве на жизнь своих сограждан.
«На верхах», узнав о существовании явно контрреволюционной «изящнейшей поэтессы», клевещущей на представителей Красной Армии, могли, конечно, заинтересоваться ею и пожелать прекратить раз и навсегда ее зловредную деятельность – даже вместе с ее жизнью.
Но мы, повторяю, по своему невероятному, необъяснимому легкомыслию об этом вовсе и не подумали.
А фельетон Ларисы Рейснер, несмотря на его намек на мою контрреволюционность или благодаря ему – как впоследствии и хвалебный отзыв Троцкого, – принес мне известность не только в буржуазных, но и в большевистских кругах.
Начало осени 1920 года. Второй вечер, устраиваемый Союзом поэтов. Совсем недавно – только этим летом основанным Союзом поэтов и уже успевшим переорганизоваться, переменить председателя. И изменить направление. История эта наделала много шума в тогдашнем литературном мире.
Из Москвы в Петербург прибыла молодая поэтесса Надежда Павлович с заданием организовать петербургский Союз поэтов, по образцу московского. Задание свое она выполнила с полным успехом – на все 120 процентов. Председателем был избран Блок. Сама Павлович занимала видное место в правлении, чуть ли не секретарское. Имена остальных членов правления, кроме Оцупа и Рождественского, я забыла.
Союз поэтов, как и предполагалось по заданию, был «левым». И это, конечно, не могло нравиться большинству петербургских поэтов. К тому же стало ясно, что Блок хотя и согласился «возглавить» Союз поэтов, всю свою власть передаст «Надежде Павлович с присными».
Выгод от такого правления петербургским поэтам ждать не приходилось. Гумилев же был полон энергии, рвался в бой, желая развить ураганную деятельность Союза на пользу поэтам. Лагерь Павлович «с присными» был силен и самоуверен. Ведь его поддерживала Москва, и все же ему пришлось потерпеть поражение. Гумилев проявил в этой борьбе за власть чисто макиавеллистические способности. Придравшись к тому, что правление Союза было выбрано без необходимого кворума, некоторые поэты потребовали перевыборов. На что правление легко согласилось, предполагая, что это простая формальность и оно, конечно, останется в своем полном и неизменном составе. Но в гумилевском лагере все было рассчитано и разыграно виртуозно; на перевыборах совершенно неожиданно была выставлена кандидатура Гумилева, который и прошел большинством… в один голос. Результат перевыборов ошеломил и возмутил прежнее правление.
– Это пиррова победа, – горячилась Павлович, – мы этого так не оставим. Мы вас в порошок сотрем!
В Москву полетели жалобы. Но вскоре выяснилось – ничего противозаконного в действиях Гумилева не усматривалось. Все, по заключению экспертов, было проведено так, что и «комар носа не подточит». Хотя Блок нисколько не держался за свое председательство, все же провал не мог не оскорбить его. Но он и вида не показал, что оскорблен. Когда новое правление во главе с председателем Гумилевым и секретарем Георгием Ивановым отправилось к нему с визитом, Блок не только любезно принял его, но нашел нужным «отдать визит», посетив одну из пятниц, устраиваемых Союзом на Литейном.
И на сегодняшнем вечере Блок также не отказался выступить вместе со всеми поэтами, находящимися сейчас в Петербурге.
Я, хотя и считаюсь уже поэтом и даже уже выступала один раз в Доме литераторов, этой чести сегодня не удостоилась. Я сознаю, что это справедливо – выступают только поэты с поэтическим стажем и твердо установившимся именем. Мне все же дано разрешение находиться в «артистической» – в гостиной, рядом с эстрадной залой. И это наполняет меня гордостью. И смущением.
– Я опоздаю, – предупредил меня вчера Гумилев. – А вы приходите пораньше и ждите меня там. Кузмин обещал непременно быть. Вот наконец и увидите его. И познакомитесь с ним.
Да, я еще ни разу не видела Кузмина. Но я слышала о нем много самых противоречивых рассказов. По ним мне никак не удается составить себе ни образа, ни биографии Кузмина: Кузмин – король эстетов, законодатель мод и тона. Он – русский Брюммель. У него триста шестьдесят пять жилетов.
По утрам к нему собираются лицеисты, правоведы и молодые гвардейцы присутствовать при его «petit lever»[24]. Он – старообрядец. Его бабушка – еврейка. Он учился у иезуитов. Он служил малым в мучном лабазе. В Париже он танцевал канкан с моделями Тулуз-Лотрека. Он носил вериги и провел два года послушником в итальянском монастыре. У Кузмина – сверхъестественные «византийские глаза». Кузмин – урод.
Как сочетать все это?
Но вдобавок оказывается еще, что Вячеслав Иванов восхищался его эрудицией и в спорах прислушивался к его мнению. Он гордился тем, что Кузмин жил у него на «Башне». Но, оказывается, Кузмин жил еще и у Нагродской, прославленного автора «Гнева Диониса». И там устраивались маскарады, о которых и сейчас говорят шепотом. Оказывается также, что Кузмин готовился стать композитором и учился в консерватории у Римского-Корсакова и что стихи он стал писать только в тридцать три года, по совету Брюсова. Он все не мог найти подходящих «слов» для своей музыки.
– Если чужие стихи вам не подходят, пишите сами, – посоветовал ему Брюсов и «показал, как это делается».
Кузмин сразу обнаружил огромные способности и вскоре махнул рукой на музыку, заменив ее поэзией. Хотя музыку бросил не совсем.
Рассказывали, что он так объяснял этот переход к поэзии:
– И легче, и проще. Стихи так с неба готовыми и падают, как перепела в рот евреям в пустыне. Я никогда ни строчки не переделываю.
Этому, как и многому другому в его легендарной и противоречивой биографии, мне было трудно поверить. Неужели правда – никогда, ни строчки? Ведь Гумилев иногда неделями бьется над какой-нибудь строкой и меня по многу раз заставляет переделывать стихи, пока не получится «то, что не требует исправления».
Я очень люблю стихи Кузмина. В особенности «Александрийские песни» и это – я его всегда читаю вслух, проходя мимо Таврического сада:
- Я тихо от тебя иду,
- А ты остался на балконе.
- «Коль славен наш Господь в Сионе» —
- Трубят в Таврическом саду.
- Я вижу бледную звезду
- На тихом, теплом небосклоне,
- И лучших слов я не найду,
- Когда я от тебя иду:
- «Коль славен наш Господь в Сионе».
Неужели и оно «с неба, как перепелка в рот»? Неужели? Ведь это одно из восхитительнейших русских стихотворений. Нет, я не верила. Только потом, когда я стала женой Георгия Иванова, я узнала, что у него
- Вдруг появляются стихи.
- Вот так из ничего,
что совершенные стихи, не требующие исправлений, могут появляться «чудесно, на авось». Но тогда я об этом еще понятия не имела. И Кузмин казался мне чем-то вроде мага и волшебника. И фокусника.
Я всегда волнуюсь перед встречей с еще не виданным мною поэтом. Но сегодня я иду в Дом искусств, «как идут на первое свиданье в розами расцветший сад». С сердцем, заранее переполненным восхищением и благодарностью судьбе за эту встречу. Я готова восхититься Кузминым. Не только его «византийскими глазами» – «глазами-безднами, глазами-провалами, глазами – окнами в рай», – но и его дендизмом, даже его жилетом, – всем, что составляет того легендарного Кузмина, чьи стихи
- Из долины мандолины…
повторяет сам Блок наизусть. А ведь Блок, по словам Гумилева, не признает почти никого из современных поэтов.
Я нарочно пришла рано, пока еще никого нет. Я усаживаюсь в большое шелковое кресло в темном углу гостиной. Отсюда мне будут видны все входящие, а я сама могу остаться не замеченной никем, как в шапке-невидимке.
Первым является Владимир Пяст. Самый богемный из богемных поэтов. Русская разновидность «poète maudit»[25]. Он летом и зимой носит соломенное канотье и светлые клетчатые брюки, прозванные «двустопные пясты». В руках у него незакрывающийся ковровый саквояж. Из него выглядывают, как змеи, закрученные трубками рукописи. На ногах похожие на лыжи длинноносые стоптанные башмаки, подвязанные веревками. Веревки явно не нужны – башмаки держатся и без них. Но веревки должны дорисовывать портрет «поэта моди» во всем его падении, нищете и величии. Так же, как и ковровый саквояж с рукописями, – «все свое ношу с собой».
Пяст знает все свои стихи наизусть и может их читать часами, не заглядывая в рукописи. Я с ним давно знакома. Он «чтец-декламатор», то есть учит слушателей «Живого слова» декламации. Но самое удивительное в Пясте не его внешность и не его «чтец-декламаторство», а то, что он один из друзей Блока вместе с Евгением Ивановым – рыжим Женей – и Зоргенфреем. Этот Зоргенфрей неожиданно достиг широкой известности своим единственным, как нельзя более современным стихотворением. Мы все на разные лады повторяли при встречах строки из него:
- – Что сегодня, гражданин,
- На обед?
- Прикреплялись, гражданин,
- Или нет?
- – Я сегодня, гражданин,
- Плохо спал.
- Душу я на керосин
- Променял…
Зоргенфрей, рыжий Женя и Пяст. Только их трех, неизвестно почему, «допускает до себя» Блок. С ними он совершает загородные прогулки, с ними в пивных на Васильевском острове проводил бессонные ночи – до революции. К Пясту, несмотря на его чудачества, относятся все не без некоторого уважения. Как к другу Блока. Как к бывшему другу Блока. Пяст не мог простить Блоку «Двенадцати». И они разошлись.
За Пястом входит прямая противоположность ему – Михаил Леонидович Лозинский. Холеный. Похожий на директора банка. За ним Дмитрий Цензор, признанный кумир швеек.
По словам все того же Гумилева, Цензор умеет вызывать у своих поклонниц слезы умиления строчками вроде:
- Какое счастье, какое счастье
- Дать кому-нибудь в мире счастье,
и даже заставить их «дать ему счастье».
Гостиная понемногу начинает наполняться. Я знаю – с виду – далеко не всех. Но вот входит Блок. И Андрей Белый. Андрей Белый останавливается на пороге, оглядывает комнату своими светлыми сияющими дальнозоркими глазами. Я стараюсь уйти поглубже в кресло. Но от таких глаз не уйдешь. Они видят все. На два аршина под землей – видят.
Белый, будто исполняя балетный танец, начинает подлетать к присутствующим в рассыпающемся сиянии седых кудрей, с распростертыми для полета и для объятия руками. Но нет, до объятий не доходит. Вместо объятий – рукопожатие и сияющая улыбка, обворожительная улыбка.
– Как я рад… – Легчайший прыжок в сторону, и конец фразы достается уже не Блоку, а разговаривающему с ним Лозинскому.
Я с тревогой слежу за сложным рисунком его танца-полета. Пронеси, господи! А он уже летит по диагонали, сияя улыбкой узнаванья, в мой угол – прямо на меня. Радостное восклицание:
– Вы? Ведь мы с вами с самой Москвы… – и, не докончив, отлетает, оставляя меня в полном недоумении. Я сбита с толку. Надо ли объяснять ему, что он принял меня за кого-то другого, что я никогда в Москве не была? Но он уже в противоположном конце гостиной рассыпает, как цветы, улыбки и приветствия, обвораживая и очаровывая.
Я застываю в своем кресле на виду у всех. Я чувствую, что у меня не только смущенный, но глупый и смешной вид. Я закрываю глаза. Я тону, гибну. И некого позвать на помощь.
Но помощь неожиданно является, – в лице Лозинского. Он подходит ко мне своей неспешной, эластичной походкой, любезно и благосклонно улыбаясь.
– Здравствуйте. Вы тоже выступаете сегодня? Я с удовольствием прослушаю еще раз вашу «Балладу о толченом стекле». С большим удовольствием. Наши бабушки, наверно, слушали «Светлану» Жуковского, как я вашу балладу. С таким же восхищением.
У Лозинского ясный, полнозвучный голос. Он отчетливо произносит каждое слово. Мне кажется, что он умышленно говорит так громко, чтобы все слышали. Я понимаю: он хочет поддержать меня. Он добрый. И я, приободрившись, отвечаю:
– Нет, Михаил Леонидович, я сегодня не выступаю.
– Ну, это можно поправить. Мы вас во втором отделении выпустим. Сверх программы.
Но меня снова охватывает смущение. Я качаю головой:
– Нет-нет. Я не могу. Я не приготовилась.
И он не настаивает:
– Что ж? Торопиться вам, слава богу, незачем. Еще успеете славы хлебнуть. Время терпит.
И он произносит на прощанье почтительно и веско:
– Чик!
«Чик» – придуманное им сокращение. Теперь мода на сокращения. Надо идти в ногу с веком, серьезно объясняет он недоумевающим. «Честь имею кланяться». Ч. И. К. – Чик! Я не могу без смеха слышать этот с важной серьезностью произносимый им «Чик»! Я и сейчас смеюсь. И уже по-новому сижу в своем кресле. Почти смело. Теперь гостиная полна и «шумит нарядным ульем».
Блок стоит у окна. Его темное усталое лицо повернуто в мою сторону. Он смотрит на меня своим тяжелым усталым взглядом и вдруг кланяется мне! Да, мне! Никакого сомнения. Блок узнал меня. Я сдержанно отвечаю на его поклон. Но мое сердце прыгает в груди от восторга. С Блоком я познакомилась месяц тому назад во «Всемирной литературе».
Но с кем это разговаривает Блок? Я не заметила, как пришел этот странный маленький человечек. Кто он такой? Неужели он тоже поэт? Он стоит ко мне спиной. Я вижу его лысину и по бокам ее, над левым и правым виском, две густо нафабренные пряди темных волос, закрученные наподобие рожек. Рожки, как у фавна или черта. Может быть, у него не только рожки, но и копытца? Но нет, под полосатыми брюками ярко-зеленые носки и стоптанные лакированные туфли. Никаких копытец. Обыкновенные ножки.
До меня доносится низкий, глуховатый голос Блока:
– Я боюсь за вас. Мне хочется оградить, защитить вас от этого страшного мира, Михаил Алексеевич…
Я чувствую толчок в лоб. Михаил Алексеевич… Ведь Кузмин – Михаил Алексеевич. И кому, кроме Кузмина, Блок, нелюдимый Блок, мог бы сказать с такой нежной заботливостью: «Я боюсь за вас. Мне хочется защитить вас от этого страшного мира»?
Это он – Кузмин. Принц эстетов, законодатель мод. Русский Брюммель. В помятой, закапанной визитке, в каком-то бархатном гоголевском жилете «в глазки и лапки». Должно быть, и все остальные триста шестьдесят четыре вроде него. Я всматриваюсь в его лицо. Да, глаза действительно сверхъестественно велики. Как два провала, две бездны, но никак не два окна, распахнутые в рай. Как осенние озера. Пожалуй, не как озера, а как пруды, в которых водятся лягушки, тритоны и змеи. Таких глаз я действительно никогда не видела. И веки совсем особенные. Похожие на шторы, спускающиеся над окнами. На шторы, почему-то называющиеся маркизами. В памяти моей вдруг начинают звучать отрывки стихов Кузмина про маркиз и маркизов:
- Клянусь семейною древностью,
- Что вы обмануты ревностью…
- . . . . . . . . . . . . . . . .
- Кто там выходит из-за боскета?
- Муж Юлии то обманутый,
- В жилет атласный затянутый,
- Стекла блеснули его лорнета…
Нет, не лорнета, а пенсне. Стекла пенсне Кузмина, нетвердо сидящие на его носике и поблескивающие при каждом движении головы. Может быть, беспрерывное поблескивание стекол и придает такую странность его глазам?
И вдруг я замечаю, что его глаза обведены широкими черными, как тушь, кругами и губы густо кроваво-красно накрашены. Мне становится не по себе. Нет, не фавн, а вурдалак: «На могиле кости гложет красногубый вурдалак…» Я отворачиваюсь, чтобы не видеть его.
Дверь снова открывается. Входит Гумилев, и за ним Георгий Иванов, подчеркнуто элегантный, в синем костюме. С челкой. Мне очень не нравится эта челка. Гумилев церемонно обходит всех и со всеми здоровается за руку. Церемонно и почтительно. Осведомляется о здоровье, уславливается о порядке выступления и кто какие стихи будет читать. И только условившись обо всем, направляется к моему креслу.
– Ну, как вы тут? Не умерли от страха?
Я оглядываю его не без самоуверенности.
– Ничего страшного. Даже наоборот…
Мне очень хочется рассказать ему об «омаже»[26], как это у нас называется, сделанном мне Лозинским. Но здесь не место и не время хвастаться.
– Пойдемте, я вас познакомлю с Кузминым, – предлагает Гумилев.
Вся моя самоуверенность сразу пропадает. Я не хочу. Ни за что не хочу, сама не понимаю отчего. Гумилев насмешливо улыбается:
– Трусите? Стесняетесь? Ведь не съест же он вас?
Нет, я не трушу и не стесняюсь. Но мне почему-то кажется невозможным заглянуть в его густо подведенные глаза, увидеть близко его кроваво-красные губы, пожать его маленькую, смуглую руку, похожую на корни дерева. Ведь у него руки как в стихотворении Гумилева «Лес»: «…Из земли за корнем корень выходил – // Словно руки обитателей могил…»
– Пожалуйста, не сегодня. В другой раз, пожалуйста! – защищаюсь я.
Гумилев пожимает плечами.
– Не хотите – не надо. Тогда бегите в зал. Сейчас начнут.
Я встаю и стараюсь шагать широко и плавно, как меня учили на уроках ритмической гимнастики, иду к выходу. По дороге мне кланяется Георгий Иванов. Но его поклон после поклона Блока я принимаю без удивления, как должное. Еще бы он не узнал меня! Я наклоняю голову, проходя мимо него, и чувствую, что он смотрит мне вслед.
Зал переполнен. Не только нет свободных мест, но во всех проходах стоят запоздавшие слушатели. Здесь, в эмиграции, просто невозможно себе представить, как слушали, как любили поэтов в те баснословные года в Петербурге, да и во всей России. Марина Цветаева была права, когда писала: «Из страны, где мои стихи были нужны, как хлеб, я в 22-м году попала в страну, где ни мои стихи, ни вообще стихи никому не нужны».
Да, стихи тогда были нужны не меньше хлеба. Иначе как могли бы все эти усталые, голодные люди после изнурительного трудового дня найти в себе силу пройти пешком, иногда через весь Петербург, лишь для того, чтобы услышать и увидеть поэтов?
Только тогда и там, в Петербурге, чувствовалась эта горячая, живая связь слушателей с поэтами, эта любовь. Овации, бесконечные вызовы. Поэтов охватывало ощущение счастья от благодарного восхищения слушателей. Казалось, что все друзья поэтов. Готовые для поэтов на любые жертвы. Если надо – отдать последнее. Отдать даже тот хлеб, о котором Марина Цветаева говорила, что он так же нужен, как стихи.
Нет, пожалуй, на этот раз Цветаева не преувеличила, а скорее преуменьшила – стихи тогда многим были даже нужнее хлеба.
Скоро, очень скоро и я испытаю это опьяняющее ощущение счастья, с которым не сравнится ничто на свете. Но сейчас я еще только составляю часть восторженной аудитории. Я с замиранием сердца слушаю глухой, однотонный голос Блока, скандирующий:
- Под насыпью, во рву некошенном,
- Лежит и смотрит, как живая,
- В цветном платке, на косы брошенном,
- Красивая и молодая…
Блок читает совершенно спокойно и даже как-то равнодушно и безучастно. Но я знаю, что он волнуется. Он никогда, несмотря на все бесчисленные выступления, не мог отделаться от «трака». Последние минуты перед выходом на сцену он, как лев в клетке, ходит взад и вперед и повторяет свои стихи. Почти всегда те, что сегодня: «На железной дороге». Другие он почему-то редко читает.
Блок стоит неподвижно. В «ярком беспощадном свете» электрических ламп, направленных на него, еще резче выступает контраст между темным усталым лицом и окружающими его, как нимб, светлыми локонами. Он продолжает все так же отчетливо, медленно и равнодушно:
- Вагоны шли привычной линией,
- Подрагивали и скрипели,
- Молчали желтые и синие,
- В зеленых плакали и пели…
Я знаю эти стихи наизусть, но мне кажется, что я слышу их в первый раз. Я сжимаю руки, я боюсь пропустить хоть одно слово. Я как будто в первый раз слышу эту трагедию «станционной барышни», не только слышу, но и переживаю ее. От монотонного, равнодушного голоса Блока, от его безучастной манеры читать она еще сильнее «доходит», еще сильнее ранит сердце. И вот уже конец. Блок слегка наклоняет голову и уходит. Уходит, чтобы больше не возвращаться. Ни на какие вызовы и аплодисменты. А вызовы и аплодисменты грохочут грозой, настоящей грозой, как будто
- …ветреная Геба,
- Кормя Зевесова орла,
- Громокипящий кубок с неба,
- Смеясь, на землю пролила, —
уже звучит тютчевская строфа в моей начиненной стихами голове. Да, совсем так.
Я вместе с другими студистами яростно отбиваю себе ладони, до хрипоты выкрикивая короткое, звонкое имя: «Блок! Блок! Блок!» Я знаю, что Блок больше не вернется. Я и не вызываю его. Это только бескорыстный восторг, дань преклонения перед ним.
Зал продолжает греметь, пока на эстраде не появляется Кузмин. Овация Блоку постепенно переходит в аплодисменты, встречающие Кузмина. Правда, значительно более сдержанные. Кузмин на эстраде кажется еще меньше. Он держится удивительно просто, как-то добродушно-любезно. Он всем своим видом выражает радость встречи со слушателями: «Наконец-то я добрался до вас, душки вы, голубчики мои. И как это хорошо! Как приятно! И вам, и мне». Он слегка вытягивает шею, закидывает голову, надувает щеки и, повернувшись в профиль, начинает:
- За-за-залетной голубкой
- Ты мне в сердце влетел…
Господи, да он еще и заикается! А я и не знала. Гумилев мне об этом не говорил. Но Кузмин, справившись с первым приступом заиканья, уже плавно катится со стихотворения на стихотворение, лишь изредка налетая на риф какой-нибудь трудности, рассыпаясь звуковыми брызгами:
- На-на-навек сказали вы грациозно
- И показали на з-з-звезду…
Я вслушиваюсь. И вот мне уже кажется, что именно так, с придыханиями, захлебываниями и заиканиями, и надо читать его стихи. Так просто. Так ласково и уютно. Не заставляя себя просить. Еще и еще. И лицо его становится совсем другое, чем только что там, в гостиной, – маленькое, милое, загримированное старостью, с полузакрытыми глазами. Глазами – окнами в рай? Не знаю. Сейчас я ни за что не поручусь.
Домой я, как всегда, возвращаюсь с Гумилевым.
– Как вам понравился Кузмин? – спрашивает он.
– Не знаю, – совершенно искренно отвечаю я.
Гумилев недовольно морщится:
– Вы просто не умеете его оценить.
Да. Не умею и никогда не сумею. Мое первое впечатление о нем оказалось решающим. И я так до сих пор еще не знаю, нравился ли он мне или нет. Вернее, нравился и не нравился в одно и то же время.
Сырой, холодный октябрьский день 1920 года. Я сижу в столовой Дома литераторов за длинным столом над своей порцией пшенной каши.
Я стараюсь есть как можно медленнее, чтобы продлить удовольствие. Каша удивительно вкусна. Впрочем, все съедобное кажется мне удивительно вкусным. Жаль только, что его так мало. Конечно, я могу попросить еще порцию каши – мне в ней не откажут.
Но для этого пришлось бы сознаться, что я голодна. Нет, ни за что.
Во мне, как в очень многих теперь, неожиданно проснулась «гордость бедности» – правда, «позолоченной бедности». Ведь мы все еще прекрасно одеты и живем в больших барских квартирах. Но боже, как мы голодаем и мерзнем в них.
Возле меня вьюном вьется Люся Дарская, дочь актера Дарского, – «терибельное дитя» и вундеркинд Домлита.
Вряд ли она где-нибудь учится. Она здесь с утра и до закрытия, вместе со своей матерью и теткой.
Люся, как никто, знает все местные происшествия, ежедневно рапортует о них Кузмину, тоже постоянному посетителю, и как заправская кумушка-сплетница обсуждает их с ним.
Люся на редкость развитая и одаренная девочка. Она читает наизусть все наши новые стихи, еще не появившиеся в печати, и сочиняет очень недурные, вполне грамотные подражания им. Кроме того, она хорошо рисует и сама премило иллюстрирует наши стихи.
Ей только двенадцать лет, но она в самых дружеских отношениях со всеми поэтами Домлита – как равная с равными.
Ее все любят и прощают ей ее непочтительный тон и даже дерзости. Она наградила всех поэтов кличками, по большей части зоологическими. Так, Гумилев – дядя Изысканный Жираф, в память его строк:
- Далёко, далёко на озере Чад
- Изысканный бродит жираф…
Гумилев не обижается. Впрочем, у него еще второе прозвище – дядя Гум.
Георгий Иванов – дядя Мышка. Олечка Арбенина – тетя Свинка. Я – тетя Леопард. Есть и дядя Таракан, и дядя Бегемот, и тетя Пчелка и так далее. Ей все позволено, и она этим широко пользуется.
Она садится на пол у моих ног, изображая собаку, вычесывающую блох.
– Тетя Леопард, а дядя Гум скоро придет?
– Нет, Люся, он сегодня не придет, – говорю я. – Ему надо спешно кончить перевод для «Всемирной литературы».
Люся забавно морщит носик.
– Терпеть не могу его переводов. – И она, подражая голосу Гумилева, торжественно и глухо произносит:
- И Робин бросился за ним,
- Его опередив.
Скажите, тетя Леопард, вы, когда бросаетесь вдогонку кому-нибудь, тоже опережаете его?
– Перестань, – строго обрываю я ее. – Это не твоего ума дело. Вырасти сначала, а пока иди играть с Димитрием-где-ложка. Видишь, он, бедненький, слоняется один и скучает.
Димитрий-где-ложка – второй общий любимец, вместе с Люсей составляющий детский сад Домлита. Он очаровательный большеглазый малыш с длинными темными локонами. Его мать, занимающая какую-то должность в Домлите, водит его летом и зимой в белоснежных костюмчиках – каких трудов должна стоить ей эта белизна.
Дважды в день ему выдается его порция каши. Он съедает ее и возвращается неизменно с тарелкой, но без ложки. Тут-то и раздается грозный материнский окрик: «Димитрий, где ложка?», ставший его прозвищем.
– А как же, – вскрикивает Люся, – вы только что сказали, что дядя Гум не явится, когда он тут во всем своем величии? – И она, вскочив, летит навстречу входящему в столовую Гумилеву.
Но он, не обращая на нее внимания, быстро оглядев столовую, идет прямо ко мне в своей оленьей дохе, держа оленью шапку в руках.
Люся обиженно и недоуменно провожает его взглядом – обыкновенно он очень ласков с ней – и, насмешливо сделав ему за его спиной реверанс, бежит к Димитрию-где-ложка. Ведь она, несмотря на свою скороспелость, все еще ребенок и с увлечением играет с ним и возит его на своей спине. Иногда и я, забыв, что я равноправный член Дома литераторов, присоединяюсь к ним.
Гумилев, против своего обыкновения, не здоровается со мной церемонно, а заявляет:
– Вас-то я и ищу, вас-то мне и надо. Кончайте скорее вашу кашу и идемте!
От радости – я всегда испытываю радость при встрече с ним, в особенности если это, как сейчас, неожиданная встреча, – каша сразу перестает казаться вкусной. Я стараюсь как можно скорее покончить с ней. Оставить ее недоеденной я все-таки не решаюсь. Я так тороплюсь, что боюсь поперхнуться.
– Идемте! – нетерпеливо повторяет он, уже направляясь к выходу.
И я иду за ним.
В прихожей я надеваю свою котиковую шубку с горностаевым воротничком, нахлобучиваю прямо на бант круглую котиковую шапку. Очень быстро, не тратя времени на ненужное предзеркальное кокетничанье.
Но Гумилев, хотя он и спешит, все же останавливается перед зеркалом и обеими руками, как архимандрит митру, возлагает на себя свою ушастую оленью шапку.
Сколько раз мне приходилось видеть, как он самодовольно любуется своим отражением в зеркале, и я все же всегда изумляюсь этому.
Должно быть, его глаза видят не совсем то, что мои. Как бы мне хотелось хоть на мгновение увидеть мир его глазами.
Мы выходим на темную Бассейную. Идет мокрый снег. Как холодно и бесприютно. А в Домлите было так тепло, светло и уютно. Зачем мы ушли?
– Куда мы идем, Николай Степанович?
Он плотнее запахивает полы своей короткой дохи.
– Любопытство вместе с леностью – мать всех пороков, – произносит он менторским тоном. – Вспомните хотя бы Пандору. И не задавайте праздных вопросов. В свое время узнаете. И прибавьте шагу.
Я знаю по опыту, что настаивать напрасно, и молча шагаю рядом с ним. Мы идем вверх по Бассейной, а не вниз. Значит, не ко мне и не к нему. Но куда? Мы сворачиваем на Знаменскую. Тут, в бывшем Павловском институте, когда-то помещалось «Живое слово», с которого началась моя настоящая жизнь.
Теперь «Живое слово» переехало в новое помещение возле Александринского театра. Я в нем больше не бываю. Оно – обманувшая мечта. Из него за все время его существования ничего не вышло. «Гора родила мышь». А сколько оно обещало и как прелестно было его начало! Я не могу не вспоминать о нем с благодарностью.
– Какое сегодня число? – неожиданно прерывает молчание Гумилев.
– 15 октября, – с недоумением отвечаю я.
Гумилев, не в пример очень многим – ведь календарей больше нет, – всегда точно знает, какое сегодня число, какой день недели.
– А что случилось в ночь с 14-го на 15 октября 1814 года? – спрашивает он.
Я растерянно мигаю. Это мне не известно. Наверно, что-нибудь касающееся Наполеона. Ватерлоо? Отречение? Или вступление русских войск в Париж? Но почему в ночь на 15-е? Нет, русские войска вступили в Париж днем, и, кажется, весной…
– Не знаете? Событие, касающееся непосредственно нас с вами.
– Ватерлоо? Вступление русских войск в Париж? – предлагаю я неуверенно.
Гумилев смеется.
– С каких это пор армия вас непосредственно касается? Нет-нет, совсем нет. Бросьте проявлять ваши исторические познания, которые у вас, кстати, слабы. Слушайте – и запомните. – Он вынимает правую руку, засунутую в левый рукав дохи, как в муфту, и, подняв длинный указательный палец, произносит: – Слушайте и запомните! В ночь на 15 октября 1814 года родился Михаил Юрьевич Лермонтов. И вам стыдно не знать этого.
– Я знаю, – оправдываюсь я, – что Лермонтов родился в 1814 году, только забыла месяц и число.
– Этого нельзя забывать, – отрезает Гумилев. – Но и я тоже чуть было не прозевал. Только полчаса тому назад вспомнил вдруг, что сегодня день его рождения. Бросил перевод и побежал в Дом литераторов за вами. И вот, – он останавливается и торжествующе смотрит на меня, – и вот мы идем служить по нем панихиду!
– Мы идем служить панихиду по Лермонтову? – переспрашиваю я.
– Ну да, да. Я беру вас с собой оттого, что это ваш любимый поэт. Помните, Петрарка говорил: «Мне не важно, будут ли меня читать через триста лет, мне важно, чтобы меня любили».
Да, Гумилев прав. Я с самого детства и сейчас еще больше всех поэтов люблю Лермонтова. Больше Пушкина. Больше Блока.
– Подумайте, – продолжает Гумилев, – мы с вами, наверно, единственные, которые сегодня, в день его рождения, помолимся за него. Единственные в Петербурге, единственные в России, единственные во всем мире… Никто, кроме нас с вами, не помянет его… Когда-то в Одессе Пушкин служил панихиду по Байрону, узнав о его смерти, а мы по Лермонтову теперь.
Мы входим в Знаменскую церковь. Возле клироса жмутся какие-то тени. Мы подходим ближе, шаги наши гулко отдаются в промерзлой тишине. Я вижу: это старухи – нищие, закутанные в рваные платки и шали. Наверно, они спрятались тут в надежде согреться, но тут еще холоднее, чем на улице.
– Подождите меня, – шепчет Гумилев, – я пойду поищу священника.
И он уходит. Я прислоняюсь к стене и закрываю глаза, чтобы не видеть старух-нищенок. Они чем-то напоминают мне ведьм. Им совсем не место в церкви. Мне становится страшно.
Слишком тихо, слишком темно здесь, в этой церкви. От одиноко мерцающих маленьких огоньков перед иконами все кажется таинственным и враждебным.
Я почему-то вспоминаю Хому Брута из «Вия». Я боюсь обернуться. Мне кажется, если я обернусь, я увижу гроб, черный гроб.
Мне хочется убежать отсюда. Я стараюсь думать о Лермонтове, но не могу сосредоточиться.
Скорей бы вернулся Гумилев!
И он наконец возвращается. За ним, мелко семеня, спешит маленький худенький священник, на ходу оправляя, должно быть, наспех надетую на штатский костюм рясу. «Служителям культа» рекомендуется теперь, во избежание неприятностей и насмешек, не носить «спецодежду» за стенами церкви.
– По ком панихида? По Михаиле? По новопреставленном Михаиле? – спрашивает он.
– Нет, батюшка. Не по новопреставленном. Просто по болярине Михаиле.
Священник кивает. Ведь в церкви, кроме нас с Гумилевым и нищенок-старух, никого нет и, значит, можно покойника величать «болярином».
Гумилев идет к свечному ящику, достает из него охапку свечек, сам ставит их на поминальный столик перед иконами, сам зажигает их. Оставшиеся раздает старухам.
– Держите! – И Гумилев подает мне зажженную свечку.
Священник уже возглашает:
– Благословен Бог наш во веки веков. Аминь…
Гумилев, стоя рядом со мной, крестится широким крестом и истово молится, повторяя за священником слова молитвы. Старухи поют стройно, высокими, надтреснутыми, слезливыми голосами:
– Святый Боже…
Это не нищенки, а хор. Я ошиблась, приняв их за нищенок.
– Со святыми упокой…
Гумилев опускается на колени и так и продолжает стоять на коленях до самого конца панихиды.
Но я не выдерживаю. Каменные плиты так холодны.
Я встаю, чувствуя, как холод проникает сквозь тонкие подошвы в ноги, поднимается до самого сердца. Я напрасно запрещаю себе чувствовать холод.
Я тоже усердно молюсь и крещусь. Конечно, не так истово, как Гумилев, но все же «от всей души».
– Вечная память… – поют старухи, и Гумилев неожиданно присоединяет свой глухой деревянный, детонирующий голос к их спевшемуся, стройному хору.
Гумилев подходит ко кресту, целует его и руку священника подчеркнуто благоговейно.
– Благодарю вас, батюшка!
Должно быть, судя по радостному и почтительному «Спасибо!» священника, он очень хорошо заплатил за панихиду.
Он «одаривает» и хор – каждую старуху отдельно – «если разрешите». И они «разрешают» и кланяются ему в пояс.
Делает он все это с видом помещика, посещающего церковь, выстроенную на его средства и на его земле.
– Ну как, вы замерзли совсем? – осведомляется он у меня уже на улице.
Я киваю:
– Замерзла, совсем.
– Но все-таки не жалеете, рады, что присутствовали на панихиде по Лермонтову? – спрашивает он.
И я отвечаю совершенно искренно:
– Страшно рада!
– Ну, тогда все отлично. Сейчас пойдем ко мне. Я вас чаем перед печкой отогрею.
Он берет меня под руку, и мы быстро шагаем в ногу.
– Ведь еще не кончено празднование дня рождения Лермонтова, – говорит он. – Главное еще впереди.
Мы сидим в прихожей Гумилева перед топящейся печкой. Я протягиваю озябшие руки к огню и говорю:
- После ветра и мороза было
- Любо мне погреться у огня…
– Ну нет, – строго прерывает меня Гумилев. – Без Ахматовой, пожалуйста. Как, впрочем, и без других поэтов. На повестке дня – Лермонтов. Им мы и займемся. Но сначала все же пообедаем.
Прихожая маленькая, тесная, теплая. В нее из холодного, необитаемого кабинета перенесены зеленый диван и два зеленых низких кресла. Электрический матовый шар под потолком редко зажигается. Прихожая освещается пламенем не перестающей топиться печки. От этого теплого красноватого света она кажется слегка нереальной, будто на наполняющую ее
- Предметов жалких дребедень
- Ложится сказочная тень…
будто
- …Вот сейчас выползет черепаха,
- Пролетит летучая мышь…
Но раз запрещено цитировать стихи, кроме лермонтовских, я произношу эти строчки мысленно, про себя. Тем более что они принадлежат мне.
«Пообедаем», сказал Гумилев, и он приступает к приготовлению «обеда». Закатав рукава пиджака, он с видом заправского повара нанизывает, как на вертел, нарезанные кусочки хлеба на игрушечную саблю своего сына Левушки и держит ее над огнем.
Обыкновенно эта сабля служит ему для подталкивания горящих поленьев, но сейчас она «орудие кухонного производства».
– Готово! – Он ловко сбрасывает кусочки запекшегося дымящегося хлеба на тарелку, поливает их подсолнечным маслом и объявляет: – Шашлык по-карски! Такого нежного карачаевского барашка вы еще не ели. – Он протягивает мне тарелку. – Ведь правда, шашлык на редкость хорош? А бузу вы когда-нибудь пили? Нет? Ну, тогда сейчас попробуете. Только пейте осторожно. Она очень пьяная. Голова закружиться может. И как я вас тогда домой доставлю?
Он сыплет пригоршнями полученный по академическому пайку изюм в котелок с морковным чаем, взбалтывает его и разливает эту мутную сладкую жидкость в два стакана.
Я, обжигая пальцы, беру стакан. Мы чокаемся.
– За Лермонтова! – провозглашает он, залпом проглатывая свой стакан, и морщится. – Чертовски крепкая! Всю глотку обожгло. Добрая буза!
Я прихлебываю «бузу» мелкими глотками и заедаю ее «шашлыком».
– Вкусно? – допытывается он. – Самый что ни на есть кавказский пир! Только зурны не хватает. Мы бы с вами под зурну сплясали лезгинку. Не умеете? Ничего, я бы вас научил. Я бы в черкеске кружился вокруг вас на носках, с кинжалом в зубах, а вы бы только поводили плечами, извивались и змеились.
И вдруг, бросив шутовской тон, говорит серьезно:
– Лермонтов ведь с детства любил Кавказ. Всю жизнь. И на Кавказе погиб. Ему было всего десять лет, когда он впервые увидел Кавказ. Там же он пережил свою первую влюбленность.
Он задумывается.
– Не странно ли? И я тоже мальчиком попал на Кавказ. И тоже на Кавказе впервые влюбился. И тоже не во взрослую барышню, а в девочку. Я даже не помню, как ее звали, но у нее тоже были голубые глаза и светлые волосы. Когда я наконец осмелился сказать ей: «Я вас люблю», она ответила: «Дурак!» – и показала мне язык. Эту обиду я и сейчас помню.
Он взмахивает рукой, будто отгоняя муху.
– Вот я опять о себе. Кажется, я действительно выпил слишком много бузы и хмель ударил мне в голову. А вы как? Ничего? Не опьянели? Отогрелись? Сыты? Сыты совсем?
– Совсем.
– Тогда, – говорит он, ставя пустые стаканы и тарелки на столик перед раз навсегда запертой входной дверью: ведь теперь ходят с черного хода, через кухню, – тогда, – повторяет он, – можно начинать.
– Что начинать? – спрашиваю я.
– А вы уже забыли? Начинать то, для чего я вас привел сюда, – вторую часть празднования дня рождения Лермонтова. Панихида была необходима не только чтобы помолиться за упокой его души, но и как вступление, как прелюд. И как хорошо, что нам удалось отслужить панихиду! Как ясно, как светло чувствуешь себя после панихиды. Будто вдруг приподнялся край завесы, отделяющий наш мир от потустороннего, и оттуда на короткое мгновение блеснул нетленный свет. Без нее я вряд ли сумел и смог бы сказать вам все то, что скажу сейчас. Оттого, – продолжает он, – что у нас, у вас и у меня, открылось сердце. Не только ум, но и сердце, навстречу Лермонтову.
Он встает, выходит в спальню и возвращается, неся несколько книг. Он сбрасывает их прямо на пол возле своего кресла.
– О Лермонтове. Они мне сегодня понадобятся. Ведь вы, хотя он и ваш любимый поэт, ровно ничего не знаете о нем, как, впрочем, почти все его поклонники. Сколько трудов о Пушкине и как их мало о Лермонтове. Даже не существует термина для изучающих Лермонтова. Пушкинисты – да, но лермонтовисты – звучит странно. Лермонтовистов нет, и науки о Лермонтове еще нет, хотя давно пора понять, что Лермонтов в русской поэзии явление не меньшее, чем Пушкин, а в прозе несравненно большее. Вы удивлены? Я этого еще никогда не говорил вам? Да. Не говорил. И вряд ли когда-нибудь скажу или напишу в статье. И все же это мое глубокое, искреннее убеждение.
Он усаживается снова в кресло.
– Мы привыкли повторять фразы вроде «Пушкин наше все!», «Русская проза пошла от „Пиковой дамы“». Но это, как большинство прописных истин, неверно.
Русская проза пошла не с «Пиковой дамы», а с «Героя нашего времени». Проза Пушкина – настоящая проза поэта, сухая, точная, сжатая. Прозу Пушкина можно сравнить с Мериме, а Мериме ведь отнюдь не гений. Проза Лермонтова чудо. Еще большее чудо, чем его стихи. Прав был Гоголь, говоря, что так по-русски еще никто не писал…
Перечтите «Княжну Мери». Она совсем не устарела. Она могла быть написана в этом году и через пятьдесят лет. Пока существует русский язык, она никогда не устареет.
Если бы Лермонтов не погиб, если б ему позволили выйти в отставку!..
Ведь он собирался создать журнал и каждый месяц – понимаете ли вы, что это значит? – каждый месяц печатать в нем большую вещь!
Гумилев достает портсигар и закуривает.
– Да, действительно, – говорит он, пуская кольца дыма, – как трагична судьба русских поэтов, почти всех: Рылеева, Кюхельбекера, Козлова, Полежаева, Пушкина…
Неужели же права графиня Ростопчина? Кстати, она – вы вряд ли это знаете – урожденная Сушкова. Нет, не печальной памяти Катрин Сушкова, написавшая о Лермонтове апокрифические воспоминания, а ее родная старшая сестра Додо Сушкова. Она была другом Лермонтова, поверенной его чувств и надежд, его наперсницей, как это тогда называлось. Неужели же она права, советуя поэтам:
- Не трогайте ее, зловещей сей цевницы,
- Поэты русские, она вам смерть дает!
- Как семимужняя библейская вдовица,
- На избранных своих она грозу зовет!
Я не выдерживаю:
– Но ведь вы запретили читать сегодня какие бы то ни было стихи, кроме лермонтовских?
Он пожимает плечами:
– Значит, и я не умею говорить, не цитируя стихов. Но смягчающее вину обстоятельство: эти стихи написаны на смерть Лермонтова.
Гумилев смотрит в огонь. Что он там видит такого интересного? Пламя освещает его косоглазое лицо.
– Иногда мне кажется, – говорит он медленно, – что и я не избегну общей участи, что и мой конец будет страшным. Совсем недавно, неделю тому назад, я видел сон. Нет, я его не помню. Но когда я проснулся, я почувствовал ясно, что мне жить осталось совсем недолго, несколько месяцев, не больше. И что я очень страшно умру. Я снова заснул. Но с тех пор – нет-нет да и вспомню это странное ощущение. Конечно, это не предчувствие. Я вообще не верю в предчувствия, хотя Наполеон и называл предчувствия «глазами души». Я уверен, что проживу до ста лет. А вот сегодня в церкви… Но ведь мы не обо мне, а о Лермонтове должны говорить сейчас.
И вдруг перебивает себя:
– Скажите, вы не заметили, что священник ошибся один раз и вместо «Михаил» сказал «Николай»?
Я качаю головой:
– Нет, не заметила. Нет, я ведь очень внимательна. Я бы услышала.
Он недоверчиво улыбается и закуривает новую папиросу.
– Ну, значит, я ослышался, мне почудилось. Но мне с той минуты, как мне послышалось «Николай» вместо «Михаил», все не по себе. Вот я дурачился и шашлык готовил, а под ложечкой сосет и сосет, и не могу успокоиться. Но раз вы уверены… Просто у меня нервы не в порядке. Надо будет съездить в Бежецк отдохнуть и подкормиться. Кстати, буза совсем уж не такой пьяный напиток. Я пошутил. А теперь забудьте, где вы, забудьте, кто я. Сидите молча, закройте глаза. И слушайте.
Я послушно закрываю глаза и вся превращаюсь в слух. Но он молчит.
Как тихо тут. Слышно только, как дрова потрескивают в печке. Будто мы не в Петербурге, а где-то за тысячу верст от него. Я уже хочу открыть глаза и заговорить, но в это мгновение раздается глухой голос Гумилева:
– Сейчас 1814 год. Мы в богатой усадьбе Елизаветы Алексеевны Арсеньевой в Тарханах, Пензенской губернии, на новогоднем балу.
В двусветном зале собран весь цвет окружных соседей-помещиков.
На сцене разыгрывается драма господина Вильяма Шекспира – «Гамлет – принц Датский». Несколько странный выбор для новогоднего спектакля. Впрочем, Елизавета Алексеевна большая оригиналка.
Играют крепостные актеры и сам хозяин Михаил Васильевич. Правда, он исполняет очень скромную роль – роль могильщика.
Этот бал должен решить его судьбу. Он страстно влюблен в недавно поселившуюся в своем имении молодую вдову-княгиню. И сегодня он наконец надеется сломить ее сопротивление.
Но время идет, а прелестная княгиня все не едет. Он напрасно прислушивается к звону бубенцов подъезжающих саней, напрасно выбегает на широкое крыльцо с колоннами встречать ее – ее все нет.
И вот в полном отчаянии, держа гипсовый череп в руке, он со сцены повторяет заученные слова.
В первом ряду величаво восседает его жена Елизавета Алексеевна, улыбаясь хитро и торжествующе.
После спектакля ужин под гром крепостного оркестра. Уже взвиваются в воздух пробки шампанского и часы приближаются к двенадцати, а место хозяина дома все еще пусто. Елизавета Алексеевна хмурит брови и посылает свою дочь Мари поторопить отца. Наверно, он замешкался, переодеваясь, забыл, что его ждут.
Мари бежит, быстро перебирая ножками в розовых атласных туфельках, через пустые ярко освещенные залы. Ей шестнадцать лет. Сегодня ее первый бал. Ей очень хотелось сыграть Офелию, но Елизавета Алексеевна нашла такое желание неприличным. Все же Мари счастлива, как никогда еще, – на ней впервые декольтированное длинное воздушное платье, и как ей к лицу высокая прическа с цветами и спускающимся на плечо локоном. Она останавливается перед стенным зеркалом и делает своему отражению низкий реверанс.
«Вы очаровательны. Вы чудо как хороши, Мария Михайловна!» – говорит она себе и весело бежит дальше. Она стучит в дверь кабинета: «Папенька! Маман гневается. Папенька, гости ждут!»
Она входит в кабинет и видит: отец лежит скрючившись на ковре, широко открыв рот и уставившись остекленевшими, мертвыми глазами в потолок.
Она вскрикивает на весь дом и падает без чувств рядом с ним.
Оказалось – этого не удалось скрыть, – Елизавета Алексеевна приказала слугам не пускать красавицу княгиню в Тарханы. Слуги, встретив ее сани на дороге, преградили ей путь, передав приказ барыни. В страшном гневе красавица княгиня вырвала страничку из своего carnet de bal[27], написала на ней: «После такого оскорбления между нами все навсегда кончено!», велела: «Вашему барину в собственные руки!» – и повернула обратно домой.
Слуги доставили записку «в собственные руки барина». Он в это время переодевался у себя в кабинете с помощью камердинера.
Прочитав записку, он надел фрак, завязал белый галстук, отослал камердинера и отравился.
Так рок, еще до рождения Лермонтова, занялся его будущей матерью, навсегда наложив на нее свою печать…
Через два часа Гумилев провожает меня домой, держа меня под руку.
Уже поздно, и мы спешим.
– Да перестаньте же плакать! – недовольно говорит Гумилев. – Перестаньте! У вас дома вообразят, что я вас обидел. Кто вам поверит, что вы разливаетесь по Лермонтову. Вытрите глаза. Можно подумать, что он только сегодня умер и вы только сейчас узнали об этом.
Он протягивает мне свой платок, и я послушно вытираю слезы. Но они продолжают течь и течь.
– Я не знала, я действительно не знала, как это все ужасно было и как он умирал, – всхлипываю я. – Я не могу, не могу. Мне так больно, так жаль его!..
Он останавливается и, нагнувшись близко, заглядывает в мои плачущие глаза.
– А знаете, если загробный мир на самом деле существует и Лермонтов сейчас видит, как вы о нем плачете, ему, наверно, очень приятно, – и, помолчав, прибавляет потеплевшим, изменившимся голосом: – Вот я бранил вас, а мне вдруг захотелось, чтобы через много лет после моей смерти какое-нибудь молодое существо плакало обо мне так, как вы сейчас плачете. Как по убитом женихе… Очень захотелось…
Гумилеву было только тридцать пять лет, когда он умер, но он по-стариковски любил «погружаться в свое прошлое», как он сам насмешливо называл это.
– Когда-нибудь, лет через сорок, я напишу все это, – повторял он часто. – Ведь жизнь поэта не менее важна, чем его творчество. Поэту необходима напряженная, разнообразная жизнь, полная борьбы, радостей и огорчений, взлетов и падений. Ну и, конечно, любви. Ведь любовь – главный источник стихов. Без любви и стихов не было бы.
Он поднимает тонкую руку торжественно, будто читает лекцию с кафедры, а не сидит на ковре перед камином у меня на Бассейной.
– По Платону, любовь одна из трех главных напастей, посылаемых богами смертным, – продолжает он, – и хотя я и не согласен с Платоном, но и я сам чуть не умер от любви, и для меня самого любовь была напастью, едва не приведшей меня к смерти.
О своей безумной и мучительной любви к Анне Ахматовой и о том, с каким трудом он добился ее согласия на брак, он вспоминал с явным удовольствием, как и о своей попытке самоубийства.
– В предпоследний раз я сделал ей предложение, заехав к ней по дороге в Париж. Это был для меня вопрос жизни и смерти. Она отказала мне. Решительно и бесповоротно. Мне оставалось только умереть.
И вот, приехав в Париж, я в парке Бютт Шомон поздно вечером вскрыл себе вену на руке. На самом краю пропасти. В расчете, что ночью, при малейшем движении, я не смогу не свалиться в пропасть. А там и костей не сосчитать…
Но, видно, мой ангел-хранитель спас меня, не дал мне упасть. Я проснулся утром, обессиленный потерей крови, но невредимый, на краю пропасти. И я понял, что Бог не желает моей смерти. И никогда больше не покушался на самоубийство.
Рассказ этот, слышанный мной неоднократно, всегда волновал меня. Гумилев так подробно описывал парк и страшную скалу над еще более страшной пропастью и свои мучительные предсмертные переживания, что мне и в голову не приходило не верить ему.
Только попав в Париж и отправившись, в память Гумилева, в парк Бютт Шомон на место его «чудесного спасения», я увидела, что попытка самоубийства – если действительно она существовала – не могла произойти так, как он ее мне описывал: до скал невозможно добраться, что ясно каждому, побывавшему в Бютт Шомон.
Гумилев, вспоминая свое прошлое, очень увлекался и каждый раз украшал его все новыми и новыми подробностями. Чем, кстати, его рассказы сильно отличались от рассказов Андрея Белого, тоже большого любителя «погружаться в свое прошлое».
Андрей Белый не менял в своих рассказах ни слова и даже делал паузы и повышал или понижал голос на тех же фразах, будто не рассказывал, а читал страницу за страницей, отпечатанные в его памяти. Гумилев же импровизировал, красноречиво и вдохновенно, передавая свои воспоминания в различных версиях.
Если я робко решалась указать ему на несовпадение некоторых фактов, он удивленно спрашивал:
– А разве я прошлый раз вам иначе рассказывал? Значит, забыл. Спутал. И к тому же, как правильно сказал Толстой, я не попугай, чтобы всегда повторять одно и то же. А вам, если вы не умеете слушать и наводите критику, я больше ничего рассказывать не буду, – притворно сердито заканчивал он.
Но видя, что, поверив его угрозе, я начинаю моргать от огорчения, уже со смехом:
– Что вы, право! Шуток не понимаете? Не понимаете, что мне рассказывать хочется не меньше, чем вам меня слушать? Вот подождите, пройдет несколько лет, и вы сможете написать ваши собственные «Разговоры Гете с Эккерманом».
Да, действительно, я могла бы, как Эккерман, написать мои «Разговоры с Гете», то есть с Гумилевым, «толщиною в настоящий том».
Их было множество, этих разговоров, и я их все бережно сохранила в памяти.
Ни одна моя встреча с Гумилевым не обходилась без того, чтобы он не высказал своего мнения о самых разнообразных предметах, своих взглядов на политику, религию, историю – на прошлое и будущее Вселенной, на жизнь и смерть и, конечно, на «самое важное дело жизни» – поэзию.
Мнения его иногда шли вразрез с общепринятыми и казались мне парадоксальными.
Так, он утверждал, что скоро удастся победить земное притяжение и станут возможными межпланетные полеты.
– А вокруг света можно будет облететь в восемьдесят часов, а то и того меньше. Я непременно слетаю на Венеру, – мечтал он вслух, – так лет через сорок. Я надеюсь, что я ее правильно описал. Помните:
- На далекой звезде Венере
- Солнце пламенней и золотистей,
- На Венере, ах, на Венере
- У деревьев синие листья.
Так, он предвидел новую войну с Германией и точно определял, что она произойдет через двадцать лет.
– Я, конечно, приму в ней участье, непременно пойду воевать. Сколько бы вы меня ни удерживали, пойду. Снова надену военную форму, крякну и сяду на коня, только меня и видели. И на этот раз мы побьем немцев! Побьем и раздавим!
Предсказывал он также возникновение тоталитарного строя в Европе.
– Вот, все теперь кричат: «Свобода! Свобода!» – а в тайне сердца, сами того не понимая, жаждут одного – подпасть под неограниченную, деспотическую власть. Под каблук. Их идеал – с победно развевающимися красными флагами, с лозунгом «Свобода» стройными рядами – в тюрьму. Ну и, конечно, достигнут своего идеала. И мы, и другие народы. Только у нас деспотизм левый, а у них будет правый. Но ведь хрен редьки не слаще. А они непременно – вот увидите – тоже получат то, чего добиваются.
Он, бесспорно, намного опередил свое время. У него бывали «просто гениальные прорывы в вечность», как он без ложной скромности сам их определял.
Конечно, иногда у него бывали и обратные «антигениальные прорывы» – нежелание и неумение понять самые обыкновенные вещи. Но и они интересны, характерны и помогают понять Гумилева – живого Гумилева.
Да, мне действительно следовало бы записать мои разговоры с ним.
Январский полдень, солнечный и морозный. Мы, набегавшись в Таврическом саду, как мы часто делали, сели отдохнуть на «оснеженную» скамейку.
Гумилев смахнул снег с полы своей дохи, улыбнулся широко и вдруг совершенно неожиданно для меня «погрузился в прошлое».
– Я в мае 1917 года был откомандирован в Салоники, – говорит он, будто отвечает на вопрос: «Что вы делали в мае 1917 года?»
Но, хотя я и не задавала ему этого вопроса, я всегда готова его слушать. А он продолжает:
– Я застрял в Париже надолго и так до Салоник и не добрался. В Париже я прекрасно жил, гораздо лучше, чем прежде, встречался с художниками. С Гончаровой и Ларионовым я даже подружился. И французских поэтов видел много, чаще других Морраса.
Ну и, конечно, влюбился. Без влюбленности у меня ведь никогда ничего не обходится. А тут я даже сильно влюбился. И писал ей стихи. Нет, я не могу, как Пушкин, сказать о себе: «Но я любя был глуп и нем». Впрочем, ведь и у него много любовных стихотворений. А я как влюблюсь, так сразу и запою. Правда, скорее петухом, чем соловьем. Но кое-что из этой продукции бывает и удачно.
Он подробно рассказывает о своем парижском увлечении, о всех перипетиях его и для иллюстрации читает стихи из «альбома в настоящий том», посвященные «любви несчастной Гумилева, в год четвертый мировой войны».
– Да, любовь была несчастной, – говорит он смеясь. – Об увенчавшейся победой счастливой любви много стихов не напишешь.
Он читает стихотворение за стихотворением. Он уже и раньше читал мне их. Мне особенно нравится:
- Вот девушка с газельими глазами
- Выходит замуж за американца.
- Зачем Колумб Америку открыл?
Голос его звучит торжественно и гулко в морозной, солнечной, хрупкой тишине:
- Мой биограф будет очень счастлив,
- Будет удивляться два часа,
- Как осел, перед которым в ясли
- Свежего насыпали овса.
- Вот и монография готова,
- Фолиант почтенной толщины… —
и, не дочитав до конца, смотрит на меня улыбаясь:
– Здесь я, признаться, как павлин, хвост распустил. Как вам кажется? Вряд ли у меня будут биографы-ищейки. Впрочем, кто его знает? А вдруг суд потомков окажется более справедливым, чем суд современников. Иногда я надеюсь, что обо мне будут писать монографии, а не только три строчки петитом. Ведь все мы мечтаем о посмертной славе. А я, пожалуй, даже больше всех.
Гумилев, морщась, долго разжигает папиросу, закрывая ее рукой от ветра, потом, помолчав и уже изменившимся голосом, продолжает, глядя перед собой на покрытую снегом дорожку и на двух черных ворон, похожих на два чернильных пятна на белой странице.
– Я действительно был страшно влюблен. Но, конечно, когда я из Парижа перебрался в Лондон, я и там сумел наново влюбиться. Результатом чего явилось мое стихотворение «Приглашение в путешествие».
А из Англии я решил вернуться домой. Нет, я не хотел, не мог стать эмигрантом. Меня тянуло в Россию. Но вернуться было трудно. Всю дорогу я думал о встрече с Анной Андреевной, о том, как мы заживем с ней и Левушкой. Он уже был большой мальчик. Я мечтал стать его другом, товарищем его игр. Да, я так глупо и сентиментально мечтал. А вышло совсем не то…
Он развел руками, будто недоумевая.
– До сих пор не понимаю, почему Анна Андреевна заявила мне, что хочет развестись со мной, что она решила выйти замуж за Шилейко. Ведь я ничем не мешал ей, ни в чем ее не стеснял. Меня – я другого выражения не нахожу – как громом поразило. Но я овладел собой. Я даже мог заставить себя улыбнуться. Я сказал: «Я очень рад, Аня, что ты первая предлагаешь развестись. Я не решался сказать тебе. Я тоже хочу жениться». Я сделал паузу – на ком, о господи?.. Чье имя назвать? Но я сейчас же нашелся: «На Анне Николаевне Энгельгардт, – уверенно произнес я. – Да, я очень рад». И я поцеловал ее руку: «Поздравляю, хотя твой выбор не кажется мне удачным. Я плохой муж, не спорю. Но Шилейко в мужья вообще не годится. Катастрофа, а не муж».
И гордый тем, что мне так ловко удалось отпарировать удар, я отправился на Эртелев переулок делать предложение Анне Энгельгардт – в ее согласии я был заранее уверен.
Было ли все именно так, как рассказывал Гумилев, или, «погружаясь в свое прошлое», он слегка разукрасил и исказил его – я не знаю.
В тот зимний полдень в Таврическом саду Гумилев подробно рассказал мне историю своего сватовства и женитьбы. И так же подробно историю своего развода.
Вторая жена Гумилева, Аня Энгельгардт, была прелестна.
Злые языки пустили слух, что она дочь не профессора Энгельгардта, а Бальмонта. Ее мать была разведенная жена Бальмонта.
Гумилев верил этому слуху и не без гордости заявлял:
– Моя Леночка не только дочь, но и внучка поэта. Поэзия у нее в крови. Она с первого дня рождения кричала ритмически. Конечно, она будет поэтом.
Не знаю, стала ли Леночка поэтом. Ни о ней, ни о ее матери, Ане Энгельгардт (ее, несмотря на то что она вышла замуж за Гумилева, в литературных кругах продолжали называть Аня Энгельгардт), я за все годы эмиграции ничего не слыхала.
Леночка была некрасивым ребенком, вылитым портретом своего отца – косоглазая, с большим, плоским лбом и длинным носом. Казалось невероятным, что у такой прелестной матери такая дочь.
Впрочем, некрасивые девочки часто, вырастая, становятся красивыми. И наоборот. Надеюсь, что и Леночка стала красивой.
– Когда я без предупреждения, – рассказывал Гумилев, – явился на квартиру профессора Энгельгардта, Аня была дома. Она, как всегда, очень мне обрадовалась. Я тут же, не тратя лишних слов, объявил ей о своем намерении жениться на ней. И как можно скорее!
Она упала на колени и заплакала: «Нет. Я не достойна такого счастья!»
– А счастье оказалось липовое. – Гумилев скорчил презрительную гримасу. – Хорошо, нечего сказать, счастье! Аня сидит в Бежецке с Леночкой и Левушкой, свекровью и старой теткой. Скука невообразимая, непролазная. Днем еще ничего. Аня возится с Леночкой, играет с Левушкой – он умный, славный мальчик. Но вечером тоска – хоть на луну вой от тоски. Втроем перед печкой – две старухи и Аня. Они обе шьют себе саваны – на всякий случай все подготовляют к собственным похоронам. Очень нарядные саваны с мережкой и мелкими складочками. Примеряют их – удобно ли в них лежать? Не жмет ли где? И разговоры, конечно, соответствующие. А Аня вежливо слушает или читает сказки Андерсена. Всегда одни и те же. И плачет по ночам. Единственное развлечение – мой приезд. Но ведь я езжу в Бежецк раз в два месяца, а то и того реже. И не дольше чем на три дня. Больше не выдерживаю. Аня в каждом письме умоляет взять ее к себе в Петербург. Но и здесь ей будет несладко. Я привык к холостой жизни… – Он вздыхает. – Конечно, нехорошо обижать Аню. Она такая беззащитная, совсем ребенок. Когда-то я мечтал о жене – веселой птице-певунье. А на деле и с птицами-певуньями ничего не выходит. – И вдруг, переменив тон: – Никогда не выходите замуж за поэта, помните – никогда!
Поздняя осень 1920 года. На улице холодно и темно. А здесь, в Доме литераторов, тепло и светло. Совсем особенно, по-дореволюционному тепло и светло. Электричество ярко сияет круглые сутки напролет, а не гаснет в восемь часов вечера на всю ночь. И тепло здесь ровное, мягкое, ласковое – тепло центрального отопления, не то что палящий жар «буржуек», дышащих льдом, как только их перестают топить.
Случайные посетители Дома литераторов чувствуют себя здесь как в каком-то сказочном царстве-государстве. Ведь здесь не только светло и тепло, но и сытно. Каждому посетителю выдается порция похлебки и кусок хлеба.
Уже с осени я – к великой зависти всех студистов и студисток – стала членом Дома литераторов и бываю здесь ежедневно.
В большой прихожей бородатый профессор-египтолог старательно и неумело пристраивает поверх своего котелка голубой детский башлык на розовой подкладке с кисточкой.
– Слыхали, – обращается он ко мне, – говорят, Мандельштам приехал. Будто даже видели его на улице. Но я не верю. Ведь не сумасшедший же он, чтобы с сытого юга, из Крыма, от белых приехать сюда голодать и мерзнуть.
Одна из кавалерственных дам – их немало среди членов Дома литераторов – оправляет перед зеркалом седые букли.
– Мандельштам? Что такое Мандельштам? – спрашивает она, продолжая глядеться в зеркало, будто ждет ответа от него, а не от профессора или меня. Лорнетка изящным жестом поднимается к ее чуть презрительно прищуренным глазам. И снова падает, повисая на черном шнурке для ботинок, заменяющем золотую цепочку. В лорнетке нет стекол. Стекла теперь найти невозможно. Но лорнетка необходима. Ведь лорнетка вместе с буклями – почти единственное, оставшееся от прежней жизни.
– Не верю, – раздраженно повторяет профессор, туго стягивая узел башлыка. – Не сумасшедший же он.
Я тоже не верю. Боюсь поверить, чтобы потом не разочароваться.
«Что такое Мандельштам», я узнала совсем недавно, в одну ночь прочитав «Камень». Я сразу и навсегда запомнила наизусть большинство его стихов и часто повторяю про себя:
- За радость легкую дышать и жить
- Кого, скажите мне, благодарить?
Ах, если бы Мандельштам приехал… Нет, лучше пока не верить.
Дверь прихожей отворяется, и в струе холодного воздуха, серебрясь морозной пылью, появляется в своей неизменной дохе и оленьей шапке обмерзший Гумилев. Должно быть, он пришел издалека, а не из своей квартиры. Ведь она здесь, за углом, в трех шагах. Он с несвойственной ему поспешностью сбрасывает с себя доху, отряхивает снег с ног и громко объявляет во всеуслышанье, как глашатай на городской площади:
– Мандельштам приехал!
Но эта сенсационная новость не производит ожидаемого эффекта. Профессор, наконец справившийся со своим башлыком, недовольно бурчит:
– Приехал? Значит, действительно спятил!
Кавалерственная дама, так и не получив ответа на свое «что такое Мандельштам?», относится к известию о его приезде с абсолютным безразличием и не удостаивает Гумилева даже взглядом через свою бесстекольную лорнетку. А я от волнения и радости не в состоянии говорить.
Гумилев идет в столовую, становится в длинную очередь за пшенной кашей. Я иду за ним. Я уже овладела собой и задаю ему множество вопросов, взволнованно и радостно. И Гумилев, не менее меня взволнованный и радостный, рассказывает:
– Свалился как снег на голову! Но разве он может иначе? Прямо с вокзала в семь часов утра явился к Георгию Иванову на Каменноостровский. Стук в кухонную дверь. Георгий Иванов в ужасе вскакивает с кровати – обыск! Мечется по комнатам, рвет письма из Парижа. А стук в дверь все громче, все нетерпеливей. Вот сейчас начнут ломать. «Кто там?» – спрашивает Георгий Иванов, стараясь, чтобы голос не дрожал от страха. В ответ хриплый крик: «Я! я! я! Открывай!»
«Я» – значит, не обыск. Слава богу! Но кто этот «я»?
– Я, я, Осип! Осип Мандельштам. Впусти! Не могу больше! Не могу!
Дверь, как полагается, заперта на ключ, на крюк, на засов. А из-за двери несется какой-то нечленораздельный вой. Наконец Георгию Иванову удалось справиться с ключом, крюком и засовом, грянула цепь, и Мандельштам, весь синий и обледеневший, бросился ему на шею, крича:
– Я уже думал, крышка, конец. Замерзну у тебя здесь на лестнице. Больше сил нет, – и уже смеясь, – умереть на черной лестнице перед запертой дверью. Очень подошло бы для моей биографии? А? Достойный конец для поэта.
Мы уже успели получить нашу пшенную кашу и съесть ее. К нашему столу подсаживается Кузмин с Юрием Юркуном послушать рассказ о «чудесном прибытии Мандельштама».
Оказывается, Мандельштам – так уж ему всегда везет – явился к Георгию Иванову в день, когда тот собирался перебраться на квартиру своей матери. До вчерашнего утра Георгий Иванов жил у себя, отапливаясь самоваром, который беспрерывно ставила его прислуга Аннушка. Но вчера утром у самовара отпаялся кран, ошпарив ногу Аннушки, и та, рассердившись, ушла со двора, захватив с собой злополучный самовар, а заодно и всю кухонную утварь. И Георгию Иванову стало невозможно оставаться у себя. О том, чтобы вселить Мандельштама к матери Георгия Иванова, тонной и чопорной даме, не могло быть и речи. И Георгий Иванов, кое-как отогрев Мандельштама и накормив его вяленой воблой и изюмом по академическому пайку и напоив его чаем, на что потребовалось спалить два тома какого-то классика, повел его в Дом искусств искать пристанища. Там их и застал Гумилев.
С пристанищем все быстро устроилось. Мандельштаму тут же отвели «кособокую комнату о семи углах» в писательском коридоре Дома искусств, где прежде были какие-то «меблированные комнаты». Почти все они необычайны по форме – ромбообразные, полукруглые, треугольные, но комната Мандельштама все же оказалась самой фантастической среди них. Мандельштам сейчас же и обосновался в ней – вынул из своего клеенчатого сака рукопись «Тристии», тщательно обтер ее и положил в ящик комода. После чего запихал клеенчатый сак под кровать, вымыл руки и вытер их клетчатым шарфом вместо полотенца. Мандельштам был очень чистоплотен, и мытье рук переходило у него в манию.
– А бумаги у тебя в порядке? – осведомился Гумилев.
– Документы? Ну конечно в порядке. – И Мандельштам не без гордости достал из кармана пиджака свой «документ» – удостоверение личности, выданное Феодосийским полицейским управлением при Врангеле на имя сына петроградского фабриканта Осипа Мандельштама, освобожденного по состоянию здоровья от призыва в белую армию. Георгий Иванов, ознакомившись с «документом», только свистнул от удивления.
Мандельштам самодовольно кивнул:
– Сам видишь. Надеюсь, довольно…
– Вполне довольно, – перебил Георгий Иванов, – чтобы сегодня же ночевать на Гороховой, два. Разорви скорей, пока никто не видел.
Мандельштам растерялся.
– Как же разорвать? Ведь без документов арестуют. Другого у меня нет.
– Иди к Луначарскому, – посоветовал Гумилев. – Луначарский тебе, Осип, мигом нужные бумаги выдаст. А этот документ, хоть и жаль, он курьезный, уничтожь, пока он тебя не подвел.
И Мандельштам, уже не споря, поверив, что «документ» действительно опасный, порвал его, поджег куски спичкой и развеял пепел по воздуху – чтобы и следов не осталось.
– Сейчас они у Луначарского. И конечно, беспокоиться нечего. Все, как всегда, устроится к лучшему. Ведь о поэтах, как о пьяницах, Бог всегда особенно заботится и устраивает их дела.
Суеверный Кузмин трижды испуганно сплевывает, глядя сквозь вздрагивающее на его носике пенсне на Гумилева своими «верблюжьими» глазами. У Кузмина глаза как у верблюда или прекрасной одалиски: темные, томные, огромные. «Бездонные» глаза, полные женской и животной прелести.
– Тьфу, тьфу, тьфу, Коленька. Не сглазь меня. Сплюнь.
«Меня» – Кузмин всегда думает только о себе. Он большой охотник до всяких сплетен, слухов и сенсаций и готов говорить о них часами. Приезд Мандельштама приятен ему именно с этой анекдотической стороны.
– Завтра в пять Осип приедет ко мне чай пить. Приходи и ты, Мишенька. Он написал массу чудных стихов и будет их читать. И вы, Юрочка, – это уже к Юркуну, – тоже приходите послушать новые стихи Мандельштама.
Но перспектива послушать новые стихи Мандельштама вообще – или чьи бы то ни было стихи – не кажется Кузмину соблазнительной.
– Завтра? Завтра мы заняты. Нет, завтра совсем нельзя. Ты уж извини, Коленька. Без меня послушаете.
Конечно, он ничем не занят завтра. Но одно упоминание о стихах заставляет его вдруг заторопиться.
– Уже поздно. Пора идти. Идем, Юрочка. Кланяйся Осипу Эмильевичу, Коленька. До свидания, – это уже мне.
Он суетливо снимается с места и мелкими быстрыми шагами идет к выходу рядом с высоким, молчаливым, красивым Юркуном.
Гумилев улыбается:
– И всегда он так. Бежит от стихов, как черт от ладана. А сам такой замечательный поэт. Вот и пойми его.
Но мне хочется говорить о Мандельштаме, а не о Кузмине.
– Правда, что он будет завтра читать у вас новые стихи?
– Сущая правда. Приходите послушать. Вы-то, уж конечно, даже если и очень заняты, придете. Вас, наверно, поразит внешность Мандельштама. И я готов держать пари, он вам не понравится. Боюсь, что вы не сумеете ни понять, ни оценить его. Он совсем особенный. Конечно, смешной, но и очаровательный. Знаете, мне всегда кажется, что свои стихи о Божьем Имени он написал о себе. Помните:
- Божье Имя, как большая птица,
- Вылетело из моей груди.
- Впереди густой туман клубится,
- И пустая клетка позади.
Мне всегда кажется, что он сам эта «птица – Божье Имя», вылетевшая из клетки в густой туман. Очаровательная, бедная, бездомная птица, заблудившаяся в тумане.
На следующий день я, конечно, пришла к Гумилеву. Вернее, прибежала. Я была на лекции Чуковского о Достоевском. Пропустить ее казалось невозможным. Но и опоздать к Гумилеву было тоже невозможно. И я, напрасно прождав трамвай целых десять минут, в отчаянии пустилась бегом по Невскому, по мягкой, усыпанной снегом мостовой.
Если начнут с чая, не беда, что опоздаю. Но если со стихов – катастрофа. Ведь не станет же он повторять свои стихи для меня. Нет, никогда не прощу себе, если…
Меня впускает прислуга Паша. От долгого бега мне трудно отдышаться. Я перевожу дух, чтобы спросить:
– Мандельштам уже тут?
Паша пожимает плечами:
– Должно, тут. Народу много. Кто его знает, который из них Мамштам.
Я еще раз перевожу дыхание, перед тем как войти в столовую.
«Народу много», сказала Паша. Но за чайным столом сидят только Михаил Леонидович Лозинский, Георгий Иванов, сам Гумилев и – да, это, должно быть, Мандельштам. Кто же другой, как не он?
Нет, меня не поразила внешность Мандельштама. И он мне сразу очень понравился.
Сколько раз мне впоследствии приходилось читать и слышать описание его карикатурной внешности – маленький, «щуплый, с тощей шеей, с непомерно большой головой», «обремененный чичиковскими баками», «хохол над лбом и лысина», «тощий до неправдоподобности», «горбоносый и лопоухий». И совсем недавно [в советском журнале] о встречах с Мандельштамом в Крыму: «Его брата называли „красавчик“, а его – „лошадь“… за торчащие вперед зубы».
Бедный Мандельштам! С лошадью у него не было абсолютно никакого, даже отдаленнейшего сходства. А торчавшие вперед зубы – зубов у него вообще не было. Зубы заменяли золотые лопаточки, отнюдь «не торчавшие вперед», а скромно притаившиеся за довольно длинной верхней губой. За эти золотые лопаточки он и носил прозвание «Златозуб».
Меня всегда удивляло, что он многим казался комичным, «карикатурой на поэта и на самого себя». Но вот я впервые смотрю на него и вижу его таким, каким он был на самом деле.
Он не маленький, а среднего роста. Голова его не производит впечатления «непомерно большой». Правда, он преувеличенно закидывает ее назад, отчего на его шее еще резче обозначается адамово яблоко. У него пышные, слегка вьющиеся волосы, поднимающиеся над высоким лбом. Плешь, прячущуюся среди них, никак нельзя назвать лысиной. Конечно, он худой. Но кто же из нас в те дни не был худ? Адамович, как-то встретив меня на Морской, сказал:
– Издали на вас смотреть страшно. Кажется, ветер подует и вы сломаетесь пополам.
Упитанными и гладкими среди поэтов были только Лозинский и Оцуп, сохранившие свой «буржуйский» вид.
Нет, внешность Мандельштама тогда меня не поразила. Я как-то даже не обратила на нее внимания. Будто она не играла решающей роли во впечатлении, производимом им. Возможно, что она теряла свое значение благодаря явному несоответствию между его внешностью и тем, что скрывалось под ней.
Здороваясь со мной, он протянул мне руку и, подняв полуопущенные веки, взглянул на меня сияющими «ангельскими» глазами. И мне вдруг показалось, что сквозь них, как сквозь чистую воду, я вижу дно его сознания. И дно поэзии.
Я скромно сажусь на свободный стул между Оцупом и Лозинским.
С осени 1920 года я уже настоящий поэт, член Дома литераторов. И что много почетнее и важнее – равноправный член недавно восстановленного Цеха поэтов. Но меня все еще продолжают называть «Одоевцева – ученица Гумилева», и я продолжаю чувствовать и вести себя по-ученически. Вот и сейчас я сознаю свою неуместность в этом «высоком обществе» за одним столом с Мандельштамом. С «самим Мандельштамом».
Гумилев особенно старательно разыгрывает роль гостеприимного хозяина. Он радушно угощает нас настоящим, а не морковным чаем с сахарным песком внакладку и ломтиками черного хлеба, посыпанного солью и политого подсолнечным маслом.
Виновник торжества, Мандельштам, с нескрываемым наслаждением пьет горячий сладкий чай, закусывая его этими ломтиками хлеба, предварительно насыпав на них целую горку сахарного песку.
Оцуп опасливо следит за тем, с какой быстротой набухшие от масла солено-сладкие ломтики исчезают в золотозубом рту Мандельштама. И, не выдержав, спрашивает:
– Как вы можете, Осип Эмильевич? Разве вкусно?
Мандельштам кивает, не переставая жевать:
– Очень вкусно. Очень.
– Еще бы не вкусно, – любезно подтверждает Лозинский, – знаменитое самоедское лакомство. Самоеды шибко хвалят.
– Только, – с компетентным видом прибавляет Георгий Иванов, – вместо подсолнечного масла лучше рыбий жир, для пикантности и аромата.
Взрыв смеха. Громче всех смеется Мандельштам, чуть не подавившийся от смеха «самоедским лакомством».
Теперь мы сидим в прихожей перед топящейся печкой в обтянутых зеленой клеенкой креслицах – все ближайшие «соратники» Гумилева – Лозинский, Оцуп, Георгий Иванов (Адамовича в то время не было в Петербурге).
Гумилев, сознавая всю важность этого исторического вечера – первое чтение «Тристии» в Петербурге, как-то особенно торжественно подкидывает мокрые поленья в огонь и мешает угли игрушечной саблей своего маленького сына Левы.
– Начинай, Осип!
И Мандельштам начинает:
- На каменных отрогах Пиерии
- Водили музы первый хоровод…
- Нерасторопна черепаха-лира,
- Едва-едва беспалая ползет,
- Лежит себе на солнышке Эпира,
- Тихонько грея золотой живот.
- Ну, кто ее такую приласкает,
- Кто спящую ее перевернет? —
- Она во сне Терпандра ожидает,
- Сухих перстов предчувствуя налет…
Слушая его, глядя на его закинутое, мучительно-вдохновенное лицо с закрытыми глазами, я испытываю что-то похожее на священный страх.
Мандельштам, кончив, широко открывает глаза, отряхивается, как только что выкупавшийся в пыли воробей, и спрашивает взволнованной скороговоркой:
– Ну как? Скверно? Как, Николай Степанович? Как, Михаил Леонидович? Это я в Киеве написал.
Пауза. Затем Гумилев веско заявляет – не говорит, а именно заявляет:
– Прекрасные стихи. Поздравляю с ними тебя и русскую поэзию. – И тут же исчерпывающе и последовательно объясняет, почему эти стихи прекрасны и чем обогащают русскую поэзию.
За Гумилевым – такова уж сила цеховой дисциплины – все по очереди выражают свое восхищение «с придаточными предложениями», объясняющими восхищение.
Но я просто восхищена, я просто в восторге, я не нахожу никаких «придаточных предложений». И чтобы только не молчать, я задаю очень, как мне кажется, «акмеистический» вопрос:
– Отчего черепаха-лира ожидает Терпандра, а не Меркурия? И разве Терпандр тоже сделал свою кифару из черепахи?
Мандельштам, только что превознесенный самим синдиком Цеха Гумилевым, окрыленный всеобщими похвалами, отвечает мне несколько надменно:
– Оттого, что Терпандр действительно родился, жил на Лесбосе и действительно сделал лиру. Это придает стихотворению реальность и вещественную тяжесть. С Меркурием оно было бы слишком легкомысленно легкокрылым. А из чего была сделана первая лира – не знаю. И не интересуюсь этим вовсе.
Но мой вопрос, по-видимому, все-таки возбудил сомнение в его вечно колеблющемся, неуверенном в себе сознании, и он быстро поворачивается к Лозинскому:
– Михаил Леонидович, а может быть, правда, лучше вместо Терпандра Меркурий? А?
Но Гумилев сразу кладет конец его сомнениям.
– Вздор! Это стихотворение – редкий пример правильности формулы Банвиля: «то, что совершенно, и не требует изменений». Ничего не меняй. И читай еще! Еще!
Я не смею ни на кого взглянуть. Мне хочется влезть в печку и сгореть в ней вместе с поленьями. С каким презрением все они, должно быть, смотрят на меня. В особенности мой учитель, Гумилев. Я чувствую себя навсегда опозоренной. И все же до меня доносится сквозь шум крови в ушах:
- Золотистого меда струя из бутылки текла
- Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела…
Голос Мандельштама течет, как эта «золотистого меда струя», и вот уже я, забыв, что я «навсегда опозорена», вся превращаюсь в слух, и мое сердце вслед за орфической мелодией его стихов то взлетает ласточкой, то кубарем катится вниз.
Да, я забыла. А другие? И я осторожно оглядываюсь.
Но оказывается, что и другие забыли. Не только о моем неуместном выступлении, но и о моем существовании. Забыли обо всем, кроме стихов Мандельштама.
Гумилев каменно застыл, держа своими длинными пальцами детскую саблю. Он забыл, что ею надо поправлять мокрые поленья и ворошить угли, чтобы поддерживать огонь. И огонь в печке почти погас. Но этого ни он и никто другой не замечает.
- Ну а в комнате белой как прялка стоит тишина.
- Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
- Помнишь, в греческом доме любимая всеми жена,
- Не Елена, другая, как долго она вышивала…
Мандельштам резко и широко взмахивает руками, будто дирижирует невидимым оркестром. Голос его крепнет и ширится. Он уже не говорит, а поет в сомнамбулическом самоупоении:
- Золотое руно, где же ты, золотое руно?
- Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
- И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
- Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
Последняя строфа падает камнем. Все молча смотрят на Мандельштама, и я уверена, совершенно уверена, что в этой потрясенной тишине они, как и я, видят не Мандельштама, а светлую «талассу», адриатические волны и корабль с красным парусом, «пространством и временем полный», на котором возвратился Одиссей.
Мандельштам нервно шарит в кармане пиджака в поисках папиросы, как всегда напрасно. Я вскоре узнала, что папирос у него никогда нет. Он умудрялся забывать их, добытые с таким трудом папиросы, где попало, отдавал их первому встречному или просто терял, сунув мимо кармана.
Гумилев засовывает ему папиросу в рот и зажигает ее.
– Кури, Осип, кури! Ты заслужил, и еще как заслужил!
И тут во все еще потрясенной тишине раздается спокойный, слегка насмешливый голос Георгия Иванова:
– Да. И это стихотворение тоже пример того, что прекрасное не требует изменений. Все же я на твоем месте изменил бы одну строчку. У тебя:
- Ну а в комнате белой как прялка стоит тишина.
По-моему, будет лучше:
- Ну а в комнате белой как палка стоит тишина.
Мандельштам, жадно затянувшийся папиросой и не успевший выпустить изо рта дым, разражается неистовым приступом кашля-хохота:
– Как палка! Нет, не могу! Как палка!
Все смеются. Все, кроме Георгия Иванова, с притворным недоумением убеждающего Мандельштама:
– Я ведь совершенно серьезно советую, Осип. Чего же ты опять хохочешь?
Смешливость Мандельштама. Никто не умел так совсем по-невзрослому заливаться смехом по всякому поводу – и даже без всякого повода.
– От иррационального комизма, переполняющего мир, – объяснял он приступы своего непонятного смеха. – А вам разве не смешно? – с удивлением спрашивал он собеседника. – Ведь можно лопнуть со смеху от всего, что происходит в мире.
Как-то, уже в весенний ветреный день, когда от оттепели на Бассейной голубели и потягивались рябью огромные лужи-озера, я увидела шедшего по противоположному тротуару Мандельштама. Он смотрел прямо на меня, трясясь от смеха. Помахав мне шляпой, стал торопливо перебираться ко мне, разбрасывая брызги и зачерпывая калошами воду.
Смеясь все сильнее, он подошел ко мне, и я не могла не присоединиться к его смеху. Так мы и простояли несколько минут, не переставая смеяться, пока Мандельштам не объяснил мне между двумя взрывами смеха:
– Нет, представьте себе. Я иду в Дом литераторов. Думаю, встречу там и вас. И вспомнил вашу «Балладу о котах». А тут вдруг кошка бежит, а за ней, за ней другая. А за кошками, – тут смех перешел в хохот и клекот, – за кошками – вы! Вы идете! За кошками! Автор котов!
Он вытер слезы, катившиеся из его цвета весеннего неба глаз, и, взглянув поверх меня, поверх крыш домов, в голубое небо, заговорил другим голосом, грустно и чуть удивленно:
– Знаете, мой брат, мой младший брат выбросился из окна. Он был совсем не похож на меня. Очень дельный и красивый. Недавно только женился на сестре Анны Радловой, счастливый, влюбленный. Они накануне переехали на новую квартиру. А он выбросился из окна. И разбился насмерть. Как вы думаете, почему? Почему?
Мне показалось, что он шутит, что он это выдумал. Только впоследствии я узнала, что это была правда. Его брат, муж сестры Анны Радловой, действительно неизвестно почему выбросился из окна. И разбился насмерть.
Но от ответа на вопрос, почему выбросился из окна брат Мандельштама, меня избавило появление Гумилева, шествующего в Дом литераторов, как и мы.
Мандельштам ринулся ему навстречу и, снова захлебываясь и клокоча, стал объяснять:
– Я иду… а тут коты… бегут, а тут Одоевцева. Нет, ты только подумай! Не могу! Не могу! Коты… и Одоевцева!
Встречи с Мандельштамом были всегда не похожи на встречи с другими поэтами. И сам он ни на кого не походил. Он был не лучше и не хуже, а совсем другой. Это чувствовали многие, даже, пожалуй, все.
Человек из другого мира, из мира поэзии.
На его стихи из «Камня» —
- Я блуждал в игрушечной чаще
- И открыл лазоревый грот…
- Неужели я настоящий
- И действительно смерть придет?
мы, студисты, сочинили ответ:
- Вы, конечно, ненастоящий —
- Никогда к вам смерть не придет —
- Вас уложат в стеклянный ящик,
- Папиросу засунут в рот
- И поставят в лазоревый грот —
- Чтобы вам поклонялся народ!
Стихи, хотя они и привели Мандельштама в восхищение и восторг, были, как мы сами понимали, далеко не блестящи. Но, должно быть, действительно —
- Бывают странными пророками
- Поэты иногда —
ведь о стеклянных ящиках, мавзолеях для поклонения народа, никто тогда и понятия не имел. Впрочем, в стеклянный ящик, «чтобы ему поклонялся народ», уложили не Мандельштама, а погубившего его Сталина. Но это случилось позже, много позже. А сейчас все еще зима 1920/21 года. И моя первая встреча с Мандельштамом у Гумилева.
Это было во вторник. А на следующий вечер я встретила Мандельштама на одной из очередных «сред» Дома искусств. Он подошел и заговорил со мной, будто мы давно и хорошо знакомы.
– А я здесь превосходно устроился. Комната у меня маленькая и безобразная. Но главное – крыша и печка. И ведь теперь весь Дом искусств принадлежит и мне. Я здесь один из его хозяев, и вы у меня в гостях. Вы это сознаете, надеюсь? Вы – мой гость.
Он не дает мне ответить.
– Я, конечно, шучу. Я никогда и нигде не чувствовал себя дома, а тем более хозяином. Хорошо, если меня, как здесь, приютят. А то чаще гонят в три шеи. Я привык.
И опять, не дав мне сказать ни слова, прибавляет:
– А про Меркурия вы правильно заметили. Он в детстве изобрел лиру. Хотя это изобретение приписывают еще – а ну-ка, скажите, кому? Ведь не знаете?
– Музе Эрато, – говорю я не задумываясь.
Он разводит руками.
– Правильно. Но откуда вы такая образованная? Такая всезнайка?
Мне очень лестно, хотя это совсем незаслуженно. Образованной меня еще никто не считал. Скорей наоборот.
Мои познания в мифологии я почерпнула из детской книжки, которую в семь лет читала вперемежку со сказками Гримм и Андерсена. Но этого я Мандельштаму не открываю. А он, может быть, именно из-за моей мнимой образованности говорит со мной как с равной, просто и дружески. Без преувеличенной снисходительности и оскорбительной любезности. Мандельштам первый поэт, с которым я сразу легко себя почувствовала. Будто между нами нет пропасти – он прославленный автор «Камня», всероссийски знаменитый, а я еще продолжаю сидеть на школьной скамье и слушать лекции.
Он рассказывает мне о своих южных злоключениях и радостях. Как же без радостей? Их тоже было много, но злоключений, конечно, неизмеримо больше.
– Вот, в Коктебеле, у Волошина… Вы, конечно, бывали в Коктебеле?
Я качаю головой.
– Нет. И даже Волошина не знаю. Никогда его не видела.
– Ах, сколько вы потеряли. Не знать Волошина! – Мандельштам искренно огорчен за меня. – Волошин – представьте себе – бородатый шар в венке и в хитоне. Едет на велосипеде по горной, залитой солнцем каменистой тропинке. Кажется, что не едет, а летит по воздуху, что он – воздушный шар. А за ним стая пестрых собак с лаем несется по земле.
Мандельштам с увлечением рассказывает, как он за стакан молока и сладкую булочку стерег на берегу моря каких-то заговорщиков, левых эсеров, для конспирации совещавшихся, ныряя в волнах.
– А в Киеве? В Киеве мне жилось привольно. Как, впрочем, и потом в Тифлисе. В Киеве профессор Довнар-Запольский подарил мне свою шубу, длинную, коричневую, с воротником из обезьянки. Чудесную профессорскую шубу. И такую же шапку. Только шапка мне оказалась мала – голова у меня не по-профессорски большая и умная. Но одна премилая дама пожертвовала мне свою скунсовую горжетку и сама обшила ею шапку. Получилось довольно дико – будто у меня вместо волос скунсовый мех. Раз иду ночью по Крещатику и слышу: «Смотри, смотри, поп-расстрига! Патлы обстричь не умеет. Патлатый. Идиот!»
Мандельштам не обращает внимания на происходящее на эстраде и мешает лектору Замятину и слушателям своим звонким шепотом. Но ни я, ни кто другой не смеет «призвать его к порядку». Так он и продолжает говорить до той минуты, когда Замятин встает и под аплодисменты – Мандельштам аплодирует особенно громко – почти так же, как я, считающаяся «мэтром клаки» за особое уменье хлопать и заставлять хлопать слушателей, – уходит, послав отдельную улыбку и поклон Мандельштаму.
«Среда» кончена. Надо и мне уходить. А Мандельштам еще многого не успел рассказать. Раз начав, ему трудно остановиться, не доведя воспоминаний до конца. И он неожиданно принимает героическое решение.
– Я пойду вас проводить до угла.
– До какого угла? Ведь Дом искусств – на углу.
– На углу Мойки и Невского, – резонно замечает Гумилев.
– Ну, все равно. До первого незажженного фонаря, до второго угла – несколько шагов.
Мы выходим гурьбой из подъезда – Гумилев, Мандельштам и несколько студисток. Мы идем по Невскому.
– Подумай только, Николай Степанович, – беря Гумилева под руку, говорит Мандельштам, – меня объявили двойным агентом и чуть было не расстреляли. Я в тюрьме сидел. Да! Да! Поверить трудно. Не раз сидел!
И вдруг он неожиданно заливается своим увлекательным, звенящим смехом.
– Меня обвинили и в спекуляции! Арестовали как злостного спекулянта – за яйцо! – кончает он, весь исходя от смеха. – За одно яйцо! Было это в Киеве.
И он рассказывает, как ему в одно весеннее утро до смерти захотелось гоголь-моголя. «От сытости, конечно, когда голоден – мечтаешь о корке хлеба». Он пошел на рынок и купил у торговки яйцо. Сахар у него был, и, значит, все в порядке и можно вернуться домой.
Но по дороге, тут же рядом, на рынке бородатый мужик продавал шоколад Эйнем «Золотой ярлык», любимый шоколад Мандельштама. Увидев шоколад, Мандельштам забыл про гоголь-моголь. Ему «до зареза» захотелось шоколаду.
– Сколько стоит?
– Сорок карбованцев.
Мандельштам пересчитал свои гроши. У него только тридцать два карбованца. И тогда ему пришла в голову гениальная мысль – отдать за нехватающие карбованцы только что купленное яйцо.
– Вот, – предложил он мужику-торговцу, – вам это очень выгодно. Я отдаю вам прекрасное сырое яйцо и тридцать два карбованца за шоколад, себе в убыток.
Но тут, не дожидаясь ответа торговца, со своего места с криком сорвалась торговка.
– Держите его, спекулянта проклятого! Он у меня за семь карбованцев купил яйцо, а сам за восемь перепродает. Держите его! Милиционер! Где милиционер?
Со всех сторон сбежались люди. Прибежал на крики и милиционер.
Баба надрывалась:
– За семь купил, за восемь перепродает. Спекулянт проклятый!
Мандельштама арестовали, и он до вечера просидел в участке.
Во время ареста раздавили яйцо и кто-то украл у «спекулянта проклятого» его тридцать два карбованца.
Смеется Гумилев, смеюсь я, смеются студисты.
Мы прошли уже почти весь Невский, и слушатели по одному начинают прощаться и отпадать. До угла Литейного доходим только мы трое – Гумилев, Мандельштам и я.
Мандельштам продолжает нестись по волнам воспоминаний.
– А были и сказочные удачи. Раз, вы не поверите, мне один молодой поэт подарил десятифунтовую банку варенья. Я зашел к нему, он меня чаем угостил. А потом я ему прочел «На каменных отрогах» – я только что тогда написал. Он поохал, повосторгался и вдруг встал и вышел из кабинета, где мы сидели. Возвращается с огромной банкой варенья, протягивает ее мне – это вам! Я прямо глазам и ушам своим не поверил. Даже не поблагодарил его. Надел свою шубу, схватил банку и наутек. Чтобы он не опомнился, не передумал, не отнял бы! Шел, прижимая драгоценный груз к груди, дрожа как в лихорадке. Ведь гололедица. Того и гляди поскользнешься – и прощай священный дар! Ничего. Донес. Только весь до нитки вспотел, несмотря на холод, – от волнения. Зато какое наслаждение! Какое высокое художественное наслаждение! Я двое суток не выходил из дому – все наслаждался.
Как замечательно, то повышая, то понижая голос, изображая и торговку, и милиционера, и одарившего его поэта, рассказывает Мандельштам! Конечно, он преувеличивает, разукрашивает, но от этого все становится по-мандельштамовски очаровательно. Ну конечно, банка варенья была не десятифунтовой, а фунтовой. Если она существовала не только в фантазии Мандельштама. Да и арест из-за яйца вряд ли не выдумка.
И только много лет спустя, уже потом, в Париже, я убедилась, что в рассказе Мандельштама не было никакой фантазии. Все было именно так. И банка варенья оказалась действительно десятифунтовой, подаренной Мандельштаму в минуту восторга, «когда душа жаждет жертв», проживавшим в Киеве поэтом, переселившимся потом в Париж, Юрием Терапиано. Подарена после настолько потрясшего молодого поэта чтения «На каменных отрогах», что он безрассудно поделился с Мандельштамом своим запасом варенья. И никогда об этом не жалел. От него же я узнала, что история «спекуляции с яйцом», несмотря на всю свою неправдоподобность, чистейшая правда.
Мы уже давно идем по бесконечно длинной Бассейной. Темно. Снег кружится и скрипит под ногами.
– A в Тифлисе…
Но Гумилев перебивает его:
– Это все очень забавно и поучительно. Но ты, Осип, собственно говоря, куда направляешься? Тебе давно пора повернуть лыжи. Ведь тебе до Мойки…
– Как до Мойки? – Мандельштам растерянно останавливается. – Чтобы я один прошел все это расстояние? Это совсем невозможно. Я думал… – Он оборачивает ко мне испуганное лицо. – Я был уверен, что вы пустите к себе ночевать. Ведь у вас, я слышал, очень большая квартира. И значит, место найдется и для меня, хоть на кухне.
– Нет, не найдется, – отрезает Гумилев. – Ты напрасно думал. Там революционные богемные нравы не в чести. И ночевать поэтов там не пускают. Ни под каким видом. Даже на площадку перед дверью.
Я растеряна не меньше самого Мандельштама. Но Гумилев прав – пустить Мандельштама к себе домой я действительно никак не могу. А он стоит передо мной такой несчастный, потерянный. Как бездомная собака.
– Я замерзну. Я не дойду один.
– Идите ночевать к Николаю Степановичу. На клеенчатом диване в прихожей, – с решимостью отчаяния говорю я, будто я вправе распоряжаться чужой квартирой. Пусть Гумилев сердится. Мне все равно. Нельзя бросить Мандельштама ночью на улице.
Но Гумилев не сердится, а смеется.
– Наконец догадались. Колумбово, а не киевское яйцо. Я уже на Невском решил, что пущу тебя ночевать к себе. И чаем с патокой угощу. Не замерзать же тебе здесь, как рождественскому мальчику у Христа на елке! Я только попугать тебя хотел. Но какой же ты, Осип, легкомысленный! Я перед тобой – образец осторожности и благоразумия.
Мандельштам, успевший оправиться от страха, неожиданно переходит в наступление:
– Это я-то легкомысленный? Поищи другого такого благоразумного, предусмотрительного, осторожного человека.
Он подскакивает, по-петушиному задирая голову.
– Знаю, знаю, – успокаивает его Гумилев, – не кипятись. Ты отчаянный трус. Из породы легкомысленнейших трусов. Действительно очень редкая порода.
«Трус» – оскорбительное слово. Конечно, Мандельштам обидится.
Но Мандельштам повторяет:
– Из породы легкомысленнейших трусов! Надо запомнить. До чего правильно!
Мы прощаемся у ворот моего дома. Мандельштам снова весел и доволен. На сегодняшнюю ночь у него не только крыша, диван, сладкий чай с патокой, но и собеседник. Они будут читать друг другу стихи и вести бесконечные вдохновенно-задушевные ночные разговоры – до утра. «А завтра новый день. Безумный и веселый». Веселый, очень веселый. Все дни тогда были веселые. Это были дни зимы 1920/21 года, и веселье их действительно было не лишено безумья. Холод, голод, аресты, расстрелы. А поэты веселились и смеялись в умирающем Петрополе, где
- …Прозрачная весна над черною Невой
- Сломилась. Как бессмертье тает.
- О, если ты звезда – Петрополь, город твой,
- Твой брат, Петрополь, умирает…
Как-то уже в декабре, когда Мандельштам успел «прижиться» в Петербурге и снова «обрасти привычками», как будто он никогда из него и не уезжал, мы с ним зашли за Гумилевым во «Всемирную литературу» на Моховой, чтобы вместе идти на какую-то публичную лекцию. Но у подъезда Мандельштам вдруг стал топтаться на снегу, не решаясь войти во «Всемирную литературу».
– Я лучше вас здесь на улице подожду. Только вы скорей, пожалуйста.
Был мороз, и я удивилась:
– Отчего вы не хотите войти отогреться? Разве вам не холодно?
Он подул на свои посиневшие руки без перчаток.
– Еще бы не холодно! Но там наверху сейчас, наверно, Роза. Увидит меня – поднимет крик. А это хуже холода. Этого я совсем перенести не могу.
Я все же уговорила его войти и спрятаться у стены за шубами и пальто. А сама пошла на разведку. Розы, слава богу, не оказалось, и Мандельштам благополучно поднялся наверх – пронесло на сегодня!
Роза была одной из привлекательных достопримечательностей «Всемирной литературы». Она, с разрешения Горького и Тихонова, устроила в зале около лестницы, направо от входа, «насупротив кассы» подобие продовольственной лавочки и отпускала писателям за наличные, а чаще в кредит, сахар, масло, патоку, сало и прочие лакомства. Толстая, старая, похожая на усатую жабу, она безбожно обвешивала и обсчитывала, но зато никого не торопила с уплатой долга. Никого, кроме Мандельштама. При виде его она начинала гудеть густым, грохочущим басом:
– Господин Мандельштам, отдайте мне мои деньги! Не то пожалеете! Я приму меры…
Но Мандельштам уже несся по лестнице, спасаясь от ее угроз. А она, оборвав их на полуслове, как ни в чем не бывало сладко улыбалась Кузмину:
– Какую я вам коврижку достала, Михаил Алексеевич! Медовую. Пальчики оближете. Никому другому не уступлю. Вам одному. Себе в убыток. Верьте.
Эта Роза была одарена не только коммерческими способностями, но и умна и дальновидна. Она умела извлекать из своего привилегированного положения «всемирной маркитантки» всяческие выгоды. Так, она завела альбом в черном кожаном переплете, куда заставляла всех своих клиентов-писателей написать ей «какой-нибудь хорошенький стишок на память». И все со смехом соглашались и превозносили Розу в стихах и в прозе. Роза благодарила и любезно объясняла:
– Ох, даже и подумать страшно, сколько мой альбом будет стоить, когда вы все, с позволения сказать, перемрете. Я его завещаю своему внуку.
Альбом этот, если он сохранился, действительно представляет собой большую ценность. Кого в нем только нет. И Сологуб, и Блок, и Гумилев, и Кузмин, и Ремизов, и Замятин. Возможно, что благодаря ему создастся целая легенда о прекрасной Розе. И будущие литературоведы будут гадать, кто же была эта восхитительная красавица, воспетая столькими поэтами и прозаиками.
- …На что нам былая свобода?
- На что нам Берлин и Париж,
- Когда ты направо от входа
- Насупротив кассы сидишь?.. —
патетически спрашивал ее поэт Зоргенфрей.
Роза принимала восторги и мадригалы как должное. Все же «стишок» Георгия Иванова тронул ее до слез:
- Печален мир. Всё суета и проза,
- Лишь женщины нас тешат да цветы,
- Но двух чудес соединенье ты.
- Ты – женщина. Ты – Роза.
Узнав, что Мандельштам, ее новый клиент, уже успевший набрать у нее в кредит и сахар, и варенье, – «поэт стоящий», она протянула и ему свой альбом. И должно быть, чтобы возбудить в нем благодарность и вдохновение, напоминала ему кокетливо:
– Вы мне, господин Мандельштам, одиннадцать тысяч уже должны. Мне грустно, а я вас не тороплю. Напишите хорошенький стишок, пожалуйста.
Мандельштам, решительно обмакнув перо в чернильницу, не задумываясь, написал:
- Если грустишь, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч,
- Помни, что двадцать одну мог тебе задолжать я.
И подписался с несвойственным ему дерзко-улетающим росчерком.
Роза, надев очки, с улыбкой нагнулась над альбомом, разбирая «хорошенький стишок», но вдруг побагровела, и грудь ее стала биться, как волны о берег, о прилавок, заставляя звенеть банки и подпрыгивать свертки. Она дрожащей рукой вырвала «гнусную страницу» и, скомкав, бросила ее в лицо Мандельштама с криком:
– Отдайте мне мои деньги! Сейчас же, слышите, отдайте!
С того дня она и начала преследовать его.
Одиннадцать тысяч в те времена была довольно ничтожная сумма. Ее легко можно было выплатить хотя бы по частям. Тогда Роза не только оставила бы Мандельштама в покое, но и – по всей вероятности – возобновила ему кредит. Я сказала ему об этом. Он посмотрел на меня с таким видом, будто я предлагаю ему что-то чудовищное.
– Чтобы я отдавал долги? Нет, вы это серьезно? Вы, значит, ничего, ровно ничего не понимаете, – с возмущением и обидой повторил он. – Чтобы я платил долги?
Да, я действительно «ничего не понимала» или, точнее, многого не понимала в нем. Не понимала я, например, его страха перед милиционерами и матросами – особенно перед матросами в кожаных куртках, – какого-то мистического, исступленного страха. Он, заявивший в стихах:
- Мне не надо пропуска ночного,
- Я милиционеров не боюсь, —
смертельно боялся милиционеров. Впрочем, в печати для цензурности «милиционеры» были переделаны в «часовых» – часовых я не боюсь – и не вполне удачно переделаны. Ведь часовые обыкновенно охраняют какой-нибудь дворец или учреждение и ровно никому не внушают страха. Не то что милиционеры. Но у Мандельштама не было никаких оснований бояться и милиционеров. Бумаги у него были в порядке, ни в каких «заговорах» он никогда участия не принимал и даже в разговорах избегал осуждать «правительство». И все же, увидев шагавших куда-то матросов или стоящего на углу милиционера, Мандельштам весь съеживался, стараясь спрятаться за меня или даже юркнуть в подворотню, пока не скроется проходящий отряд матросов.
– Ух, на этот раз пронесло! – неизменно говорил он и, вздохнув облегченно, плотно запахивал полы своего легкого пальто, заменявшего ему киевскую профессорскую шубу.
– Что пронесло? – подпытывалась я.
– Мало ли что. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Все равно не поймете.
Да, понять было трудно. Как могла в нем, наряду с такой невероятной трусостью, уживаться такая же невероятная смелость? Ведь нам всем было известно, что он не побоялся выхватить из рук чекиста Блюмкина пачку «ордеров на расстрел» и разорвать их. Кто бы, кроме Мандельштама, мог решиться на такое геройство или безумие? Как же так? Труслив, как кролик, и в то же время смел, как барс.
– А очень просто, – любезно разрешил мое недоумение Лозинский, – Осип Эмильевич помесь кролика с барсом. Кролико-барс или барсо-кролик. Удивляться тут вовсе нечему.
Но я все же удивлялась многому в Мандельштаме, например его нежеланию хоть на какой-нибудь час остаться одному. Одиночества он не переносил.
– Мне необходимо жить подальше от самого себя, как говорит Андре Жид, – повторял он часто. – Мне необходимо находиться среди людей, чтобы их эманации давили на меня и не давали мне разорваться от тоски. Я, как муха под колпаком, из которого выкачали воздух, могу лопнуть, разлететься на тысячу кусков. Не верите? Смеетесь? А ведь это не смешно, а страшно. – И он продолжал: – Это действительно страшно. Я сижу один в комнате, и мне кажется, что кто-то входит. Кто-то стоит за спиной. И я боюсь обернуться. Я всегда сажусь так, чтобы видеть дверь. Но и это плохо помогает.
Я уже не смеюсь. Я понимаю, что он не шутит.
– Чего же вы боитесь?
Он разводит руками:
– Если бы я знал, чего боюсь. Боюсь – и все тут. Боюсь всего и ничего. Это совсем особый, беспричинный страх. То, что французы называют angoisse[28]. На людях он исчезает. И когда пишу стихи – тоже.
Не знаю, из-за этого ли страха или по какой другой причине, но Мандельштам с утра до вечера носился по Петербургу. Гумилев шутя говорил, что Мандельштаму вместе с «чудесным песенным даром» дан и чудесный дар раздробляться, что его в одну и ту же минуту можно встретить на Невском, на Васильевском острове и в Доме литераторов. И даже уверял, что напишет стихи – о вездесущем Златозубе.
Мандельштама действительно можно было видеть всюду, в любое время дня. Встретив знакомого, он сейчас же присоединялся к нему и шел с ним по всем его делам или в гости. Он понимал, что его посещение не может не быть приятным, что ему всегда и везде будут рады. А там, наверно, угостят чем-нибудь вкусным. Иногда он все же бросал своего попутчика, хотя он уже и сговорился следовать за ним повсюду до самого вечера, и перебегал от него к какому-нибудь более близкому приятелю, наскоро объяснив:
– Вот идет Георгий Иванов, а он мне как раз нужен. До зарезу. Ну прощайте…
Но случалось, что Мандельштам исчезал на несколько дней. И тогда все знали, что он пишет стихи. То, что он мог заболеть, никому и в голову не приходило. Впрочем, как это ни странно, в те голодные и холодные годы никто из нас не болел. Я даже не помню, чтобы у кого-нибудь был грипп.
Обыкновенно Мандельштам вставал довольно поздно, щелкая зубами, основательно умывался и тщательно повязывал галстук в крапинку – спешил до ночи покинуть свою семиугольную комнату.
В писательском коридоре отапливались печками-«буржуйками». Дрова, правда, выдавались в изобилии. Они занимали один из углов комнаты Мандельштама, громоздясь чуть ли не до потолка.
Мандельштам, никогда не сидевший у себя, кроме дней писания стихов, все же не отказывался от дровяного пайка, и разбросанные всюду поленья придавали его и без того странному обиталищу еще более фантастический вид. Обыкновенно Мандельштам и не пытался топить свою «буржуйку».
– Это не моего ума дело, – говорил он.
«Дело» это действительно требовало особых знаний и навыка. Дрова были сырые и отказывались гореть. Их надо было поливать драгоценным керосином и раздувать. Они шипели, тухли и поднимали чад. На «борьбу с огнем» Мандельштам решался только в дни, когда к нему «слетало вдохновение». Сочинять стихи в ледяной комнате было немыслимо. Ноги коченели, и руки отказывались писать. Мандельштам с решимостью отчаяния набивал «буржуйку» поленьями, скомканными страницами «Правды» и, плеснув в «буржуйку» стакан – всегда последний стакан керосина, став на колени, начинал дуть в нее изо всех сил. Но результата не получалось. Газеты, ярко вспыхнув и едва не спалив волосы и баки Мандельштама, тут же превращались в пепел. Обуглившиеся мокрые поленья так чадили, что из его глаз текли слезы. Провозившись до изнеможения с «буржуйкой», Мандельштам выскакивал в коридор и начинал стучать во все двери.
– Помогите, помогите! Я не умею затопить печку. Я не кочегар, не истопник. Помогите!
Но помощь почти никогда не приходила. У обитателей писательского коридора не было охоты возиться еще и с чужой печкой. Все они тоже не были «кочегарами и истопниками» и с большим трудом справлялись с «самоотоплением».
Михаил Леонидович Лозинский на минуту отрывался от своих переводов и приотворял дверь.
– Ну зачем вы опять шумите, Осип Эмильевич? К чему это петушье восклицанье, пока огонь в Акрополе горит – или, вернее, не хочет гореть? Ведь вы мешаете другим работать, – мягко урезонивал он Мандельштама, но тот не унимался:
– У меня дым валит из печки! Чад – ад! Я могу угореть. Я могу умереть!
Лозинский благосклонно кивал:
– Не смею спорить. Конечно:
- Мы все сойдем под вечны своды,
- И чей-нибудь уж близок час.
Надеюсь все же, что не наш с вами. А потому позвольте мне вернуться к Еврипиду. – И он, улыбнувшись на прощание, бесшумно закрывал свою дверь. А Мандельштам бежал в ту часть Дома искусств, где царило тепло центрального отопления, – в бывшие хоромы Елисеевых.
Но здесь было нелегко найти уединенный и тихий уголок. В Доме искусств, или, как его называли сокращенно, в Диске, всегда было шумно и многолюдно. Сюда заходили все жившие поблизости, здесь назначались встречи и любовные свидания, здесь студисты устраивали после лекций игры, в приступе молодого буйного веселья носясь с визгом и хохотом по залам.
Но я в этот день пришла в Диск не для встреч или игр. Лозинский накануне сообщил мне, что в Диск привезли из какого-то особняка много французских и английских книг и их пока что свалили в предбаннике.
– Пойдите поищите, – посоветовал он мне. – Может быть, найдется что-нибудь интересное для вас.
В предбаннике, разрисованном в помпейском стиле, стояла статуя Родена «Поцелуй», в свое время сосланная сюда тогдашней целомудренной владелицей елисеевских хором за «непристойность» и так и забытая здесь новыми хозяевами.
В этом предбаннике Гумилев провел свои последние дни. Он переселился сюда в начале лета 1921 года с приехавшей к нему женой.
Но теперь еще зима, и Гумилев по-прежнему живет один на Преображенской, 5, а жена его, Аня, скучает и томится в Бежецке и напрасно умоляет мужа взять ее к себе.
– И чего ей недостает? – недоумевает Гумилев. – Живет у моей матери вместе с нашей дочкой Леночкой, как у Христа за пазухой. Мой Левушка такой умный, забавный мальчик. И я каждый месяц езжу их навещать. Другая бы на ее месте… А она все жалуется.
Мне кажется, хотя я и не говорю этого ему, что и другая на ее месте жаловалась бы – слишком уж девическая мечта о небесном счастье брака с поэтом не соответствует действительности.
Я прохожу через ярко освещенную столовую Диска. Здесь не те правила, что в Доме литераторов, и никого, даже обитателей Диска, не кормят даром. За длиннейшим столом Добужинский и молодой художник Милашевский, приобретший громкую известность своими гусарскими чикчирами-рейтузами, лакомятся коронным блюдом дисковой кухни – заячьими котлетами. Так для меня и осталось тайной, почему эти котлеты назывались «заячьими». Ни вкусом, ни видом они зайца не напоминали.
Милашевский оживленно рассказывает:
– Чудесно вчера вечер провел. Надрался до чертиков. Ух, как надрались! Божественно!
Добужинский, стараясь казаться заинтересованным, улыбается:
– У вас, наверно, vin gai, a не vin triste[29], – говорит он.
Милашевский багровеет от смущения:
– Помилуйте! Мы без этого…
Я останавливаюсь на пороге предбанника. Тихо. Пусто. Никого нет. Уже сумерки. У окна матово белеют книги, сваленные на полу. Их еще не успели разобрать. Я пришла посмотреть, не найдется ли среди них «Une saison en enfer»[30] Рембо.
И вдруг я слышу легкое жужжание. Что это? Неужели книги жужжат? Разговаривают между собой. Я оглядываюсь. Нет, я ошиблась. Я тут не одна. В темном углу, у самой статуи Родена перед ночным столиком, неизвестно зачем сюда поставленным, сидит Мандельштам. Я вглядываюсь в него. Как он бледен. Или это кажется от сумерек? Голова его запрокинута назад, лицо неподвижно. Я никогда не видела лунатиков, но, должно быть, у лунатика, когда он скользит по карнизам крыши, такое лицо и такой напряженный взгляд.
Он держит карандаш в вытянутой руке, широко взмахивая им, будто дирижирует невидимым оркестром – вверх, вниз, направо, налево. Еще и еще. Внезапно его поднятая рука повисает в воздухе. Он наклоняет голову и застывает. И я снова слышу тихое ритмичное жужжание. Я не шевелюсь. Я сознаю, что здесь сейчас происходит чудо, что я не имею права присутствовать при нем.
Так вот как это происходит. А я и не знала. Не догадывалась. Я не раз видела, как Гумилев, наморщив лоб и скосив глаза, то писал, то зачеркивал какое-нибудь слово и, вслух подбирая рифмы, сочинял стихи. Будто решал арифметическую задачу. Ничего таинственного, похожего на чудо, в этом не было. И я не испытывала волнения, охватившего меня сейчас. Волнения и смутного страха, как перед чем-то сверхъестественным.
Сумерки все более сгущаются. Теперь бледное лицо Мандельштама превратилось в белое пятно и стало похожим на луну. Он уже не лунатик, а луна. И теперь уже я, как лунатик, не могу оторвать глаз от его лица. Мне начинает казаться, что от его лица исходит свет, что оно окружено сияющим ореолом.
Тихо. Даже жужжание прекратилось. Так тихо, что я слышу взволнованный стук своего сердца.
Я не знаю, как мне уйти отсюда. Только бы он никогда не узнал, что я была тут, что я видела, что я подглядела, хотя и невольно. Я стою в нерешительности. Надо открыть дверь. Но если она скрипнет, я пропала.
И вдруг в этой напряженной магической тишине раздается окрик:
– Что же вы? Зажгите же электричество! Ведь совсем темно.
Это так неожиданно, что я, как разбуженный лунатик, испуганно прислоняюсь к стене, чтобы не упасть.
– Что вы там делаете? Да зажгите же наконец!
Я щелкаю выключателем и растерянно мигаю. Значит, он видел меня, знал, что я тут. Что же теперь будет? А он собирает со стола скомканные листки и сует их в карман пиджака. Совсем спокойно.
– У меня в комнате опять чад. Пришлось сюда спасаться. С самого утра. – Он встает, отодвигает стул и потягивается. – Который теперь час? Неужели уже четыре? – Голос будничный, глухой, усталый. И весь он совсем не похож на того, от лица которого шло сияние. – Хотите послушать новые стихи?
Конечно! И как еще хочу. Но он не дает мне времени ответить и уже запевает:
- Я слово позабыл, что я хотел сказать,
- Слепая ласточка в чертог теней вернется
- На крыльях срезанных – с прозрачностью играть.
- В беспамятстве ночная песнь поется…
Я слушаю, затаив дыхание. Да, такая «песнь» не только поется, но и слушается в беспамятстве. А он продолжает в упоении, все громче, все вдохновеннее:
- О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
- И выпуклую радость узнаванья.
- Я так боюсь рыданья аонид…
И вдруг, не закончив строфы, резко обрывает:
– А кто такие аониды?
Я еще во власти музыки его стихов и не сразу соображаю, что это он спрашивает меня. Уже настойчиво и нетерпеливо:
– Кто такие аониды? Знаете?
Я качаю головой:
– Не знаю. Никогда не слыхала. Вот данаиды…
Но он прерывает меня.
– К черту данаид! Помните у Пушкина: «Рыдание безумных аонид»? Мне аониды нужны. Но кто они? Как с ними быть? Выбросить их, что ли?
Я уже пришла в себя. Я даже решаюсь предложить:
– А нельзя ли заменить аонид данаидами? Ведь ритмически подходит, и данаиды, вероятно, тоже рыдали, обезумев от усталости, наполняя бездонные бочки.
Но Мандельштам возмущенно машет на меня рукой:
– Нет. Невозможно. Данаиды звучит плоско… нищий, низкий звук! Мне нужно это торжественное, это трагическое, рыдающее «ао». Разве вы не слышите – аониды? Но кто они, эти проклятые аониды?
Он задумывается на минуту.
– А может быть, они вообще не существовали? Их просто-напросто гениально выдумал Пушкин? И почему я обязан верить вашей мифологии, а не Пушкину?
С этим я вполне согласна. Лучше верить Пушкину. И он, успокоившись, снова начинает, закинув голову:
- Я слово позабыл, что я хотел сказать…
И я снова стою перед ним, очарованная, заколдованная. Я снова чувствую смутный страх, как перед чем-то сверхъестественным.
Только он один умеет так читать свои стихи. Только в его чтении они становятся высшим воплощением поэзии – «Богом в святых мечтах земли».
И теперь, через столько лет, когда вспоминаю его чтение, мне всегда приходят на память его же строки о бедуине, поющем ночью в пустыне…
- …И если подлинно поется
- И полной грудью, наконец,
- Все исчезает, остается
- Пространство, звезды и певец.
Да, когда Мандельштам пел свои стихи, все действительно исчезало. Ничего не оставалось, кроме звезд и певца. Кроме Мандельштама и его стихов.
Теперь, оглядываясь назад, мне трудно поверить, что мои встречи с Мандельштамом продолжались только несколько месяцев. Мне кажется, что они длились годы и годы – столько у меня (и самых разнообразных) воспоминаний о нем.
Конечно, я знаю, что время в ранней молодости длится гораздо дольше. Или, вернее, летит с головокружительной быстротой и вместе с тем почти как бы не двигается. Дни тогда были огромные, глубокие, поместительные. Ежедневно происходило невероятное количество внешних и внутренних событий. И ощущение времени было совсем особенное. Как в романах Достоевского – у него тоже события одного дня вряд ли уместились бы в месяц реальной жизни.
Но этим все же трудно объяснить не только количество моих воспоминаний о Мандельштаме, но и их живость и яркость. Они как будто и сейчас еще не хотят укладываться на дно памяти и становиться далеким прошлым. Будто я вчера рассталась с ним. Дело тут, я думаю, не во мне, а в нем, в Мандельштаме. В его необычайности, в его неповторимости. Каждая встреча с ним – а встречались мы почти ежедневно – чем-нибудь поражала и навсегда запоминалась.
Входя в Дом литераторов или в Диск, я всегда чувствовала, что он здесь, прежде чем видела его. И на публичной лекции среди множества слушателей безошибочно находила его, как будто над ним реял
- Какой-то особенный свет,
- Какое-то легкое пламя,
- Которому имени нет.
Но у этого пламени было имя – благодать поэзии. Никогда, ни тогда, ни потом, я не встречала поэта, которого пламя благодати и поэзии так пронизывало бы, который сам как на костре горел, не сгорая в этом пламени. Мне кажется, что это пламя и сейчас освещает воспоминания о нем. И я, снова переживая их, не знаю, которое из них выбрать, все, что касается Мандельштама, мне одинаково дорого.
Вот, взятое почти наугад, наудачу, одно из воспоминаний.
Зимний вечер. Мы, то есть Мандельштам, Георгий Иванов и я, пьем чай у Гумилева. Без всякой торжественности, из помятого жестяного чайника – чай с изюмом из бумажного свертка. Это не прием. Я, возвращаясь с Гумилевым после лекций в Диске, зашла на минутку отогреться у печки. Георгий Иванов и Мандельштам столкнулись с нами на углу Преображенской и присоединились. И вот мы сидим вчетвером перед топящейся печкой.
– Ничего нет приятнее «нежданной радости» случайной встречи, – говорит Гумилев.
Я с ним согласна. Впрочем, для меня все встречи, случайные и неслучайные, «нежданная радость». Я как-то всегда получаю от них больше, чем жду.
– Есть у кого-нибудь папироса? – задает привычный вопрос Мандельштам. И папироса, конечно, находится. Гумилев подносит спичку Мандельштаму.
– Скорей, скорей закуривай. А то вся сера выйдет.
Мандельштам быстро закуривает, затягивается и заливается отчаянным задыхающимся клекотом. Он машет рукой, смеясь и кашляя. Слезы текут из его глаз.
– Удалось! Опять удалось, – торжествует Гумилев. – В который раз. Без промаха.
Спички серные. Продавая их, мальчишки кричат звонко на всю улицу:
- Спички шведские,
- Головки советские,
- Пять минут вонь,
- Потом огонь!
Закуривать от них надо не спеша, крайне осторожно, дав сгореть сере. Все это знают. И Мандельштам, конечно, тоже. Но по рассеянности и «природной жадности», по выражению Георгия Иванова, всегда сразу торопливо закуривает. К общему веселью.
– А я вам сейчас прочту свои новые стихи, – говорит Георгий Иванов.
Это меня удивляет. Я уже успела заметить, что он не любит читать свои стихи. И, написав их, не носится с ними, не в пример Гумилеву и Мандельштаму, готовым читать свои новые стихи хоть десять раз подряд.
– Баллада о дуэли, – громко, важным, несвойственным ему тоном начинает Георгий Иванов.
И сразу становится ясно, что стихи шуточные. На них Георгий Иванов «великий маг и волшебник», по определению Лозинского.
Все события нашей жизни сейчас же воспеваются в стихах, как воспевались и события прежних лет. Существовала и особая разновидность их – «античная глупость». Никогда, впрочем, к недоумению Гумилева, восхищавшегося ею, не смешившая меня. Приведу три примера из нее:
- Сын Леонида был скуп. Говорил он, гостей принимая:
- – Скифам любезно вино, мне же любезны друзья.
Соль этого двустишья заключалась в том, что Лозинский, к которому оно относилось, славился гостеприимством. Или:
- – Ливия, где ты была? – Я лежала в объятьях Морфея.
- – Женщина, ты солгала. В них я покоился сам.
И:
- Пепли плечо и молчи,
- Вот твой удел, Златозуб! —
отмечающее привычку Мандельштама засыпать пеплом папиросы свое левое плечо, когда он сбрасывает пепел за спину. Предложение молчать подчеркивало его несмолкаемую разговорчивость.
– Баллада о дуэли, – повторяет Георгий Иванов и кидает насмешливый взгляд в мою сторону. Я краснею от смущения и удовольствия. «Баллада» значит подражание мне, – и это мне очень лестно.
Георгий Иванов с напыщенной серьезностью читает о том, как в дуэли сошлись Гумилев и юный грузин Мандельштам.
- …Зачем Гумилев головою поник,
- Что мог Мандельштам совершить?
- Он в спальню красавицы тайно проник
- И вымолвил слово «любить».
Взрыв смеха прерывает Иванова. Это Мандельштам, напрасно старавшийся сдержаться, не выдерживает:
– Ох, Жорж, Жорж, не могу! Ох, умру! «Вымолвил слово „любить“!»
Только на прошлой неделе Мандельштам написал свои прославившиеся стихи: «Сестры тяжесть и нежность». В первом варианте вместо «Легче камень поднять, чем имя твое повторить» было: «Чем вымолвить слово „любить“».
И Мандельштам уверял, что это очень хорошо как пример «русской латыни», и долго не соглашался переделать эту строчку, заменить ее другой: «Чем имя твое повторить», придуманной Гумилевым.
Мы выходим на тихую, пустую улицу. Ветер улегся. Все небо в звездах, и большие снежные сугробы сияют в полутьме. Мандельштам молча идет рядом со мной и, закинув голову, глядит на звезды не отрываясь. Я начинаю скандировать:
- Я ненавижу бред
- Однообразных звезд.
И, оборвав, перескакиваю на другое стихотворение, меняя ритм шагов:
- Что, если над модной лавкой,
- Сияющая всегда,
- Мне в сердце длинной булавкой
- Опустится вдруг звезда?
Мандельштам всегда с нескрываемым удовольствием слушает цитаты из своих стихов. Но сейчас он не обращает внимания и продолжает молчать. О чем он думает? И вдруг он говорит приглушенным грустным голосом, как будто обращаясь не ко мне, а к звездам:
– А ведь они не любят меня. Не любят.
От неожиданности я останавливаюсь.
– Да что вы, Осип Эмильевич? Никого другого так не любят, как вас!
Он тоже останавливается. Теперь он смотрит прямо мне в лицо широко открытыми глазами, и мне кажется, что в них отражаются звезды.
– Нет. Не спорьте. Не любят. Вечно издеваются. Вот и сегодня эта баллада!
– Но ведь это лестно, – убеждаю я.
– Про Гумилева никто не посмеет.
– Как не посмеет? Разве не про него «откушенный нос»? Это же нос Гумилева. Ваш зуб, а его нос.
Мандельштам качает головой.
– И все-таки больше всего смеются надо мной. Я и Златозуб, и «юный грузин». Неужели я уж такой шут гороховый, что надо мной нельзя не издеваться? Скажите, только правду, я вам тоже кажусь очень смешным?
– Нет, совсем нет. Напротив, – с полной искренностью почти кричу я: – Я восхищаюсь вами, Осип Эмильевич!
Он недоумевающе разводит руками:
– Неужели? Ну, спасибо вам, если это правда. Спасибо. Не ожидал от вас. – Он берет меня под руку. – Но знаете, – продолжает он доверчиво, – они действительно не любят меня. Прежде любили, а теперь нет. В особенности Гумилев. И Жорж тоже разлюбил меня. А как мы с ним прежде дружили. Просто не разлучались. Я приходил с утра. Он всегда вставал поздно. Вместе у него пили чай и отправлялись вместе на целый день. Всюду – в «Аполлон», и в гости, и на вернисажи, и в «Бродячую собаку». Если поздно возвращались, я у него ночевал на диване. Ни с кем в Петербурге мне так хорошо не было, как с ним. Он замечательный. Я его совсем не за его стихи ценил, нет. За него самого. А теперь внешне все как будто почти по-прежнему, но настоящей дружбы уже и в помине нет. Они все очень изменились. Я пытаюсь найти объяснение.
– Может быть, не только они, но и вы изменились за это время? Я сама совсем другая, чем два года тому назад.
Но он не слушает меня. Какое ему дело до того, какая я была прежде?
Он вдруг неожиданно начинает смеяться.
– У Жоржа была прислуга. Она меня терпеть не могла. Меня почему-то все прислуги не выносят, как собаки почтальонов. Жорж как-то повесил у себя над диваном портрет Пушкина. А прислуга возмутилась: «Эх, мало вам, что ваш Осип тут с утра торчит. Еще, чтобы любоваться, его богомерзкую морду на стенку повесили». И так и не поверила, что это не моя богомерзкая морда. Все же, хоть и дурой-бабой, а лестно быть принятым за Пушкина.
– Конечно лестно.
– А вот в Киеве, – продолжает он, оживляясь, – там меня действительно любили. И еще как! Нигде мне так приятно не жилось, как в Киеве. Сначала приняли сдержанно и даже холодно. Киевляне народ гордый. Перед петербуржцами не низкопоклонничают. Пригласили меня в какой-то поэтический кружок. Я пошел. Квартира барственная. Даже чересчур. И ужин соответствующий. Все чинно и чопорно. И я стараюсь держаться важно и надменно. Смотрю поверх их голов и делаю вид, что не замечаю соседей за столом. Будто здесь пустые стулья. И отвечаю нарочно невпопад. Перешли в гостиную пить кофе. Хозяин просит меня почитать стихи. А у меня от смущения и застенчивости – я ведь очень застенчив – все из головы вылетело. Дыра в мозгу. И, чтобы не потерять лицо, я заявляю: «Я сегодня не расположен читать». И вдруг один молодой человек робко спрашивает меня: «Тогда, может быть, позволите нам за вас?» И начал читать наизусть: «Дано мне тело» и потом «Есть целомудренные чары». А за ним другой уже запевает без передышки: «Сегодня дурной день». И так по очереди они весь «Камень» наизусть отхватили, ничего не пропустив, ни разу не споткнувшись. Я просто своим ушам не верил. Сижу обалдев, красный, еле сдерживаю слезы. Когда кончили, стали меня обнимать и признаваться в любви. С этого вечера и началась у нас теснейшая дружба. Как они обо мне все заботились! Мы ежедневно встречались в кафе на Николаевской улице, и каждый приносил мне подарок. Про банку варенья вы уже знаете. Да, там мне жилось отлично. Там я в первый раз почувствовал себя знаменитым. Со мной все носились, как здесь с Гумилевым. И никто не смел со мной спорить. Тамошний мэтр Бенедикт Лившиц совсем завял при мне. Должно быть, люто мне завидовал, но вида не подавал.
И Мандельштам неожиданно заканчивает:
– А может быть, вы и правы. Я там изменился. Хлебнул славы и поклонения. Отвык от насмешек. Я в Киеве княжил, а тут Гумилев верховодит. И не совсем, сознайтесь, по праву. Вот мне иногда и обидно.
Мы дошли до моего дома.
– Спокойной ночи, Осип Эмильевич.
Мандельштам торопливо прощается:
– Спокойной ночи. Побегу, а то они без меня все морковные лепешки съедят.
И он действительно пускается почти бегом не по тротуару, а по середине улицы, увязая в рыхлом снегу.
Я вхожу в подъезд, ощупью добираюсь до лестницы и в темноте, держась за перила, медленно поднимаюсь. Как я устала. Как мне грустно. Мне жаль Мандельштама. До боли. До слез. «Бедный, бедный! Я не сумела утешить его. Вздор! – уговариваю я себя. – Он не нуждается в моем утешении. И что я могла ему сказать?» Но сердце продолжает ныть. Нет, никакого предчувствия его страшного конца у меня, конечно, не было ни тогда, ни потом.
Не только у меня, но и у него самого не было. Скорее напротив. Ему казалось, что он всех должен пережить, что другие умрут раньше его. Так, он писал о Георгии Иванове:
- …Но я боюсь, что раньше всех умрет
- Тот, у кого тревожно красный рот
- И на глаза спадающая челка.
А о себе:
- Неужели же я настоящий,
- И действительно смерть придет?
Я как-то, еще в самом начале знакомства, спросила его:
– Осип Эмильевич, неужели вы правда не верите, что умрете?
И он совершенно серьезно ответил:
– Не то что не верю. Просто я не уверен в том, что умру. Я сомневаюсь в своей смерти. Не могу себе представить. Фантазии не хватает.
Нет, это не было предчувствие. Но жалость к Мандельштаму осталась навсегда.
Через несколько дней я решилась сказать Гумилеву:
– Николай Степанович, знаете, мне кажется, Мандельштаму обидно, что его называют Златозуб и постоянно высмеивают.
Но Гумилев сразу осадил меня:
– Экая правозаступница нашлась! С каких это пор цыплята петухов защищают? И ничего вы не понимаете. Мандельштаму, по-вашему, обидно, что над ним смеются? Но если бы о нем не писали шуточных стихов, не давали бы ему смешных прозвищ, ему было бы, поверьте, еще обиднее. Ему ведь необходимо, чтобы им все всегда занимались.
Я не стала спорить, и Гумилев добавил примирительно:
– Его не только любят и ценят, но даже часто переоценивают. И как не смеяться над тем, что смешно? Ведь Мандельштам – ходячий анекдот. И сам старается подчеркнуть свою анекдотичность. При этом он по-женски чувствителен и чуток. Он прекрасно раскусил вас. И разыгрывает перед вашей жалостливой душой униженного и оскорбленного. Что же, жалейте его, жалейте! Зла от этого не будет ни ему, ни вам…
И вот еще одно воспоминание. Трагикомическое воспоминание. Мандельштам был чрезвычайно добр. Он был готов не только поделиться последним, но и отдать последнее, если его об этом попросят. Но он был по-детски эгоистичен и по-детски же не делал разницы между моим и твоим.
Это была очень голодная зима. Хотя я и научилась голодать за революционные годы, все же так я еще не голодала. Но делала я это весело, легко и для окружающих малозаметно. Я жила в большой, прекрасно обставленной квартире – в Петербурге квартирного кризиса тогда не было и никого не «уплотняли» еще. Я была всегда очень хорошо одета. О том, как я голодаю, знал один только Гумилев. Но он, по моей просьбе, никому не открывал моей тайны. А голодала я до головокружения, «вдохновенно». Мне действительно часто казалось, что голод вызывает вдохновение и помогает писать стихи, что это от голода
- …Так близко подходит чудесное
- К покосившимся грязным домам.
Когда я выходила на улицу, мне иногда казалось, что и небо, и стены домов, и снег под ногами – все дышит вдохновением и что я сама растворяюсь в этом общем вдохновении и превращаюсь в стихотворение, уже начинающее звучать в моей голове.
В один из таких моих особенно «вдохновенных» дней, когда вечером предстояло собрание Цеха, я по пути в Диск, где заседал Цех, зашла в Дом литераторов за своей кашей, составлявшей для меня сразу и завтрак, и обед, и ужин. Я решила, что перед Цехом необходимо поесть попозже. В вестибюле Дома литераторов меня встретил Ирецкий.
– Вас-то мне и надо! – приветствовал он меня. – Пойдемте ко мне в кабинет, решим, когда вы будете выступать на следующем вечере. В первом или втором отделении?
Мне так хотелось есть, что я стала отказываться, ссылаясь на необходимость идти скорее в Цех.
– Завтра решим. А сейчас мне надо стать в хвост за кашей. Я ужасно тороплюсь.
Но Ирецкий настаивал:
– Успеете. Вот и Осип Эмильевич еще здесь. Он, пока мы будем с вами разговаривать, похвостится за вашей кашей. Ведь свою он уже съел. Вы не потеряете ни минуты. Идемте!
Мандельштам с полной готовностью согласился «похвоститься» за меня. А я пошла с Ирецким.
Он действительно не задержал меня. Я торопливо вошла в полукруглую комнату с окнами в сад, где перед столом с огромным котлом выстроилась длинная очередь. Мандельштама в ней не было. Я облегченно вздохнула: «Значит, уже получил и ждет меня в столовой».
Мандельштам действительно уже сидел в столовой. Но перед ним вместо моей каши стояла пустая тарелка.
– Отчего же вы не взяли каши, ведь вы обещали? – начала я еще издали с упреком.
– Обещал и взял, – ответил он.
– Так где же она? – недоумевала я.
Он сладко, по-кошачьи зажмурился и погладил себя по животу.
– Тут. И превкусная кашка была. С моржевятиной.
Но я не верила. Мне казалось, что он шутит. Не может быть!
– Где моя каша? Где?
– Я же вам объясняю, что съел ее. Понимаете, съел. Умял. Слопал.
– Как? Съели мою кашу?!
Должно быть, в моем голосе прозвучало отчаяние. Он покраснел, вскочил со стула и растерянно уставился на меня.
– Вы? Вы правда хотели ее съесть? Вы правда голодны? Вы не так, только для порядка, чтобы не пропадало, хотели ее взять? – сбивчиво забормотал он, дергая меня за рукав. – Вы голодны? Голодны? Да?..
Я чувствую, что у меня начинает щекотать в носу. О господи, какой скандал: я – Одоевцева, я – член Цеха и плачу оттого, что съели мою кашу!
– Скажите, вы правда голодны? – не унимался Мандельштам. – Но ведь это тогда было бы преступлением! Хуже преступления – предательством. Я оказался бы последним мерзавцем, – все больше волнуясь кричал он, возмущенно теребя меня за рукав.
Я уже кое-как успела справиться с собой. Нет, я не заплакала.
– Успокойтесь. Я шучу. Я хотела вас попугать. Я только что дома ела щи с мясом и жаренную на сале картошку.
И – что бы еще придумать особенно вкусного?
– И селедку! И варенье!
– Правда? Не сочиняете? Я ведь знаю, вы буржуазно живете и не можете быть голодны. А все-таки я готов пойти и сознаться, что я утянул вашу кашу. Пусть меня хоть из членов Дома литераторов исключат. Пусть!
Но я уже смеюсь:
– За это вас вряд ли исключили бы. Но говорить ничего не надо. Пойдемте, а то мы опоздаем в Цех. И это уже будет настоящим преступлением. Не то что кашу съесть.
Всю дорогу в Цех Мандельштам продолжал переживать эпизод с кашей, обвиняя не только себя, но и меня.
– Как вы меня испугали. Разве можно так шутить? Я бы никогда не простил себе, если бы вы правда были голодны. Я страшно боюсь голода, страшно.
В эту ночь, засыпая, я подумала, что я сегодня совершила хороший поступок и за него мне, наверное, отпустится какой-нибудь грех, очень тяжелый грех.
Правда, ни одного хорошего поступка по отношению к Мандельштаму мне больше, к сожалению, совершить не удалось.
Костюмированный бал в Доме искусств в январе 1921 года – «гвоздь петербургского зимнего сезона», как его насмешливо называют.
Мандельштам почему-то решил, что появится на нем немецким романтиком, и это решение принесло ему немало хлопот. Костюм раздобыть нелегко. Но Мандельштам с не свойственной ему энергией победил все трудности и принес откуда-то большой пакет, завернутый в простыню.
– Не понимаю, – говорит Гумилев, пожимая плечами, – чего это Златозуб суетится. Я просто надену мой фрак.
«Просто». Но для того, чтобы надеть «мой фрак», ему требуется длительная и сложная подготовка в виде утюжки, стирки и наведения предельного блеска на башмаки – лакированных туфель у него нет. Все это совсем не просто. А в облаченном в «мой фрак» Гумилеве и подавно ничего простого нет. Напротив. Он еще важнее, чем обыкновенно.
– Всегда вспоминаю пословицу «L’habit fait le moine»[31], как погляжу на себя офраченного, Николай Степанович, – говорит Лозинский. – Только тебя habit не монахом делает, а монархом. Ты во фраке, ни дать ни взять, – коронованная особа, да и только.
Гумилев притворно сердито отмахивается от него:
– Без острословия ты уж не можешь, Михаил Леонидович!..
Но я по глазам его вижу, что сходство с коронованной особой ему очень приятно.
Я надела одно из бальных платьев моей матери: золотисто-парчовое, длинное-предлинное, с глубоким вырезом, сама как умела ушив его. На голове вместо банта райская птица широко раскинула крылья. На руках лайковые перчатки до плеча, в руках веер из слоновой кости и бело-розовых страусовых перьев, с незапамятных лет спавший в шкатулке.
Я постоянно закрываю, открываю его и обмахиваюсь им. Я в восторге от него и еще дома, одеваясь, сочинила о нем строфу:
- Мой белый веер
- Так нежно веет,
- Нежней жасминовых ветвей,
- Мой белый веер, волшебный веер,
- Который стал душой моей.
Нет, я не прочту ее Гумилеву. Мне, эпическому поэту, автору баллад, она совсем не идет. Она из цикла жеманно-женственных стихов, тех, что Гумилев называет: «Я не такая, я иная» – и «до кровоотомщения» ненавидит.
В этом необычайном наряде я очень нравлюсь себе – что со мной бывает крайне редко – и уверена, что должна всем нравиться. Я останавливаюсь перед каждым зеркалом, любуясь собой, и не могу на себя наглядеться.
Костюмированных на балу – кроме пасторальной пары Олечки Арбениной и Юрочки Юркуна, пастушки и пастушка, Ларисы Рейснер, Нины из «Маскарада» Лермонтова, и романтика Мандельштама – почти нет.
Поздоровавшись с Мандельштамом, я, даже не осведомившись у него, кого именно из немецких романтиков он собой представляет, спрашиваю:
– А где ваша жаба?
О жабе я узнала от Гумилева, когда мы с ним шли на бал. Не ехали на бал в карете или в автомобиле, а шли пешком по темным, снежным улицам.
– У Мандельштама завелась жаба!
И Гумилев рассказывает, что они с Георгием Ивановым встретились сегодня перед обедом в Доме искусств. Ефим, всеми уважаемый местный «товарищ услужающий», отлично осведомленный о взаимоотношениях посетителей и обитателей Дома, доложил им, что «Михаил Леонидович вышли, господин Ходасевич в парикмахерской бреются, Осип Эмильевич на кухне жабу гладят».
– Жабу? – переспрашивает Жоржик.
– Так точно. Жабу. К балу готовятся.
– Я-то сразу смекнул, в чем дело. Жабу гладит – магнетические пассы ей делает.
Гумилев многозначительно смотрит на меня из-под оленьей шапки и продолжает, еле сдерживая смех:
– Чернокнижием, чертовщиной занимается. Жабу гладит – хочет Олечку приворожить. Только где ему жабу раздобыть удалось? Мы с Жоржиком решили молчать до бала о жабе.
Так жаба, по воле Гумилева и Георгия Иванова, материализировалась и стала реальной. А став реальной и зажив своей жабьей жизнью, не могла остаться невоспетой.
И вот мы с Гумилевым, хохоча и проваливаясь в снежные сугробы, уже сочинили начало «Песни о жабе и колдуне».
Слух о том, что у Мандельштама завелась жаба и он ее гладит, молниеносно разнесся по залам и гостиным. Жабой все заинтересовались.
Мандельштам в коротком коричневом сюртуке, оранжевом атласном жилете, густо напудренный, с подведенными глазами, давясь от смеха, объясняет, тыкая пальцем в свою батисто-кружевную грудь:
– Жабо, вот это самое жабо на кухне гладил. Жабо, а не жабу.
Ему никто не хочет верить.
– С сегодняшнего дня, – торжественно объявляет ему Гумилев, – тебе присваивается чин Гладящий жабу. И уже разрабатывается проект Ордена жабы. Шейного, на коричневой ленте. Поздравляю тебя! Жаба тебя прославит. О ней уже складывают песню. Слушай!
И Гумилев с пафосом читает сочиненное нами по дороге сюда начало «Песни о жабе и колдуне»:
- Маг и колдун Мандельштам
- Жабу гладит на кухне.
- Блох, тараканов и мух не
- Мало водится там. —
- Слопай их, жаба, распухни
- И разорвись пополам!..
Все смеются, не исключая и самого «мага и колдуна». Но смех его не так безудержен и заразителен, как всегда. Неужели он обиделся?
А приставанья и расспросы о жабе продолжаются беспрерывно и назойливо.
– Брось, Осип! Не лукавь, признавайся, – убеждает его Георгий Иванов. – Я ведь давным-давно догадался, что ты занимаешься магией, чернокнижием и всякой чертовщиной – по твоим стихам догадался.
Я очень люблю танцевать, но ни Гумилев, ни Мандельштам, ни Георгий Иванов не танцуют – из поэтов танцует один Оцуп. Но танцоров на балу все-таки сколько угодно.
Между двумя тустепами я слышу все те же разговоры о жабе. Мандельштам продолжает отшучиваться, но уже начинает нервничать и раздражаться.
– Я на твоем месте отдавал бы жабу напрокат, внаем, – говорит Гумилев. – Я сам с удовольствием возьму ее на недельку-другую для вдохновения – никак не могу своего «Дракона» кончить. Я хорошо заплачу. Не торгуясь заплачу и в придачу привезу тебе из Бежецка банку варенья. Идет? По рукам? Даешь жабу?..
Мандельштам морщится:
– Брось. Довольно. Надоело, Николай Степанович!
Но когда сам Лозинский – образец такта и корректности – осведомляется у него о драгоценном здоровье Жабы Осиповны и просит передать ей почтительный привет, Мандельштам не выдерживает:
– Сдохла жаба! Сдохла! – кричит он, побагровев. – Лопнула! И терпение мое лопнуло. Отстаньте от меня. Оставьте меня в покое! – И он, расталкивая танцующих, бежит через зал и дальше, через столовую и коридор, к себе, в свою комнату.
Лозинский разводит недоумевающе руками и, глядя ему вслед:
– Гарун бежал быстрее лани. Что же это с юным грузином стало? Обиделся?
Но мы смущены. Мы понимаем, что перетянули нитку, не почувствовали границы «jusqu’où on peut aller trop loin»[32] и безнаказанно перемахнули через нее.
Спешно снаряжается делегация. Она должна принести Мандельштаму самые пламенные, самые униженные извинения и во что бы то ни стало, непременно привести его.
После долгих стуков в запертую дверь, после долгих бесплодных просьб и уговоров Мандельштам наконец сдается – с тем «чтобы о проклятой жабе ни полслова».
Его возвращение превращается в триумф. Его встречают овацией.
– Не вернись ты, Осип, – Гумилев обнимает его за плечи, – бал превратился бы в катастрофу.
– А теперь, – громко и радостно заявляю я, – так весело, так весело, как еще никогда в жизни не было!
– Неужели? – спрашивает меня Лозинский. – Сколько уж раз мне приходилось слышать от вас это самое: «Сегодня так весело, как еще никогда в жизни» – и всегда с полной убежденностью и искренностью. Объясните, пожалуйста, как это возможно?
За меня отвечает Гумилев:
– Потому что это всегда правда, сущая правда. Как и кузминское:
- И снова я влюблен впервые,
- Навеки снова я влюблен, —
сущая правда. Это каждый из нас сам, по своему личному опыту знает.
И все опять смеются.
Так веселились поэты. Так по-детски, бесхитростно, простодушно. Смеялись до слез над тем, что со стороны, пожалуй, даже и смешным не казалось.
А «Песня о колдуне и жабе» осталась незаконченной. Ведь мы обещали Мандельштаму – «о проклятой жабе ни полслова». А жаль!
Мандельштам относился к занятиям в литературной студии «без должного уважения», как он сам признавался.
– Научить писать стихи нельзя. Вся эта «поэтическая учеба» в общем ни к чему. Я уже печатался в «Аполлоне», и с успехом, – рассказывал он, – когда мне впервые пришлось побывать на Башне у Вячеслава Иванова по его личному приглашению. Он очень хвалил мои стихи: «Прекрасно, прекрасно. Изумительная у вас оркестровка ямбов, читайте еще. Мне хочется послушать ваши анапесты или амфибрахии». А я смотрю на него выпучив глаза и не знаю, что за звери такие анапесты и амфибрахии. Ведь я писал по слуху и не задумывался над тем, ямбы это или что другое. Когда я сказал об этом Вячеславу Иванову, он мне не поверил. И убедить его мне так и не удалось. Решил, что я «вундеркиндствую», и охладел ко мне. Впрочем, вскоре на меня насел Гумилев. Просветил меня, посвятил во все тайны. Я ведь даже удостоился чести быть объявленным акмеистом. Сами понимаете, какой я акмеист? Но по слабости характера я позволил наклеить себе на лоб ярлык и даже усердно старался писать по-акмеистически – хотя бы это, помните?
- От вторника и до субботы
- Одна пустыня пролегла.
- О, длительные перелеты!
- Семь тысяч верст – одна стрела.
- И ласточки, когда летели
- В Египет водяным путем,
- Четыре дня они висели,
- Не зачерпнув воды крылом.
Гумилев просто в восторге от него был. За акмеистическую точность – «от вторника и до субботы», «семь тысяч верст», «четыре дня» – устроил мне в Цехе всенародный триумф. Трудно, очень трудно мне было освободиться от его менторства, но все же удалось. Выкарабкался и теперь в «разноголосице девического хора пою на голос свой». Ведь Гумилев, сами знаете, такой убедительный, прирожденный Учитель с большой буквы. И до чего авторитетен. И до чего любит заводить литературные споры и всегда быть правым.
Мандельштам не любил литературных споров, не щеголял своими знаниями, не приводил ученых цитат, как это делал Гумилев. Мандельштам – в этом он был похож на Кузмина – как будто даже стеснялся своей «чрезмерной эрудиции» и без особой необходимости не обнаруживал ее, принимая кредо Кузмина:
- Дважды два четыре,
- Два и три – пять.
- Это все, что знаем,
- Что нам надо знать.
Но разница между Кузминым и Мандельштамом была в том, что Кузмин действительно был легкомыслен, тогда как Мандельштам только притворялся и под легкомыслием старался скрыть от всех – а главное от себя – свое глубоко трагическое мироощущение, отгораживаясь от него смехом и веселостью. Чтобы не было слишком страшно жить.
Меньше всего Мандельштам хотел выступать в роли учителя. И все же, очень скоро поняв, что меня, как он выражался, «мучит неутолимая жажда знаний», без всякой просьбы с моей стороны взял на себя эту несвойственную ему роль. И стал меня – когда мы оставались с глазу на глаз – полегоньку подучивать. Делал он это как-то совсем ненарочито, будто случайно, заводя разговор то о Рильке, то о Леопарди, то о Жераре де Нервале, то о Гриммельсхаузене, о котором я до него понятия не имела. От него я узнала очень многое, что запомнила на всю жизнь.
Так, это он открыл мне, что последние строки «Горе от ума» – перевод последних строк «Мизантропа». И что в «Мизантропе» были в первом издании еще две строки, свидетельствовавшие о том, что Алцест не так уж решительно и навсегда порывает со «светом». В правильности его слов мне удалось убедиться только в Париже. Как это ни странно, сам великий литспец (слова «литературовед» тогда еще не существовало) Лозинский спорил со мной, что или я не так поняла, или Мандельштам просто разыграл меня. Оказалось, что две последние строчки «Мизантропа» действительно были отброшены за «несценичностью» и в книгах, и в театре.
От Мандельштама же я узнала, что лозунг «Мир хижинам, война дворцам» принадлежит [не Ленину, а] Шамфору. И еще много других разнообразных сведений получила я от него во время бесконечных хождений по Петербургу.
– Только не рассказывайте Гумилеву о наших разговорах. А то он рассердится и на меня, и на вас. Ведь это его прерогатива – учить вас уму-разуму. Вообразит еще, что я на нее посягаю. А ведь я толком ничего не знаю. И никого ничему научить не могу. Я, слава богу, аутодидакт и горжусь этим.
Была весна, и наступили белые ночи. Белые, сияющие, прозрачные. В одну из таких ночей мы возвращались по Дворцовой набережной после концерта. Мандельштам был бледен и взволнован.
– Знаете, я с детства полюбил Чайковского, на всю жизнь полюбил, до болезненного исступления. Мы летом жили на даче, и я ловил музыку из-за колючей изгороди. Я часто рвал свою матроску и расцарапывал руку, пробираясь зайцем к раковине оркестра. Это там, на Рижском взморье, в Дуббельне, для меня впервые оркестр захлебывался Патетической симфонией Чайковского, и я тонул в ней, как в Балтийском заливе. А потом уже появился для меня, как центр мира, Павловский вокзал. В него я стремился, как в некий Элизиум. Помните у Тютчева: «Моя душа – Элизиум теней…»? Но это был Элизиум звуков и душ, в котором царили Чайковский и Рубинштейн. Я с тех пор почувствовал себя навсегда связанным с музыкой, без всякого права на эту связь. Незаконно. Когда, как сегодня, я слушаю и потрясаюсь до наслаждения, вернее, наслаждаюсь до потрясения, мне вдруг делается страшно: вот сейчас все кончится ужасным скандалом, меня позорно выведут. Возьмут под руки и – из концертной залы, из салона меценатки – в шею, кубарем по лестнице. Опозорят. Погубят. И так страшно, что я пьянею от страха. Скажите, разве это можно назвать любовью к музыке?
Я растерянно молчу, но ведь он и не ждет ответа. Он продолжает:
– А для Гумилева, как, впрочем, и для обожаемого им Теофиля Готье, и Виктора Гюго, «музыка самый неприятный из всех видов шума». И поэтому ему, конечно, несравненно легче жить. Ведь музыка не окрыляет, а отравляет жизнь.
Он вдруг перескакивает на совсем другую тему:
– А ваш «Извозчик» мне симпатичен, хорошо, что вы о нем написали балладу.
Он продолжает:
– Петербургский извозчик всегда был мифом. А советский уж и подавно. Его нужно пускать по меридиану. А вы его – и отлично сделали – в рай впустили. И ведь сознайтесь, вы об осле Жамма ничего не слыхали? А?
Я качаю головой:
– Не слыхала. Что это за осел такой?
– Двоюродный брат вашей лошади. Тоже райский. В рай попал. Но и мы с вами сейчас в гранитном раю.
Он замолкает и наклоняет голову набок, будто прислушивается к чему-то.
Дворцы, мосты и небо – все сияет и все бело и призрачно. Кажется, еще минута, и этот «гранитный рай» растает и растворится в белом сиянии. Останется только белое небо и белые воды Невы.
– Слышите, как они поют? – Мандельштам указывает рукой на дворцы, тянущиеся длинным рядом по набережной. – Неужели не слышите? Странно. Ведь у них у каждого свой собственный голос. И собственная мелодия. Да, лицо. Некоторые похожи на сборник стихов. Другие на женские портреты, на античные статуи. Ведь архитектура ближе всего поэзии. И дополняет, воплощает ее. Неужели вы и этого не видите? И ничего не слышите?
Я снова качаю головой:
– Нет, решительно ничего не слышу. И не вижу ни статуй, ни портретов, ни книг. Одни дворцы.
Он разводит руками:
– Жаль. А я иногда выхожу сюда ночью. Слушаю и смотрю. Нигде не чувствую столько поэзии, такого восхитительного, такого щемящего одиночества, как ночью здесь.
Я не выдерживаю:
– Но вы всегда говорите, что ненавидите, боитесь одиночества.
– Мало ли что я говорю, – прерывает он меня, – всему верить не стоит. Впрочем, я всегда искренен. Но я ношу в себе, как всякий поэт, спасительный яд противоречий. Это не я, а Блок сказал. И это очень умно, очень глубоко. И правильно. Конечно, я ненавижу одиночество. И люблю его. – И, помолчав, прибавляет: – Страстно люблю… Люблю и ненавижу, как женщину, изменяющую мне.
Мандельштам исчез из Петербурга так же неожиданно, как и появился в нем.
В один прекрасный день он просто исчез. Я даже не могу назвать дату его исчезновения. Знаю только, что это было в начале лета 1921 года.
Мне не пришлось с ним ни прощаться, ни провожать его. У меня с ним не было последней встречи. Той грустной встречи, к которой готовишься заранее тревожной мыслью: а вдруг мы больше никогда не увидимся?
Мы расстались весело, уверенные, что через неделю снова встретимся. Я уезжала на неделю в Москву. И это никак не могло считаться разлукой. «Разлукой – сестрой смерти», по его определению. Но неделя в Москве превратилась в месяцы, и когда я наконец вернулась в Петербург, Мандельштама в нем уже не было.
На расспросы, куда он уехал, я не получила ответа. Никто не знал куда. Уехал в неизвестном направлении. Исчез. Растворился, как дым. Впрочем, загадкой исчезновения Мандельштама занимались мало, ведь это была трагическая осень смерти Блока и расстрела Гумилева. Я и сейчас не знаю, куда из Петербурга уехал Мандельштам и почему он никого не предупредил о своем отъезде.
В Москве – в те два месяца, что я провела в ней, – его, во всяком случае, не было. Он бы, конечно, разыскал меня и, конечно, присутствовал бы на вечере Гумилева, остановившегося проездом на сутки в Москве после своего крымского плавания с Неймицем.
Да. Мандельштам исчез. Исчез. «И вести не шлет. И не пишет». Это, впрочем, никого не удивляло. Перепиской из нас никто не занимался. Почте перестали доверять. Письма, и то очень редко, пересылали, как в старину, с оказией. Эпистолярное искусство почти заглохло в те дни. И вдруг – уже весной 1922 года, до Петербурга долетел слух: Мандельштам в Москве. И он женат. Слуху этому плохо верили. Не может быть. Вздор. Женатого Мандельштама никто не мог себе представить.
– Это было бы просто чудовищно, – веско заявил Лозинский. – «Чудовищно», от слова «чудо», впрочем, не без некоторого участия и чудовища.
Но побывавший в Москве Корней Чуковский, вернувшись, подтвердил правильность этого «чудовищного» слуха. Он, как всегда, «почтительно ломаясь пополам» и улыбаясь, заявил:
– Сущая правда! Женат.
И на вопрос: на ком? – волнообразно разведя свои длинные, гибкие, похожие на щупальца спрута руки, с недоумением ответил:
– Представьте, на женщине.
Потом стало известно, что со своей женой Надеждой Хазиной Мандельштам познакомился еще в Киеве. Возможно, что у него уже тогда возникло желание жениться на ней.
Но как могло случиться, что он, такой безудержно болтливый, скрыл это от всех? Ведь, приехав в Петербург, он ни разу даже не упомянул имени своей будущей жены, зато не переставал говорить об Адалис, тогдашней полуофициальной подруге Брюсова. И всем казалось, что он увлечен ею не на шутку.
Георгий Иванов даже сочинил обращение Мандельштама к Адалис. Чтобы понять его, следует знать, что многие литовские фамилии кончаются на «ис».
- Страстной влюбленности отданный,
- Вас я молю, как в огне:
- Станьте литовскою подданной
- По отношенью ко мне.
Но в Петербурге Мандельштам недолго помнил об Адалис и вскоре увлекся молодой актрисой, гимназической подругой жены Гумилева. Увлечение это, как и все его прежние увлечения, было «катастрофически гибельное», заранее обреченное на неудачу и доставило ему немало огорчений. Оно, впрочем, прошло быстро и сравнительно легко, успев все же обогатить русскую поэзию двумя стихотворениями: «Мне жалко, что теперь зима» и «Я наравне с другими».
Помню, как я спросила у Мандельштама, что значат и как понять строки, смешившие всех:
- И сам себя несу я,
- Как жертва палачу?
Я недоумевала. Чем эта добродушная, легкомысленная и нежная девушка походит на палача? Но он даже замахал на меня рукой.
– И ничуть не похожа. Ничем. Она тут вовсе ни при чем. Неужели вы не понимаете? Дело не в ней, а в любви. Любовь всегда требует жертв. Помните, у Платона: любовь одна из трех гибельных страстей, что боги посылают смертным в наказание. Любовь – это дыба, на которой хрустят кости; омут, в котором тонешь; костер, на котором горишь.
– Неужели, Осип Эмильевич, вы действительно так понимаете любовь?
Он решительно закинул голову и выпрямился.
– Конечно. Иначе это просто гадость. И даже свинство, – гордо прибавил он.
– Но вы ведь не в первый раз влюблены? Как же? – не сдавалась я. – Или вы по Кузмину каждый раз:
- И снова я влюблен впервые,
- Навеки снова я влюблен.
Он кивает, не замечая насмешки в моем голосе:
– Да, всегда в первый раз. И всегда надеюсь, что навсегда, что до самой смерти. А то, прежнее, – ошибка. – Он вздыхает. – Но сколько ошибок уже было. Неужели я так никогда и не буду счастлив в любви? Как вам кажется?
Я ничего не отвечаю. Тогда мне казалось, что никогда он не будет счастлив в любви.
Я помню еще случай, очень характерный для его романтически рыцарского отношения к женщине. О нем мне рассказал Гумилев.
Как-то после литературного вечера в Диске затеяли по инициативе одной очаровательной светской молодой дамы, дружившей с поэтами и, что еще увеличивало для поэтов ее очарование, не писавшей стихов, довольно странную и рискованную игру. Она уселась посреди комнаты и предложила всем присутствующим поэтам подходить к ней и на ухо сообщать ей о своем самом тайном, самом сокровенном желании. О том, что невозможно громко сказать. Поэты подходили по очереди, и каждый что-то шептал ей на ухо, а она то смеялась, то взвизгивала от притворного возмущения, то грозила пальчиком.
Вот подошел Николай Оцуп, и она, выслушав его, весело и поощрительно крикнула: «Нахал!» За ним, смущаясь, к ней приблизился Мандельштам. Наклонившись над ней, он помолчал с минуту, будто не решаясь, потом нежно коснулся завитка над ее ухом, прошептал: «Милая…» – и сразу отошел в сторону.
Соблюдая очередь, уже надвигался Нельдихен, но она вскочила вся красная, оттолкнув его.
– Не хочу! Довольно! Вы все мерзкие, грязные! – крикнула она. – Он один хороший, чистый! Вы все недостойны его! – Она схватила Мандельштама под руку. – Уйдем от них, Осип Эмильевич! Уйдем отсюда!
Но Мандельштам, покраснев еще сильнее, чем она, вырвал свою руку и опрометью бросился бежать от нее, по дороге чуть не сбив с ног Лозинского.
За ним образовалась погоня.
– Постой, постой, Осип! Куда же ты? Ведь ты выиграл! Ты всех победил! Постой! – кричал Гумилев.
Но Мандельштам уже летел по писательскому коридору. Дверь хлопнула. Щелкнул замок. Мандельштам заперся в своей комнате, не отвечая ни на стуки, ни на уговоры.
И так больше и не показался в тот вечер.
– Только вы и виду не подавайте, что я рассказал вам. Ведь он чувствует себя опозоренным, оттого что его назвали «чистый», и не знает, куда деваться от стыда, – заканчивает Гумилев и добавляет: – Какой смешной, какой трогательный. Такого и не выдумаешь нарочно.
И вот оказалось, что Мандельштам женился. Конечно, неудачно, катастрофически гибельно. Иначе и быть не может. Конечно, он предельно несчастен. Бедный, бедный!..
То, что его брак может оказаться счастливым, никому не приходило в голову. Наверно, скоро разведется, если еще не развелся. Нет в мире женщины, которая могла бы с ним ужиться. Нет такой женщины. И быть не может.
В начале августа 1922 года Георгию Иванову пришлось побывать в Москве по делу своего выезда за границу. Уезжал он вполне легально, «посланный в Берлин и в Париж для составления репертуара государственных театров». То, что командировка не оплачивалась, а шла за счет самого командируемого, слегка убавляло ее важность. Все же она звучала вполне убедительно и почтенно, хотя и была липовой.
Георгий Иванов провел в Москве всего день – от поезда до поезда. Но, конечно, разыскал Мандельштама. И часто мне потом рассказывал об этой их встрече.
Мандельштам жил тогда – если не ошибаюсь – в Доме писателей. На седьмом этаже. В огромной, низкой комнате, залитой солнцем. Солнце проникало в нее не только в окно, но и в большую квадратную дыру в потолке.
Мандельштам бурно обрадовался Георгию Иванову.
– А я уже думал, никогда не увидимся больше. Что тебя пришьют к делу Гумилева и – фьють, фьють – на Соловки или еще подальше. Ну, слава богу, слава богу. Я и за себя страшно боялся. Сколько ночей не спал. Все ждал: спохватятся, разыщут, арестуют. Только здесь, в Москве, успокоился. Неужели ты даже в тюрьме не сидел? И не допрашивали? Чудеса, право. Ну, как я рад, как рад!
Но радость его быстро перешла в испуг, когда он узнал о командировке за границу.
– Откажись! Умоляю тебя, откажись. Ведь это ловушка. Тебя на границе арестуют. Сошлют. Расстреляют.
Но Георгий Иванов только отшучивался, не сдаваясь ни на какие убеждения и просьбы.
И Мандельштам махнул на него рукой.
– Что ж? Не ты первый, не ты последний… Но чтобы самому лезть в пасть льва? Вспомнишь мои слова, да поздно будет.
– А пока еще не поздно, расскажи лучше о себе, Осип. Как ты – счастлив?
Мандельштам не сразу ответил.
– Так счастлив, что и в раю лучше быть не может. Да и какое глупое сравнение – рай. Я счастлив, счастлив, счастлив, – трижды, как заклинанье, громко произнес он и вдруг испуганно оглянулся через плечо в угол комнаты: – Знаешь, Жорж, я так счастлив, что за это, боюсь, придется заплатить. И дорого.
– Вздор, Осип. Ты уже заплатил сполна, и даже с процентами вперед. Довольно помучился. Теперь можешь до самой смерти наслаждаться. Верь мне.
– Ах, если бы! А то я часто боюсь. Ну а ты как? Вы оба как?..
Оба – это значило Георгий Иванов и я. В сентябре 1921 года я вышла замуж за Георгия Иванова. Естественно, расспросам не было конца – расспросам о нас и рассказам о них с Надей… Надя… Надей… о Наде…
И вдруг, перебив себя, Мандельштам уставился на Георгия Иванова.
– Ну, что ты можешь мне предложить в Петербурге? Здесь я прекрасно устроился. – Он с явным удовольствием огляделся кругом. – Отличная комната. Большая, удобная. Полный комфорт.
– Отличная, – кивает Георгий Иванов, – в особенности ночью, когда
- Все исчезает, остается
- Пространство, звезды и певец, —
полный комфорт – лежишь в кровати и смотришь на звезды над головой. А когда дождь идет, можно бесплатно душ принимать. Чего же удобнее?
– Вздор. – Мандельштам недовольно морщится. – К зиме потолок починят или переведут нас с Надей в другую комнату. Я серьезно спрашиваю тебя, что ты можешь лучшего предложить мне в Петербурге?
Георгий Иванов пожимает плечами.
– Да ничего не могу предоставить тебе. Тем более что через неделю сам уезжаю. И наверно, надолго.
– Не надолго, а навсегда, – снова начинает клокотать Мандельштам. – Если не одумаешься, не останешься – никогда не вернешься. Пропадешь.
Шаги на лестнице. Мандельштам вытягивает шею и прислушивается с блаженно недоумевающим видом.
– Это Надя. Она ходила за покупками, – говорит он изменившимся, потеплевшим голосом. – Ты ее сейчас увидишь. И поймешь меня.
Дверь открывается. Но в комнату входит не жена Мандельштама, а молодой человек. В коричневом костюме. Коротко остриженный. С папиросой в зубах. Он решительно и быстро подходит к Георгию Иванову и протягивает ему руку:
– Здравствуйте, Жорж! Я вас сразу узнала. Ося вас правильно описал – блестящий санктпетербуржец.
Георгий Иванов смотрит на нее растерянно, не зная, можно ли поцеловать протянутую руку.
Он еще никогда не видел женщин в мужском костюме. В те дни это было совершенно немыслимо. Только через много лет Марлен Дитрих ввела моду на мужские костюмы. Но оказывается, первой женщиной в штанах была не она, а жена Мандельштама. Не Марлен Дитрих, а Надежда Мандельштам произвела революцию в женском гардеробе. Но, не в пример Марлен Дитрих, славы это ей не принесло. Ее смелое новаторство не было оценено ни Москвой, ни даже собственным мужем.
– Опять ты, Надя, мой костюм надела. Ведь я не ряжусь в твои платья? На что ты похожа? Стыд, позор, – набрасывается он на нее. И поворачивается к Георгию Иванову, ища у него поддержки. – Хоть бы ты, Жорж, убедил ее, что неприлично. Меня она не слушает. И снашивает мои костюмы.
Она нетерпеливо дергает плечом:
– Перестань, Ося, не устраивай супружеских сцен. А то Жорж подумает, что мы с тобой живем как кошка с собакой. А ведь мы воркуем, как голубки – как «глиняные голубки».
Она кладет на стол сетку со всевозможными свертками. Нэп. И купить можно все что угодно. Были бы деньги.
– Ну, вы тут наслаждайтесь дружеской встречей, а я пока обед приготовлю.
Жена Мандельштама, несмотря на обманчивую внешность, оказалась прекрасной и хлебосольной хозяйкой. За борщом и жарким последовал кофе со сладкими пирожками и домашним вареньем.
– Это Надя все сама. Кто бы мог думать? – Он умиленно смотрит на жену. – Она все умеет. И такая аккуратная. Экономная. Я бы без нее пропал. Ах, как я ее люблю.
Надя смущенно улыбается, накладывая ему варенья.
– Брось, Ося, семейные восторги не интереснее супружеских сцен. Если бы мы не любили друг друга – не поженились бы. Ясно.
Но Мандельштам и сам уже перескочил на другую тему:
– До чего мне не хватает Гумилева. Ведь он был замечательный человек, я только теперь понял. При его жизни он как-то мне мешал дышать, давил меня. Я был несправедлив к нему. Не к его стихам, а к нему самому. Он был гораздо больше и значительней своих стихов. Только после смерти узнаешь человека. Когда уже поздно.
Он задумывается и сыплет пепел прямо на скатерть мимо пепельницы. Жена смотрит на него, нежно улыбаясь, и не делает ему замечания. Потом так же молча сбрасывает пепел на пол.
– Но лучшей смерти для Гумилева и придумать нельзя было, – взволнованно продолжает Мандельштам. – Он хотел быть героем и стал им. Хотел славы и, конечно, получит ее. Даже больше, чем ему полагалось. А Блок, тот не выиграл от ранней смерти. И, говорят, был безобразным в гробу. А ведь он всегда был красив. Знаешь, мне его еще больше жаль, чем Николая Степановича. Я по нем, когда узнал, что он умер, плакал, как по родному. Никогда с ним близок не был. Но всегда надеялся, что когда-нибудь потом… А теперь поздно. И как это больно. И сейчас еще как больно. Блок, Гумилев…
Уже поздно. Георгию Иванову пора на вокзал. Мандельштам едет его провожать. На перроне он вдруг снова начинает уговаривать Георгия Иванова бросить безумную мысль, разорвать командировку и остаться в Петербурге.
– Если ты останешься, мы с Надей тоже переберемся в Петербург. Честное слово, переберемся.
И Георгию Иванову вдруг становится ясно, что Мандельштаму не так уже сладко в Москве, что он хотел бы вернуться в Петербург. Хотя, может быть, сам не сознает этого.
Поезд подошел, и Георгий Иванов отыскивает с помощью проводника свое место в спальном вагоне. Ведь теперь, при нэпе, снова появились спальные вагоны и услужливые проводники.
– Ты все-таки едешь? Тогда вряд ли увидимся. А может быть, одумаешься? А?
– До свидания, Осип! – Георгий Иванов обнимает его крепко. И целует.
– Не до свидания, а прощай, если уедешь. Прощай, Жорж.
У Мандельштама глаза полны слез.
– Полно, Осип. Скоро все кончится, все переменится. Я вернусь, и мы с тобой снова заживем в Петербурге.
Но Мандельштам грустно вздыхает:
– Ты никогда не вернешься.
Георгий Иванов во что бы то ни стало хочет отвлечь его от черных мыслей, рассмешить его.
– А почему ты так уверен, что никогда? Разве не ты сам писал, – и он напевает торжественно под мелодичную сурдинку, подражая Мандельштаму:
- Кто может знать при слове «расставанье»,
- Какая нам разлука предстоит,
- Что нам сулит петушье восклицанье,
- Когда в Москве локомотив свистит?
Конечно, он хотел рассмешить Мандельштама, но такого результата он не ожидал. Мандельштам хохочет звонко и громко н весь перрон. Уезжающие и провожающие испуганно шарахаются от него.
– Как? Как, повтори! «Пока в Москве локомотив свистит?» Ой, не могу! Лопну! – И снова заливается смехом.
А локомотив действительно свистит. И уже третий звонок. Георгий Иванов в последний раз обнимает хохочущего Мандельштама и вскакивает в поезд.
– До свидания, Осип. До свидания.
Поезд трогается. Георгий Иванов машет платком из окна.
Мандельштам все еще трясется от смеха, кричит что-то. Но колеса стучат, и слов уже не разобрать…
Хотя мне самой это теперь кажется невероятным, но в те годы настоящим властителем моих дум был не Гумилев, а Блок.
Конечно, я была беспредельно предана моему учителю Гумилеву и – по-цветаевски готова
- …О, через все века
- Брести за ним в суровом
- Плаще ученика.
Не только была готова, но и «брела» всюду и всегда. Я следовала за ним, как его тень, ежедневно – зимой и летом, осенью и весной. Правда, не в «суровом плаще ученика», а, смотря по погоде, то в котиковой шубке, то «в рыжем клетчатом пальто моем», то в легком кисейном платье.
Я заходила за ним во «Всемирную литературу» на Моховой, чтобы оттуда вместе возвращаться домой, я сопровождала его почти на все лекции.
Я так часто слышала его лекции, что знала их наизусть.
Гумилев в шутку уверял, что во время лекций я ему необходима, как суфлер актеру. Для уверенности и спокойствия. «Знаю, если споткнусь или что-нибудь забуду, вы мне сейчас же подскажете».
Он и сам постоянно навещал меня или звонил мне по телефону, назначая встречу.
Да, все это так. И все-таки не Гумилев, а Блок.
Гумилева я слишком хорошо знала, со всеми его человеческими слабостями. Он был слишком понятным и земным. Кое-что в нем мне не очень нравилось, и я даже позволяла себе критиковать его – конечно, не в его присутствии.
В Блоке же все – и внешне, и внутренне – было прекрасно. Он казался мне полубогом. Я при виде его испытывала что-то близкое к священному трепету. Мне казалось, что он окружен невидимым сиянием и что, если вдруг погаснет электричество, он будет светиться в темноте.
Он казался мне не только высшим проявлением поэзии, но и самой поэзией, принявшей человеческий образ и подобие.
Но я, часами задававшая Гумилеву самые разнообразные и нелепые вопросы о поэтах, желавшая узнать решительно все о них, никогда ничего не спрашивала о Блоке. Я не смела даже произнести его имя – от преклонения перед ним.
Я смутно догадывалась, что Гумилев завидует Блоку, хотя тщательно скрывает это. Но разве можно было не завидовать Блоку, его всероссийской славе, его обаянию, кружившим молодые головы и покорявшим молодые сердца? Это было понятно и простительно.
Я знала, что со своей стороны и Блок не очень жалует Гумилева, относится отрицательно – как и Осип Мандельштам – к его «учительству», считает его вредным и не признает акмеизма. Знала, что Блок и Гумилев идейные противники.
Но я знала также, что их отношения в житейском плане всегда оставались не только вежливо-корректными (Блок был вежлив и корректен решительно со всеми), но даже не были лишены взаимной симпатии.
Распространенное мнение, что они ненавидели друг друга и открыто враждовали, совершенно неправильно и лишено оснований.
Сверкающий, пьянящий, звенящий от оттепели и капели мартовский день 1920 года.
В синих лужах на Бассейной, как в зеркалах, отражается небо и чудная северная весна.
Мы с Гумилевым возвращаемся из «Всемирной литературы», где он только что заседал.
– Вы посмотрите, какой я сегодня подарок получил. Совершенно незаслуженно и неожиданно. – Он на ходу открывает свой пестрый африканский портфель, достает из него завернутую в голубую бумагу книгу и протягивает мне. – Представьте себе, я на прошлой неделе сказал при Блоке, что у меня, к сожалению, пропал мой экземпляр «Ночных часов», и вдруг он сегодня приносит мне «Ночные часы» с той же надписью. И как аккуратно по-блоковски запаковал. Удивительный человек!
Я беру книгу и осторожно разворачиваю голубую бумагу. На заглавном листе крупным, четким, красивым почерком написано:
Николаю Гумилеву
Стихи которого я читаю не только днем, когда не понимаю, но и ночью, когда понимаю.
Ал. Блок
Господи, я отдала бы десять лет своей жизни, если бы Блок сделал мне такую надпись.
Гумилев хватает меня за локоть:
– Осторожно, лужа! Смотрите под ноги!
Но я уже вступила в лужу, зеркальные брызги высоко взлетают. Я смотрю на них и на мои серые бархатные сапожки, сразу намокшие и побуревшие.
– Промочили ноги? – недовольно осведомляется Гумилев.
Промочила? Да, наверно. Но я не чувствую этого.
– Николай Степанович, вы рады? Очень, страшно рады?
Гумилев не может сдержать самодовольной улыбки. Он разводит руками.
– Да. Безусловно рад. Не ожидал. А приходится верить. Ведь Блок невероятно правдив и честен. Если написал, значит – правда. – И, спохватившись, добавляет: – Но до чего туманно, глубокомысленно и велеречиво – совсем по-блоковски. Фиолетовые поля, музыка сфер, тоскующая в полях «мировая душа»!.. Осторожно! – вскрикивает он. – Опять в лужу попадете!
Он берет из моих рук «Ночные часы» и укладывает их обратно в свой африканский портфель. Лист голубой бумаги остается у меня. Я протягиваю его Гумилеву.
– Бросьте бумагу. На что она мне?
Но я не бросаю. Мне она очень «на что». Мне она – воспоминание о Блоке.
– Вы понимаете, что значит «ночью, когда я понимаю»? – спрашивает Гумилев. – Понимаете? А я в эти ночные прозрения и ясновидения вообще не верю. По-моему, все стихи, даже Пушкина, лучше всего читать в яркий солнечный полдень. А ночью надо спать. Спать, а не читать стихи, не шататься пьяным по кабакам. Впрочем, как кому. Ведь Блок сочинял свои самые божественные стихи именно пьяным в кабаке. Помните —
- И каждый вечер в час назначенный —
- Иль это только снится мне? —
- Девичий стан, шелками схваченный,
- В туманном движется окне…
Я слушаю, затаив дыхание – продолжая идти, не останавливаясь.
Я даже смотрю себе под ноги, чтобы снова не ступить в лужу и этим не прервать чтения.
А Гумилев, должно быть против воли поддавшись магии «Незнакомки», читает ее строфа за строфой, аккуратно обходя лужи. Читает явно для себя самого, а не для меня. Может быть – это ведь часто случается и со мной, – даже не сознает, что произносит вслух стихи.
- …В моей груди лежит сокровище,
- И ключ поручен только мне.
- Ты право, пьяное чудовище…
Он вдруг обрывает и взмахивает рукой так широко, что его доха приходит в движение.
– В этом «пьяном чудовище» все дело. В нем, в «пьяном чудовище», а совсем не в том, что «больше не слышно музыки», как Блок уверяет, и не в том, что «наступила страшная тишина». То есть тишина действительно наступила, раз закрыли кабаки с оркестрами, визжащими скрипками и рыдающими цыганками, раз вина больше нет. А без вина он не может. Вино ему необходимо, чтобы слышать музыку сфер, чтобы
- Свирель запела на мосту…
Ведь он сам признавался:
- Я пригвожден к трактирной стойке,
- Я пьян давно…