Читать онлайн История одного города бесплатно
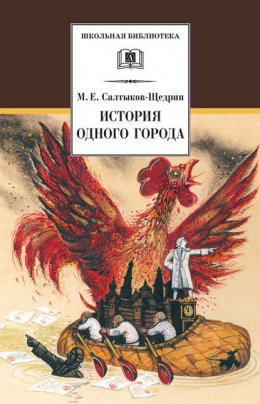
© Лебедев Ю. В., вступительная статья, комментарии, 2002
© Симанчук А., иллюстрации, 2002
© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2002
* * *
Сатира М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города»
«Единственно плодотворная почва для сатиры, – говорил Щедрин, – есть почва народная, ибо ее только и можно назвать общественной в истинном и действительном значении этого слова. Чем далее проникает сатирик в глубины этой жизни, тем весче становится его слово, тем яснее рисуется его задача, тем неоспоримее выступает наружу значение его деятельности»[1].
Первое «веское слово» Салтыкова-Щедрина в русской литературе – цикл его «Губернских очерков», созданный в 1856–1857 годах. Книга эта – плод долгих дум писателя, итог восьмилетнего пребывания его в далекой и глухой по тем временам Вятке, куда он был сослан Николаем I в 1848 году. Салтыков открыл для себя низовую, уездную Русь, познакомился с жизнью мелкого провинциального чиновничества, купечества, крестьянства, рабочих Приуралья, окунулся в животворную «стихию достолюбезного народного говора».
Служебная практика по организации в Вятке сельскохозяйственной выставки, изучение дел о расколе в Волго-Вятском крае погрузили Салтыкова-Щедрина в устное народное творчество, в глубины народной религиозности. «Я несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая без ведома для меня самого приобщает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни»[2], – вспоминал писатель о вятских впечатлениях. Опыт государственной службы в провинции явился суровой школой жизни, которая открыла для писателя «плодотворную почву» для сатиры, «почву народную».
С народных позиций взглянул теперь Салтыков на государственную систему России. Он пришел к выводу, что «центральная власть, как бы ни была просвещенна, не может обнять все подробности жизни великого народа; когда она хочет своими средствами управлять многоразличными пружинами народной жизни, она истощается в бесплодных усилиях»[3]. Главное неудобство самовластья в том, что оно «стирает все личности, составляющие государство. Вмешиваясь во все мелочные отправления народной жизни, принимая на себя регламентацию частных интересов, правительство тем самым как бы освобождает граждан от всякой самобытной деятельности» и самого себя ставит под удар, так как «делается ответственным за все, делается причиною всех зол и порождает к себе ненависть». «Истощаясь в бесплодных усилиях», самовластье плодит «массу чиновников, чуждых населению и по духу, и по стремлениям, не связанных с ними никакими общими интересами, бессильных на добро, но в области зла являющихся страшной, разъедающей силой»[4].
Так образуется порочный круг: самовластие убивает народную инициативу, искусственно сдерживает гражданское развитие народа, держит его в «младенческой незрелости», а эта незрелость, в свою очередь, оправдывает и поддерживает бюрократическую централизацию. «Рано или поздно народ разобьет это Прокрустово ложе, которое лишь бесполезно мучило его»[5]. Но что делать сейчас? Как бороться с антинародной сущностью государственной системы в условиях пассивности и гражданской неразвитости самого народа?
Салтыков приходит к мысли, что единственный выход из создавшейся ситуации – «честная служба», практика «либерализма в самом капище антилиберализма»[6]. В «Губернских очерках» (1856–1857), художественном итоге вятской ссылки, такую теорию исповедует вымышленный герой, надворный советник Щедрин, от лица которого ведется повествование и который отныне станет «двойником» Салтыкова.
Общественный подъем 1860-х годов дает Салтыкову уверенность, что «честная служба» христианского социалиста Щедрина способна подтолкнуть общество к глубоким переменам, что единичное добро может принести заметные плоды, если носитель этого добра держит в уме возвышенный и благородный общественный идеал.
Содержание «Губернских очерков» убеждает, что позиция честного чиновника в условиях вымышленного провинциального города Крутогорска – не политическая программа, а этическая необходимость, единственный пока для Щедрина путь, позволяющий сохранить ощущение нравственной честности, чувство исполненного долга перед русским народом и перед самим собой: «Да! не мог же я жить даром столько лет, не мог же не оставить после себя никакого следа! Потому что и бессознательная былинка и та не живет даром, и та своею жизнью, хоть незаметно, но непременно воздействует на окружающую природу… ужели же я ниже, ничтожнее этой былинки?»[7]
В далекой Вятке он ищет и находит поддержку своим идеалам в верованиях и надеждах народа. Отсюда идет поэтизация народной религиозности, отсюда же идет набирающая силу в «Губернских очерках» эпическая масштабность щедринской сатиры. Как Некрасов в поэме «Тишина», Щедрин пытается выйти к народу через приобщение к его нравственным святыням. В середине XIX века они были религиозными. Щедрину дорога в народе этика самопожертвования, отречения от себя во имя счастья другого, этика служения ближнему, заставляющая забыть о себе и своих печалях.
Вслед за Тургеневым и одновременно с Толстым и Некрасовым Салтыков-Щедрин находит в народной среде то, что утрачено в мире крутогорского чиновничества, в мире русской бюрократии, – человеческую общность и чуткость. Щедринские люди из народа – странники и богомольцы, в неутомимых поисках братства и правды блуждающие по русским дорогам.
Однако Салтыков смотрит на мужика не только с демократической, но и с исторической точки зрения. Поэтому образ народа в «Очерках» двоится. Поэтизируется народ как «воплотитель идеи демократизма», но вызывает грустно-иронические раздумья Щедрина народ-гражданин, действующий на поприще современной русской истории.
Ирония автора книги направлена и на паразитическую бюрократию, и на терпеливую, смиренно-добродушную народную массу. Собирает чиновник-взяточник мужиков, требует немедленного внесения подати, занимается откровенным вымогательством, хочет получить у мужиков «откупное», «детишкам на молочишко»: «Стоят ребятушки да затылки почесывают <…> не будет ли Божецкая милость обождать до заработков»[8]. В таком смиренном терпении народа Щедрин видит проявление гражданской незрелости, пассивности, уступчивости.
Иначе изображает писатель ситуации, в которых смирение народное получает этическое оправдание. Старуха раскольница, доведенная самодурством лихого городничего до смерти, на смертном одре «благодарит» своего мучителя: «Спасибо тебе, ваше благородие, что меня, старуху, не покинул, венца мученического не лишил»[9]. В народном долготерпении здесь открывается высокая духовность, пробегает искра сопротивления бездушному вымогательству верхов. Мир народной жизни в «Губернских очерках» не лишен, таким образом, драматизма: опираясь на жизнеспособные стихии народного миросозерцания, Щедрин отделяет от них стихии мертвые и безжизненные.
После освобождения из «вятского плена» он продолжает (с кратковременным перерывом в 1862–1864 годах) государственную службу сначала в Министерстве внутренних дел, а затем в должности рязанского и тверского вице-губернатора, снискав в бюрократических кругах «Вице-Робеспьер». В 1864–1868 годах он служит председателем казенной палаты в Пензе, Туле и Рязани. Административная практика открывает перед ним самые потаенные стороны бюрократической власти, весь скрытый от внешнего наблюдения ее механизм. Одновременно Салтыков-Щедрин много работает, публикуя свои сатирические произведения в журнале Некрасова «Современник».
Постепенно он изживает веру в перспективы «честной службы», которая все более и более превращается в «бесцельную каплю добра в море бюрократического произвола». Если в «Губернских очерках» Щедрин хоронит в финале «прошлые времена», а потом посвящает им незавершенную «Книгу об умирающих», то теперь сатирик чувствует преждевременность надежд на такие похороны. Прошлое не только не умирает, но пускает корни в настоящее, обнаруживая необыкновенную живучесть. Что же питает старый порядок вещей, почему перемены не затрагивают глубинного существа, корневой основы русской жизни?
Эти размышления подводят Салтыкова-Щедрина к циклу «Помпадуры и помпадурши», в котором, опираясь на собственный практический опыт, сатирик показывает, как дореформенные порядки, слегка видоизменяясь, оживают и воскресают в новые пореформенные времена в образах провинциальных градоначальников. Писатель так и называет для себя этот цикл – «губернаторским». В одном из писем он сообщает, что в его голове начинает складываться новый замысел, выходящий за пределы «помпадурского» цикла, – «Очерки города Брюхова». Суть нового замысла – в его широте, выходе за провинциальные пределы к общерусским сатирическим обобщениям.
Еще в 1857–1859 годах сатирик работает над замыслом рассказа «Гегемониев», в основе которого – сатирическая интерпретация мифа о призвании на Русь князей-варягов для наведения «порядка» в «великой и обильной земле». Под «порядком» Салтыков подразумевает самовластие верхов, узаконенный грабеж обывателей. Этот мотив перейдет потом в главу «Истории одного города» – «О корени происхождения глуповцев». Позднее, в начале 1860-х годов, в очерках: «Литераторы-обыватели», «Глуповское распутство», «Клевета», «Наши глуповские дела», «К читателю» – провинциальный Крутогорек сменяется вымышленным городом Глуповом, само название которого символично.
«Глупов» – это особый порядок вещей, который держится на «иге безумия» верхов и полной пассивности низов, подневольной, опекаемой «правителями» массы.
В 1867 году сатирик сообщает о замысле сказочно-фантастического произведения – «Рассказ о губернаторе с фаршированной головой». Так вызревает замысел «Глуповского Летописца» и начинается работа над одним из вершинных произведений писателя – сатирической хроникой «История одного города». В 1869 году Салтыков-Щедрин навсегда оставляет государственную службу и становится членом редколлегии арендованного Некрасовым журнала «Отечественные записки».
Если в «Губернских очерках», «Помпадурах и помпадуршах» и других произведениях 1850—1860-х годов основные стрелы сатирического обличения попада́ли в провинциальных чиновников, то в «Истории одного города» Щедрин поднялся до правительственных верхов: в центре этого произведения – сатирическое изображение народа и власти, глуповцев и их градоначальников. Писатель убежден, что бюрократическая власть является следствием народного «несовершеннолетия» – «глупости».
В книге сатирически освещается история вымышленного города Глупова, указываются даже точные даты ее: с 1731 по 1825 год. В фантастических героях и событиях щедринской книги есть отзвуки реальных исторических фактов названного автором периода времени. Но в то же время сатирик постоянно отвлекает внимание читателя от прямых исторических параллелей. Речь идет не о какой-то конкретной исторической эпохе, а о таких явлениях, которые сопротивляются течению времени и остаются неизменными на разных этапах отечественной истории. Сатирик ставит перед собою головокружительно смелую цель – создать обобщенный образ России, в котором синтезируются вековые слабости национальной истории, достойные сатирического осмеяния коренные пороки русской общественной жизни.
Стремясь придать героям и событиям вневременной, обобщенный смысл, Щедрин использует прием анахронизма – смешения времен. Повествование идет от лица вымышленных провинциальных архивариусов эпохи XVIII – начала XIX века. Но в их рассказы нередко вплетаются факты и события более позднего времени, о которых эти летописцы знать не могли (польская интрига, лондонские пропагандисты, русские историки середины и второй половины XIX века и т. п.). Да и в глуповских градоначальниках обобщаются черты разных государственных деятелей разных исторических эпох.
Странен, причудлив образ города Глупова. В одном месте мы узнаем, что племена головотяпов основали его на болоте, а в другом утверждается, что «родной наш город Глупов… имеет три реки и, в согласность древнему Риму, на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается…» Ясно, что этот город вбирает в себя признаки двух русских столиц – Петербурга и Москвы. Парадоксальны и его социальные характеристики. То он является перед читателями в образе уездного городишки, то примет облик губернского и даже столичного, а то вдруг обернется захудалым русским селом или деревенькой, имеющей свой выгон для скота. Но при этом окажется, что границы глуповского выгона соседствуют с границами Византийской империи.
Фантастичны и характеристики глуповских обывателей: временами они походят на столичных или губернских горожан, но эти «горожане» пашут и сеют, пасут скот и живут в деревенских избах. Столь же несообразны и причудливы лики глуповских властей: градоначальники совмещают в себе повадки, типичные для русских царей и вельмож, с действиями и поступками, характерными для губернатора, уездного городничего или даже сельского старосты.
Для чего потребовалось Салтыкову-Щедрину сочетание несочетаемого, совмещение несовместимого? Литературовед Д. П.Николаев так отвечает на этот вопрос: «В «Истории одного города», как это уже видно из названия книги, мы встречаемся с одним городом, одним образом. Но это такой образ, который вобрал в себя признаки сразу всех городов. И не только городов, но и сел, и деревень. Мало того, в нем нашли воплощение характерные черты всего самодержавного государства, всей страны»[10].
Работая над «Историей одного города», Салтыков-Щедрин мобилизует не только свой богатый и разносторонний опыт государственной службы, не только глубокие знания трудов всех русских историков – от Карамзина и Татищева до Соловьева и Костомарова, – на помощь сатирику приходит документальная литература писателей-демократов, его современников, знатоков русской провинциальной жизни.
На страницах некрасовских «Отечественных записок» в 1868–1869 годах печатает документальное повествование «Сибирь и каторга» писатель и этнограф С. В. Максимов, а начиная с 1869 года Салтыков-Щедрин публикует здесь же «Историю одного города». Читатель, хорошо знакомый с книгой Максимова, не может отделаться от впечатления, что многие образы и мотивы «Истории одного города» восходят к «Сибири и каторге», где развернута уникальная в своем роде «эпопея» самодурств и бесчинств провинциальной администрации почти за два столетия.
Разве не вспоминается, например, щедринский «Устав о добропорядочном пирогов печении», когда читаешь следующие максимовские строки: «Лоскутов – нижнеудинский исправник – не иначе въезжал в селения, как с казаками, которые везли воз розог и прутьев. Осматривая избы, заглядывал в печи, в чуланы; впутываясь насильно во всякую подробность домашнего быта, он безжалостно наказывал за всякое уклонение от предписанных им правил. Если хлеб был дурно выпечен, он немедленно сек хозяйку розгами, если квас был кисел или в летнее время тепел, сек и хозяина»[11].
Поистине в «чудесах» щедринской книги, говоря языком ее автора, «по внимательном рассмотрении можно подметить довольно яркое реальное основание». Это «реальное основание» давали фантазии Щедрина и многие другие факты, собранные Максимовым. «Цивилизаторские» подвиги щедринских градоначальников, их умопомрачительные «войны за просвещение» предвосхищаются, например, в самовластной распущенности начальника нерчинских заводов, крестного сына Екатерины II, В. В. Нарышкина.
«Этот Нарышкин, принявшись задела, приблизил к себе пятерых арестантов, из которых двух сделал секретарями; за вины бил батожьем и не сказывал за что: «известно-де мне единому»; в растрате казенных денег не стеснялся, отчета об них и самих денег в Петербург не посылал. Когда не хватило казны, он взял деньги у богатого купца Сибирякова, имевшего некоторые заводы на аренде. Когда в другой раз Сибиряков отказал, Нарышкин явился перед его домом с пушками и с угрозою стрелять, если купец не выдаст потребного: Сибиряков вышел на крыльцо с серебряным подносом, на котором положены были затребованные пять тысяч.
Учредил какой-то новый праздник – «Открытие новой благодати», – приказывал всем каяться во грехах, истреблял много пороху, того самого, который столько необходим в горных работах. Набрал войско, присоединил к нему вновь организованный гусарский полк из тунгусов и двинулся с пушками и колоколами походом из Нерчинского завода через город Нерчинск, Братскую степь и Верхнеудинск на Иркутск.
По дороге останавливал купеческие обозы, отбирал товары, выдавая расписки»[12].
«В степи на отдыхах кипели огромные котлы с водой, куда сваливали пудами чай и сахар; вино стояло целыми бочками, сукно, дабу, китайки, холст брали все даром, без всякого счета. Едучи по направлению к Иркутску, он сзывал народ разными средствами, как, например, в селах – звоном в колокола при церквах; пушечной пальбой и барабанным боем там, где церквей не было. Собранный таким способом народ поил вином, насильно захваченным в питейных домах, и бросал в толпы казенные деньги…»[13]
В «подвигах» этого ретивого начальника легко угадывается и деятельность Угрюм-Бурчеева, переименовавшего город Глупов в Непреклонск и учредившего новые праздники, и «путешествия» Фердыщенко, который говорил «неподобные речи и, указывая на «деревянного дела пушечку», угрожал всех своих амфитрионов перепалить». А разве не «по-максимовски» ведут себя при этом щедринские глуповцы, вольные или невольные приспешники Фердыщенко, которые в ожидании своего начальника «стучали в тазы, потрясали бубнами, и даже играла одна скрипка»? «В стороне дымились котлы, в которых варилось и жарилось такое количество поросят, гусей и прочей живности, что даже попам стало завидно». И разве не похож на максимовского Нарышкина щедринский Василиск Бородавкин, совершающий цивилизаторские набеги на обывательские дома, раздающий всем участникам похода водку и приказывающий петь песни?
Даже эти немногие факты подтверждают, что книга Салтыкова-Щедрина вырастала на реальной, жизненной основе, что даже самые фантастические ее образы опирались на конкретный исторический материал.
В построении «Истории одного города» Салтыков-Щедрин пародирует официальную историческую монографию. В первой части книги идут обобщающие главы, дается общий очерк глуповской истории, а во второй – главы-персоналии, посвященные описанию жизни выдающихся градоначальников. Именно так строили свои труды присяжные историки: история писалась «по царям». Пародия Салтыкова-Щедрина имеет драматический подтекст: глуповскую историю иначе и не напишешь, вся она сводится к смене самодурских властей, массы остаются безгласными и покорными воле любых «начальников».
Глуповское государство началось с грозного начальнического окрика «запорю!». Искусство управления глуповцами заключалось с тех пор в разнообразии форм сечения: одни градоначальники секут глуповцев «абсолютно», другие объясняют это «требованиями цивилизации», а третьи добиваются, чтобы обыватели сами желали быть посеченными. В свою очередь, в народной массе меняются лишь формы покорности. В первом случае обыватели трепещут бессознательно, во втором – с сознанием собственной пользы и, наконец, возвышаются до трепета, исполненного доверия.
В описи градоначальников даются краткие характеристики глуповских государственных деятелей, воспроизводится сатирический облик наиболее устойчивых особенностей русской истории, неизменно повторяющихся во все эпохи и все времена. Феофилакт Беневоленский и Василиск Бородавкин вошли в историю повсеместным и насильственным насаждением в Глупове игры ламуш, горчицы и лаврового листа, прованского масла и персидской ромашки. Амадей Клементий воспрославил себя усердным принуждением обывателей к стряпне макарон. Онуфрий Негодяев размостил вымощенные его предшественниками улицы и из добытого камня настроил себе монументов. Угрюм-Бурчеев разрушил старый город и построил другой на новом месте. Перехват-Залихватский сжег гимназию и упразднил науки. Уставы и циркуляры, сочинением которых прославились губернаторы, бюрократически регламентируют жизнь обывателей вплоть до бытовых мелочей, вплоть до указов «О добропорядочном пирогов печении».
Жизнеописание глуповских градоначальников открывает Брудастый. В голове этого администратора вместо мозга действует нечто вроде шарманки («органчика»), наигрывающей два слова-окрика: «Разорю!» и «Не потерплю!». Рассказывается о том, как однажды сломался механизм в голове Брудастого, как он исчез с глаз обывателей, удалившись в свой кабинет. Письмоводитель, вошедший утром с докладом, «увидел такое зрелище: градоначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед ним, на кипе недоимочных реестров, лежала, в виде щегольского пресс-папье, совершенно пустая градоначальникова голова…». Пока местный мастер пытался починить сломавшийся «органчик», в Глупове начался «бунт», первопричиной которого стало неистребимое начальстволюбие. Взбесившаяся толпа сбежалась к дому помощника градоначальника с истошным криком: «Куда ты девал нашего батюшку?!»
Так высмеивает Щедрин бюрократическую бездумность русской государственной власти. К Брудастому примыкает другой градоначальник с искусственной головой – Прыщ. У Прыща голова фаршированная, поэтому он совершенно не способен администрировать, его девиз – «отдохнуть-с». И хотя глуповцы вздохнули при новом правителе, суть жизни мало изменилась: и в том, и в другом случае судьба города находилась в руках безмозглых властей.
Когда вышла в свет «История одного города», либеральная критика стала упрекать Салтыкова-Щедрина в искажении жизни, в отступлении от реализма. Но эти упреки были несостоятельными. Сатирические гротеск и фантастика у Щедрина не искажают действительности, они лишь доводят до парадокса те качества, которые таит в себе бюрократический режим. Художественное преувеличение действует подобно увеличительному стеклу: оно делает тайное явным, обнажает скрытую от невооруженного глаза суть вещей, укрупняет реально существующее зло.
Нельзя не заметить, что в основе щедринской фантастики и гротеска лежит народный взгляд на вещи, что многие фантастические образы являются не чем иным, как развернутыми метафорами, почерпнутыми из русских пословиц и поговорок. И «органчик» у Брудастого, и «фаршированная голова» у Прыща восходят к распространенным в народе пословицам, поговоркам и фразеологическим выражениям: «На тулово без головы шапки не пригонишь», «Тяжело голове без плеч, худо телу без головы», «У него голова трухой набита», «Потерять голову», «Хоть на голове-то густо, да в голове пусто». Богатые сатирическим смыслом народные присловья без всякой переделки попадают в описания глуповских бунтов и междоусобиц.
С помощью гротеска и фантастики Щедрин часто забегает вперед, ставит диагноз социальным болезням, которые существуют в зародыше и еще не развернули всех возможностей и «готовностей», в них заключенных. Доводя эти «готовности» до логического конца, до размеров общественной «эпидемии», сатирик выступает в роли провидца. Именно такой пророческий смысл содержится в фантастическом образе Угрюм-Бурчеева, увенчивающем жизнеописания глуповских градоправителей.
На чем же держится глуповский деспотизм, какие стороны народной жизни его поддерживают и питают? Глупов в книге Щедрина – это особый порядок вещей, составными элементами которого является не только администрация, но и народ – глуповцы. В «Истории одного города» дается беспримерная сатирическая картина наиболее слабых сторон народного миросозерцания. Щедрин показывает, что народная масса в основе своей политически наивна, что ей свойственно неиссякаемое терпение и слепая вера в начальство, в верховную власть.
«Мы люди привышные! – говорили одни, – мы претерпеть могим. Ежели у нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить – мы и тогда противного слова не молвим!» Энергии административного действия они противопоставляют энергию бездействия, «бунт» на коленях: «Что хошь с нами делай! – говорили одни, – хошь – на куски режь; хошь – с кашей ешь, а мы не согласны!» «С нас, брат, не что возьмешь! – говорили другие, – мы не то что прочие, которые телом обросли! нас, брат, и уколупнуть негде!» И упорно стояли при этом на коленах». «Мало ли было бунтов! – с гордостью говорят о себе глуповские старожилы. – У нас, сударь, насчет этого такая примета: коли секут – так уж и знаешь, что бунт!»
Когда же глуповцы «берутся за ум», то, «по вкоренившемуся исстари крамольническому обычаю», они или посылают ходока, или пишут прошения на имя высокого начальства. «Ишь, поплелась! – говорили старики, следя за тройкой, уносившей их просьбу в неведомую даль, – теперь, атаманы-молодцы, терпеть нам не долго!» И действительно, в городе вновь сделалось тихо; глуповцы никаких новых бунтов не предпринимали, а сидели на завалинках и ждали. Когда же проезжие спрашивали: как дела? – то отвечали: «Теперь наше дело верное! теперича мы, братец мой, бумагу подали!»
В сатирическом свете предстает со страниц щедринской книги «история глуповского либерализма» в рассказах об Ионке Козыре, Ивашке Фарафонтьеве и Алешке Беспятове. Прекраснодушная мечтательность и незнание практических путей осуществления своих мечтаний – таковы характерные признаки всех глуповских либералов, судьбы которых складываются трагически. Нельзя сказать, чтоб народная масса не сочувствовала своим заступникам. Но и в самом сочувствии глуповцев сквозит та же самая политическая наивность «Небось, Евсеич, небось! – провожают глуповцы в острог правдолюбца Евсеича, – с правдой тебе везде будет жить хорошо!» «С этой минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было, исчез без остатка, как умеют исчезать только «старатели» русской земли».
По выходе в свет «Истории одного города» критик А. С. Суворин опубликовал в «Вестнике Европы» статью «Историческая сатира». Он обвинил писателя в глумлении над народом, в барски пренебрежительном «злословии» над темными и забитыми глуповцами. Салтыкова-Щедрина глубоко задела эта статья. Он направил специальное письмо в редакцию журнала «Вестник Европы», в которой сделал такие пояснения: «…рецензент мой не отличает народа исторического, то есть действующего на поприще истории, от народа как воплотителя идеи демократизма. Первый оценивается и приобретает сочувствие по мере дел своих. Если он производит Бородавкиных и Угрюм-Бурчеевых, то о сочувствии не может быть и речи… Что же касается до «народа» в смысле второго определения, то этому народу нельзя не сочувствовать уже по тому одному, что в нем заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности».
Заметим, что у Щедрина сатирические картины народной жизни отличаются от сатиры на градоначальников несколько иной тональностью. Смех писателя становится здесь горьким, презрение сменяется тайным сочувствием. Опираясь на «почву народную», Щедрин строго соблюдает границы той сатиры, которую сам народ создал на себя, широко использует фольклор. «Чтобы сказать горькие слова обличения о народе, он взял эти слова у самого народа, от него получил санкцию быть его сатириком»[14], – отмечал А. С. Бушмин.
В защиту Салтыкова-Щедрина выступил журнал «Искра» со статьей, вероятно принадлежащей А. М. Скабичевскому. Критик указал, что Суворин хочет свалить сатиру Щедрина на одного «бедного Макара», чтобы не увидеть в глуповцах «себя и своих собратий». Цель «Истории одного города» «заключается вовсе не в том, чтобы осмеять русскую историю вообще или нравы какого-либо «века» в частности», а в том, чтобы «выставить на вид в нескольких исторических чертах народной жизни вопиющий общественный недостаток нашего же времени: ту возмутительную пассивность, с которою общество наше переносит всякие безобразия и самодурства, относясь к ним не только как к тяготеющему року, но и как к чему-то должному и даже высокосвященному…»[15]
Смысл сатиры не ограничивается социальной проблематикой, он еще более широк и глубок. По сути дела, писатель обличает здесь не только уклон в самовластье российского самодержавия, но и всякую безбожную власть, вырастающую на почве народного вероотступничества и всеобщего поругания вечных духовных истин. Само понимание «глупости» имеет у него кроме социального ярко выраженный христианский смысл. В глупости сатирик находит все пороки падшего, ветхого человека: самолюбие, плотоугодие, славолюбие, сластолюбие, ложь, жестокосердие. «Плотский человек, – утверждал св. Тихон Задонский, – разум свой употребляет на свою корысть или на разорение ближнего, он по плоти живет, дела плотские творит, хотя бы рясою и клобуком покрывался или наружным крестом украшался. Христиане, беззаконно живущие, Бога не знают, хотя имя святое Его исповедуют, и молятся Ему, и в церковь ходят, и Тайн Христовых приобщаются»[16]. Именно так ведут себя глуповцы и их градоначальники на протяжении всей рассказанной Салтыковым-Щедриным «Истории…».
Уже в самом начале сатирической хроники, в главе «О корени происхождения глуповцев», Салтыков-Щедрин пародирует, с одной стороны, историческую легенду о призвании варягов на царство славянскими племенами, а с другой, как это заметила филолог T. Н. Головина[17], библейскую историю, отраженную в I книге Царств, когда старейшины Израиля потребовали от своего бывшего властителя, пророка Самуила, чтобы он поставил над ними царя. Смущенный Самуил обратился с молитвой к Господу и получил от Него такой ответ: «…Не тебя они отвергли, а отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними».
В своих градоначальниках глуповцы видят земных идолов, от произвола которых зависит все: и климат, и урожай, и общественные нравы. Да и сами градоначальники властвуют, как языческие боги. У них «в начале» тоже «было слово», только слово это – звериный окрик «запорю!». По наблюдению T. Н. Головиной, возомнив себя безраздельными устроителями глуповского существования, градоначальники уставы и законы свои пишут в духе тех заповедей, которые Бог дал Моисею в Скрижалях Закона, и на том же самом библейском языке. Закон 1-й градоначальника Беневоленского гласит: «Всякий человек да опасно ходит; откупщик же да принесет дары». А параграф четвертый «Устава о добропорядочном пирогов печении» написан в торжественном стиле описания евангельской бескровной жертвы: «По вынутии из печи всякий да возьмет в руку нож и, вырезав из середины часть, да принесет оную в дар».
Властолюбие этих «отвержденных идиотов» столь безгранично, что распространяется не только на жизнь обывателей, но и на само Божие творение. Бригадир Фердыщенко, например, предпринимает путешествие по глуповскому выгону с такими «демиургическими» целями: «Он вообразил себе, что травы сделаются зеленее и цветы расцветут ярче, как только он выедет на выгон. «Утучнятся поля, прольются многоводные реки, поплывут суда, процветет скотоводство, объявятся пути сообщения», – бормотал он про себя и лелеял свой план пуще зеницы ока».
Но ведь и сами глуповцы считают, что все их бедствия: неурожаи, засухи, ненастья, пожары – напрямую связаны с волей их градоначальников. И когда бригадир Фердыщенко завел шашни с посадской женой Аленкой, «самая природа перестала быть благосклонною к глуповцам. «Новая сия Иезавель, – говорит об Аленке летописец, – навела на наш город сухость». С самого вешнего Николы, с той поры, как начала входить вода в межень, и вплоть до Ильина дня, не выпало ни капли дождя. Старожилы не могли запомнить ничего подобного и не без основания приписывали это явление бригадирскому грехопадению»?
Отношение глуповцев к своим идолам нельзя назвать любовным в христианском смысле этого слова: они их почитают, подчиняются им безропотно, однако и грязью могут измазать, как это делают язычники, наказывая своего земного божка. «Что? получил, бригадир, ответ?» – спрашивали они его с неслыханной наглостью. «Не получил, братики!» – отвечал бригадир. Глуповцы смотрели ему «нелепым обычаем» в глаза и покачивали головами. «Гунявый ты! вот что! – укоряли они его, – оттого тебе, гаденку, и не отписывают! не сто́ишь!»
«По той же причине они так охотно прилепились и к многобожию: оно казалось им более сподручным, нежели монотеизм. Они охотнее преклонялись перед Волосом или Ярилою, но в то же время мотали себе на ус, что если долгое время не будет у них дождя или будут дожди слишком продолжительные, то они могут своих излюбленных богов высечь, обмазать нечистотами и вообще сорвать на них досаду».
Сопоставляя нравственное состояние современного общества с трудами отцов восточной церкви, H. С. Лесков в хронике «Соборяне» пришел к выводу, что «христианство на Руси еще не проповедано»: «Да, сие бесспорно, что мы во Христа крестимся, но еще во Христа не облекаемся».
Салтыков-Щедрин в «Истории одного города» не без сатирической горечи отмечает тот же самый факт. В главе «Поклонение мамоне и покаяние» переход глуповцев от многобожия к христианскому монотеизму мало что меняет в их мировоззрении и психологии. «Между тем колокол продолжал в урочное время призывать к молитве, и число верных с каждым днем увеличивалось. Сначала ходили только полицейские, но потом, глядя на них, стали ходить и посторонние. Грустилов, с своей стороны, подавал пример истинного благочестия, плюя на капище Перуна каждый раз, как проходил мимо него».
И в народе появились свои проповедники: сперва Парамоша с Яшенькой, потом юродивая Аксиньюшка. «Основные начала ее учения были те же, что у Парамоши и Яшеньки, то есть что работать не следует, а следует созерцать. «И, главное, подавать нищим, потому что нищие не о мамоне пекутся, а о том, как бы душу свою спасти», – присовокупляла она, протягивая при этом руку. Да и нельзя было не давать ей, потому что она всякому, не подающему милостыни, без церемонии плевала в глаза и, вместо извинения, говорила только: «Не взыщи!»
Глуповцы же «от бездействия весело-буйственного перешли к бездействию мрачному», а потому «злаков на полях все не прибавлялось». «Напрасно они воздевали руки, напрасно облагали себя поклонами, давали обеты, постились, устраивали процессии – Бог не внимал их мольбам. Кто-то заикнулся было сказать, что «как-никак, а придется в поле с сохою выйти», но дерзкого едва не побили каменьями и в ответ на его предложение утроили усердие. <…> Испорченные недавними вакханалиями политеизма и пресыщенные пряностями цивилизации, они не довольствовались просто верою, но искали каких-то «восхищений».
«Неужели Я не накажу за это? говорит Господь; и не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается насей земле: Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ Мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?» (Иер., гл. 5,ст. 29–31).
Именно в таком, библейском, ключе надо понимать финальную главу книги – «Подтверждение покаяния. Заключение». Угрюм-Бурчеев послан глуповцам в наказание за их грехи. Человек, на котором останавливался его взор, испытывал опасение за человеческую природу вообще: «То был взор, светлый как сталь, взор, совершенно свободный от мысли, и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний. Голая решимость – и ничего более». Неспроста трепетные губы глуповцев инстинктивно шептали: «Сатана!» «Думалось, что небо обрушится, земля разверзнется под ногами, что налетит откуда-то смерч и все поглотит, все разом…» «Погасить солнце, провертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду, – вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий».
«Жизнеустроительный» бред Угрюм-Бурчеева – вызов всему нерукотворному Божьему творению. В образе города Непреклонска Салтыков-Щедрин создает смелую пародию на идеалы любой обожествившей себя государственной власти. В административной антиутопии, созданной фантазией великого сатирика, обобщаются устремления властолюбцев всех времен и народов, всех безбожных общественных партий и движений, вступивших в состязание с Самим Творцом.
Сатирик выступает здесь как беспощадный критик и тех социально-утопических теорий, которыми он увлекался в юности. «В то время, – пишет Салтыков-Щедрин, – еще ничего не было достоверно известно ни о коммунистах, ни о социалистах ни о так называемых нивелляторах вообще. Тем не менее нивелляторство существовало, и притом в самых обширных размерах… каждый эскадронный командир, не называя себя коммунистом, вменял себе, однако ж, зачесть и обязанность быть оным от верхнего конца до нижнего. Угрюм-Бурчеев принадлежал к числу самых фантастических нивелляторов этой школы. <…>. Посредине – площадь, от которой радиусами разбегаются во все стороны улицы, или, как он мысленно называл их, роты. <…> Каждая рота имеет шесть сажен ширины – не больше и не меньше; каждый дом имеет три окна, выдающиеся в палисадник, в котором растут: барская спесь, царские кудри, бураки и татарское мыло. Все дома окрашены светло-серою краской…
В каждом доме живут по двое престарелых, по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетков… <…> Женщины имеют право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. Нивелляторство, упрощенное до определенной дачи черного хлеба, – вот сущность этой кантонистской фантазии…» «Нет ни прошедшего, ни будущего, а потому летоисчисление упраздняется. Праздников два: один весною, немедленно после таяния снегов, называется «Праздником неуклонности» и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой – осенью, называется «Праздником предержащих властей» и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке.
<…>
Всякий дом есть не что иное, как поселенная единица, имеющая своего командира и своего шпиона… <…>
В каждой поселенной единице время распределяется самым строгим образом. С восходом солнца все в доме поднимаются; взрослые и подростки облекаются в единообразные одежды…» и отправляются «.. к исполнению возложенных на них обязанностей. Сперва они вступают в «манеж для коленопреклонений», где наскоро прочитывают молитву; потом направляют стопы в «манеж для телесных упражнений», где укрепляют организм фехтованием и гимнастикой; наконец, идут в «манеж для принятия пищи», где получают по куску черного хлеба, посыпанного солью. По принятии пищи выстраиваются на площади в каре, и оттуда, под предводительством командиров, повзводно разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде. Обыватели разом нагибаются и выпрямляются…<…> Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьем и через каждые пять минут стреляет в солнце. <…>
Ночью над Непреклонском витает дух Угрюм-Бурчеева и зорко стережет обывательский сон…
Ни Бога, ни идолов – ничего…»
«История одного города» завершается гибелью Угрюм-Бурчеева. Она наступает в тот момент, когда под руководством этого идиота глуповцы не только разрушили старый город, но и построили новый – Непреклонен! Когда административный бред был реализован на практике, утомленный градоначальник крикнув «шабаш!», повалился на землю и захрапел, забыв на сей раз назначить шпионов. «Изнуренные, обруганные и уничтоженные, глуповцы, после долгого перерыва, в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга – и вдруг устыдились. <…>
Прохвост проснулся, но взор его уже не произвел прежнего впечатления. Он раздражал, но не пугал». Недовольство среди глуповцев нарастало, начались беспрерывные совещания по ночам. Идиот осознал наконец, что совершил оплошность, и настрочил приказ, возвещавший о назначении шпионов. «Это была капля, переполнившая чашу…»
Но Щедрин оставляет читателя в недоумении относительно того, что же далее произошло. Тетрадки, которые заключали в себе подробности этого дела, будто бы потерялись. Остался лишь один листок, зафиксировавший развязку этой истории: «Через неделю (после чего?)… глуповцев поразило неслыханное зрелище. Север потемнел и покрылся тучами; из этих туч нечто неслось на город: не то ливень, не то смерч. Полное гнева, оно неслось, буровя землю, грохоча, гудя и стеня и по временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркающие звуки. Хотя оно было еще не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. Оно близилось, и по мере того как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце померкло… глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца.
Оно пришло…
В эту торжественную минуту Угрюм-Бурчеев вдруг обернулся всем корпусом к оцепенелой толпе и ясным голосом произнес:
– Придет…
Но не успел он договорить, как раздался треск, и бывый прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе.
История прекратила течение свое».
В советский период многие считали, что перед нами картина революционного гнева, проснувшегося наконец в глуповцах и победоносно убравшего с лица земли деспотический режим и связанную с ним «глуповскую» историю. Однако существовала и иная точка зрения: грозное оно, прилетевшее извне, повергшее ниц в страхе и трепете самих глуповцев, – это еще более суровый и деспотический режим (исторически соответствующий смене царствования Александра I царствованием Николая I). Ведь фраза, которую недоговорил Угрюм-Бурчеев, сообщалась глуповцам не раз. «Идет некто за мной, – говорил он, – кто будет еще ужаснее меня». Этот некто вроде бы и назван в «Описи градоначальникам»: после Угрюм-Бурчеева там следует Перехват-Залихватский, который «въехал в Глупов на белом коне (как победитель. – Ю. Л.), сжег гимназию и упразднил науки». По-видимому, глуповская революция вылилась в стихийный крестьянский «бунт, бессмысленный и беспощадный», после которого установился еще более ужасный режим.
Казалось бы, все логично… Но только ведь Перехват-Залихватский въехал в Глупое, которого к началу смуты уже не существовало: его сменил выстроенный заново Непреклонен. К тому же, какую гимназию мог сжечь этот градоначальник и какие науки упразднить, если в Непреклонске «школ нет и грамотности не полагается; наука числ преподается по пальцам»?!
Ясно, что грозное оно, надвигающееся на Непреклонен с севера, – это какое-то возмездие, равно сулящее гибель и глуповцам и их градоначальникам. Неспроста же оно издает каркающие звуки. Кто является носителем этого возмездия? Может быть, Тот, Кто сказал: «Мне отмщение и Аз воздам»? Ведь библейская история устами пророков поведала нам о Божьем гневе, приводившем к разрушению страны и города за разврат и нечестие отпавших от Бога жителей: Вавилон, Иерусалим, Содом, Гоморра…
«Так говорит Господь: вот, поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком и потопят землю и все, что наполняет ее, город и живущих в нем; тогда возопиют люди, и зарыдают все обитатели страны» (Иер., гл. 47, ст. 2). «Возвестите и разгласите между народами… Вавилон взят… истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены. Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там, от человека до скота…» (Иер., гл. 50, ст. 2–3). «Трясется земля и трепещет, ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю Вавилонскую пустынею, без жителей» (Иер., гл. 51, ст. 29). «Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь; ибо Я приведу от севера бедствие и великую гибель… Это оттого, что народ Мой глуп, – не знает Меня; неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не умеют» (Иер., гл. 4, ст. 6, 22). «Несется слух: вот он идет, и большой шум от страны северной, чтобы города́ Иудеи сделать пустынею, жилищем шакалов» (Иер., гл. 10, ст. 22). «Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания; в вихре и в буре шествие Господа, облако – пыль от ног Его» (Наум, гл. 1, ст. 3).
Нотки Апокалипсиса в финале «Истории одного города» обратили на себя внимание современных исследователей творчества сатирика. Но получили они слишком глобальную интерпретацию. Финальная фраза «история прекратила течение свое» стала пониматься как конец истории человечества. На самом деле смысл этой фразы более конкретен: речь идет о конце глуповской истории, как кончилась в свое время история Вавилона, Содома, Гоморры, древнего Иерусалима. Книга Щедрина в глубине своей по-пушкински оптимистична: «С Божией стихией царям не совладать».
Об этом свидетельствует символический эпизод с попыткой обуздания реки Угрюм-Бурчеевым. «До сих пор разрушались только дела рук человеческих, теперь же очередь доходила до дела извечного, нерукотворного. <…>
Борьба с природой восприяла начало. <…>
Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста… Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. <…>
Едва увидел он массу воды, как в голове его уже утвердилась мысль, что у него будет собственное море. <…> Есть море – значит, есть и флоты: во-первых, разумеется, военный, потом торговый. <…> Является великое изобилие звонкой монеты, которую, однако ж, глуповцы презирают и бросают в навоз, а из навоза секретным образом выкапывают ее евреи и употребляют на исходатайствование железнодорожных концессий».
И вот предпринимаются гигантские усилия по осуществлению плана создания моря и обуздания реки. На строительство гигантской плотины брошен весь мусор от разрушенного Глупова, на утрамбовку ее сгоняются все обыватели будущего града Непреклонска. Река останавливается и начинает разливаться по луговой стороне. Взглянув на громадную массу вод, Угрюм-Бурчеев весь просветлел и даже получил дар слова. «Тако да видят людие!» – сказал он, как Бог, подражая языку Священного Писания. Восторжествовал его демиургический план. Он выдержал соревнование с Самим Творцом!
«И что ж! – все эти мечты рушились на другое же утро.<…>
Едва успев продрать глаза, Угрюм-Бурчеев поспешил полюбоваться на произведение своего гения, но, приблизившись к реке, встал как вкопанный. Произошел новый бред. Луга обнажились; остатки монументальной плотины в беспорядке уплывали вниз по течению, а река журчала и двигалась в своих берегах, точь-в-точь как за день тому назад».
Смыл этой сцены очевиден: ход истории нерукотворен. Как и мир природы, он находится в деснице Божией, и в итоге своем он неподвластен узурпаторским замашкам земных владык.
Ю.В. Лебедев
История одного города
По подлинным документам издал М. Е. Салтыков (Щедрин)
От издателя
Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города (или края) в данный период времени, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. Преимущественно же препятствовал недостаток в материале, сколько-нибудь достоверном и правдоподобном. Ныне, роясь в глуповском городском архиве, я случайно напал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общее название «Глуповского Летописца», и, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Содержание «Летописца» довольно однообразно; оно почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников, в течение почти целого столетия владевших судьбами города Глупова, и описанием замечательнейших их действий, как-то: скорой езды на почтовых, энергического взыскания недоимок, походов против обывателей, устройства и расстройства мостовых, обложения данями откупщиков и т. д. Тем не менее даже и по этим скудным фактам оказывается возможным уловить физиономию города и уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах. Так, например, градоначальники времен Бирона отличаются безрассудством, градоначальники времен Потемкина – распорядительностью, а градоначальники времен Разумовского – неизвестным происхождением и рыцарскою отвагою. Все они секут обывателей, но первые секут абсолютно, вторые объясняют причины своей распорядительности требованиями цивилизации, третьи желают, чтоб обыватели во всем положились на их отвагу. Такое разнообразие мероприятий, конечно, не могло не воздействовать и на самый внутренний склад обывательской жизни; в первом случае обыватели трепетали бессознательно, во втором – трепетали с сознанием собственной пользы, в третьем – возвышались до трепета, исполненного доверия. Даже энергическая езда на почтовых – и та неизбежно должна была оказывать известную долю влияния, укрепляя обывательский дух примерами лошадиной бодрости и нестомчивости.
Летопись ведена преемственно четырьмя городовыми архивариусами и обнимает период времени с 1731 по 1825 год. В этом году, по-видимому, даже для архивариусов литературная деятельность перестала быть доступною. Внешность «Летописца» имеет вид самый настоящий, то есть такой, который не позволяет ни на минуту усомниться в его подлинности; листы его так же желты и испещрены каракулями, так же изъедены мышами и загажены мухами, как и листы любого памятника погодинского древлехранилища. Так и чувствуется, как сидел над ними какой-нибудь архивный Пимен, освещая свой труд трепетно горящею сальною свечкой и всячески защищая его от неминуемой любознательности гг. Шубинского, Мордовцева и Мельникова. Летописи предшествует особый свод, или «опись», составленная, очевидно, последним летописцем; кроме того, в виде оправдательных документов, к ней приложено несколько детских тетрадок, заключающих в себе оригинальные упражнения на различные темы административно-теоретического содержания. Таковы, например, рассуждения: «Об административном всех градоначальников единомыслии», «О благовидной градоначальников наружности», «О спасительности усмирений (с картинками)», «Мысли при взыскании недоимок», «Превратное течение времени» и, наконец, довольно объемистая диссертация «О строгости». Утвердительно можно сказать, что упражнения эти обязаны своим происхождением перу различных градоначальников (многие из них даже подписаны) и имеют то драгоценное свойство, что, во-первых, дают совершенно верное понятие о современном положении русской орфографии и, во-вторых, живописуют своих авторов гораздо полнее, доказательнее и образнее, нежели даже рассказы «Летописца».
Что касается до внутреннего содержания «Летописца», то оно по преимуществу фантастическое и по местам даже почти невероятное в наше просвещенное время. Таков, например, совершенно ни с чем не сообразный рассказ о градоначальнике с музыкой. В одном месте «Летописец» рассказывает, как градоначальник летал по воздуху, в другом – как другой градоначальник, у которого ноги были обращены ступнями назад, едва не сбежал из пределов градоначальства. Издатель не счел, однако ж, себя вправе утаить эти подробности; напротив того, он думает, что возможность подобных фактов в прошедшем еще с большею ясностью укажет читателю на ту бездну, которая отделяет нас от него. Сверх того, издателем руководила и та мысль, что фантастичность рассказов нимало не устраняет их административно-воспитательного значения и что опрометчивая самонадеянность летающего градоначальника может даже и теперь послужить спасительным предостережением для тех из современных администраторов, которые не желают быть преждевременно уволенными от должности.