Читать онлайн Нам нужно поговорить о Кевине бесплатно
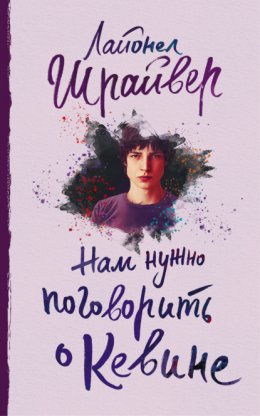
Lionel Shriver
We Need to Talk about Kevin
© Lionel Shriver, 2003
© Перевод. О. Постникова, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
* * *
Посвящается Терри
Нам обоим однажды удалось избежать худшего варианта развития событий
Больше всего ребенок нуждается в любви тогда, когда меньше всего ее заслуживает.
Эмма Бомбек
8 ноября 2000 года
Дорогой Франклин,
сама не знаю, почему сегодня одно мелкое происшествие побудило меня написать тебе. С тех пор как мы расстались, я, наверное, больше всего скучаю по возможности прийти домой и рассказать тебе про всякие странные мелочи, случившиеся со мной за день, – так кошка кладет мышь к хозяйским ногам: маленькие скромные подношения, которые пары предлагают друг другу, добыв их на разных задних дворах. Если бы ты все еще сидел в моей кухне, расположившись поудобнее, и толстым слоем намазывал на ломтик цельнозернового хлеба арахисовое масло с кусочками арахиса, хотя уже почти время ужина, я бы вывалила тебе эту историю, едва успев поставить на пол пакеты (из одного течет нечто прозрачное и вязкое) и даже не поворчав, что на ужин у нас сегодня паста, так что, пожалуйста, не ешь этот сэндвич целиком.
Конечно, раньше мои рассказы были заграничной экзотикой из Лиссабона или Катманду. Но на самом деле никому не хотелось слушать истории про заграницу, и по твоей характерной вежливости я понимала, что ты бы куда предпочел пустяковые истории, произошедшие где-нибудь поближе к дому: например, рассказ о необычной встрече со сборщиком пошлины на мосту Джорджа Вашингтона. Чудеса из повседневной жизни помогали тебе укрепиться во мнении, что все мои поездки за рубеж были чем-то вроде жульничества. Мои сувениры – пакет чуть зачерствевших бельгийских вафель, британский эквивалент выражения «бессмыслица» («бред собачий»!) – искусственно пропитывались волшебством лишь благодаря лежавшему на них отпечатку дальних расстояний. Так же, как в тех безделушках, которыми обмениваются японцы – в коробочках, сложенных в пакетики, – весь блеск моих подношений из дальних стран заключался в упаковке. Гораздо более серьезным достижением было бы порыться в вечно неизменном хламе штата Нью-Йорк и добыть пикантную историю из поездки в семейный супермаркет в Найаке[1].
Именно там и произошла сегодняшняя история. Кажется, я наконец-то начинаю усваивать то, чему ты всегда меня учил: моя страна такая же экзотическая и даже опасная, как Алжир. Я бродила в отделе молочных продуктов, но мне там мало что было нужно – незачем. Я теперь не ем пасту, потому что нет тебя, чтобы расправиться с большей частью еды. Мне так не хватает удовольствия, с которым ты это делал.
Мне все еще трудно выходить в люди. Вроде бы в стране, которая так знаменита «отсутствием чувства истории», как утверждают европейцы, я могла бы извлечь выгоду из прославленной американской амнезии. Не тут-то было! Никто в местном «сообществе» не демонстрирует никаких признаков забывчивости, хотя прошел ровно год и восемь месяцев. Так что, когда у меня заканчиваются продукты, мне каждый раз приходится собираться с духом. Да, для продавцов в ближайшем продуктовом магазине на Хоупвелл-стрит во мне больше нет новизны, и я могу оплатить кварту молока без лишних глаз. Но вот поход в наш супермаркет «Гранд Юнион» по-прежнему напоминает прогон сквозь строй.
Там я всегда чувствую себя так, словно делаю все исподтишка. В качестве компенсации я заставляю себя выпрямиться и расправить плечи. Теперь я понимаю, что значит выражение «с высоко поднятой головой», и порой удивляюсь, насколько меняется внутреннее состояние, если идешь прямо, словно аршин проглотила. Когда мое тело стоит в горделивой позе, я чувствую себя пусть немного, но все же не такой униженной.
Раздумывая, купить ли крупные яйца или средние, я бросаю взгляд на полку с йогуртами. В паре метров от меня стояла другая покупательница; у нее были неухоженные черные волосы, седина у корней отросла на добрые пару сантиметров, а кудри остались только на кончиках – химическая завивка была давно. Лавандовый топ и юбка того же цвета когда-то, наверное, выглядели стильно, но теперь блузка стала ей тесна под мышками, а баска на юбке подчеркивала тяжелые бедра. Наряд неплохо было бы погладить, а на плечах с подплечниками были видны следы от проволочной вешалки. Она достала эти вещи из нижней части шкафа, решила я: они из тех вещей, за которыми протягиваешь руку, когда все остальные грязные или валяются на полу. Когда женщина повернула голову в сторону плавленого сыра, я заметила, что у нее двойной подбородок.
Даже не пытайся угадать; ты ни за что не узнаешь ее в моем описании. Когда-то она была такой невротически гибкой, угловатой и лощеной, словно ее завернули в подарочную упаковку. Наверное, было бы романтичнее вообразить понесшего утрату человека исхудавшим, но полагаю, горевать в компании шоколадных конфет можно так же эффективно, как и сидя на одной воде. Кроме того, бывают женщины, которые продолжают одеваться элегантно и с лоском не столько для того, чтобы порадовать супруга, сколько для того, чтобы не отставать от дочери; благодаря нам сегодня у нее нет такого стимула.
Это была Мэри Вулфорд. Я не смогла встретиться с ней лицом к лицу, и я этим не горжусь. Я отвернулась. Руки у меня вспотели, пока я теребила упаковку яиц, проверяя, все ли они целые. Я сделала вид, будто только что вспомнила, что мне нужно что-то в другом ряду, и умудрилась, не оборачиваясь, положить яйца на детское сиденье в тележке. Притворившись таким образом, я удрала, не взяв тележку, потому что у нее скрипели колеса. Я перевела дух рядом с полкой супов.
Мне стоило быть к этому готовой, и частенько так оно и есть: я напряжена, настороженна, и как часто выясняется, совершенно напрасно. Но я не могу выходить из дома закованной в броню по любому пустяковому поводу, и кроме того, что мне теперь может сделать Мэри? Она уже сделала все возможное: затащила меня в суд. И все равно я не могла усмирить свое сердцебиение, не могла сразу вернуться в молочный отдел, хотя тут же осознала, что оставила в тележке мою вышитую сумочку из Египта, а в ней кошелек.
И это единственная причина, по которой я вообще не ушла из «Гранд Юнион». Через какое-то время мне придется прокрасться к своей сумке, а пока я медитировала на банки супа «Кэмпбелл» со спаржей и сыром, бесцельно раздумывая о том, в какой ужас пришел бы Уорхол от их нового дизайна.
К тому времени, как я прокралась обратно, берег был чист, и я рванула тележку, резко став занятой работающей женщиной, которой нужно побыстрее управиться с домашними делами. Вроде бы эта роль мне знакома, и все же я так давно не думала о себе в подобном контексте, что была уверена: люди у кассы впереди меня расценили мое нетерпение не как властность второго кормильца семьи, для которого время – деньги, а как слезливую панику поспешного бегства.
Когда я выложила на ленту свои разнокалиберные покупки, коробка с яйцами оказалась липкой, что заставило кассиршу ее открыть. Эх, Мэри Вулфорд все-таки меня заметила.
– Вся дюжина! – воскликнула девушка на кассе. – Я попрошу, чтобы вам принесли другую упаковку.
Я ее остановила.
– Нет-нет, – сказала я. – Я тороплюсь, возьму, какие есть.
– Но они же все…
– Возьму, какие есть!
Нет лучшего способа заставить жителей этой страны быть более сговорчивыми, чем притвориться несколько неуравновешенным человеком. Подчеркнуто промокнув бумажной салфеткой штрих-код на коробке, она просканировала яйца и, закатив глаза, вытерла салфеткой руки.
– Качадурян, – произнесла девушка, когда я протянула ей карту. Говорила она громко, словно для всех стоявших в очереди. День клонился к вечеру – подходящее время для смены старшеклассников, которые подрабатывают после школы. Ей, наверное, лет семнадцать – она могла бы быть одноклассницей Кевина. Конечно, в этом районе полдюжины школ, и ее семья, может, вообще недавно переехала сюда из Калифорнии. Но судя по ее взгляду, это было не так. Она сурово уставилась на меня.
– Необычная фамилия.
Не знаю, что на меня нашло, но я так от этого устала. Не то чтобы мне не было стыдно. Скорее, я страшно устала от этого стыда, скользкого, словно эти липкие пятна от яичного белка. Такие эмоции ни к чему хорошему не приводят.
– Я – единственная Качадурян на весь штат Нью-Йорк, – с насмешкой сказала я и выхватила у нее свою карту. Она засунула мои яйца в пакет, и там они потекли еще сильнее.
В общем, сейчас я дома – ну, или в том месте, которое им считается. Ты, конечно, никогда здесь не был, так что позволь, я тебе его опишу.
Ты бы поразился. Не в последнюю очередь из-за того, что я решила остаться в Гладстоне – ведь я с самого начала подняла такой шум из-за переезда в пригород. Но мне казалось, я должна жить в таком месте, откуда можно доехать до Кевина на машине. Кроме того, хоть я и жажду безвестности, я все же не хочу, чтобы мои соседи забыли, кто я такая; я бы хотела сама об этом забыть, но такой возможности не даст ни один город. Это единственное место на свете, где во всей полноте ощущаются тяжелые последствия моей жизни, и мне сегодня гораздо важнее быть понятой, чем нравиться людям.
После выплат гонорара адвокатам у меня остались гроши, но их хватило бы на покупку скромного жилища. Однако мне подходила неуверенность, которую дает съемное жилье. Моя жизнь в этом игрушечном картонном дуплексе напоминает пробный брак между людьми разных темпераментов. Ох, ты бы пришел от него в ужас: хлипкая мебель из ДСП бросает вызов девизу твоего отца: «Материалы – это все». Но именно за то, что дом держится из последних сил, я его и ценю.
Все здесь шаткое и ненадежное. Лестница на второй этаж крутая, и у нее нет перил, она придает пикантность подъему в спальню с головокружением после трех бокалов вина. Полы скрипят, оконные рамы протекают, и вся атмосфера в доме дышит хрупкостью и неуверенностью, словно в любой момент вся эта конструкция может погрузиться в небытие как некая неудачная идея. На первом этаже под потолком тянется провод, с которого свисают на ржавых вешалках для одежды крошечные галогеновые лампочки; они имеют склонность мигать, и этот дрожащий свет усиливает то ощущение неуверенности, которое пронизывает мою новую жизнь. Внутренности единственной телефонной розетки торчат наружу; моя ненадежная связь с внешним миром болтается на двух плохо припаянных проводах и часто прерывается. Хоть домовладелец и обещал мне нормальную плиту, я не против пользоваться электроплиткой, у которой не работает индикатор включения. Ручка двери с внутренней стороны часто отваливается, оставаясь у меня в руке. Пока что мне удавалось поставить ее на место, но заедающий язычок замка дразнит меня, словно намекая на мою мать, которая не могла выйти из дома.
Признаюсь также, что у моего дуплекса есть общая тенденция до предела растягивать ресурсы. Отопление слабое, от радиаторов поднимается его несвежее и поверхностное дыхание, и хотя сейчас всего лишь ноябрь, я уже выкрутила регуляторы на полную мощность. Когда я принимаю душ, то пользуюсь только горячим краном, не разбавляя струю холодной водой: температуры как раз хватает, чтобы я не дрожала, но понимание того, что выше она не поднимется, пронизывает мои омовения тревогой. Регулятор в холодильнике тоже стоит на максимуме, но молоко все равно прокисает через три дня.
Что касается декора, то он вызывает насмешку, и она кажется уместной. Нижний этаж грубо и на скорую руку выкрашен в ярко-желтый цвет, мазки небрежные, и через них проступает предыдущий слой белой краски, словно стены изрисованы мелками. Наверху, в моей спальне, стены выкрашены в цвет морской волны настолько по-любительски, словно это делал первоклассник. Этот маленький дрожащий домик кажется не совсем реальным, Франклин. И точно такой же чувствую себя и я.
И все же я надеюсь, что ты не испытываешь ко мне жалости – у меня нет намерения вызвать ее в тебе. Я могла бы найти более роскошное жилье, если бы хотела. Мне тут в определенном смысле нравится. Тут все несерьезное, игрушечное. Я живу в кукольном домике. Даже мебель тут нестандартного размера. Обеденный стол доходит мне до груди, и поэтому я чувствую себя несовершеннолетней; а маленький прикроватный столик, на который я водрузила ноутбук, слишком низкий, чтобы было удобно печатать; по высоте он больше подходит для того, чтобы ставить на него кокосовое печенье и ананасовый сок для детсадовцев.
Может быть, эта искаженная и детская атмосфера поможет объяснить, почему вчера, в день президентских выборов, я не голосовала. Я просто забыла. Мне кажется, что все вокруг происходит так далеко от меня. И теперь, вместо того чтобы явить твердый контраст с моей неорганизованностью, страна, кажется, присоединилась ко мне в царстве сюрреализма. Подведены итоги голосования, но, как в рассказе Кафки, никто словно не знает имени победителя.
И у меня теперь есть эта дюжина яиц – вернее, то, что от них осталось. Я вытряхнула их в миску и выловила скорлупу. Если бы ты был здесь, я бы приготовила нам отличную фриттату[2] с нарезанной кубиками картошкой, кинзой и – главный секрет – чайной ложкой сахара. Я одна, поэтому просто вылью их в сковородку, перемешаю, поджарю и буду угрюмо ковырять вилкой. Но я все равно их съем. Было в этом поступке Мэри что-то такое, что показалось мне – самую малость – довольно элегантным.
Поначалу еда вызывала у меня отвращение. Навещая маму в Расине, я позеленела при виде ее долмы, хотя она весь день бланшировала виноградные листья и аккуратно заворачивала в них начинку из баранины и риса. Я напомнила ей, что долму можно заморозить. На Манхэттене, когда я торопливо пробегала мимо кулинарии на 57-й улице по пути в юридическую контору Харви, от острого запаха перченой пастромы[3] у меня словно переворачивался желудок. Но потом тошнота прошла, и мне ее не хватало. Когда через четыре-пять месяцев я вновь начала испытывать голод – волчий голод, если честно, – то аппетит казался мне чем-то неподобающим. Поэтому я продолжала играть роль женщины, потерявшей интерес к еде.
Однако через год я поняла, что актерство мое было напрасным. Если я стану бледной и тощей, до этого никому нет дела. Чего я ждала? Что ты возьмешь меня за бока своими огромными руками, которыми можно обхватить лошадь, и поднимешь в воздух с суровым упреком, который вызывает тайный восторг у любой западной женщины: «Ты слишком худая»?
Так что теперь каждое утро с кофе я ем круассан и подбираю каждую крошку с блюдца. Какая-то часть моих длинных вечеров уходит на методичное шинкование капусты. Я даже пару раз отклоняла те немногие приглашения сходить на ужин, которые все еще иногда звучат по телефону; обычно это друзья из-за границы, которые время от времени посылают мне электронные письма, но которых я много лет не видела. Особенно если они ничего не знают, а я всегда могу рассказать. Те, кто не в курсе, реагируют слишком бурно, а посвященные начинают почтительно запинаться и говорят приглушенным тоном, словно в церкви. Очевидно, что я не хочу пересказывать эту историю. Точно так же я не жажду молчаливого сострадания друзей, которые не знают, что сказать, и предоставляют мне выворачиваться наизнанку, поддерживая разговор. Но на самом деле придумывать отговорки о том, как я «занята», меня заставляет ужас от того, что мы закажем салат, нам принесут счет, а времени будет всего 8.30 или 9.00 вечера, и я вернусь в свой крошечный дуплекс, и мне там нечего будет шинковать.
Странно, что проведя столько лет в путешествиях для «Крыла Надежды» – каждый день новый ресторан, где официанты говорят по-испански или по-тайски, где в меню значатся севиче[4] и собачье мясо, – я так зациклилась на этой жесткой рутине. Как это ни ужасно, но я напоминаю себе свою мать. Однако я не могу отклониться от этой четкой последовательности (кусочек сыра или шесть-семь оливок; куриная грудка, котлета или омлет; горячие овощи; одно печенье с прослойкой из ванильного крема; ровно полбутылки вина, не больше), словно я иду по гимнастическому бревну и один шаг в сторону заставит меня потерять равновесие и упасть. Мне пришлось отказаться от стручкового горошка, потому что готовить его недостаточно хлопотно.
Как бы то ни было, хоть мы больше и не вместе, я знаю, что ты беспокоился бы о том, ем ли я. Ты всегда об этом беспокоился. Благодаря мелкой мести Мэри Вулфорд сегодня вечером я хорошо поела. Не все нелепые выходки наших соседей оказывались столь утешительными.
Например, три галлона алой краски, разлитой по всей веранде, когда я еще жила в нашем доме в стиле ранчо для нуворишей (да-да, Франклин, нравится тебе это или нет – это был дом в стиле ранчо) на променаде Палисейд. Краска была на всех окнах и на двери. Они пришли ночью, так что к тому времени как я проснулась на следующее утро, она почти высохла. В тот момент, спустя месяц или около того после… – как же мне назвать тот четверг? – я подумала, что меня больше нельзя напугать или ранить. Наверное, это обыкновенное зазнайство – считать, что ты уже настолько дискредитирован, что сама полнота понесенного тобой урона служит тебе защитой.
Когда в то утро я повернула из кухни в гостиную, я осознала эту идею: что я невосприимчива к абсурду. Я ахнула. В окна лился солнечный свет – вернее, в те части, которые не были залиты краской. Он проникал и сквозь те участки, где слой краски был самым тонким, и бросал на кремовые стены комнаты огненно-красные отсветы, словно в кричащем интерьере китайского ресторана.
Я всегда придерживалась линии поведения, которой ты восхищался: смотреть в лицо своим страхам, хотя этот принцип я придумала еще в те дни, когда мои страхи заключались лишь в боязни потеряться в чужом городе – какой пустяк! Чего бы я только не отдала сейчас, чтобы вернуться в то время, когда я понятия не имела, что таится впереди (например, вот такой пустяк). И все-таки старые привычки трудно изменить, поэтому вместо того, чтобы сбежать обратно в нашу кровать и накрыться с головой одеялом, я решила изучить нанесенный ущерб. Но дверь заело: она приклеилась к косяку толстым слоем алой эмали. В отличие от латексной краски эмаль нельзя растворить водой. И эмаль дорого стоит, Франклин. Кто-то хорошо вложился деньгами. Конечно, в нашем прежнем районе было множество недостатков, но деньги никогда не являлись одним из них.
Поэтому я вышла через боковую дверь и в халате подошла к главному входу. Выражаясь языком наших соседей, я чувствовала, что мое лицо застыло той же «бесстрастной маской», которую описывала «Нью-Йорк таймс» после суда. «Пост» была менее любезна – она то и дело называла выражение моего лица «вызывающим», а наша местная «Джорнал Ньюз» пошла еще дальше: «Судя по каменной непреклонности на лице Евы Качадурян, ее сын не сделал ничего более вопиющего, чем окунуть косу одноклассницы в чернильницу». (Я допускаю, что в суде я сидела с застывшим лицом, прищурив глаза и втянув щеки; помню, что ухватилась за один из твоих девизов «крутого парня»: «Не позволяй им увидеть, что ты на нервах». Но «вызывающее», Франклин?! Я лишь пыталась не расплакаться!)
Эффект был просто великолепный – для человека со вкусом к сенсации, которого у меня к тому моменту не осталось. Дом выглядел так, словно ему перерезали горло. Краска была разлита буйными и обильными пятнами Роршаха, и ее цвет – глубокий, насыщенный, сочный, с легким багрово-синим оттенком – так тщательно выбрали, что можно было подумать, его специально смешали для такого случая. Я глупо подумала, что если бы виновные попросили смешать им этот цвет, а не просто взяли краску с полки в магазине, то полиция могла бы их отследить.
Я не собиралась без крайней нужды снова приходить в полицейский участок.
Халат на мне был тонкий – то кимоно, что ты подарил мне на нашу первую годовщину в 1980 году. Оно скорее для лета, но это единственный подаренный тобой предмет одежды, поэтому других халатов я не надеваю. Я так много вещей выбросила – но ничего из того, что ты подарил мне или что осталось после тебя. Признаю, что талисманы мучительны. Поэтому я их и храню. Все эти любящие постращать психотерапевты сказали бы, что мои переполненные шкафы «нездоровы». Я позволяю себе отличаться. В противоположность мучительной, словно загрязненной боли из-за Кевина, из-за этой краски, из-за гражданских и уголовных судов, эта боль благотворна. Сильно недооцененная в шестидесятых, благотворность является качеством, которое я научилась ценить, как удивительно редкое.
В общем, схватив этот нежно-голубой хлопковый халат и оценивая несколько небрежную работу по покраске, которую наши соседи сочли возможным безвозмездно проспонсировать, я мерзла. Стоял май, но воздух был холодный, и дул пронизывающий ветер. Прежде чем узнать это на собственном опыте, я, наверное, воображала, что вследствие личного апокалипсиса мелкие жизненные хлопоты фактически исчезают. Но это не так. Ты все еще чувствуешь озноб, все еще впадаешь в отчаяние, когда почта теряет посылку, и все еще раздражаешься, когда обнаруживаешь, что тебя обсчитали в «Старбаксе». При нынешних обстоятельствах может показаться неловким, что мне все еще нужен свитер или муфта, или что я возражаю против обсчета на полтора доллара. Но с того четверга всю мою жизнь накрыло таким покровом неловкости, что я решила считать все эти мимолетные мелкие неприятности утешением – символами уцелевшего приличия. Одевшись не по погоде или досадуя на то, что в «Уолмарте»[5] размером со скотный рынок я не могу отыскать хоть одну коробку спичек, я упиваюсь эмоциональной банальностью.
Пробираясь назад к боковой двери, я озадаченно думала, как этой банде мародеров удалось так основательно атаковать дом, пока я спала в нем, ни о чем не подозревая. Я решила, что всему виной большая доза успокоительного, которую я принимала каждый вечер (пожалуйста, Франклин, не говори ничего, я знаю, что ты этого не одобряешь), пока я не поняла, что совершенно неправильно представила себе картину. Прошел ведь месяц, не день. Не было никаких глумливых выкриков, балаклав на лицах и обрезов в руках. Они пришли тайком. Единственными звуками были треск сломанных веток, глухой всплеск, когда первую полную банку краски с размаху вылили на нашу сверкающую дверь из красного дерева, убаюкивающий океанический плеск краски о стекло, тихий перестук разбрызганных капель – не громче, чем от обильного дождя. Наш дом не облили яркой флуоресцентной струей спонтанного негодования; его вымазали ненавистью, которая была уварена до смачной густоты, словно прекрасный французский соус.
Ты бы настоял, чтобы мы наняли кого-то отмыть краску. Ты всегда был энтузиастом этой великолепной американской склонности к специализации, в соответствии с которой существует специалист по каждой надобности, и ты порой листал «Желтые страницы» просто ради развлечения. «Специалист по удалению краски: Алая эмаль». Но в газетах столько писали о том, как мы богаты и как избалован был Кевин; а я не хотела доставить Гладстону удовольствия насмехаться: смотри, она может нанять еще одного подручного, чтобы навести порядок, так же, как наняла того дорогого адвоката. Нет, я заставила их день за днем наблюдать, как я вручную отскребаю краску, и только для кирпича я взяла напрокат пескоструйную машину. Однажды вечером я увидела свое отражение после дневных трудов – испачканная одежда, потрескавшиеся ногти, волосы в пятнах краски – и завопила. Я однажды уже так выглядела.
В нескольких щелях вокруг двери, наверное, еще виднеется рубиновый оттенок; глубоко в псевдостаринной кирпичной кладке, наверное, еще блестят капли злобы, до которых я не добралась со стремянки. Я не знаю. Я продала тот дом. После гражданского процесса мне пришлось это сделать.
Я ожидала, что мне будет трудно от него избавиться. Конечно же, суеверные покупатели будут сторониться, узнав, кто владел домом раньше. Но это лишний раз доказывает, насколько плохо я знала собственную страну. Ты как-то обвинил меня в том, что все свое любопытство я расточаю на «медвежьи углы Третьего мира», в то время как у меня под самым носом находится, вероятно, самая необыкновенная империя в истории человечества. Ты был прав, Франклин. Нет в мире такого места, как собственная родина.
Как только дом был выставлен на продажу, посыпались предложения. Не потому что покупатели не знали; потому что они знали. Дом ушел за гораздо более высокую цену – больше 3 миллионов долларов. В своей наивности я даже не сообразила, что сама скандальная известность этого дома является коммерческим аргументом в пользу его покупки. По-видимому, осматривая нашу буфетную, преуспевающие парочки радостно представляли себе свой звездный час во время обеда по случаю новоселья.
(Дзынь-дзынь!) Народ, послушайте! Я собираюсь произнести тост, но сначала… Вы не поверите, у кого мы купили этот особняк. Готовы? У Евы Качадурян… Знакомое имя? А как же! Куда нам было еще переехать? В Гладстон!.. Да-а, та самая Качадурян, Пит, ты что, многих Качадурян знаешь? Боже, чувак, ну ты тупишь!
…Правильно, Кевин. Дикость, да? Моему сынку Лоренсу досталась его комната. Он вчера попробовал там спать. Сказал, что будет сидеть со мной и смотреть «Генри: Портрет серийного убийцы», потому что в его комнате призрак «Кевина Кетчупа». Извини, сказал я, Кевин Кетчуп никак не может призраком бродить по твоей комнате, потому что этот никчемный мелкий ублюдок вполне себе жив и здоров в какой-нибудь тюрьме для малолеток на севере штата. Если бы это зависело от меня, приятель, этот подонок сел бы на электрический стул… Нет, было не так серьезно, как в Колумбайне. Сколько там погибло, десять, милая? Правильно, девять, семь детей, двое взрослых. А учитель, которого он ударил, такой говорит: этот засранец прям боец, типа того. Ну и я считаю, зря винят кино и рок-музыку. Мы же выросли на рок-музыке, так? Но никто из нас в старшей школе не обезумел и не пошел убивать. Или взять вот Лоренса. Этот мальчишка любит смотреть по телевизору кровавые ужастики и боевики, и как бы реалистичны они ни были, он даже не поморщится. А когда его кролик попал под машину? Он неделю рыдал. Они знают разницу.
Мы растим его так, чтоб он понимал, что правильно. Может, это кажется несправедливым, но нужно хорошенько задуматься о родителях.
Ева
15 ноября 2000 года
Дорогой Франклин,
ты знаешь, я пытаюсь быть вежливой. Поэтому, когда мои коллеги – да, веришь или нет, я работаю в турагентстве в Найаке, и благодарна за это, – когда они с пеной у рта начинают говорить о несоразмерном количестве голосов за Пата Бьюкенена[6] в Палм-Бич, я так терпеливо жду, пока они закончат, что в каком-то смысле я стала весьма ценным объектом: я единственная в офисе даю им закончить предложение. Если атмосфера в этой стране внезапно стала карнавальной и праздничной, с жаркими спорами, то я на этом празднике чувствую себя чужой. Мне все равно, кто станет президентом.
И все же слишком живо я могу видеть эту последнюю неделю сквозь призму собственного «а что, если бы». Я бы проголосовала за Гора, ты за Буша. У нас были бы достаточно горячие споры до выборов, но это… это… О, это было бы чудесно. Мы бы громко и резко стучали кулаками по столу, хлопали дверьми, я бы цитировала избранные отрывки из «Нью-Йорк таймс», ты бы яростно акцентировал внимание на обзорных статьях в «Уолл-Стрит джорнал» – и все это с подавленными улыбками. Как я скучаю по этому занятию: приходить в бешенство из-за пустяков.
С моей стороны было лицемерием намекать в начале своего предыдущего письма, что, когда мы с тобой общались, я в конечном счете рассказывала тебе обо всем. Напротив, один из стимулов, побуждающих меня писать – это то, что мой разум переполнен всеми теми мелкими историями, которые я тебе не рассказывала.
Не воображай, что я получала удовольствие от своих секретов. Я попала в их ловушку, их было слишком много, и уже давно мне ничего так сильно не хотелось, как излить душу. Но, Франклин, ты не желал меня услышать. Я уверена, что ты до сих пор этого не хочешь. И может быть, еще тогда мне следовало постараться заставить тебя слушать, но мы еще на ранней стадии оказались по разные стороны чего-то. Для многих ссорящихся пар бывает трудно четко сформулировать то, по разные стороны чего они находятся – это что-то вроде абстрактной черты, которая их разделяет: некая история или то и дело всплывающее недовольство, незаметная борьба за власть с собственной жизнью; паутина. Возможно, в моменты примирения в таких парах нереальность этой черты помогает ее исчезновению. Я с завистью вижу, как они замечают: Смотри, в комнате ничего нет; мы можем дотянуться друг до друга сквозь прозрачный воздух между нами. Но в нашем случае то, что нас разделяло, было слишком уж осязаемо, и даже если его не было в комнате, оно могло по собственной воле в нее войти.
Наш сын. Который представляет собой не сборник маленьких рассказов, а одну длинную историю. И хотя естественным побуждением рассказчика является желание начать сначала, я буду ему противиться. Мне нужно вернуться в еще более раннее время. Так много историй определены еще до своего начала.
Что на нас нашло? Мы были так счастливы! Так зачем же мы взяли все, что имели, и поставили на кон в этой жестокой азартной игре – завести ребенка? Конечно, ты сочтешь саму постановку данного вопроса богохульством. Хотя бесплодные пары имеют право на зависть, это против правил, не так ли – иметь ребенка в реальной жизни и проводить хоть какое-то время в запретной параллельной реальности, в которой у тебя его нет. Однако порочность Пандоры заставляет меня взломать этот запретный ящик. У меня есть воображение, и мне нравится бросать себе вызов. Это я тоже знала о себе заранее: что я именно такая женщина, у которой есть способность, пусть и страшная, сожалеть даже о такой неотменяемой сущности как другой человек. Но впрочем Кевин ведь не рассматривал существование других людей как неотменяемое, правда?
Мне жаль, но ты не можешь ожидать от меня, что я стану этого избегать. Я, может, и не знаю, как назвать его, тот четверг. «Злодеяние» звучит словно вырванное из газетной статьи; «происшествие» почти непристойно преуменьшает значимость события; а фраза «тот день, когда наш сын совершил массовое убийство» слишком длинна для каждого упоминания, верно? Но я буду упоминать об этом. Я просыпаюсь с тем, что он сделал, каждое утро, и ложусь с этим каждую ночь. Это моя жалкая замена мужу.
Поэтому я ломала голову, пытаясь восстановить те несколько месяцев в 1982 году, когда мы официально «принимали решение». Мы все еще жили в моем похожем на пещеру лофте в Трайбеке, где нас окружали игривые гомосексуалисты, холостые художники, которых ты осуждал, говоря, что они «потворствуют своим прихотям», и свободные интеллектуальные пары, которые каждый вечер ужинали в техасско-мексиканских заведениях и тусовались в клубе «Огни рампы» до трех часов утра. Дети в том районе были в одном ряду с пятнистой совой и прочими исчезающими видами, так что неудивительно, что наши размышления были высокопарными и абстрактными. Боже мой, мы даже установили себе крайний срок – мой тридцать седьмой день рождения в августе того года, потому что не хотели, чтобы ребенок все еще жил с нами, когда нам будет за шестьдесят.
За шестьдесят! В те дни этот возраст казался таким же непостижимо теоретическим, как и ребенок. И все же я полагаю, что окажусь на этой незнакомой территории через пять лет, и церемоний при этом будет не больше, чем при посадке в городской автобус. Скачок во времени я совершила в 1999-м, хотя я не так сильно замечала старение в зеркале, как под руководством других людей. Когда я обменивала водительские права на новые в январе этого года, чиновник за столом не выразил никакого удивления по поводу того, что мне целых пятьдесят четыре, а ты ведь помнишь, что когда-то я была весьма избалована в этом смысле, привыкнув к регулярным восклицаниям о том, что я выгляжу как минимум на десять лет моложе. Эти восклицания резко прекратились. И у меня даже случилась одна неловкая встреча, вскоре после того четверга: служитель метро на Манхэттене обратил мое внимание на то, что тем, кому больше шестидесяти пяти, полагается скидка для пожилых.
Мы договорились, что решение стать родителями будет «единственным самым важным решением, которое мы когда-либо примем вместе». И все же сама важность решения гарантировала, что оно никогда не будет казаться реальным и останется на уровне прихоти. Каждый раз, когда кто-либо из нас поднимал вопрос родительства, я чувствовала себя как семилетняя девочка, которая ждет, что на Рождество получит в подарок умеющую писаться Дюймовочку.
Я, правда, помню несколько разговоров в тот период, в который мы с внешне произвольными промежутками колебались, склоняясь то в одну, то в другую сторону. Самый оптимистичный из них точно был тот, что произошел после воскресного обеда у Брайана и Луизы на Риверсайд-драйв. Они больше не устраивали ужины, которые всегда оканчивались родительским апартеидом: один супруг играл взрослого, с греческими оливками и каберне, а другой загонял в ванную, купал и укладывал этих двух непослушных маленьких девочек. Я-то всегда предпочитала общаться вечером – это подразумевает большую распущенность; хотя распутство больше не являлось качеством, которое у меня ассоциировалось с тем приветливым, спокойным сценаристом «Хоум-Бокс-Офис»[7], который сам готовил пасту и поливал длинные стебли петрушки на своем подоконнике. Когда мы спускались в лифте, я удивилась:
– А ведь когда-то он был кокаинистом!
– Ты говоришь так, словно скучаешь по нему прежнему, – заметил ты.
– О, я уверена, что сейчас он гораздо счастливее.
Я не была в этом уверена. В те дни я еще считала благотворность подозрительной. На самом деле мы когда-то «весело» проводили с ним время, и эта история оставила меня с чувством тяжелой утраты. Я восхищалась обеденным столом и стульями из цельного дуба, купленными за бесценок на гаражной распродаже где-то на севере штата, а ты в это время согласился на полный осмотр коллекции кукол младшей из девочек и проявил при этом такое терпение, что я прямо-таки разволновалась. Мы с искренним пылом хвалили затейливый салат, потому что в начале восьмидесятых козий сыр и вяленые помидоры еще не считались passé[8].
Задолго до того мы договорились, что ты и Брайан не будете сцепляться из-за Рональда Рейгана. Для тебя он был добродушным идолом, с легким внешним лоском и финансовой изобретательностью, который вернул нации гордость. Для Брайана же он являлся угрожающей фигурой идиота, который готов ввергнуть страну в банкротство, урезая налоги для богатых. Так что мы не отклонялись от безопасных тем, фоном на взрослой громкости проникновенно звучала песня Ebony and Ivory[9], и я старалась подавить свое раздражение от того, что девочки немелодично подпевают и снова и снова заводят эту же песню. Ты горевал, что «Нью-Йорк Никс»[10] не попали в плей-офф, а Брайан впечатляюще умело изображал человека, который интересуется спортом. Мы все были разочарованы, что скоро закончится последний сезон «Всех в семье»[11], но сошлись во мнении, что шоу практически изжило себя. Пожалуй, единственным конфликтом, возникшим в тот день, была та же судьба, постигшая и «МЭШ»[12]. Отлично зная, что Брайан боготворит Алана Алда[13], ты жестоко отозвался об актере как о лицемерном зануде.
И все же меня смущало то, как добродушно разрешились эти разногласия. Слабым местом Брайана был Израиль, и меня так и подмывало мельком упомянуть об «иудейских нацистах» и взорвать эту дружескую обстановку. Вместо этого я спросила его, о чем будет его новый сценарий, но толкового ответа так и не получила, потому что у старшей девочки прилипла жвачка к волосам – светлым, как у Барби. Последовали долгие пререкания о способах решения этой проблемы. Брайан положил им конец, отрезав жвачку вместе с частью локона при помощи ножа для мяса, что немного расстроило Луизу. Однако это происшествие оказалось единственным тревожным эпизодом; в остальном же все было мило: никто не напился и не обиделся, дом у них был красивый, еда вкусная, девочки славные – мило, мило, мило.
Я разочаровала сама себя тем, что вполне приятный ланч со вполне приятными людьми оказался для меня недостаточным. Почему я предпочла бы ему ссору? Разве не были эти две девочки совершенно очаровательными? Какая разница, что они вечно нас перебивали и за весь день я не смогла закончить ни одну мысль? Разве я не была замужем за любимым мужчиной? Так отчего же какая-то грешная часть меня желала, чтобы Брайан сунул руку мне под юбку, когда я помогала ему принести из кухни вазочки с мороженым? Оглядываясь назад, я совершенно правильно кусала локти. Всего через несколько лет я бы хорошо заплатила за обычную веселую семейную встречу, во время которой самое худшее, что натворили бы дети – это прилепить жвачку к волосам.
Однако в вестибюле ты громогласно объявил:
– Отлично посидели. Я думаю, они оба потрясающие. Нужно обязательно поскорее пригласить их к нам, если они смогут найти няню для детей.
Я промолчала. У тебя не нашлось бы времени выслушивать мои мелочные придирки: а не была ли еда пресновата; и разве у тебя не возникло такое чувство… ну, типа, зачем это все; и разве нет чего-то глупого, скучного и нездорового в этой нынешней позе «папа знает лучше», если раньше (наконец-то я могу сознаться в том, что я переспала с ним в гостях еще до нашего с тобой знакомства) Брайан был таким распутником. Вполне возможно, что ты испытывал те же чувства, что и я: что эту удачную по всем признакам встречу ты тоже считал унылой и пресной; но вместо того, чтобы прибегнуть к еще одной очевидной модели – мы ведь не собирались пойти и раздобыть дозу кокаина – ты прибегнул к отрицанию. Это были хорошие люди, они хорошо к нам относились, следовательно, мы хорошо провели с ними время. Прийти к иному заключению было страшно, это грозило возникновением неназванной величины, без которой мы не могли обойтись, но которую мы не могли призвать по требованию – меньше всего тем, что продолжали бы действовать в добродетельном согласии с общепринятыми нормами.
Ты считал искупление грехов волевым актом. Ты пренебрежительно относился к людям (таким, как я) за их проклятое неконкретное недовольство, потому что неспособность радостно принять сам факт своего бытия выдавала в них слабость характера. Ты всегда ненавидел привередливых едоков, ипохондриков и снобов, которые воротили нос от «Языка нежности»[14] просто потому, что он был популярен. Хорошая еда, хороший дом, хорошие люди – чего мне было еще желать? Кроме того, хорошая жизнь не стучится в дверь сама. Радость – это работа. Так что если проявить достаточно трудолюбия и теоретически поверить в то, что мы хорошо провели время с Брайаном и Луизой, то в реальности тоже окажется, что мы провели его хорошо. Единственным намеком на то, что тебе наш день показался трудным, был твой чрезмерный энтузиазм.
Когда мы вышли через вращающиеся двери на Риверсайд-драйв, мое беспокойство, я уверена, было несформировавшимся и мимолетным. Позже эти мысли будут то и дело меня преследовать, хотя в тот момент я не ожидала, что твое непреодолимое желание затолкать в аккуратную коробочку неконтролируемые и бесформенные впечатления – словно кто-то попытался запихнуть сплетенную корягу в жесткий чемодан – равно как и то, как искренне ты путал слова «быть» и «должно быть», приведут к таким разрушительным последствиям.
Я предложила пойти домой пешком. Когда я путешествовала для «Крыла Надежды», я везде ходила пешком, и такие порывы были моей второй натурой.
– До Трайбеки миль шесть или семь! – возразил ты.
– Ты готов взять такси, чтобы потом сделать 7500 прыжков на скакалке, глядя на игру «Никс», но энергичная прогулка, которая приведет тебя туда, куда тебе нужно, – это слишком утомительно.
– Да, черт побери. Всему свое место.
Ограниченный занятиями физкультурой и определенным способом складывания рубашек, твой режим вызывал восхищение. Но в более серьезных ситуациях, Франклин, я восхищалась тобой меньше. Методичность со временем легко скатывается в конформизм.
Я пригрозила, что пойду домой одна, и это решило спор: через три дня мне нужно было уезжать в Швецию, и тебе очень хотелось провести со мной больше времени. Мы шумно и весело двинулись по пешеходной дорожке в Риверсайд-парк, где цвели деревья гинкго, а на пологой лужайке компания анорексичных граждан занималась тай-чи. Я с таким энтузиазмом уходила от своих собственных друзей, что споткнулась.
– Пьяница, – сказал ты.
– Два бокала!
Ты цыкнул.
– Середина дня!
– Надо было выпить три, – резко сказала я.
Ты нормировал любое удовольствие, кроме просмотра телевизора, и мне хотелось, чтобы ты хоть иногда давал себе волю – как в беззаботные дни ухаживания, когда ты приходил ко мне с двумя бутылками пино-нуар и упаковкой немецкого пива и смотрел на меня таким полным похоти и вожделения взглядом, что было понятно: почистить зубы мы не успеем.
– Дети Брайана, – начала я официально. – Глядя на них, ты хочешь своего?
– М-м-может быть. Они милые. К тому же я не из тех, кто станет совать зверушек в мешок, если им захотелось крекер, игрушечного кролика или попить в стотысячный раз.
Я поняла. В этих наших разговорах было что-то от игры, и твой первый ход был уклончивым. Один из нас всегда оказывался в роли кайфоломщика на тему родительства, и в прошлый такой разговор о потомстве я испоганила нам настроение словами: дети шумные, неопрятные, неблагодарные и ограничивают возможности взрослых. На этот раз я придерживалась более дерзкой роли.
– По крайней мере, если бы я забеременела, что-нибудь бы произошло.
– Естественно, – сухо сказал ты. – Ты бы родила ребенка.
Я потащила тебя по дорожке к речной набережной.
– Мне просто нравится идея перевернуть страницу, вот и все.
– Звучит как-то загадочно.
– Я хочу сказать, мы же счастливы? Разве ты бы так не сказал?
– Конечно, – осторожно согласился ты. – Думаю, да.
На твой взгляд, наше довольство жизнью не выносило пристального изучения – словно своенравная птица, которую легко напугать и которая улетит прочь, стоит кому-то из нас воскликнуть: смотри, какой прекрасный лебедь!
– Ну, может быть, мы слишком счастливы.
– Да, я как раз собирался с тобой об этом поговорить. Не могла бы сделать меня чуть более несчастным?
– Прекрати. Я говорю об истории. Ну как в сказках: «и жили они счастливо до конца своих дней» – вот как они заканчиваются.
– Давай, сделай мне одолжение и поговори со мной свысока.
Ох, ты ведь прекрасно понимал, что я имела в виду. Не то, что счастье – это скучно. Всего лишь то, что оно недостаточно хорошо рассказывает историю. А одно из наших всепоглощающих развлечений, когда мы стареем – это рассказывать свою историю не только другим людям, но и себе самим. Кому знать, как не мне: я ежедневно бегу от своей истории, а она следует за мной, словно верный бродячий пес. Соответственно, в одном отношении я не похожа на себя молодую: теперь тех людей, которые мало или вообще ничего не могут о себе рассказать, я считаю ужасно везучими.
В ярком свете апрельского солнца мы замедлили шаг у теннисных кортов и остановились, чтобы через просвет в зеленом сетчатом ограждении полюбоваться на мощные резаные подачи слева.
– Все кажется таким упорядоченным, – посетовала я. – «Крыло Надежды» так стремительно развивается, что единственное, что может случиться со мной в профессиональном плане – это разорение компании. Я всегда могу зарабатывать еще больше денег, но я ужасно люблю комиссионки, Франклин, и я не знаю, что делать с этими деньгами. Деньги нагоняют на меня тоску, и из-за них наша жизнь меняется, и мне это совсем не нравится. Множество людей не имеют детей, потому что не могут себе этого позволить. Для меня было бы облегчением найти что-то значимое, на что их можно потратить.
– А я не имею значения?
– Ты недостаточно многого хочешь.
– А новая скакалка?
– Десять баксов.
– Что ж, – уступил ты, – по крайней мере, ребенок дал бы ответ на Главный Вопрос.
Я тоже могла быть упрямой.
– Что еще за Главный Вопрос?
– Ну, знаешь, – беспечно сказал ты, растягивая слова, словно конферансье, – эта старая э-э-экзистенциальная дилемма.
Я до конца не разобралась почему, но твой Главный Вопрос меня не взволновал. Мне гораздо больше нравилось мое «перевернуть страницу».
– Я всегда могу отправиться в какую-нибудь новую страну…
– А такие еще остались? Ты меняешь страны с такой скоростью, с какой большинство людей меняет носки.
– Россия, – заметила я. – Но, во-первых, я не собираюсь отдавать свою жизнь в заложники «Аэрофлоту». Просто в последнее время… везде все кажется каким-то одинаковым. В разных странах разная еда, но во всех странах она есть. Понимаешь, о чем я?
– Как это называется? Правильно – бред собачий!
Видишь ли, тогда у тебя была привычка делать вид, что ты понятия не имеешь, о чем я говорю, если то, на что я намекала, оказывалось совсем сложным или тонким. Позже эта стратегия – прикидываться дурачком, которая началась как мягкое поддразнивание, превратилась в более мрачную неспособность осознать то, о чем я говорю, но не потому что мои слова были слишком невразумительны, а потому что они были слишком понятные, а тебе этого не хотелось.
Позволь мне теперь объяснить. Во всех странах разная погода, но в них во всех есть какая-то погода, какая-то архитектура, и отношение к отрыжке за обеденным столом, которое рассматривает ее как лестный комплимент или как невоспитанность. Следовательно, я стала меньше обращать внимание на то, нужно ли оставлять обувь у двери в Марокко, чем на тот неизменный факт, что, куда бы я ни отправилась, в этом месте будут традиции, связанные с обувью. Казалось, что слишком хлопотно куда-то ехать, регистрировать багаж, привыкать к новым часовым поясам только ради того, чтобы застрять в этом давнем погодно-обувном континууме; этот континуум, по моим ощущениям, в некотором роде сам стал местоположением, и потому каждый раз я неизменно оказывалась в одном и том же месте. Тем не менее хоть я иногда и разглагольствовала на тему глобализации – теперь твои любимые шоколадно-коричневые ботинки от «Банана Репаблик» можно было купить даже в Бангкоке, – монотонным стал именно мир в моей голове, то, как я думала, как себя чувствовала и что говорила. Единственный способ заставить мою голову по-настоящему поехать куда-то еще заключался в том, чтобы отправиться в другую жизнь, а не в другой аэропорт.
– Материнство, – сжато выразила я свою мысль в парке. – Вот это точно незнакомая страна.
В тех редких случаях, когда казалось, что я могу в самом деле захотеть сделать это, ты начинал нервничать.
– Ты можешь быть самодовольной с твоей успешностью, – сказал ты. – Поиск натуры для съемок рекламы заказчикам с Мэдисон-авеню пока не довел меня до оргазма от самореализации.
– Ладно.
Я остановилась, оперлась на теплые деревянные перила, которые ограждали Гудзон, вытянула руки в стороны и посмотрела тебе в лицо.
– Так что же тогда произойдет? С тобой в профессиональном смысле: чего мы ждем и на что надеемся?
Ты наклонил голову, чтобы видеть мое лицо. Казалось, ты понял, что я не пытаюсь ставить под сомнение твои достижения или важность твоей работы. Речь шла о другом.
– Вместо этого я мог бы искать натуру для художественных фильмов.
– Но ты же всегда говоришь, что это та же самая работа: ты находишь холст, а кто-то другой пишет на нем картину. И за рекламу лучше платят.
– Это не имеет значения; я ведь женат на миссис Толстосум.
– Для тебя – имеет.
Твое зрелое отношение к тому, что я зарабатываю гораздо больше, имело границы.
– Я вообще думал заняться чем-то совершенно другим.
– И что, ты так воодушевишься, что откроешь собственный ресторан?
Ты улыбнулся.
– Они никогда не живут долго.
– Вот именно. Ты слишком практичен. Может, ты и займешься чем-то другим, но это занятие будет практически в той же плоскости. А я говорю о топографии. Эмоциональной, вербальной топографии. Мы живем в Голландии, а мне иногда ужасно хочется в Непал.
Поскольку другие жители Нью-Йорка были высокомотивированы, ты мог обидеться, что я не считаю тебя амбициозным. Но одним из проявлений твоей практичности было отношение к себе самому, и поэтому ты не стал обижаться. Ты был амбициозным – в своей жизни, такой, какой она была, когда ты просыпался по утрам, но не в достижениях. Как большинство людей, у которых не было с раннего возраста какого-то определенного призвания, ты ставил работу рядом с собой: любое занятие заполнило бы твой день, но не твое сердце. Это мне в тебе нравилось. Мне очень это нравилось.
Мы пошли дальше, и я раскачивала твою руку.
– Наши родители скоро умрут, – снова начала я. – И все, кого мы знаем, начнут топить тяготы своей бренной жизни в выпивке. Мы постареем и в какой-то момент будем больше терять старых друзей, чем заводить новых. Конечно же, мы можем ездить в отпуск – сдадимся наконец и купим чемоданы на колесиках. Мы можем больше есть, наслаждаться бо́льшим количеством вина и больше заниматься сексом. Но – не пойми меня неправильно – меня беспокоит, что все это как-то начинает выдыхаться.
– У одного из нас всегда может обнаружиться рак поджелудочной железы, – весело сказал ты.
– Ага. Или один из нас въедет на твоем пикапе в бетономешалку, и тогда интрига нарастает. Но именно это я хочу сказать: все, что на мой взгляд может случиться с нами дальше – ну, ты понимаешь, не то, что мы получим милую открытку из Франции, а настоящие события – все это будет ужасно.
Ты поцеловал меня в макушку.
– Довольно мрачно для такого великолепного дня.
Несколько шагов мы прошли полуобнявшись, но наши ноги сталкивались. Я удовольствовалась тем, что продела указательный палец в шлевку на твоих брюках.
– Знаешь этот эвфемизм – она ждет ребенка? Он очень уместен. Появление ребенка – при условии, что он здоров – это то, чего с нетерпением ждут. Это приятно, это большое, хорошее, огромное событие. И с момента рождения все хорошее, что случается с детьми, случается и с тобой. Плохое, конечно, тоже, – торопливо добавила я, – но знаешь, еще ведь есть первые шаги, первые свидания, первые места по бегу в мешках. Дети, они ведь оканчивают школу, женятся, сами рожают детей; в каком-то смысле тебе удается все это сделать дважды. Даже если бы у нашего ребенка были проблемы, – по-идиотски предположила я, – это, по крайней мере, были бы уже не наши старые проблемы…
Довольно. От подробного рассказа об этом диалоге у меня разрывается сердце.
Оглядываясь назад, я думаю: возможно, говоря о том, что мне хочется больше «истории», я таким образом намекала на то, что мне хочется любить еще кого-то. Мы никогда не говорили такие вещи напрямую: мы слишком робели. И я боялась даже нечаянно намекнуть на то, что тебя мне было недостаточно. По правде говоря, теперь, когда мы расстались, я жалею, что не преодолела свою застенчивость и не говорила тебе почаще, что влюбленность в тебя оказалась одним из самых поразительных событий в моей жизни. Вернее, не только влюбленность – это лишь банальный и ограниченный период, – но сама любовь к тебе. Каждый день, который мы проводили не вместе, я представляла себе твою теплую широкую грудь с буграми мышц, рельефных и крепких благодаря ежедневным ста отжиманиям, большую выемку у ключицы, куда я удобно пристраивала макушку по утрам в те восхитительные дни, когда мне не нужно было торопиться на самолет. Иногда я слышала, как ты зовешь меня из соседней комнаты: «Е-ВА!» – раздражительно, отрывисто, требовательно, зовешь меня к ноге, потому что я была твоей, как собака, Франклин! Но я и правда была твоей, и я не обижалась; и я хотела, чтобы ты выдвигал это требование: «Ее-е-е-ВААА!», всегда с ударением на втором слоге, и бывали вечера, когда я едва могла отозваться, потому что в горле у меня вставал ком. Мне приходилось прекращать нарезку яблок для пирога, потому что мои глаза застилала пелена, и от этого кухня казалась жидкой и дрожащей, так что продолжи я резать яблоки дальше – порезала бы пальцы. Ты всегда кричал на меня, если я порежусь, это приводило тебя в ярость, и нелогичность этого гнева настолько меня дезориентировала, что я едва не резалась снова.
Никогда, никогда я не воспринимала тебя как должное. Для этого мы слишком поздно познакомились: мне к тому времени было почти тридцать три, и мое прошлое без тебя было насыщенным событиями, но при этом слишком пустым эмоционально, чтобы я считала чудо дружеского общения чем-то заурядным. Но после того как я так долго выживала на объедках со своего собственного эмоционального стола, ты ежедневно баловал меня банкетом из заговорщических взглядов на вечеринках, неожиданных букетов без повода и прикрепленных к холодильнику бумажек, которые всегда подписывал «Целую-целую-целую, Франклин». Ты сделал меня жадной. Как любой уважающий себя наркоман, я хотела большего. И мне было любопытно. Я хотела знать, каково это, когда тоненький голосок из той же комнаты позовет: «Мамоч-КААА!» Ты положил этому начало – как бывает, когда кто-нибудь подарит единственного резного слоника из черного дерева, и вдруг в голову приходит мысль: а здорово будет собрать коллекцию.
Ева
P.S. (03.40)
Я пытаюсь полностью отказаться от снотворного, пусть лишь из-за того, что знаю: ты бы не одобрил, что я его принимаю. Но без него я ворочаюсь в постели. Завтра на работе в турагентстве «Путешествие – это мы» от меня не будет никакого толку, но мне захотелось записать еще одно воспоминание из того периода.
Помнишь, как мы ели крабов с Айлин и Бельмонтом в моем лофте? Вот тот вечер был полон невоздержанности. Даже ты забыл всякую осторожность и в два часа ночи достал с полки малиновый бренди. Мы не прерывались на то, чтобы полюбоваться кукольными нарядами, никаких «завтра в школу», мы объедались фруктами и сорбетом, и плескали в рюмки неумеренные дополнительные порции прозрачного, пьянящего бренди, и громко приветствовали рассказанные друг другом истории из серии «а как вам вот такое», и это был разгул вечной юности, которая так характерна для бездетных людей среднего возраста.
Мы все говорили о наших родителях – боюсь, в ущерб их коллективной репутации. Мы устроили что-то вроде неофициального конкурса: чьи родители были более чокнутыми. Ты оказался в невыгодном положении: неизменный новоанглийский стоицизм твоих родителей было трудно спародировать. В противоположность этому бесхитростные попытки моей матери придумать что-то, чтобы избежать необходимости выходить из дома, вызвали большое веселье, и я даже умудрилась объяснить личную шутку, существовавшую между мной и моим братом Джайлсом про «Это очень удобно» – в нашей семье данная фразочка означала «У них есть доставка». В те дни (еще до того, когда он с неохотой стал позволять своим детям находиться рядом со мной), мне стоило лишь сказать Джайлсу «Это очень удобно», и он начинал гоготать. Ближе к утру я могла сказать Айлин и Бельмонту «Это очень удобно», и они тоже хохотали.
Ни ты, ни я не могли соревноваться с этой интернациональной водевильной компанией видавших виды представителей богемы. Мать Айлин была шизофреничкой, а отец – профессиональным карточным шулером; мать Бельмонта раньше была проституткой и по-прежнему одевалась как Бетт Дэвис в фильме «Что случилось с Бэби Джейн?»[15], а отец являлся не особо известным джазовым ударником, который когда-то играл с Диззи Гиллеспи[16]. Я чувствовала, что они рассказывали эти истории и раньше, но именно поэтому они рассказывали их очень хорошо, и после того количества шардоне, которым мы запили крабовые деликатесы, я смеялась до слез. Один раз я попробовала перевести разговор на то исполинское решение, которые мы с тобой пытались принять, но Айлин и Бельмонт были старше по крайней мере на десять лет, и я не была уверена, что они сами выбрали бездетность – возможно, поднимать этот вопрос было бы жестоко.
Они ушли от нас почти в четыре утра. И будь уверен, в тот раз я чудесно провела время. Это был один из тех вечеров, ради которого стоило суетиться, бежать на рыбный рынок, резать гору фруктов и даже убирать в кухне, где повсюду тонким слоем лежала мука, а стол стал липким от манговой кожуры. Я понимала, что немного разочарована тем, что этот вечер закончился и что голова у меня тяжелая от большого количества спиртного, головокружение от которого сначала достигло пика, а потом оставило лишь неустойчивость в ногах и трудности с фокусировкой, когда я сосредоточивалась на том, чтобы не уронить бокалы для вина. Но я грустила не поэтому.
– Ты такая тихая, – заметил ты, складывая тарелки. – Устала?
Я грызла одинокую клешню краба, которая отвалилась при готовке и осталась в сковороде.
– Мы же провели… сколько? – четыре, пять часов, говоря о наших родителях.
– И что? Если ты чувствуешь вину за то, что плохо говорила о матери, тебе светит покаяние до 2025 года. Это одно из твоих любимых развлечений.
– Знаю. Это меня и беспокоит.
– Она ведь тебя не слышала. И никто за столом не подумал, что раз ты считаешь ее смешной, то не считаешь ее жизнь также и трагической. Или что ты ее не любишь. По-своему, – добавил ты.
– Но когда она умрет, мы не сможем – я не смогу продолжать в том же духе. Невозможно стать столь язвительной, не чувствуя себя предательницей.
– Тогда высмеивай бедную женщину, пока есть возможность.
– Но разве нам вообще следует говорить о наших родителях часами в таком возрасте?
– А в чем проблема? Ты так смеялась, что, наверное, описалась.
– У меня после их ухода перед глазами осталась эта картина: мы четверо в возрасте за восемьдесят, со старческой пигментацией на коже, по-прежнему выпиваем и рассказываем все те же истории. Может, эти истории будут как-то окрашены привязанностью или сожалением после смерти родителей, но это все равно будут истории о странных маме и папе. Разве это будет не жалкое зрелище?
– Ты бы предпочла страдать из-за Сальвадора.
– Не в этом дело…
– …или горстями отмерять послеобеденные карамельки: бельгийцы невежливы, тайцы осуждают объятия на людях, а немцы помешаны на дефекации.
Оттенок горечи в таких шутках становился все сильнее. С трудом добытые крупицы моих антропологических знаний, по-видимому, служили напоминанием о том, что у меня были приключения за границей, в то время как ты прочесывал пригороды Нью-Джерси в поисках полуразрушенного гаража для рекламы Black & Decker[17]. Я могла бы огрызнуться, что сожалею о том, что тебе скучно слушать истории о моих путешествиях, но ты главным образом поддразнивал меня, было поздно, и я не была настроена цапаться.
– Не говори глупости, – сказала я. – Я такая же, как все остальные: я люблю говорить о других людях. Не о народах. О людях, которых я знаю, которые мне близки; о людях, которые сводят меня с ума. Но у меня такое чувство, будто я использую свою семью. Мой отец погиб еще до моего рождения; один брат и одна мама представляют собой не ахти какой выбор. В самом деле, Франклин, может, нам стоит завести ребенка просто для того, чтобы иметь другую тему для разговоров.
– А вот это, – ты с лязгом поставил в раковину кастрюлю из-под шпината, – это легкомысленно.
Я тебе возразила:
– Нет, не легкомысленно. То, о чем мы говорим – это то, о чем мы думаем, из чего состоит наша жизнь. Не уверена, что я хочу провести свою жизнь, оглядываясь на поколение, чью родословную я сама помогаю пресечь. Есть какой-то нигилизм в том, чтобы не иметь детей, Франклин. Как будто ты не веришь в само человечество. Если бы все последовали нашему примеру, весь вид вымер бы через сто лет.
– Да ну тебя, – насмешливо сказал ты, – никто не заводит детей, чтобы увековечить людей как вид.
– Сознательно, может, и нет. Но мы смогли принимать это решение, не уходя в монастырь, лишь примерно с 1960 года. И потом, после вечеров, подобных сегодняшнему, есть, наверное, какая-то поэтичная справедливость в том, чтобы иметь взрослых детей, которые часами будут говорить со своими друзьями обо мне.
Как мы себя защищаем! Ведь перспектива такого внимательного наблюдения за собой мне нравилась. Правда, мама была красивая? Правда, мама была отважная? Боже, она ведь ездила во все эти жуткие страны совершенно одна! Эти обрывки ночных размышлений моих детей об их матери были подернуты дымкой обожания, которое так разительно отличалось от того, как беспощадно я препарировала собственную мать. Как насчет вот такого: Разве мама не претенциозна? Правда, у нее огромный нос? А эти путеводители, которые она штампует, такие скуууучные. Хуже того, убийственно точной детской придирчивости способствуют доступность, доверие, добровольное разглашение, и поэтому она представляет собой двойное предательство.
И все же даже в ретроспективе это страстное желание «иметь другую тему для разговоров» кажется далеким от легкомыслия. В самом деле, может быть, поначалу меня соблазняла идея попробовать забеременеть из-за этих заманчивых воображаемых картинок, как в трейлере к фильму: как я открываю дверь парню, с которым у моей дочери (признаюсь, я всегда представляла себе дочь) первая любовь, как сглаживаю его смущение непринужденным подтруниванием и как бесконечно, шутливо и безжалостно оцениваю его, когда он уходит. Мое стремление сидеть допоздна с Айлин и Бельмонтом и в кои-то веки размышлять о молодых людях, у которых впереди вся жизнь – о тех, кто будет рассказывать новые истории, о которых у меня будет новое мнение и чья канва не истерлась от пересказов – это стремление было вполне реальным, и оно не являлось легкомысленным.
Ох, но мне тогда не приходило в голову, что, как только я наконец произведу на свет свою желанную свежую тему для разговоров, мне придется иметь касательно нее мнение. Еще менее я могла предположить мучительную иронию в стиле О. Генри – что, набредя на захватывающую новую тему для разговоров, я потеряю мужчину, с которым мне больше всего хотелось бы их вести.
Ева
28 ноября 2000 года
Дорогой Франклин,
непохоже, чтобы этот карнавал во Флориде сворачивался. В офисе все на ушах из-за какой-то правительственной чиновницы, которая слишком сильно красится, и некоторое количество моих взвинченных коллег предсказывают «конституционный кризис». Хотя я не слежу за деталями, в этом я сомневаюсь. Люди в закусочных ругаются друг с другом через стойку, хотя раньше они ели молча, и при этом меня больше всего поражает не то, что они чувствуют себя в опасности, а наоборот – то, насколько защищенными они себя ощущают. Только страна, чувствующая свою неуязвимость, может позволить себе политическую неразбериху в качестве развлечения.
Но подойдя так близко к уничтожению памяти о себе среди живущих (знаю, ты устал про это слушать), мало кто из американцев армянского происхождения разделяет с согражданами это самодовольное чувство безопасности. Даже числовые данные моей собственной жизни намекают на апокалипсис. Я родилась в августе 1945-го, когда споры двух ядовитых грибов дали нам ощутить вкус предстоящего ада. А Кевин родился во время тревожных последних дней перед 1984-м – как ты помнишь, наступления этого года очень страшились; хоть я и поднимала на смех людей, принимавших близко к сердцу случайно выбранный Джорджем Оруэллом заголовок, эти цифры и вправду возвещали для меня эру тирании. Тот четверг случился в 1999-м – в год, который задолго до того обсуждался как конец света. И не стал им.
Со времени моего последнего письма я рылась на своем ментальном чердаке в поисках изначальных сомнений по поводу материнства. Я точно помню смятение и страхи, но все они были ошибочными. Если бы я составляла список недостатков родительства, пункт «сын может оказаться убийцей» никогда бы в нем не появился. Скорее, этот список выглядел бы примерно так:
1. Морока.
2. Меньше времени только вдвоем. (Как насчет «больше нет времени только вдвоем»).
3. Другие люди. (Встречи родительского комитета. Учителя балета. Невыносимые друзья ребенка и их невыносимые родители.)
4. Превращение в корову. (Я была стройной и предпочитала такой оставаться. Моя сноха за время беременности обзавелась выпирающими варикозными венами, которые потом так и не исчезли, и перспектива иметь лодыжки, на которых ветвятся синие корни деревьев, оскорбляла меня больше, чем можно выразить словами. Так что я и не выражала. Я тщеславна или когда-то была такой, и одним из проявлений моего тщеславия являлось притворство, что я не такая.)
5. Неестественный альтруизм: быть вынужденной принимать решения в соответствии с тем, что лучше для кого-то другого. (Я свинья.)
6. Сокращение моих путешествий. (Заметь: сокращение. Не завершение.)
7. Сводящая с ума скука. (Я находила маленьких детей страшно скучными. В этом я признавалась себе даже в самом начале.)
8. Никчемная социальная жизнь. (Мне еще ни разу не удавалось нормально поговорить, если в комнате присутствовал пятилетний ребенок.)
9. Понижение социального статуса. (Я была уважаемым предпринимателем. Как только я обзаведусь младенцем, любой знакомый мужчина – и любая женщина тоже, что тяжело сознавать, – станут воспринимать меня менее серьезно.)
10. Возврат долга. (Родительство возвращает долг. Но кто захочет оплачивать долг, если этого можно избежать? По-видимому, бездетным сходит с рук нечто подлое. Кроме того, что толку платить долг не той стороне? Только самая извращенная мать будет чувствовать себя вознагражденной за заботы тем фактом, что наконец-то у ее дочери жизнь тоже ужасна.)
Это, насколько я помню, были те ничтожные опасения, которые я заранее взвесила, и я постаралась не отравить их ошеломляющую наивность тем, что произошло на самом деле. Несомненно, все доводы в пользу того, чтобы остаться бесплодной – какое ужасающее слово! – были мелкими неудобствами и незначительными жертвами. Они были эгоистичными, низкими и мелочными, так что любой, кто составил подобный список и все равно решил сохранить свою опрятную, безветренную, застывшую, бесперспективную, не дающую плодов жизнь, оказывался не только недальновидным, но и просто ужасным человеком.
И все же, когда я обдумываю этот список сейчас, меня поражает, что, какое бы осуждение за собой ни влекли сомнения в материнстве, они вполне практичны. В конце концов сейчас, когда дети не возделывают твои поля и не берут тебя к себе жить, когда у тебя начинается недержание, нет разумных причин их заводить, и поразительно, что с приходом эффективных методов контрацепции кто-то вообще выбирает размножение. Наоборот, любовь, семейная история, довольство жизнью, вера в человеческую «сущность» – эти современные стимулы похожи на дирижабли: огромные, парящие в воздухе и малочисленные; оптимистичные, благородные, даже глубокие, однако угрожающе безосновательные.
Долгие годы я ждала того всепоглощающего желания, о котором столько слышала, той наркотической тоски, которая неотвратимо влечет бездетных женщин к чужим коляскам в парках. Мне хотелось, чтобы меня затопил властный гормональный призыв, чтобы я проснулась однажды утром, протянула к тебе руки, обняла тебя и молилась бы о том, что пока под моими опущенными веками распускается черный цветок страсти, ты сделаешь мне ребенка. (Сделал ребенка: эта фраза звучит приятно и красиво – архаичное, но нежное признание того, что в течение девяти месяцев, куда бы ты ни пошла, у тебя есть компания. Слово беременна, наоборот, тяжелое и выпуклое, и мне всегда казалось, что звучит оно как плохие новости: «Я беременна». В моей голове инстинктивно рисуется картинка: шестнадцатилетняя девочка за обеденным столом – бледная, нездоровая, и бойфренд у нее мерзавец – заставляет себя выпалить то, чего ее мать больше всего боится.)
Каким бы ни был этот пусковой механизм, в моем организме он так и не появился, и от этого я чувствовала себя обманутой. Когда жажда материнства не появилась у меня и к тридцати пяти годам, я забеспокоилась, что со мной что-то не так, что во мне чего-то не хватает. Кевина я родила в тридцать семь и к тому времени начала терзаться мыслями о том, не превратила ли я случайный, и возможно, чисто химический недостаток в изъян шекспировского масштаба тем, что просто не приняла в себе этот дефект.
Так что же в итоге заставило меня принять решение? Прежде всего, ты. Ибо если мы были счастливы, то ты не был, не вполне, и я, наверное, знала об этом. В твоей жизни была дыра, которую я не могла до конца заполнить. У тебя была работа, и она тебе подходила. Когда ты совал нос в неисследованные конюшни и на военные заводы, выискивал поле, которое должно быть огорожено бревенчатым забором и на котором должна стоять ярко-красная силосная башня и резвиться черно-белые коровы (фирма «Крафт», чьи сырные ломтики делались из «настоящего молока»), ты работал по своему собственному графику, создавал свои собственные перспективы. Тебе нравилось разведывать места для съемок. Но ты не любил эту работу. Твоей страстью были люди, Франклин. Поэтому, когда я увидела, как ты играешь с детьми Брайана, дурачась с их игрушечными обезьянками и восхищаясь их поблекшими временными татуировками, мне страстно захотелось предоставить тебе возможность для того энтузиазма, который я сама когда-то нашла в «Крыле Надежды» – в «КН», как сказал бы ты.
Помню, однажды ты сбивчиво попытался высказаться, и это было совсем на тебя непохоже – ни чувства, ни язык. Эмоциональная риторика всегда тебя смущала, но это совсем не то же самое, что дискомфорт, вызываемый эмоциями. Ты опасался, что слишком пристальное изучение может ранить чувства, словно исполненное благих намерений, но грубоватое обращение с саламандрой в больших и неуклюжих руках.
Мы лежали в постели в том же сводчатом лофте в Трайбеке, где вечно ломался скрипучий лифт с ручным приводом. Похожий на пещеру, запыленный, не разделенный приставными столиками на цивилизованные отсеки, этот лофт всегда напоминал мне тайное убежище, которое мы с братом построили из гофрированного железа в Расине. Мы с тобой занимались любовью, и я только-только начала проваливаться в сон, но тут же резко села в постели. Мне нужно было успеть на самолет в Мадрид через десять часов, и я забыла завести будильник. Когда я завела часы, я заметила, что ты лежишь на спине, и глаза у тебя открыты.
– Что такое?
Ты вздохнул.
– Не знаю, как ты это делаешь.
Когда я снова устроилась поудобнее, чтобы насладиться еще одной хвалебной песнью моей склонности к приключениям и моему мужеству, ты, должно быть, почувствовал мою ошибку, потому что торопливо добавил:
– Уезжаешь. Уезжаешь все время так надолго. Уезжаешь от меня.
– Но мне это не нравится.
– Ну, не знаю.
– Франклин, я создала свою компанию не для того, чтобы вырваться из твоих цепких объятий. Не забывай, что это было до тебя.
– Ох, об этом я вряд ли смогу забыть.
– Это моя работа!
– Не обязательно, чтобы это было так.
Я снова села.
– Ты что…
– Нет.
Ты мягко потянул меня назад в постель. Разговор пошел не так, как ты планировал; а я видела, что ты его запланировал. Ты перекатился на живот, поставил локти по бокам от меня и ненадолго прислонился своим лбом к моему.
– Я не пытаюсь отнять у тебя твою книжную серию. Я знаю, как много это для тебя значит. В том-то и проблема. С другой стороны, я бы так не смог. Я не смог бы встать завтра, чтобы улететь в Мадрид и попытаться отговорить тебя о того, чтобы ты встретила меня в аэропорту через три недели. Может, пару раз. Но не раз за разом.
– Смог бы, если бы должен был.
– Ева. Ты знаешь, и я знаю: ты не должна.
Я дернулась. Ты был так близко; мне было жарко, и между твоими локтями я чувствовала себя словно в клетке.
– Мы это уже обсуждали…
– Не так уж часто. Твои путеводители пользуются колоссальным успехом. Ты могла бы нанять студентов колледжа, чтобы они занимались поиском всех этих ночлежек, которым ты сейчас занимаешься сама. Они ведь уже проводят бо́льшую часть нужных тебе поисков, разве не так?
Я рассердилась; я уже это проходила.
– Если я не держу руку на пульсе, они жульничают. Говорят, что подтвердили: описание соответствует действительности, не волнуйтесь, пойдите отдохните. А потом выясняется, что в мини-гостинице сменились владельцы, что там кишат вши или что она находится по новому адресу. Я получаю жалобы от катающихся по стране велосипедистов, которые проехали сотню миль и вместо заслуженной тяжким трудом постели обнаружили страховую контору. Они в ярости, и совершенно оправданно. А без заглядывающей через плечо начальницы некоторые из этих студентов будут еще и брать на лапу. Самое ценное качество «КН» – это репутация…
– Ты могла бы нанять кого-то и для выборочных проверок. Значит, ты летишь завтра в Мадрид, потому что тебе этого хочется. В этом нет ничего ужасного, кроме того, что я бы так не сделал, я не смог бы. Ты знаешь, что, когда тебя нет, я все время о тебе думаю? Каждый час я думаю: что ты ешь, с кем ты встречаешься…
– Но я ведь тоже о тебе думаю!
Ты рассмеялся тихим и приятным смехом; ты не пытался затеять ссору. Ты перекатился обратно на спину и выпустил меня.
– Брехня, Ева. Ты думаешь о том, продержится ли фалафельная на углу до следующего обновленного выпуска, и о том, как описать цвет местного неба. Прекрасно. Но в таком случае ты должна испытывать ко мне не те чувства, что испытываю я к тебе. Вот и все, к чему я вел.
– Ты всерьез заявляешь, что я люблю тебя не так сильно?
– Ты любишь меня по-другому, не так, как я тебя. Степень любви тут ни при чем. Есть что-то… – ты попытался найти нужные слова, – что ты оставляешь при себе. Может быть, я этому завидую. Это что-то вроде запасного резервуара. Ты выходишь отсюда, и этот второй источник начинает работать. Ты слоняешься по Европе или Малайзии, пока он не истощится, и тогда ты приезжаешь домой.
И все же на самом деле то, что ты описал, было больше похоже на Еву до встречи с Франклином. Когда-то я была весьма эффективным маленьким механизмом – как складная дорожная зубная щетка. Я знаю, что склонна излишне романтизировать те времена, хотя тогда во мне горел огонь, особенно в самом начале. Я ведь была очень молода. И идея создания «Крыла Надежды» появилась у меня во время моей первой поездки по Европе, в которую я взяла слишком мало наличных. Эта идея о путеводителе в богемном стиле придала осмысленность тому, что без нее превращалось в один бесконечный короткий визит, и с тех пор я везде ездила с потрепанным блокнотом, куда записывала цены на одноместные гостиничные номера, есть ли в них горячая вода, говорит ли персонал по-английски и засорены ли туалеты.
Сейчас, когда у «КН» появилось столько конкурентов, легко забыть о том, что в середине шестидесятых заядлые путешественники в основном полагались на «Синий путеводитель»[18], чьей целевой аудиторией были люди среднего класса и среднего возраста. В 1966-м, когда первое издание путеводителя «Западная Европа на Крыльях Надежды» почти мгновенно пошло в допечатку, я поняла, что нашла интересную идею. Я люблю изображать себя проницательной, но мы оба знаем, что мне просто повезло. Я не могла предвидеть бум самостоятельного бюджетного туризма, и не была в достаточной степени демографом-любителем, чтобы сознательно воспользоваться неугомонностью представителей послевоенного поколения, которые разом стали совершеннолетними, жили на родительские деньги в эру процветания, оптимистично смотрели на то, как далеко можно проехать по Италии на несколько сотен долларов, и отчаянно нуждались в советах о способах как можно дольше продлить поездку, в которую родители изначально не хотели их отпускать. Моим основным аргументом было то, что идущий по моим стопам путешественник будет напуган, так же как была напугана я; будет нервничать, что его обманут, как иногда обманывали меня; и, если уж я была готова заполучить пищевое отравление первой, я могла быть уверена, что по крайней мере наш путник-новичок не будет блевать в первую же волнующую ночь за океаном. Я не хочу сказать, что была филантропом; я просто написала путеводитель, которым мне хотелось бы иметь возможность пользоваться самой.
Ты сейчас закатываешь глаза. Эти практические знания банальны, и, наверное, неизбежно происходит так, что те самые вещи, которые изначально привлекают в человеке, позже начинают тебя раздражать. Но наберись терпения.
Ты знаешь, что меня всегда ужасала перспектива оказаться такой же, как моя мать. Странно, но мы с Джайлсом узнали о термине «агорафобия» лишь когда нам было за тридцать, и меня всегда озадачивало его строгое определение: «боязнь открытых пространств и публичных мест». Насколько я могла судить, это не было подходящим описанием ее жалоб. Моя мать не боялась футбольных стадионов, она боялась выходить из дома, и у меня сложилось впечатление, что замкнутые пространства вызывали у нее такую же панику, как и открытые, если оказывалось, что замкнутое пространство – это не дом № 137 на Эндерби-авеню в Расине, штат Висконсин. Но мне кажется, для данного состояния не существует определения (разве что «эндербифилия»?); по крайней мере, когда я говорю, что у матери агорафобия, люди вроде понимают, почему она все заказывает на дом.
Господи, какая ирония, слышала я бессчетное количество раз. И это при том, что ты побывала в стольких местах? Другие люди смакуют симметрию явных противоположностей.
Однако позволь мне быть откровенной. Я очень похожа на свою мать. Может быть, потому что ребенком я вечно бегала с поручениями, для которых была еще слишком мала, и следовательно, они меня страшили: меня отправили на поиски новых прокладок для кухонной раковины, когда мне было восемь лет. Вынуждая меня быть своим эмиссаром, когда я была такой маленькой, моя мать умудрилась породить во мне то же страдание от мелких взаимодействий с внешним миром, которое она сама испытывала в свои тридцать два.
Я не могу вспомнить ни одной предстоявшей мне поездки за границу, которую я бы действительно хотела предпринять, которой бы я не страшилась и которой отчаянно не хотела бы избежать. Выйти за дверь меня то и дело вынуждал сговор предварительных обязательств: билет куплен, такси заказано, подтверждена масса бронирований, и просто чтобы окончательно лишить себя возможности маневра, я всегда расхваливала предстоящую поездку друзьям, а они потом цветисто желали мне доброго пути. Даже в самолете я была бы блаженно довольна, если бы его широкий фюзеляж пронзал стратосферу до бесконечности. Приземление было мукой, поиск первого места для ночлега был мукой, хотя сама передышка – в моей произвольной копии Эндбери-авеню – была восхитительна. В итоге я подсела на эту последовательность все убыстряющихся страхов, кульминацией которых становилось головокружительное погружение в «приемную» кровать. Всю свою жизнь я заставляла себя что-то делать. Я никогда не ездила в Мадрид, Франклин, только потому что мне хотелось поесть паэльи; каждая из этих исследовательских поездок, которые, по твоему мнению, я использовала для того, чтобы сбежать от суровых уз нашей спокойной домашней жизни – каждая из этих поездок на самом деле была вызовом, который я бросала сама себе и который сама себя заставляла принять. Если я когда и радовалась тому, что поехала, то сам отъезд никогда не доставлял мне радости.
Однако с течением времени отвращение уменьшилось, а преодоление того, что является обычным неудобством, уже не так ценно. Как только я привыкла принимать брошенный самой себе вызов – снова и снова доказывать, что я независимая, компетентная, мобильная и взрослая, – постепенно страх обратился в противоположную сторону: единственное, чего я боялась больше, чем очередной поездки в Малайзию, было остаться дома.
Так что я не просто боялась стать такой же, как моя мать; я боялась стать матерью. Я боялась, что стану надежным неподвижным якорем, который превратится в трамплин для другого, молодого искателя приключений, чьим путешествиям я, возможно, стану завидовать и чье будущее пока не нанесено на карту и не имеет ориентиров. Я боялась стать этим архетипом: стоящей в дверях неопрятной и полноватой фигурой, которая прощально машет рукой и посылает воздушные поцелуи, пока рюкзак укладывают в багажник; которая промокает глаза краем фартука в облаке выхлопных газов уехавшей машины; которая с покинутым видом поворачивается, запирает дверь на щеколду и моет слишком немногочисленные тарелки в раковине, а тишина в комнате давит на нее, словно рухнувший потолок. Я стала бояться быть покинутой больше, чем боялась уезжать. Как часто я поступала так с тобой: оставляла тебя, словно корабль на мели, с крошками от багета, съеденного за нашим прощальным ужином, и убегала в ждущее меня такси. Не думаю, что я когда-либо говорила тебе, как мне жаль, что я заставляла тебя пережить все эти маленькие смерти моих серийных уходов или когда-либо хвалила тебя за то, что ты сдерживал свое вполне оправданное чувство заброшенности и оно лишь иногда выражалось в язвительных колкостях.
Франклин, я до ужаса боялась рожать ребенка. До того как я забеременела, мое видение воспитания детей – чтение историй о попках улыбающимся рожицам перед укладыванием спать, скармливание какой-то бурды в вялые рты – казалось картинками, на которых был кто-то другой. Я страшилась столкновения с тем, что могла оказаться замкнутой, бесчувственной натурой, с собственным эгоизмом и недостатком щедрости, с отвратительной и непреодолимой силой моей собственной неприязни. Как бы ни была я заинтригована «новой страницей жизни», меня оскорбляла перспектива попасть в ловушку чужой истории, из которой нет надежды выбраться. И я думаю, что именно этот страх являлся тем, что меня изводило – как оконный карниз притягивает и заставляет спрыгнуть. Сама непреодолимость задачи, сама ее непривлекательность оказалась в конце концов тем, что меня в ней манило.
Ева
2 декабря 2000 года
Дорогой Франклин,
я устроилась в маленькой кофейне в Чатеме[19], поэтому пишу данное письмо от руки; но ты всегда мог разобрать мои паучьи каракули на открытках, поскольку я предоставляла тебе кучу возможностей для практики. Пара за соседним столиком ведет сокрушительно долгий и нудный разговор по поводу процесса рассмотрения заявления о бюллетенях тех, кто не пришел на выборы в округе Семинол[20] – кажется, такого рода мелочами поглощена сейчас вся страна, потому что все кругом превратились в процедурных педантов. Но все равно их горячность меня согревает – как раньше грела дровяная печь. Моя собственная апатия пробирает меня холодом до костей.
Кафе «Бейгель» – по-домашнему уютное заведение, и я думаю, официантка не станет возражать, если я буду неспешно пить свой кофе, положив рядом линованный блокнот. Чатем тоже по-домашнему уютный и настоящий – в нем есть та причудливая старомодность, на имитацию которой тратят кучу денег более зажиточные города вроде Стокбриджа и Линокса[21]. На его вокзал до сих пор приходят поезда. На главной торговой улице расположены традиционные ряды букинистических магазинов (там полно романов Лорена Эстлемана[22], которыми ты так зачитывался), булочные с чуть подгоревшими кексами с отрубями, благотворительные комиссионки, кинотеатр с маркизой над входом, на которой написано «theatre» – местные, видимо, решили, что британское написание выглядит более утонченно[23], и магазин алкоголя, где помимо вина «Тейлор»[24] в больших двухквартовых бутылях[25] – для местных – можно найти на удивление дорогие виды калифорнийского зинфанделя[26] для приезжих. Сейчас, когда большинство местных предприятий закрылось, жители Манхэттена, у которых тут есть второй дом, не дают умереть этой заброшенной деревушке; отдыхающие да еще, конечно, новое исправительное учреждение на окраине городка.
По дороге сюда я думала о тебе, но это и без слов понятно. Для контраста я пыталась вообразить себе тип мужчины, с которым, как мне казалось, я буду жить – до того как мы с тобой встретились. Картинка, без сомнения, складывалась из встреченных в путешествиях парней, из-за которых ты меня вечно доставал. Некоторые из моих мимолетных спутников были милыми; хотя, если женщина описывает мужчину словом «милый», это подразумевает лишь легкий флирт.
Если этот ассортимент эпизодических спутников (прости, «неудачников») в Арле или Тель-Авиве можно принять за образец, то судьбой мне было предназначено остепениться рядом с жилистым интеллектуальным типом, чей быстрый метаболизм со страшной скоростью расправляется со стряпней из нута. Острые локти, торчащий кадык, узкие запястья. Строгий вегетарианец. Страдалец, который читает Ницше и носит очки, чужд своему времени и с презрением относится к автомобилям. Заядлый любитель велосипеда и пеших прогулок по холмам. С маргинальной профессией – возможно, гончар с любовью к древесине твердых пород и к ароматическим травам, чье стремление к скромной жизни, проходящей в тяжелом физическом труде и долгом созерцании закатов на крыльце, несколько противоречит тому холодному подавленному гневу, с которым он швыряет плохо удавшиеся вазы в мусорный бак. У него слабость к травке; он погружен в раздумья. Обладает недооцененным, но беспощадным чувством юмора. Массаж спины. Переработка отходов. Музыка, исполняемая на ситаре[27], и заигрывания с буддизмом, который его милосердно поддерживает. Витамины и криббидж[28], фильтры для воды и французское кино. Пацифист, у которого есть три гитары, но нет телевизора, потому что он вызывает у него неприятные ассоциации с командными видами спорта из детства, в котором его дразнили. Намек на ранимость в редеющей линии волос на висках; мягкие темные волосы собраны в спускающийся на спину хвост. Желтовато-оливковый, почти болезненный цвет лица. Нежный секс, сопровождающийся тихим шепотом. На шее – необычный талисман из резного дерева на кожаном шнурке, про который он ничего не рассказывает и который никогда не снимает, даже в ванне. Дневники, которые мне нельзя читать и в которых наклеены газетные вырезки с памфлетами, иллюстрирующими ужасный мир, в котором мы живем. («Жуткая находка: полиция обнаружила разрозненные части человеческого тела, включая две кисти и две ноги, в шести ячейках камеры хранения на центральном железнодорожном вокзале в Токио. Проверив все 2500 ячеек, полиция нашла две ягодицы в черном пластиковом пакете для мусора».) Циник в отношении основных направлений в политике с неослабной ироничной отчужденностью от поп-культуры. И в большинстве случаев – бегло и с красивым акцентом говорящий по-английски иностранец.
Мы с ним поселились бы в сельской местности – в Португалии или в маленькой деревушке в Центральной Америке – где на ферме неподалеку продают сырое молоко, свежесбитое сладко-сливочное масло и толстобокие, наполненные семечками тыквы. Наш коттедж каменной кладки был бы оплетен вьющимися растениями, на окнах пламенела бы красная герань, и мы бы пекли плотный ржаной хлеб и морковные брауни для наших деревенских соседей. Будучи чересчур образованным человеком, мой воображаемый спутник жизни все равно продолжал бы копаться в почве нашей идиллии в поисках источников своей неудовлетворенности. А будучи окруженным щедростью природы, он стал бы язвительным аскетом.
Ты уже посмеиваешься? Потому что потом появился ты. Большой и широкоплечий мясоед с непослушными светлыми волосами и красноватой кожей, которая обгорает на солнце. С аппетитом к огромному количеству вещей. Любитель громогласно хохотать; мужчина, который рассказывает непритязательные анекдоты. Ест хот-доги – даже не братвурст[29] на 86-й Восточной улице, а рыхлые, жирные свиные кишки того самого жуткого розового цвета. Бейсбол. Сувенирные кепки. Каламбуры и фильмы-блокбастеры, вода из-под крана и пиво в упаковках по шесть банок. Бесстрашный доверчивый потребитель, который читает этикетки только для того, чтобы убедиться, что в продукте достаточное количество химических добавок. Фанат пустынных загородных шоссе, страстно любящий свой пикап и считающий, что велосипеды созданы для зануд и ботаников. Неистово трахающийся и говорящий непристойности. Имеющий сокровенную и при этом бесстыдную страсть к порно. Детективы, триллеры и научная фантастика; подписка на журнал National Geographic. Барбекю на День независимости и намерение заняться гольфом, когда пробьет нужный час. Восторг от дрянных закусок самых разных видов: кукурузные чипсы; кукурузные палочки; сырные палочки; шоколадные печенья (ты смеешься, но я ничего этого не ем) – все, что похоже не столько на еду, сколько на упаковочный материал, и отдалилось от первоначального природного состояния по крайней мере на шесть ступеней. Брюс Спрингстин,[30] ранние альбомы, заведенные на полную громкость, окно в машине опущено, и твои волосы треплет ветер. Ты подпеваешь, не попадая в ноты – как так вышло, что я полюбила человека, которому медведь на ухо наступил? «Бич Бойз»[31]. Элвис – ты никогда не отрывался от своих корней, верно? Ты всегда любил старый добрый рок-н-ролл. Пафосный и напыщенный. Хотя ты не был невыносимо старомодным – я помню, что ты увлекся Pearl Jam[32], как раз тогда, когда Кевину они разонравились… (прости). Музыка просто должна была быть шумной и громкой; у тебя не было времени на моего Элгара[33], моего Лео Коттке[34], хотя для Аарона Коупленда[35] ты сделал исключение. Ты резким движением вытирал глаза в Тэнглвуде[36], словно в них попала соринка, надеясь, что я не заметила того, что его «Тихий город»[37] заставил тебя плакать. И заурядные, банальные удовольствия: зоопарк в Бронксе[38] и Ботанический сад, аттракционы Кони-Айленда[39], паром на Стейтен-Айленд[40], Эмпайр-стейт-билдинг[41]. Ты был единственным из моих знакомых ньюйоркцев, который доплыл на пароме до статуи Свободы. Однажды ты потащил меня с собой, и мы были единственными туристами на пароме, кто говорил по-английски. Изобразительное искусство – Эдвард Хоппер[42]. И, боже мой, Франклин, республиканец. Вера в сильную оборону, но в остальном компактный государственный аппарат и низкие налоги. В физическом смысле ты тоже оказался удивительным – ты сам был сильной обороной. Случались времена, когда ты беспокоился, что я считаю тебя слишком тяжелым: я слишком много говорила о твоих размерах, хотя ты весил довольно стандартные 165–170 фунтов[43] и вечно боролся с этими пятью фунтами, которые нарастали у тебя на животе из-за любви к сырным палочкам. Но для меня ты был огромным. Такой крепкий и плотный, такой широкий, такой полный – ничего общего с мужчиной с тонкими запястьями из моих грез. Ты был словно дуб, к стволу которого я могла прислонить подушку и читать; по утрам я могла свернуться калачиком в изгибах твоих ветвей. Как нам везет, когда нас минует то, чего, как нам кажется, мы хотим! Как меня утомили бы, наверное, все эти дурацкие глиняные горшки и прихотливые диеты, и как я ненавижу завывание ситара!
Но самым большим сюрпризом оказалось то, что я вышла замуж на американца. И не за любого американца, не за человека, который случайно им оказался. Нет, ты был американцем по выбору так же, как и по рождению. На самом деле ты был патриотом. Я их раньше никогда не встречала. Провинциальных мужланов – да. Слепых, никуда не выезжавших, невежественных людей, которые считали, что Соединенные Штаты – это и есть весь мир, поэтому сказать что-то против страны было все равно что хулить Вселенную или воздух. Ты был другим: ты кое-где побывал – в Мексике, и один раз в долгой поездке по Италии, вместе с женщиной, чьи многочисленные аллергены включали в себя помидоры – и решил, что тебе нравится твоя родная страна. Нет, не так: что ты любишь свою родную страну, ее плавность и деловитость, ее практичность, ее простые и сильные акценты и упор на честность. Я бы сказала – да я так и говорила, – что ты был очарован архаичной версией США, той Америкой, которая давно исчезла или никогда не существовала; ты был очарован самой идеей. А ты бы сказал – и ты так и говорил, – что эта идея была частью того, чем являлась Америка, и это было весомее, чем могут предъявить большинство стран, которые в основном являлись обрывками прошлых событий и очертаниями на картах. Это была возвышенная, прекрасная идея, говорил ты, и ты напоминал мне – отдаю тебе должное, – что государство, которое стремится прежде всего сохранить для своих граждан возможность делать по большей части то, что они хотят, является именно тем местом, которое должно очаровывать таких, как я. Но получилось не совсем так, возражала я, а ты возражал в ответ: здесь лучше, чем в любом другом месте; и на этом мы прекращали спор.
Это правда, со временем я стала разочаровываться. Но мне все равно хочется поблагодарить тебя за то, что ты познакомил меня с моей собственной страной. Разве не так мы с тобой встретились? Мы в «КН» решили дать рекламу в Mother Jones[44] и в Rolling Stone[45], и когда я пыталась сформулировать, какие именно фотографии нам нужны, в Young & Rubicam[46] заглянул ты. Ты пришел в мой офис одетым во фланелевую рубашку и пыльные джинсы – это выглядело дерзко, но привлекательно. Я очень старалась вести себя профессионально, потому что меня отвлекали твои плечи. Франция, предложила я. Долина Роны. А потом я впала в нерешительность относительно расходов на то, чтобы отправить тебя туда и где-то поселить. Ты рассмеялся. Не говорите ерунды, отмахнулся ты. Я могу найти вам долину Роны в Пенсильвании. И ты ее нашел.
До сих пор я считала Соединенные Штаты страной, из которой нужно уезжать. После того как ты нахально пригласил меня на свидание – меня, руководителя компании, с которой у тебя деловые отношения, – ты вынудил меня признать, что, родись я в любом другом месте, США были бы, наверное, первой страной, куда я прямиком рванула бы с визитом. Что бы я о ней ни думала, но это страна, которая правит бал и является кукловодом, снимает кино, продает кока-колу и экспортирует «Звездный путь»[47] до самой Явы; это центр событий, страна, отношения с которой нужны, даже если они враждебны; страна, которая требует если не принятия, то по крайней мере отторжения – чего угодно, но только не пренебрежения. Эта страна, имеющая напряженные отношения с другими странами, пришла бы с визитом к тебе практически в любом месте планеты, нравится тебе это или нет. Ладно, ладно, протестовала я. Ладно. Я бы туда поехала.
И я ездила. Помнишь, как ты то и дело изумлялся в те первые дни? Что я ни разу не была на бейсбольном матче. Или в Йеллоустоне[48]. Не видела Большой каньон. Насмехалась над горячими яблочными пирожками в «Макдоналдсе», которых никогда не пробовала (признаюсь: они мне понравились). Когда-нибудь, заметил ты, «Макдоналдса» не будет. Тот факт, что сейчас этих забегаловок полно, не означает, что горячие яблочные пирожки не превосходны, или что возможность жить в то время, когда их можно купить за 99 центов, не является привилегией. Это была одна из твоих излюбленных тем: что изобилие, тиражирование, популярность не обязательно означают обесценивание и что само время делает все вещи редкими. Ты любил наслаждаться настоящим моментом и больше чем кто-либо другой из моих знакомых осознавал, что каждая его составляющая мимолетна.
И такой же была в твоих глазах перспектива твоей страны: что она не будет существовать вечно. Что, разумеется, она является империей, хотя в этом нет ничего постыдного. История состоит из империй, и Соединенные Штаты безоговорочно являются величайшей, богатейшей и справедливейшей империей, которая когда-либо правила на земле. Она неизбежно падет – империи всегда рушатся. Но нам повезло, говорил ты. Нам довелось участвовать в самом увлекательном социальном эксперименте, который когда-либо был поставлен. Разумеется, он не идеален, добавлял ты с той же торопливостью, с которой я замечала до рождения Кевина, что разумеется, у некоторых детей «бывают проблемы». Но ты говорил, что, если Соединенным Штатам суждено пасть или пойти ко дну на твоем веку, пережить экономический крах, быть захваченными агрессором или разложиться изнутри, превратившись в нечто порочное, ты будешь их оплакивать.
Я верю, что ты стал бы плакать. Но порой я считала – в те дни, когда ты силком тащил меня в Смитсоновский институт[49], изводил меня требованиями перечислить президентов по порядку, с пристрастием допрашивал о причинах бунта на Хеймаркет[50] – я считала, что посещаю не совсем эту страну. Я посещала твою страну. Ту, которую ты создал для себя – как ребенок строит шалаш из палочек от эскимо. Это была красивая репродукция. Даже сейчас, когда я мельком вижу фрагменты из преамбулы к Конституции – «Мы, народ Соединенных Штатов…»[51] – у меня мурашки бегут по коже. Потому что я слышу твой голос. Декларация независимости[52] – «Мы считаем за очевидные истины…» – снова твой голос.
Ирония. Я думаю о тебе и иронии. Тебя всегда раздражало, когда появлялись мои друзья из Европы и отмахивались от наших с тобой соотечественников как от людей, «не имеющих чувства иронии». И все же (по иронии судьбы) в конце двадцатого века ирония в США была огромна, мучительно огромна. На самом деле мне она надоела, хотя я этого не осознавала, пока мы с тобой не встретились. В начале восьмидесятых все стало «ретро», и появилась скрытая тенденция к подделыванию, отстранению во всех этих закусочных в стиле пятидесятых, с хромированными барными стульями и огромными коктейлями из рутбира[53]. Ирония означает одновременно иметь и не иметь. Ирония включает в себя ханжеское любительство, дезавуирование. У нас имелись друзья, чьи навороченные квартиры были полны сардонического китча: крохотные куколки, вставленные в рамку рекламные плакаты хлопьев для завтрака «Келлогг»[54] двадцатых годов («Смотрите, как быстро съедается полная миска!») и у которых каждая вещь выглядела как объект для шуток.
Ты бы не стал так жить. «Не иметь чувства иронии», по общему мнению, означало не понимать, что это такое; быть идиотом; не иметь чувства юмора. А ты знал, что такое ирония. Ты слегка посмеялся над подставкой под лампу в виде черного чугунного жокея, которую Бельмонт выбрал для их каминной полки – чтобы проявить вежливость. Ты понял шутку. Просто ты не считал, что это настолько уж смешно, и в своей собственной жизни ты хотел иметь предметы, которые были красивы по-настоящему, а не просто для смеха. Ты, такой умный мужчина, был искренним умышленно, а не только по натуре; ты был американцем по личному принуждению, и ты принимал все хорошее, что в этом есть. Называется ли это наивностью, когда ты целенаправленно наивен? Ты ездил на пикники. Ты брал традиционный отпуск и ездил смотреть государственные памятники. Ты во все свое немузыкальное горло распевал государственный гимн на играх «Нью-Йорк Метс»[55] и никогда при этом не ухмылялся. Соединенные Штаты, заявлял ты, находятся на переднем крае эволюции. Это страна, чье процветание не имеет прецедентов; страна, в которой практически у каждого достаточно еды; страна, которая стремится к справедливости и предлагает почти все возможные виды спорта и развлечений, любую религию, этничность, род занятий и политические взгляды, которые только можно предложить; страна, в которой огромное разнообразие ландшафтов, флоры, фауны и климата. Если невозможно вести прекрасную, богатую, роскошную жизнь в этой стране, с красивой женой и здоровым растущим мальчиком, тогда эта жизнь невозможна нигде. И даже сейчас я думаю, что, быть может, ты прав. Что, наверное, это невозможно нигде.
21.00 (снова дома)
Официантка оказалась терпеливой, но кафе закрывалось. И печатный текст, может, и обезличен, но он легче воспринимается глазом. В этом отношении я беспокоюсь, что пока ты читал рукописный кусок, ты просматривал его мельком, перескакивая со строчки на строчку. Я беспокоюсь о том, что, увидев вверху страницы «Чатем», ты больше ни о чем не мог думать и что в кои-то веки тебе наплевать на мои чувства к Соединенным Штатам. Чатем. Я езжу в Чатем?
Да, езжу. Езжу при любой возможности. К счастью, эти поездки каждые две недели в Клэверак[56], в воспитательную колонию для несовершеннолетних, рассчитаны на такой ограниченный интервал часов, разрешенных для посещения, что я не вольна решить поехать туда на час позже или в другой день. Я выхожу из дома ровно в 11.30, потому что сегодня первая суббота месяца, и я должна прибыть туда сразу после второго перерыва на ланч, в 14.00. Я не балую себя размышлениями о том, насколько я боюсь ехать, чтобы с ним повидаться, или – что более неправдоподобно – с каким нетерпением я этого жду. Я просто еду.
Ты поражен. Не стоит так удивляться. Он и мой сын тоже, а мать должна навещать своих детей в тюрьме. У меня как матери бесконечно много недостатков, но я всегда следовала правилам. Если на то пошло, следование неписаным законам для родителей было одним из моих недостатков. Это выяснилось на суде – на гражданском процессе. Меня привело в ужас то, насколько порядочной я выглядела на бумаге. Винс Манчини, адвокат Мэри, в суде обвинил меня в том, что я так добросовестно посещала находящегося под арестом сына, пока его самого судили, лишь потому, что предвидела, что мне предъявят иск за пренебрежение родительскими обязанностями. Я играла роль, заявил он, делала это для галочки. Конечно, проблема юриспруденции в том, что она не может улаживать тонкости. Манчини кое о чем догадался. Возможно, в этих посещениях и правда есть элемент театра. Но они продолжаются, когда никто за мной не наблюдает, потому что я пытаюсь доказать, что я хорошая мать; я доказываю это – печально, так уж вышло – самой себе.
Кевин и сам удивляется моим упорным появлениям, хотя это не означает (по крайней мере, не означало поначалу), что они его радуют. В 1999-м, когда ему было шестнадцать, он находился еще в том возрасте, когда испытываешь неловкость, если тебя видят с матерью. Как противоречиво эти подростковые трюизмы продолжают сосуществовать с самыми что ни на есть взрослыми проблемами! И во время тех первых посещений он, кажется, считал само мое присутствие обвинением и начинал злиться еще до того, как я успевала сказать хоть слово. Казалось неразумным, что он злится на меня.
Но я заметила, что подобным же образом, когда машина почти врезается в меня на пешеходном переходе, водитель часто впадает в ярость, орет, жестикулирует и ругается – на меня, ту, которую он едва не переехал и у которой есть безоговорочное право на проход. Это всегда происходит во время случайных столкновений с водителями-мужчинами, которые, как мне кажется, испытывают тем большее негодование, чем сильнее они не правы. Думаю, что эмоциональное мышление, если это можно так назвать, преходяще: ты заставляешь меня чувствовать себя плохо – это меня бесит – следовательно, ты меня бесишь. Если бы в те дни я была в состоянии ухватиться за первую часть этой формулы, то, возможно, увидела бы луч надежды в мгновенно появлявшемся негодовании Кевина. Но в то время его ярость просто ставила меня в тупик. Она казалась мне такой несправедливой. У женщин больше склонности к огорчению, и не только в уличном движении. Поэтому я винила себя, и он винил меня. Я чувствовала, что все на меня ополчились.
Поэтому, когда его только посадили в тюрьму, как таковых разговоров у нас с ним не было. Само нахождение в его присутствии лишало меня воли. Он лишал меня энергии даже на то, чтобы плакать, хотя это в любом случае было бы малополезным. Через пять минут я могла хрипло спросить его про питание. А он с недоверием таращился на меня, словно при текущих обстоятельствах этот вопрос был бессмысленным – каким он на самом деле и являлся. Или я спрашивала: «С тобой нормально обращаются?», хотя я не была уверена в том, что это значит, и даже в том, хочу ли я, чтобы эти надсмотрщики обращались с ним «нормально». А он пренебрежительно отвечал: конечно, каждый вечер они целуют меня в кроватке перед сном. Довольно быстро у меня закончились задаваемые для проформы «мамочкины» вопросы, и я думаю, мы оба испытали от этого облегчение.
Но если мне понадобилось мало времени, чтобы покончить с позой преданной матери, которая просто заботится о том, чтобы сыночек ел овощи, то мы до сих пор боремся с более неприступной позой Кевина – позой социопата, до которого не достучаться. Проблема в том, что моя роль матери, которая поддерживает сына несмотря ни на что, в высшей степени унизительна – она бессмысленна, иррациональна, слепа и слащава, а потому от такой роли я бы с благодарностью освободилась; а Кевин получает от своей роли-штампа слишком большую подпитку, чтобы спокойно от нее отказаться. Кажется, он до сих пор настойчиво стремится показать мне, что он, может, и был в моем доме подчиненным, который должен был съедать все, что лежит на тарелке, но теперь он – знаменитость, чья фотография появилась на обложке «Ньюсуик»[57] и чье состоящее из смычных согласных имя – Кевин Качадурян, или «К.К.» для таблоидов, как Кеннет Каунда[58] в Замбии – с бранью произносилось ведущими всех крупных новостных компаний. Он даже поучаствовал в создании новых государственных целей: спровоцировал новые призывы к телесным наказаниям, смертным приговорам для несовершеннолетних и к введению технологий родительского контроля при просмотре телевизора. Сидя в тюрьме, он дал мне понять, что он не мелкий правонарушитель, а скандально известный злодей, перед которым трепещут его менее искусные несовершеннолетние товарищи по заключению.
Однажды, в те первые дни (когда он стал более разговорчивым), я спросила его: «Как они смотрят на тебя, другие ребята? Они… не одобряют тебя? То, что ты сделал?» Это было ближе всего к тому, чтобы спросить: подставляют ли они тебе подножки в коридорах и плюют ли тебе в суп. Понимаешь, поначалу я колебалась и была почтительной. Он пугал меня, физически пугал, и я отчаянно старалась его не заводить. Конечно, поблизости находились тюремные охранники, но в его старшей школе тоже имелись сотрудники службы безопасности, в Гладстоне была полиция, и что с них всех было толку? Я больше не чувствую себя защищенной.
Кевин гоготнул – таким жестким, безрадостным смехом через нос. И ответил что-то вроде: «Шутишь? Они, черт подери, меня боготворят, мамси. В этом заведении нет ни одного малолетки, который не застрелил бы пятьдесят мудаков среди своих ровесников еще до завтрака – в своем воображении. Я – единственный, у кого оказались стальные яйца для того, чтобы сделать это в реальной жизни». Каждый раз, когда Кевин говорит о «реальной жизни», он делает это с преувеличенной твердостью, с которой фундаменталисты упоминают ад или рай. Он словно сам себя пытается на что-то уговорить.
Конечно, у меня не было других доказательств, кроме его собственных слов, что его не только не избегают, но он еще и достиг положения неслыханных масштабов среди бандитов, которые всего лишь угоняли машины или пырнули ножом конкурирующего наркодилера. Но я пришла к убеждению, что, должно быть, он поначалу обзавелся некоторым престижем, потому что сегодня он, в своей уклончивой манере, признал, что этот престиж начал убывать. Он сказал:
– Знаешь что? Я, черт подери, устал рассказывать одну и ту же долбаную историю.
Из чего я могу заключить, что, скорее всего, его товарищи по тюрьме устали эту историю слушать. Полтора с лишним года – это долгий срок для подростков, и Кевин – это уже вчерашний день. Он становится достаточно взрослым, чтобы понять, что разница между «уголовником», как их называют в полицейских сериалах, и среднестатистическим читателем газеты еще и в том, что зрители могут позволить себе роскошь «черт подери, устать от одной и той же долбаной истории» и могут перейти к другой. Преступники же застряли в том, что можно назвать деспотичной репетицией одной и той же старой пьесы. Кевин будет до конца своих дней подниматься по ступенькам к площадке с тренажерами в спортивном зале своей старшей школы в Гладстоне.
Так что он обижен, и я не виню его за то, что ему уже наскучило совершенное им самим злодеяние или что он завидует способности других перестать о нем говорить. Сегодня он брюзжал по поводу какого-то недавно прибывшего в Клэверак «ничтожества», которому всего тринадцать лет. Чтобы произвести на меня впечатление, Кевин добавил:
– Член у него размером с косячок марихуаны. Знаешь, бывают такие маленькие? – Кевин помахал мизинцем. – Три штуки за четвертак.
Кевин с большим удовольствием рассказал, чем бахвалится этот мальчик: пожилая супружеская пара в соседней квартире пожаловалась, что он слишком громко слушает диски группы The Monkees[59] в три часа ночи. В следующие выходные дочь этой пожилой пары обнаружила своих родителей в кровати – тела их были разрезаны от горла до промежности.
– Какой ужас, – сказала я, – поверить не могу, что кто-то еще слушает The Monkees.
Этим я заслужила скупое фырканье. Дальше он рассказал, что полиция так и не нашла их внутренности – деталь, за которую ухватились СМИ, не говоря уж о мгновенно образовавшемся фан-клубе парня в Клэвераке.
– Твой приятель развит не по годам, – сказала я. – Отсутствующие кишки… Ты ведь говорил мне, что в таких делах, если хочешь, чтобы тебя заметили, нужно добавить изюминку?
Ты придешь в ужас, Франклин, но у меня ушло почти два года на то, чтобы вот так разговаривать с ним, и когда мы с непроницаемыми лицами обмениваемся такими зловещими репликами, это может считаться прогрессом. Но Кевин пока не очень воспринимает мою храбрость. Я узурпирую его манеру поведения. И я заставила его завидовать.
– Не думаю, что он такой уж толковый, – холодно сказал Кевин. – Может, он посмотрел на эти кишки и подумал: «Круто! Бесплатные сосиски!»
Он исподтишка бросил на меня взгляд. Моя бесстрастность явно его разочаровала.
– Все тут думают, что этот идиот такой крутой, – снова заговорил Кевин. – Все такие: чувак, да ты хоть «Звуки музыки»[60] заводи на полную громкость, я ничо не скажу.
Его афроамериканский акцент вполне убедителен и проник в его собственную манеру речи.
– Но я не впечатлен. Он же всего лишь ребенок. Слишком мал, чтобы понимать, что он творит.
– А ты не был слишком мал? – спросила я резко.
Кевин удовлетворенно сложил на груди руки: я снова вернулась к роли матери.
– Я четко понимал, что я делаю. – Он поставил локти на стол и оперся на них. – И я бы сделал это снова.
– И я понимаю почему, – натянуто сказала я, обведя рукой комнату без окон, со стенами, выкрашенными в ярко-красный и желто-зеленый цвет (не понимаю, зачем делать тюрьму похожей на декорации из телесериала для дошкольников), – у тебя все вышло как надо.
– Просто сменил одну дыру на другую. – Он помахал правой рукой, вытянув два пальца; этот жест выдавал, что он пристрастился к курению. – Так что вышло отлично.
Тема закрыта, как обычно. И все же я взяла себе на заметку: то, что этот тринадцатилетний выскочка переключил внимание всей тюрьмы на себя, задело нашего сына. Кажется, мы с тобой зря беспокоились, что у него недостаточно амбиций.
Что касается нашего с ним сегодняшнего прощания, то я думала не писать о нем. Но может быть, мне стоит включить в письмо именно то, что я хотела бы от тебя скрыть.
Охранник, у которого все лицо было в родинках, словно его забрызгали грязью, сказал, что время вышло; хоть один раз мы разговаривали все отведенное время целиком, а не смотрели то и дело на часы. Мы стояли по разные стороны стола, и я собиралась пробормотать какую-нибудь дежурную фразу, вроде «Увидимся через две недели», когда поняла, что Кевин пристально смотрит прямо на меня, хотя почти всегда его взгляды были косыми. Это лишило меня присутствия духа, заставило остановиться и задуматься, зачем я вообще когда-либо хотела, чтобы он смотрел мне в глаза.
Когда я перестала возиться с пальто, он сказал:
– Ты можешь дурачить соседей, охранников, Иисуса и свою чокнутую мать этими своими благочестивыми визитами, но ты не одурачишь меня. Продолжай в том же духе, если хочешь получить награду. Но не таскай сюда свою задницу из-за меня.
И добавил:
– Потому что я тебя ненавижу.
Я знаю, дети вечно так говорят в истерике, зажмурив заплаканные глаза: Ненавижу, ненавижу тебя! Но Кевину почти восемнадцать, и сказал он это совершенно недвусмысленно.
Я примерно представляла себе, что я должна была ответить: Ну, я же знаю, что ты не это имел в виду, но я знала, что он имел в виду именно это. Или: Я все равно люблю тебя, юноша, нравится это тебе или нет. Но я полагала, что именно следование стандартным сценариям привело меня в эту кричаще яркую, слишком жаркую комнату, в которой воняло как в автобусном туалете, в этот в остальном прекрасный и необыкновенно теплый для декабря день. Потому я сказала тем же тоном, просто сообщая информацию:
– Я тоже часто тебя ненавижу, Кевин.
Круто развернулась и ушла.
Так что ты понимаешь, почему мне требовалось взбодриться чашкой кофе. Это была попытка устоять перед желанием отправиться в бар.
По дороге домой я размышляла о том, что как бы ни хотела я избежать жизни в стране, где граждане, поощряемые «делать по большей части то, что они хотят», потрошат пожилых людей, было совершенно закономерно, что я вышла замуж за американца. У меня было больше причин, чем у большинства людей, считать иностранцев вчерашним днем, поскольку я разглядела их экзотичность до той пустоты, которой они являются друг для друга. Кроме того, к тридцати трем годам я устала той накопленной усталостью, которая бывает, когда приходится весь день проводить на ногах, и которую чувствуешь лишь когда садишься. Я сама была вечной иностранкой, которая лихорадочно репетировала по разговорнику, как сказать по-итальянски «хлебная корзинка». Даже в Англии мне приходилось помнить о том, что нужно говорить «метро» вместо «подземка». Сознавая, что я в некотором роде посол, я ежедневно противостояла шквалу предубеждений, стараясь не быть высокомерной, бесцеремонной, невежественной, самонадеянной, грубой или шумной на людях.
Но если я присвоила себе всю планету в качестве личного заднего двора, сама эта наглость выдавала во мне безнадежную американку, так же как и странная идея, что я могу перекроить себя в гибрид тропической интернационалистки, имея жутко специфическое происхождение из города Расин в штате Висконсин. Даже легкомыслие, с которым я покинула родные места, классически представляло собой единое целое с нашим любопытным, беспокойным, агрессивным народом, каждый представитель которого (за исключением тебя) самодовольно полагает, что Америка постоянна и неизменна. Европейцы осведомлены получше. Они знают о том, что история жива и современна, знают о ее сиюминутной ненасытности, и часто торопятся обратно в свои бренные сады, чтобы позаботиться о них и убедиться, что, скажем, Дания все еще на своем месте. Но для тех из нас, для кого слово «вторжение» ассоциируется исключительно с космосом, наша страна – это неприступный фундамент, который останется нетронутым и будет бесконечно ждать нашего возвращения. И я в самом деле часто объясняла иностранцам, что моим странствиям способствовало понимание того, что «Соединенные Штаты во мне не нуждаются».
Кажется неловким выбирать спутника жизни, исходя из того, какие телешоу он смотрел в детстве, но в каком-то смысле именно так я и поступила. Мне хотелось иметь возможность описать какого-нибудь жилистого, низкорослого, никчемного мужчину как «Барни Файфа», не добавляя при этом многословных объяснений, что Барни – один из героев в милом, редко показываемом за границей сериале «Шоу Энди Гриффита»[61], в котором неумелый помощник шерифа то и дело попадает в неприятности по причине собственной надменности. Я хотела иметь возможность напевать заглавную песню из «Новобрачных»[62] и чтобы ты стал подпевать на фразе «Как это мило!». Мне хотелось иметь возможность сказать: «чудной, как мяч с третьей базы»[63], и не ругать себя за то, что я позабыла: образы из бейсбола не обязательно должны быть понятны за границей. Мне хотелось избавиться от необходимости притворяться, что я двинутая на культуре чудачка, у которой нет собственных традиций; хотелось иметь дом, в котором будут свои правила относительно обуви и гости должны им подчиняться. Ты вернул мне понятие домашнего очага.
Домашний очаг – это именно то, что Кевин у меня отнял. Соседи теперь смотрят на меня с той же подозрительностью, которая припасена у них для нелегальных мигрантов. Они подыскивают слова и разговаривают со мной с преувеличенной неторопливостью – как с женщиной, для которой английский язык не является родным. И поскольку меня депортировали в эту редкую категорию – матерей «мальчиков из Колумбайна», – я тоже подыскиваю слова, потому что не уверена в том, как правильно перевести свои мысли из параллельного мира на язык распродаж «два-по-цене-одного» и штрафов за неправильную парковку. Кевин вновь сделал меня иностранкой в моей собственной стране. И возможно, это помогает объяснить субботние визиты в тюрьму дважды в месяц, потому что только в исправительной тюрьме в Клэвераке мне не нужно переводить мой иностранный жаргон на язык обычных жителей пригорода. Только в исправительной тюрьме в Клэвераке мы можем ссылаться на что-то без объяснений и воспринимать наше общее культурное прошлое как нечто понятное.
Ева
8 декабря 2000 года
Дорогой Франклин,
в турагентстве «Путешествие – это мы» я тот, кто добровольно вызывается задержаться на работе и закончить дела; но большинство рейсов на Рождество уже забронированы, так что сегодня нас всех в качестве поощрения отправили по домам пораньше – пятница же. Снова начинать одинокий марафон в этом дуплексе, когда на часах едва пять вечера, – это почти доводит меня до истерики.
Сидя перед телевизором, лениво ковыряя курицу и вписывая легкие ответы в кроссворд в «Таймс», я часто испытываю неотступное чувство ожидания чего-то. Я не имею в виду классический случай ожидания, когда начнется жизнь, словно болван на старте, который не услышал выстрел к началу гонки. Нет, это ожидание чего-то конкретного – стука в дверь, и это чувство может стать весьма настойчивым. Сегодня оно вернулось. Что-то во мне прислушивается вполуха и всю ночь, каждую ночь ждет, что ты вернешься домой.
И это неизбежно напоминает мне тот майский вечер в 1982 году, с которого все началось и в который ожидание того, что ты в любой момент можешь войти в кухню, было не таким беспочвенным. Ты искал место для съемок рекламы «Форда» в сосновых пустошах на юге Нью-Джерси и должен был вернуться домой около семи вечера. Я незадолго до того прилетела из месячной поездки, посвященной обновлению путеводителя «Греция на Крыльях Надежды», и когда ты не появился и к восьми, я напомнила себе, что мой рейс задержался на шесть часов, и поэтому ты не смог забрать меня в аэропорту Кеннеди и отвезти в кафе на Юнион-сквер.
И все же к девяти я начала нервничать, не говоря уж о том, что была голодна. Я рассеянно сжевала кусок фисташковой халвы из Афин. На волне этнического настроя я приготовила сковороду мусаки, с помощью которой планировала убедить тебя, что, если смешать баклажаны с рубленой бараниной и большим количеством корицы, то окажется, что ты все-таки их любишь.
К 21.30 корочка на мусаке стала темнеть и подсыхать по краям, хоть я и убавила температуру в духовке до 120°. Я достала оттуда сковороду. Балансируя между гневом и душевными терзаниями, я позволила себе приступ раздражения: хлопнула ящиком, достав из него фольгу, и поворчала, что мне пришлось отдельно обжарить каждый кружочек баклажана, а теперь все это превращается в кучу пересушенного и обугленного непонятно чего! Резким движением я достала из холодильника приготовленный мной греческий салат и стала яростно удалять косточки из греческих оливок, но потом бросила их засыхать на столе, и одна чаша весов перевесила. Я больше не могла злиться. Я была напугана. Я проверила, лежат ли на месте обе телефонные трубки. Я убедилась, что лифт работает – хотя ты мог подняться и по лестнице. Через десять минут я снова проверила телефоны.
Вот почему люди курят, подумала я.
Когда около 22.20 телефон наконец зазвонил, я схватила трубку. Сердце у меня упало – я услышала голос матери. Я коротко сказала ей, что ты задерживаешься уже больше чем на три часа, и мне нельзя занимать линию. Она мне посочувствовала – редкость для моей матери, которая в то время расценивала мою жизнь как одно бесконечное предъявляемое ей обвинение – словно единственной причиной, по которой я отправилась в очередную страну, было желание утереть ей нос, потому что она в очередной раз не вышла из дома дальше его крыльца. Мне следовало вспомнить, что она тоже пережила такое в двадцать три года и ждала не часами, а неделями, пока однажды в щель для писем на парадной двери не опустился тонкий конверт от Военного ведомства. Вместо этого я жестоко ей нагрубила и повесила трубку.
22.40. Юг Нью-Джерси не опасен – лесозаготовки и фермерские угодья, это же не Ньюарк[64]. Но ведь были еще машины, несущиеся, словно реактивные ракеты, и водители, чья глупость могла оказаться смертоносной. Почему же ты не звонишь?!
Это было еще до появления мобильных телефонов, так что я тебя не виню. И я понимаю, что такое случается сплошь и рядом: муж, или жена, или ребенок задерживаются, ужасно задерживаются, но потом они все-таки возвращаются домой, и всему есть объяснение. По большей части эти картинки из параллельной вселенной, в которой они так и не возвращаются домой – для чего тоже есть объяснение, но такое, которое разделяет всю жизнь на до и после – исчезают потом без следа. Часы, которые тянулись, словно целая жизнь, внезапно схлопываются как веер. Поэтому, хоть соленый вкус страха во рту и был мне знаком, я не могла припомнить случая, чтобы я ходила туда-сюда по квартире, а в голове у меня крутились бы мысли о катаклизмах типа аневризмы или огорченного почтового работника с автоматом в «Бургер Кинг».
К 23.00 я начала давать клятвы.
Я залпом выпила бокал совиньон блан. На вкус оно показалось мне огуречным рассолом. Это было вино, выпитое без тебя. Мусака, вся эта пересушенная, невкусная масса, была едой без тебя. Наш лофт, полный международных трофеев в виде корзин и резных украшений, стал похож на безвкусный и захламленный магазин заграничных товаров; это был наш дом без тебя. Я никогда прежде не замечала в предметах такой инертности, такого воинственного нежелания что-то собой компенсировать. Оставшиеся после тебя вещи словно насмехались надо мной: безвольно висящая на крючке скакалка; грязные носки – застывшие, карикатурно сдувшиеся очертания твоих ног сорок пятого размера.
Ох, Франклин, ну конечно же я знала, что ребенок не может заменить мужа, потому что я видела, как сутулился мой брат под гнетом необходимости быть «маленьким мужчиной в доме»; я видела, как терзает его то, что мать вечно ищет в его лице сходство с нестареющей фотографией на каминной полке. Это было несправедливо. Джайлс даже не помнил нашего отца, который погиб, когда брату было три года, и который давно перестал быть папой из плоти и крови, проливавшим суп на галстук, и стал высоким и смуглым кумиром в безукоризненно чистой форме летных войск; он стал маячившим над камином безупречным символом того, чем его сын не являлся. Джайлс до сих пор держится неуверенно. Когда весной 1999 года он заставил себя прийти ко мне и нам нечем было заняться и нечего было сказать друг другу, он вспыхнул от безмолвной обиды, потому что в моем присутствии в нем оживало то же чувство – что он не соответствует требованиям, – которым было пропитано все его детство. Еще больше его оскорбляло внимание общественности, которое из-за нашего сына частично попало и на него. Кевин и тот четверг выгнали его из собственной кроличьей норы, и он злился на меня за это публичное обнажение. Его единственным стремлением является безвестность, потому что любое пристальное внимание Джайлс ассоциирует с тем, что его сочтут неполноценным.
И все равно я кусала себе локти, потому что прошлой ночью мы с тобой занимались любовью, а вечером перед тем я снова рассеянно поставила маточный колпачок. Что мне делать с твоей скакалкой и с твоими грязными носками? Ведь есть лишь одно напоминание о мужчине, которое стоит сохранить – такое, что будет рисовать открытки ко Дню святого Валентина и учиться правильно писать слово «Миссисипи». Никакой отпрыск не смог бы заменить мне тебя. Но если бы мне когда-нибудь пришлось скучать по тебе, тосковать по тебе вечно, я бы хотела иметь кого-то, кто тосковал бы вместе со мной, пусть бы он знал тебя лишь как глубокую трещину в своей жизни, так же как ты был глубокой трещиной в моей.
Когда телефон снова зазвонил почти в полночь, я помедлила. Было уже достаточно поздно, чтобы это оказался вынужденный эмиссар из больницы или из полиции. Я дождалась, когда он зазвонит во второй раз, держа руку на трубке и согревая пластик, словно волшебный фонарь, который, может быть, исполнит одно последнее желание. Мать рассказывала, что в 1945-м оставила конверт на столе на долгие часы, в течение которых снова и снова заваривала себе черный терпкий чай, который каждый раз остывал в чашке. Она была уже беременна мной – результат его последнего отпуска дома – и часто ходила в туалет, закрывая дверь и не включая свет, словно прячась. Она сбивчиво описала мне почти гладиаторский день: как она смотрела на врага, который был больше и безжалостнее ее, и знала, что проиграет.
Голос у тебя был очень усталый и такой бестелесный, что на какой-то ужасный миг я приняла его за голос моей матери. Ты попросил прощения за то, что заставил меня волноваться. Твой пикап сломался в какой-то глуши. Ты прошел пешком двенадцать миль в поисках телефона.
В долгих разговорах не было смысла, но повесить трубку оказалось пыткой. Когда мы попрощались, глаза мои наполнились слезами от стыда за то, что я говорила «Я люблю тебя» таким тоном, каким это обычно говорится с поцелуем у дверей и который представляет собой пародию на страсть.
Меня пощадили. За тот час, что такси везло тебя на Манхэттен, мне была позволена роскошь вернуться в мой прежний мир, в котором я беспокоилась о запеканке, уговаривала тебя поесть баклажаны и доставала требованием заняться стиркой. Это был тот же мир, в котором я могла еще на одну ночь отложить возможность завести ребенка, потому что у нас оставались сомнения и потому что впереди ждало еще много ночей.
Но я не желала немедленно расслабиться и свалиться в привычное безрассудство, которое делает возможной повседневную жизнь, и без которого мы все безвылазно сидели бы в своих гостиных, как моя мать. По сути, на несколько часов мне была дарована возможность на собственной шкуре ощутить вкус всей послевоенной жизни моей матери и понять, что ей, возможно, не хватает не столько мужества, сколько необходимой дозы самообмана. Представителей ее народа массово убивали турки, ее мужа сбили в небе далекие низкорослые и желтолицые люди; поэтому моя мать видит, как хаос грызет порог ее дома, в то время как мы, остальные, живем в искусственно созданном мирке, чья благожелательность – лишь коллективное заблуждение. В 1999 году, когда я навеки попала во вселенную моей матери – в место, где может случиться что угодно, и часто так оно и бывало – я стала гораздо мягче относиться к тому, что мы с Джайлсом всегда считали ее неврозом.
Ты и вправду вернулся домой – на этот раз. Но когда я положила трубку, раздался щелчок, в котором слышался шепот: и все же может настать день, когда ты не вернешься.
Таким образом время, вместо того чтобы тянуться бесконечно медленно, понеслось безумно быстро. Когда ты пришел, ты был таким уставшим, что едва мог говорить. Я позволила тебе пропустить ужин, но не дала тебе спать. Я знаю, что такое пылкое сексуальное желание, и я могу тебя уверить, что это была потребность другого рода. Я хотела создать резервную копию тебя и нас, так же, как вставляла копирку в пишущую машинку. Я хотела быть уверена, что, случись несчастье с кем-нибудь из нас, на свете останется что-то кроме носков. Только в ту ночь я хотела, чтобы ребенок был в каждом углу – как деньги, рассованные по банкам, как спрятанные бутылки водки для слабовольных алкоголиков.
– Я не поставила колпачок, – пробормотала я, когда мы закончили.
Ты пошевелился.
– Это опасно?
– Это очень опасно, – сказала я. И правда, ведь через девять месяцев у нас в доме мог появиться какой угодно незнакомец. С тем же успехом мы могли бы оставить незапертой дверь.
На следующее утро, когда мы одевались, ты спросил:
– Ты ведь не просто забыла, да?
Довольная собой, я отрицательно покачала головой.
– Ты уверена, что хочешь этого?
– Франклин, мы никогда не будем уверены. Мы понятия не имеем, каково это – иметь ребенка. И есть только один способ об этом узнать.
Ты подхватил меня под мышки и поднял вверх; я увидела на твоем лице то же радостное выражение, с которым ты играл в «самолетик» с дочками Брайана.
– Супер!
Я говорила уверенно, но, когда ты поставил меня на землю, я запаниковала. Самоуспокоение имеет свойство восстанавливаться само по себе, и я уже перестала тревожиться, что ты можешь не дожить до конца этой недели. Что я наделала? Когда позже в том же месяце у меня пошли месячные, я сказала тебе, что огорчена. Это была моя первая ложь, и она была бессовестной.
Следующие шесть недель ты старался каждую ночь. Ты любил, когда перед тобой стояла какая-нибудь задача, и делил со мной ложе с тем же энергичным подходом – «хочешь сделать что-то – делай как следует», – с которым сколачивал наши книжные полки. Сама я была не так уж уверена насчет этих добросовестных совокуплений. Мне всегда нравилась фривольность секса, и я любила, чтобы он был бесстыдным и непристойным. Тот факт, что даже армянская апостольская церковь теперь смотрела бы на него с горячим одобрением, сбивал мне весь настрой.
Тем временем я стала видеть свое тело в новом свете. Впервые я поняла, что холмики на моей грудной клетке – это соски, которые будет сосать детеныш, а их физиологическое сходство с коровьим выменем или вытянутыми молочными железами у кормящих собак внезапно стало неизбежным. Странно, что даже женщины забывают, для чего нужна грудь.
Моя промежность тоже изменилась. Она утратила определенную оскорбительность и непристойность или же приобрела непристойность иного сорта. Казалось, теперь половые губы открываются и ведут не в узкий и укромный тупик, а в нечто зияющее. Само отверстие стало дорогой в какое-то реальное место, а не просто во тьму в моем мозгу. Складка плоти спереди стала чем-то вторичным, ее присутствие казалось чрезмерно скрытым – этакий искуситель, подсластитель для тяжелой видовой работы, как леденец, который дают у зубного врача.
Глядь – и все, что делало меня красивой, отдано во власть материнству, и даже само мое желание быть привлекательной для мужчин оказалось находчивой затеей тела, созданного для того, чтобы воспроизвести себе замену. Я не стану притворяться, будто я первая женщина, узнавшая о предназначении пестиков и тычинок. Но все это стало новым для меня. И откровенно говоря, я не была уверена, что мне это нравится. Я чувствовала себя расходным материалом, одноразовой деталью, затерянной в большом биологическом проекте, который я не выбирала и которому не я положила начало – это был проект, который произвел меня на свет, но который точно так же сжует меня и выплюнет. Я чувствовала себя использованной.
Я уверена, ты помнишь наши ссоры из-за выпивки. Ты считал, что мне вообще не следует пить. Я упиралась. Как только я узнаю, что беременна – я беременна, я не ударялась в эту ерунду про «мы» – я сразу завяжу с алкоголем. Но зачатие может занять годы, и я не собиралась все это время ломать себе кайф по вечерам, попивая из стакана молоко. Многие поколения женщин бодро потягивали спиртное во время беременности, и что – все они родили умственно отсталых?
Ты обижался. Ты замолкал, если я наливала себе второй бокал вина, и твои неодобрительные взгляды лишали меня удовольствия (на что они и были нацелены). Ты угрюмо ворчал, что на моем месте ты бы прекратил пить, и да, на годы, если нужно, и в этом я не сомневалась. Я бы позволила роли родителей влиять на наше поведение; ты бы позволил этой роли диктовать его. Кажется, что разница очень невелика, но на самом деле это небо и земля.
Я была лишена классических киношных намеков на беременность в виде рвотных позывов над унитазом, но кажется, киношники не хотят принимать тот факт, что некоторых женщин не тошнит по утрам. Хоть ты и предложил пойти со мной сдавать анализ мочи, я тебя отговорила: «Я ведь не проверяюсь на рак или что-то подобное». Я помню эту фразу. Очень похоже на то, что обычно говорят в шутку.
У гинеколога я достала свою баночку из-под маринованных артишоков, прикрывая проворством внутреннюю неловкость от того, что передаю в ней незнакомым людям дурно пахнущие отходы жизнедеятельности, и села ждать. Доктор Райнштейн – молодая женщина, холодная для своей профессии, с равнодушным и бесстрастным темпераментом, который больше подошел бы для фармацевтических опытов на крысах – вплыла в кабинет через десять минут и, наклонившись над столом, что-то коротко записала.
– Тест положительный, – сказала она коротко.
Подняв глаза, она присмотрелась ко мне повнимательнее.
– С вами все в порядке? Вы побледнели.
Я и правда ощущала странный холод.
– Ева, я думала, что вы пытались забеременеть. Это ведь должна быть хорошая новость для вас.
Она сказала это сурово, с упреком. Было такое впечатление, что, если я сейчас же не проявлю радости по этому поводу, она заберет моего ребенка и отдаст его тому, кто нормально соображает и кто примется скакать от радости, словно участник телешоу, выигравший машину.
– Опустите голову между коленей.
Кажется, я закачалась.
Когда я заставила себя выпрямиться, сделав это лишь потому, что у нее был такой скучающий вид, доктор Райнштейн зачитала длинный список того, чего мне нельзя делать, есть и пить, когда я должна прийти на следующий прием – и плевать на мои планы по обновлению нашего издания, посвященного Западной Европе. Это было мое первое знакомство с дорогой, на которой, перейдя порог материнства, ты внезапно становишься социальной собственностью, живым эквивалентом общественного парка. Это жеманное выражение «Ты теперь ешь за двоих, дорогая» целиком направлено на то, чтобы дать тебе понять, что даже твой обед не является больше твоим личным делом. И в самом деле, земля свободных людей стала все больше склоняться к принуждению, и кажется, что вывод звучит так: «ты теперь ешь за нас» – за 200 с лишним миллионов людей, вмешивающихся не в свои дела, чьей прерогативой является возражать, если ты вдруг захочешь съесть пончик с вареньем, а не полноценный обед с цельными злаками и листовыми овощами, в который входят пять основных групп питательных веществ. Право третировать беременных женщин наверняка вот-вот закрепят в Конституции.
Доктор Райнштейн перечислила рекомендованные марки витаминов и прочла лекцию об опасности продолжения игры в сквош.
У меня впереди был целый день, чтобы собраться и принять сияющий вид будущей матери. Я инстинктивно выбрала простой хлопковый сарафан – скорее дерзкий, чем сексуальный, потом подготовила продукты для обеда, который был агрессивно питательным (тушеный лосось без панировки и щеголяющий проростками салат). По ходу дела я пробовала разные подходы к избитой сцене: жеманный и замедленный; ошеломленный и искусственно сымпровизированный; сентиментальный – о, мой дорогой! Ни один из них не казался мне подходящим. Бегая по лофту и вставляя новые свечи в подсвечники, я храбро попыталась петь, но в голову мне лезли лишь театральные мелодии из высокобюджетных мюзиклов типа «Хэллоу, Долли!».
Ненавижу мюзиклы.
Обычно последним штрихом к праздничному ужину являлся выбор вина. Я уныло смотрела на нашу просторную винную полку, которая теперь будет пылиться без дела. Тот еще праздник.
Когда лифт остановился на нашем этаже, я стояла спиной к двери и приводила в порядок лицо. Бросив взгляд на несогласованный набор мучительных жестов, которые мы делаем, приводя в порядок лицо, ты избавил меня от необходимости делать объявление.
– Ты беременна.
Я пожала плечами.
– Похоже на то.
Ты поцеловал меня – целомудренно, не взасос.
– И как ты себя почувствовала, когда узнала?
– Вообще-то у меня закружилась голова.
Ты нежно коснулся моих волос.
– Добро пожаловать в новую жизнь.
Поскольку моя мать боялась алкоголя так же сильно, как соседней улицы, бокал вина так и не утратил для меня манящего свойства чего-то недозволенного. Я не считала, что у меня с этим проблемы, но долгий глоток насыщенного красного вина вечером с давних пор был для меня символом взрослости, тем самым хваленым американским Святым Граалем свободы. Но я уже начинала понимать, что абсолютная зрелость не очень-то отличается от детства. И там, и тут кругом правила, которым нужно следовать.
Так что я налила себе клюквенного сока и бодро произнесла тост: «Лехаим!»[65]
Забавно, как легко загнать себя в угол мелкими шагами – крошечными компромиссами, небольшими смягчениями фраз, легкими преобразованиями одних эмоций в другие, чуть более соответствующие или лестные. Меня не очень заботил отказ от бокала вина сам по себе. Но, как в том пресловутом путешествии, которое начинается с одного шага, я уже ощутила первую обиду.
Обида была мелкая, но большинство обид именно такие. И именно из-за ее малости я чувствовала себя обязанной ее подавить. Если на то пошло, то природа обиды – это возражение, которое мы не можем выразить. Само молчание, а не жалоба, делает это чувство таким отравляющим – словно яд, который тело не может вывести с мочой. Поэтому, как бы усердно я ни старалась быть взрослой по отношению к клюквенному соку, который тщательно выбрала за сходство с молодым божоле, в глубине души я была бунтующим подростком. Пока ты придумывал имена (для мальчика), я ломала голову в попытках понять, чего во всем этом – в подгузниках, в бессонных ночах, в поездках на тренировки по футболу – я должна с нетерпением ждать.
Ты очень хотел разделить это со мной, потому предложил добровольно отказаться от выпивки на время моей беременности, хотя наш младенец не стал бы более здоровым, если бы ты воздержался от крафтового пива перед ужином. Так что ты радостно принялся литрами заливать в себя клюквенный сок. Казалось, ты наслаждался возможностью доказать, как мало значит для тебя спиртное. Меня это раздражало.
И потом, тебя всегда захватывала идея самопожертвования. Какой бы привлекательной ни была твоя готовность отдать свою жизнь другому, она в некоторой степени происходила из того факта, что, когда твоя жизнь полностью принадлежит тебе, ты не знаешь, что с ней делать. Самопожертвование было простым выходом. Я знаю, это звучит жестоко. Но я в самом деле считаю, что это твое отчаянное желание – избавиться от самого себя, если это не выглядит слишком абстрактно – оказалось огромным бременем для нашего сына.
Помнишь тот вечер? По идее, мы должны были столько всего обсудить, но мы говорили неловко, запинаясь. Мы больше не были Евой и Франклином; мы стали мамочкой и папочкой, и это был наш первый ужин в качестве семьи – это слово и это понятие всегда вызывали во мне тревогу. И я была вспыльчивой, отвергая все предложенные тобой имена – Стив, Марк, Джордж – как «слишком обычные», а ты обижался.
Я не могла с тобой говорить. Я чувствовала, что мне мешают, меня ограничивают. Мне хотелось сказать: Франклин, я не уверена, что это хорошая идея. Ты знаешь, что в третьем триместре меня даже не пустят в самолет? И меня бесит вся эта нравственная чепуха – придерживаться правильной диеты, и подавать хороший пример, и искать хорошую школу…
Слишком поздно. Нам полагалось праздновать, и мне полагалось быть в приподнятом настроении.
Неистово пытаясь воссоздать мое страстное желание иметь «копию», которое ко всему этому привело, я воскрешала в памяти ту ночь, когда ты застрял на бесплодных сосновых пустошах: неужели слово «бесплодный» побудило меня к этому шагу? Но то необдуманное решение, принятое майским вечером, оказалось иллюзией. Да, я приняла решение, но гораздо раньше – когда так сильно и непоправимо влюбилась в твою американскую улыбку, твою душераздирающую веру в пикники. Как бы сильно я ни устала составлять подробные описания новых стран, с течением времени еда, напитки, цвета, деревья и сама жизнь неизбежно теряют свежесть. Но даже если этот блеск потускнел, это все равно была жизнь, которую я любила и в которую невозможно было без всякого труда вписать детей. Единственным, что я любила еще больше, был Франклин Пласкетт. Ты желал столь немногого: была лишь одна дорогая вещь, которую ты хотел и которую я могла тебе подарить. Как я могла лишить тебя того светящегося от радости лица, с которым ты кружил в воздухе визжащих девчонок Брайана?
В отсутствие бутылки, с которой можно посидеть подольше, мы легли спать рано. Ты нервничал насчет того, «положено» ли нам заниматься сексом, не повредит ли это ребенку, и меня это рассердило. Меня, словно какую-то принцессу, уже сделал своей жертвой организм размером с горошину. Сама я действительно хотела заниматься сексом – впервые за многие недели мы наконец могли делать это, потому что хотим секса, а не потому что должны внести свой вклад в эту гонку. Ты уступил. Но был тоскливо нежен.
Я ожидала, что мои метания улягутся, но эти противоречивые чувства лишь обострились и потому стали еще более скрытыми. Мне следует наконец рассказать все начистоту. Думаю, мои метания не исчезли, потому что они не были тем, чем казались. Неправда, что я испытывала «двойственные» чувства по поводу материнства. Ты хотел ребенка. Я, по большому счету, нет. Сложенные вместе, эти чувства были похожи на нерешительность, но, хоть мы и были превосходной парой, мы не являлись одним человеком. Я ведь так и не заставила тебя полюбить баклажаны.
Ева
9 декабря 2000 года
Дорогой Франклин,
знаю, я писала тебе только вчера, но я теперь завишу от этих писем – они помогают мне рассказывать о поездках в Чатем. Кевин был особенно воинственно настроен. Первым делом он предъявил мне обвинение:
– Ты ведь не хотела меня рожать, да?
До того, как его заперли, словно кусачую собаку, Кевин не питал слабости к расспросам меня обо мне, и этот вопрос показался мне многообещающим. Он выбрал его из тупого упрямства, шагая взад-вперед по своей клетке – ведь надо же что-то говорить, когда тебе безумно скучно. Должно быть, он еще прежде осознал, что у меня была какая-то жизнь, чтобы заняться ее разрушением с такой целеустремленностью. Но теперь он уловил кое-что еще: что я совершила волевой акт – выбрала родить ребенка, имея при этом другие стремления, осуществлению которых его рождение могло помешать. Такое проявление интуиции настолько не вязалось с поставленным ему медицинским диагнозом «отсутствие способности к эмпатии», что я решила: он заслуживает честного ответа.
– Я думала, что хочу, – сказала я. – А твой отец – он отчаянно тебя хотел.
Я отвела взгляд – на лице Кевина немедленно появилось выражение ленивого сарказма. Возможно, мне не стоило упоминать именно твое отчаяние. Мне-то как раз очень нравилось твое страстное желание, я получала личную выгоду от твоего ненасытного одиночества. Но детям такие сильные желания, должно быть, кажутся тревожными, а Кевин по обыкновению переводил тревогу в презрение.
– Ты думала, что хочешь. Ты передумала.
– Я думала, что мне нужны перемены, – сказала я. – Но никому не нужны перемены к худшему.
Кевин победоносно посмотрел на меня. Многие годы он искушал меня, заставляя быть злой и гадкой. Я решила придерживаться фактов. Если представить эмоции в виде фактов – которыми они и являются, – это дает хотя бы слабую защиту.
– Быть матерью оказалось труднее, чем я ожидала, – объяснила я. – Я привыкла к аэропортам, морским видам и музеям. А тут вдруг оказалась запертой в нескольких комнатах с конструктором «Лего».
– Но ведь я из кожи вон лез, чтобы тебя развлечь, – сказал он с улыбкой настолько безжизненной, словно кто-то насильно приподнял уголки его губ.
– Я ожидала, что придется подтирать рвоту. Печь рождественское печенье. Но я никак не ожидала…
Взгляд Кевина бросал мне вызов.
– Я никак не ожидала, что просто привязаться к тебе, – я выразилась так дипломатично, как только могла, – окажется такой трудной работой. Я думала…
Я перевела дух.
– Я думала, что хотя бы часть этого достанется мне просто так.
– Просто так? – ухмыльнулся он. – Возможность просыпаться каждое утро не достается просто так.
– Больше нет, – печально признала я.
Опыт повседневной жизни у меня и у Кевина совпадает. Время висит на моих плечах, словно сбрасываемая кожа.
– А тебе когда-нибудь приходило в голову, – хитро спросил он, – может, это я не хотел быть вашим ребенком?
– Никакая другая пара не понравилась бы тебе больше нас. Кто бы чем ни зарабатывал на жизнь, ты все считал дурацким.
– Путеводители для крохоборов? Поиски очередного дорожного виража для рекламы джипа «Чероки»? Должен признать, это особенно глупо.
– Вот видишь? – взорвалась я. – Вот честно, Кевин – а ты бы сам себя хотел? Если в мире есть справедливость, однажды утром ты проснешься и обнаружишь себя самого в колыбели у кровати!
Он не отшатнулся и не набросился на меня; он обмяк. Эта его черта более характерна для пожилых, чем для детей: глаза стекленеют, взгляд тускнеет, мускулатура становится вялой. Это такая абсолютная апатия, что в нее можно провалиться, как в дыру.
Ты считаешь, что я повела себя низко, и поэтому он отступил. Я так не думаю. Я думаю, он хочет, чтобы я так с ним поступала – вот так же другие люди щипают сами себя, чтобы убедиться, что не спят; и если на то пошло, обмяк он от разочарования: я наконец бросила несколько равнодушно-оскорбительных реплик, а он ничего не почувствовал. Кроме того, полагаю, образ того как он «проснется сам с собой» тоже сыграл роль, потому что именно это он и делает – вот почему каждое утро кажется ему таким дорогостоящим. Франклин, я никогда не встречала никого – а ведь собственных детей мы тоже встречаем, – кто считал бы свое существование бо́льшей обузой или унижением. Если тебе кажется, что это мое грубое обращение довело нашего сына до низкой самооценки, подумай еще раз. Я видела точно такое же угрюмое выражение в его глазах, когда ему был год от роду. Скорее наоборот, он очень хорошего мнения о себе, особенно с тех пор как стал таким знаменитым. Есть огромная разница между нелюбовью к себе и простым нежеланием быть.
Уходя, я кинула ему кость:
– Мне пришлось вести ожесточенную борьбу, чтобы дать тебе свою фамилию.
– Ага. Что ж, я избавил тебя от хлопот. Это вот К-А-Ч… – небрежно произнес он. – Благодаря мне теперь вся страна знает, как она пишется.
Ты знаешь, что американцы глазеют на беременных? В развитых странах с низким уровнем рождаемости беременность – это новшество; а в эпоху сисек и жоп в каждом газетном киоске, то есть самой настоящей порнографии, беременность вызывает в воображении назойливо интимные видения: раскинутые ляжки, неконтролируемый отход вод, скользкие движения пуповины. Бросая взгляд на Пятую авеню в то время, когда у меня рос живот, я с недоверием отмечала: каждый из этих людей появился из женской вагины. Мысленно я использовала данное слово – самое грубое из возможных, чтобы довести это до своего сознания. В этом состоит один из тех вопиющих фактов, которые мы склонны замалчивать, так же, как и назначение женской груди.
Однако когда-то на меня оборачивались потому, что я была в короткой юбке, так что теперь мимолетные взгляды незнакомых людей в магазинах стали действовать мне на нервы. Их взгляды были не только очарованными, даже завороженными; порой я замечала на их лицах и дрожь отвращения.
Ты скажешь, что я преувеличиваю. Нет. Ты когда-нибудь замечал, в скольких фильмах беременность изображается как заражение, как скрытая колонизация? «Ребенок Розмари»[66] был лишь началом. В «Чужом»[67] мерзкий инопланетянин когтями разрывает живот Джона Херта[68] и вылезает наружу. В «Мутантах»[69] женщина рожает полуметровую личинку. Позже «Секретные материалы»[70] превратили пучеглазых пришельцев, рвущихся наружу из окровавленных человеческих животов, в вечно неизменную тему. В фильмах ужасов и фантастике организм человека используют или уничтожают, от него остается лишь оболочка, остальное поглощается, чтобы какое-то кошмарное существо могло выжить внутри нее.
Извини, но не я выдумала эти фильмы, и любая женщина, у которой сгнили зубы, истончились кости, растянулась кожа, знает унизительную цену, в которую ей обходится девятимесячное вынашивание внутреннего дармоеда. Эти документальные фильмы о природе, в которых самки лосося изо всех сил поднимаются против течения лишь для того, чтобы отложить икру и потом распасться на куски, с тускнеющими глазами и отваливающейся чешуей – они сводили меня с ума. Все то время, что я была беременна Кевином, я сражалась с самой идеей Кевина, с пониманием того, что я понизила свой статус и превратила себя из водителя в транспортное средство, из владелицы дома в сам дом.
В физическом плане мне было легче, чем я ожидала. Самым большим унижением первого триместра были отеки, от которых меня разнесло и которые легко было выдать за слабость к батончикам «Марс». Мое лицо округлилось, превратив угловатые андрогинные черты в по-девичьи мягкие. Лицо стало выглядеть моложе, но – на мой взгляд – глупее.
Не знаю, почему до меня так поздно дошло, что ты простодушно считал, что у ребенка будет твоя фамилия; и даже по поводу имени у нас не было согласия. Ты предлагал Леонарда или Питера. Когда я в ответ предлагала назвать его Энгин, или Карапет, или Селим – в честь деда по отцу, на твоем лице появлялось то же терпеливое выражение, что и у меня, когда дочери Брайана показывали мне своих пупсов. Наконец ты сказал:
– Ты ведь не предлагаешь мне назвать моего сына Карапет Пласкетт?
– Н-нет, – ответила я. – Карапет Качадурян. Это звучит лучше.
– Звучит как имя ребенка, не имеющего ко мне никакого отношения.
– Забавно – точно так же звучит для меня Питер Пласкетт.
Мы сидели в «Бич-Хаус» – очаровательном маленьком баре на углу Бич-стрит (боюсь, его там больше нет), в котором не умели толком делать свежевыжатый апельсиновый сок, но зато подавали отличный чили.
Ты побарабанил пальцами по столу.
– Можем мы по крайней мере отказаться от двойной фамилии Пласкетт-Качадурян? Потому что, когда люди с двойными фамилиями станут жениться друг на друге, их дети будут иметь в качестве фамилий целый телефонный справочник. И поскольку кто-то все равно должен быть в проигрыше, проще всего придерживаться традиций.
– Согласно традиции, в некоторых штатах женщины не имели права собственности до семидесятых годов. На Ближнем Востоке мы традиционно ходим одетыми в черный мешок, а в Африке нам традиционно вырезают клиторы, словно кусок хряща…
Ты заткнул мне рот куском кукурузного хлеба.
– Хватит лекций, детка. Мы говорим не о женском обрезании, а о фамилии нашего ребенка.
– Мужчины вечно дают детям свою фамилию, не делая при этом никакой работы. – Изо рта у меня посыпались хлебные крошки. – Пора нам отыграться.
– Зачем же отыгрываться на мне? Господи, американские мужчины и так уже под каблуком у женщин. Ты ведь сама жаловалась, что все они – придурковатые гомики, которые ходят в специальные кружки, чтобы поплакать.
Я сложила руки на груди и выкатила тяжелую артиллерию.
– Мой отец родился в концлагере в Дайр-эз-Зауре[71]. В лагерях свирепствовали болезни, у армян почти не было еды и даже воды; поразительно, как он выжил, будучи младенцем – ведь трое его братьев погибли. Его отца, Селима, расстреляли. Две трети всех родственников моей матери, Серафянов, уничтожили так тщательно, что не сохранилось даже историй о них. Извини, что пользуюсь этим, как аргументом; однако англосаксов вряд ли можно назвать народом, находящимся под угрозой исчезновения. Моих предков систематически истребляли, и никто об этом даже не говорит, Франклин!
– Целых полтора миллиона! – стал вторить ты, отчаянно жестикулируя. – Ты хоть понимаешь, что то, что младотурки сделали с армянами в 1915-м, подало Гитлеру идею холокоста?!
Я свирепо посмотрела на тебя.
– Ева, у твоего брата двое детей. В одних только Соединенных Штатах живет миллион армян. Никому не грозит исчезновение.
– Но ты ведь серьезно относишься к своей фамилии – просто потому, что она твоя. А я серьезно отношусь к своей – мне она кажется более важной.
– Мои родители взбесятся. Они решат, что я от них открещиваюсь. Или что я у тебя под каблуком. Они сочтут меня засранцем.
– Я должна заполучить варикоз ради фамилии Пласкетт? Она вульгарная!
Ты выглядел уязвленным.
– Ты никогда не говорила, что тебе не нравится моя фамилия.
– Этот открытый звук А, такой громкий и бестолковый…
– Бестолковый?!
– Твоя фамилия такая ужасно американская. Она напоминает мне о толстых гнусавых туристах в Ницце, чьи дети вечно хотят мороженого и которые кричат: «Дорогая, взгляни на этого Пла-а-а-скетта», хотя фамилия французская и должна произноситься «Пласке́».
– Не «Пласке́», зануда ты антиамериканская! Пласкетт – небольшой, но старый и уважаемый шотландский род, и эту фамилию я с гордостью передам своим детям! Теперь я понимаю, почему ты не взяла ее, когда мы поженились! Ты ненавидишь мою фамилию!
– Ну прости! Ясно же, что в некотором смысле мне твоя фамилия нравится, пусть только потому, что она твоя…
– Знаешь что? – предложил ты (в этой стране пострадавшая сторона пользуется большими преимуществами): – Если это мальчик, он будет Пласкетт. Если девочка – можешь назвать ее Качадурян.
Я оттолкнула в сторону корзинку с хлебом и ткнула тебя кулаком в грудь.
– Значит, девочка не имеет для тебя значения?! Будь ты иранцем, ее бы держали дома, не позволяя ходить в школу. Будь ты индийцем, ее бы отдали незнакомцу в обмен на корову. Будь ты китайцем, ее бы заморили голодом и похоронили бы на заднем дворе…
Ты поднял руки, сдаваясь.
– Тогда, если будет девочка, она будет Пласкетт! Но с одним условием: никаких этих Кара-шашлык в имени для мальчика. Что-нибудь американское. Договорились?
Мы договорились. И задним числом я понимаю, что мы приняли правильное решение. В 1996-м четырнадцатилетний Барри Лукатис убил учителя и двух учеников, взяв в заложники целый класс в Мозес-Лейк, штат Вашингтон. Годом позже тринадцатилетний Троннил Мэнгам в своей средней школе застрелил мальчика, который был должен ему 40 долларов. Через месяц шестнадцатилетний Эван Рамси убил ученика и директора школы и ранил еще двоих в Бетеле, штат Аляска. Той же осенью шестнадцатилетний Люк Вудхэм убил свою мать и двух учеников и еще семерых ранил в Перле, штат Миссисипи. Через два месяца четырнадцатилетний Майкл Карнил застрелил трех учеников и ранил пятерых в Падуке, штат Кентукки. Следующей весной, в 1998-м, тринадцатилетний Митчелл Джонсон и одиннадцатилетний Эндрю Голден устроили стрельбу в своей школе, убив одного учителя и четырех учеников и ранив десятерых, в Джонсборо, штат Арканзас. Месяц спустя четырнадцатилетний Эндрю Вурст убил учителя и ранил трех учеников в Эдинборо, штат Пенсильвания. Еще через месяц в Спрингфилде, штат Орегон, пятнадцатилетний Кип Кинкел убил своих родителей, а потом двух учеников и ранил еще двадцать пять человек. В 1999-м, всего через десять дней после того четверга, восемнадцатилетний Эрик Харрис и семнадцатилетний Дилан Клеболд заложили бомбы в своей школе в Литлтоне, штат Колорадо, и устроили вооруженные беспорядки, в которых погибли один учитель и двенадцать учеников, ранены были двадцать три, а эти двое потом застрелились[72]. Так что юный Кевин – такое имя ты ему выбрал – оказался таким же американцем, как Смит и Вессон[73].
А что касается фамилии, то наш сын сделал для сохранения фамилии Качадурян больше, чем кто-либо другой в моей семье.
Как многие наши соседи, которые цеплялись за трагедию, чтобы выделиться из толпы, – за рабство, инцесты и суицид, – я преувеличивала свою затаенную этническую обиду, чтобы произвести впечатление. С тех пор я поняла, что трагедию нельзя хранить про запас. Только нетронутые, сытые и довольные жизнью люди могут желать страдания, как желают дизайнерский пиджак. Я бы с готовностью отдала свою историю Армии спасения, чтобы ее носила какая-нибудь другая грымза, которой хочется больше яркости в жизни.
А имя? Думаю, я просто хотела сделать этого ребенка своим. Я не могла отделаться от ощущения, что меня присвоили. Даже когда мне делали УЗИ и доктор Райнштейн обводила пальцем шевелящуюся массу на мониторе, я думала: кто это такой? Хоть этот сгусток и находился прямо у меня под кожей, он плавал в ином мире и казался далеким. И разве у эмбриона есть чувства? Я никак не могла ожидать, что стану задаваться этим вопросом и тогда, когда Кевину исполнится пятнадцать.
Признаюсь, когда доктор Райнштейн указала на мониторе на бугорок между ног, сердце у меня упало. Хотя в соответствии с нашим соглашением я теперь вынашивала Качадуряна, наличие моей фамилии на документах совершенно не означало присоединения ребенка к матери. И даже если я наслаждалась обществом мужчин (мне нравилась их приземленность, я была склонна принимать агрессивность за честность и презирала утонченность), насчет мальчиков я совсем не была уверена.
Когда мне было восемь или девять лет и мать в очередной раз отправила меня с поручением принести что-то взрослое и сложное, на меня напала группа мальчишек ненамного старше. Нет, меня не изнасиловали; они задрали на мне платье, стянули с меня трусы, бросили в меня несколько комьев грязи и убежали. И все равно я испугалась. Став старше, в парках я продолжала обходить десятой дорогой одиннадцатилетних мальчишек, стоявших лицом к кустам с расстегнутыми ширинками и с ухмылкой косившихся на меня через плечо. Мальчики по-настоящему пугали меня еще до того, как я сама родила мальчика. А сейчас – что ж, полагаю, сейчас меня пугают все.
При всей нашей склонности смешивать два пола и считать их идентичными, мало у кого учащается сердцебиение, когда он проходит мимо кучки хихикающих школьниц. Но любая женщина, которая проходит мимо группы опьяненных тестостероном юнцов и при этом не ускоряет шаг, не избегает зрительного контакта (который может подразумевать вызов или приглашение) и не вздыхает с облегчением, дойдя до следующего квартала – в зоологическом смысле является идиоткой. Мальчик – это опасное животное.
Смотрят ли мужчины на это иначе? Я никогда не спрашивала. Может быть, их видно насквозь – до самых потаенных мук по поводу того, нормально ли иметь искривленный пенис, и откровенной манеры выпендриваться друг перед другом (хотя именно этого я и боюсь). Конечно же, новость о том, что в твоем доме вскоре появится одно из этих наказаний господних, привело тебя в такой восторг, что тебе пришлось слегка скрывать свое воодушевление. А пол нашего ребенка заставил тебя ощутить еще сильнее, что этот младенец – твой, твой, твой.
Честно говоря, Франклин, твое собственническое отношение действовало на нервы. Если я едва успевала перейти улицу под носом у машины, ты не тревожился о моей собственной безопасности – тебя возмущала моя безответственность. Все эти «риски», на которые я шла – и которые я воспринимала лишь как свою привычную жизнь, – по твоему мнению, представляли собой демонстрацию бесцеремонного обращения с одной из твоих личных вещей. Могу поклясться, что каждый раз, когда я выходила из дома, ты смотрел на меня сердито, словно я без спроса уносила с собой часть твоего ценного имущества.
Франклин, ты даже не позволял мне танцевать! Однажды днем моя едва уловимая, но неослабевающая тревога милосердно отступила. Я поставила пластинку Speaking in Tongues группы Talking Heads[74] и принялась бодро скакать по нашему не до конца обставленному лофту. Еще на закончилась первая песня альбома и я едва вспотела, когда лифт остановился на нашем этаже, и вошел ты. Когда ты безапелляционным движением снял иглу проигрывателя с пластинки, ты сильно ее поцарапал, и потом она вечно заедала на фразе «Детка, а чего ты ожидала», и не добиралась до фразы «Я сейчас загорюсь», если я мягко не нажимала на головку звукоснимателя пальцем.
– Эй! – сказала я. – Чего это ты?
– Какого хрена ты делаешь?!
– В кои-то веки мне было весело. Это что, незаконно?
Ты схватил меня за плечо.
– Ты что, пытаешься устроить себе выкидыш?! Или ты просто ловишь кайф, искушая судьбу?
Я вырвалась.
– Если мне не изменяет память, беременность – это не тюремное заключение!
– Скачешь тут, кидаешься на мебель…
– Ох, да пошел ты, Франклин! Не так давно женщины до самых родов работали в поле, а потом просто садились на корточки между грядками овощей. В старину дети на самом деле рождались в капусте.
– В старину смертность среди матерей и младенцев была неимоверно высокой!
– А какое тебе дело до смертности среди матерей? Если ребенка выскребут из моего безжизненного тела и его сердце будет биться, ты будешь рад-радешенек.
– Что за мерзости ты говоришь!
– А у меня мерзкое настроение, – мрачно сказала я, плюхнувшись на диван. – Хотя, пока папочка-доктор не пришел домой, оно было прекрасным.
– Осталось два месяца. Неужели это такая большая жертва – вести себя спокойно ради благополучия другого живого существа?
Господи, как я уже устала от того, что надо мной вечно нависает это «благополучие другого живого существа»!
– Мое благополучие, по всей видимости, теперь гроша ломаного не стоит.
– Никто не мешает тебе слушать музыку, только не настолько громко, чтобы Джон снизу принялся стучать в потолок.
Ты вернул иглу на пластинку, поставив ее в начало первой стороны и убавив громкость настолько, что голос Дэвида Бирна стал похож на писк Минни Маус.
– И как нормальная беременная женщина, ты можешь сидеть и притопывать ногой.
– Даже не знаю, – сказала я. – Все эти вибрации от ног могут дойти до маленького лорда Фаунтлероя[75] и потревожить его чудесный сон. И потом, разве мы не должны слушать Моцарта? Может, группы Talking Heads нет в Библии Для Родителей? Может, слушая Psycho Killer[76], мы внушаем ему Дурные Мысли? Тебе стоить проверить.
Ведь именно ты пытался осилить все эти советы для родителей по поводу дыхания, режущихся зубов и отнятия от груди – а я в это время читала историю Португалии.
– Хватит себя жалеть, Ева. Я думал, смысл родительства в том, чтобы повзрослеть самому.
– Если бы я знала, что для тебя это означает изображать вот эту фальшивую занудную взрослость, я бы заново обдумала всю эту затею.
– Не смей так говорить, – сказал ты, побагровев. – Никогда не говори мне, что сожалеешь о том, что мы завели ребенка.
И тогда я расплакалась. Раньше я делилась с тобой своими самыми грязными сексуальными фантазиями, которые настолько выходили за рамки гетеросексуальной нормы, что без помощи твоих собственных непристойных и грязных выдумок мне было бы слишком неловко рассказать о них в этом письме; так с каких пор вдруг появилось что-то, о чем один из нас никогда не должен был говорить?
Детка, а чего ты ожидала?.. Детка, а чего ты ожидала?..
Пластинку снова заело.
Ева
12 декабря 2000 года
Дорогой Франклин,
сегодня у меня не было никакого желания задерживаться в агентстве. Весь персонал перешел от добродушной пикировки к полномасштабной войне. Если смотреть на разборки в нашем маленьком офисе, не принимая ничью сторону, это придает им немного комичный и совершенно не трогающий за душу вид картинки в телевизоре с выключенным звуком.
Я в некотором недоумении насчет того, как голосование во Флориде стало расовым вопросом; хотя в этой стране все рано или поздно становится расовым вопросом – и как правило, это случается рано. Так что три наших демократа обзывают словами типа «расист» двух осажденных республиканцев, которые ютятся в дальней комнате и говорят вполголоса, что истолковывается остальными как перешептывание двух фанатичных заговорщиков. Забавно: до выборов ни один из этих людей не выказывал ни малейшего интереса к тому, что, по общему мнению, являлось отчаянно скучными прениями.
В общем, сегодня Верховный суд должен был вынести какое-то решение, и радио работало весь день. Персонал настолько шумно и буйно сыпал взаимными обвинениями, что несколько клиентов, покинутых у стойки, развернулись и ушли. В конце концов я сделала то же самое. В то время как два консерватора склонны открыто отстаивать свою позицию, либералы всегда вступают в спор от имени истины, справедливости или гуманности. Чаще всего я ума не приложу, как мне защищаться.
К тому же, хоть я и надеюсь, что эти письма не превратились в назойливые попытки оправдать себя, я в равной степени беспокоюсь, что может показаться, будто я готовлю почву для утверждения, что Кевин – это целиком моя вина. Я и правда иногда потакаю себе в этом и жадно упиваюсь чувством вины. Но я сказала «потакаю». В наслаждении всеми этими mea culpa[77] есть некое возвеличивание, некое тщеславие. Вина дарует страшную силу. И она все упрощает не только для зрителей и жертв, но больше всего для самих виновных. Она наводит порядок в сухом остатке. Вина транслирует простые уроки, в которых другие могут найти утешение: вот если бы она не… – и косвенным образом получается, что трагедии можно было избежать. Наверное, можно даже найти какое-то хрупкое спокойствие в предположении, что существует полная ответственность, и порой я вижу это спокойствие в Кевине. Это выражение, которое его тюремщики путают с безжалостностью.
Но со мной это жадное упоение виной не работает. Я никак не могу собрать внутри полную картину. Она больше меня. Эта история повредила слишком многим людям – тетям, кузенам и их лучшим друзьям, с которыми я никогда не познакомлюсь и которых не узнала бы при встрече. Я не могу одновременно держать в себе многочисленные семейные обеды, на которых один стул остается пустым. Я не могу терзаться из-за того, что фотография на пианино навеки испорчена, потому что этот снимок отдали в газеты или потому что портреты братьев и сестер по бокам продолжают отмечать этапы дальнейшей зрелости – окончание колледжа, свадьбы – пока неподвижная фотография из школьного выпускного альбома выцветает на солнце. Я не причастна к постепенному разрушению когда-то крепких браков; я не улавливаю мимолетный и тошнотворно-сладкий запах джина в дыхании прежде усердного риелтора во все более ранние дневные часы. Я не чувствую веса всех этих коробок, которые складывают в грузовик, после того как в одночасье оказывается, что невозможно больше терпеть этот цветущий район с роскошными дубами, с ручьями, бегущими по круглым камням, и с веселым смехом других, живых и здоровых детей. Кажется, что мне, для того чтобы осмысленно чувствовать себя виноватой, нужно держать в голове образы всех этих потерь. А я, как в той игре, в которую мы играли в машине, когда нужно повторять: Я еду в путешествие и беру с собой антикварный абажур, болтливую бабушку, веселого волка… – я всегда застреваю в паре мест прежде, чем закончится алфавит. Я начинаю жонглировать неестественно красивой дочерью Мэри, близоруким компьютерным гением – ребенком Фергюсонов, долговязым рыжеволосым отпрыском Корбиттов, который всегда переигрывал в школьных пьесах, а потом добавляю еще неизъяснимо грациозную учительницу английского Дану Рокко – и все шары летят на пол.
Конечно же, тот факт, что я не в состоянии проглотить всю эту вину, совершенно не означает, что другие не будут все равно валить ее на меня, и я с радостью предоставила бы для нее пригодное хранилище, если бы считала, что его наполнение принесет им пользу. Я все время возвращаюсь к Мэри Вулфорд, для которой пережитая несправедливость до сих пор является крайне неудобной дорогой с односторонним движением. Думаю, я могла бы назвать ее избалованной: она ведь подняла слишком уж большую шумиху, когда Лора не попала в команду по легкой атлетике, хотя ее дочь, какой бы она ни была красавицей, была физически слабой и совершенно не атлетичной. Но, наверное, несправедливо называть недостатком то, что чья-то жизнь всегда шла гладко и с минимальным сопротивлением. Кроме того, она – своенравная женщина, и, как мои коллеги-демократы, по природе склонна негодовать. До того четверга она привыкла выпускать пар, который в противном случае скапливался бы в ней во взрывоопасных количествах, и делала это в разных кампаниях: например, заставить муниципалитет сделать пешеходный переход или запретить приюты для бездомных в Гладстоне; следовательно, отказ в финансировании перехода или прибытие волосатого сброда на окраину города раньше составляли ее версию катастрофы. Не представляю, как таким людям удается осмыслить настоящее несчастье после того, как они неоднократно и в полной мере пользовались правом высказывать свой ужас, вызванный дорожным движением.
Так что я могу понять, почему женщина, долгое время боровшаяся с мелкими проблемами, не сумела справиться с настоящим горем. И тем не менее жаль, что она не смогла оставаться в тихом неподвижном омуте полного непонимания. О, я осознаю – нельзя оставаться в недоумении, слишком велика потребность понять или по крайней мере притвориться, что понимаешь; но лично я обнаружила, что безгранично пустое ошеломление в моем разуме – это блаженно спокойное место. И боюсь, что альтернатива, которую выбрала Мэри, – гнев и евангельский пыл в желании привлечь виновных к ответственности – это шумное пространство, которое создает иллюзию путешествия к цели, но лишь до тех пор, пока цель остается вне досягаемости. Честно говоря, на гражданском процессе мне пришлось бороться с собой, чтобы не отвести ее в сторонку и не спросить мягко: «Ты ведь не думаешь, что тебе станет легче, если ты выиграешь?» На самом деле я убеждена, что она нашла бы больше утешения в том, чтобы дело о случае на удивление незначительной родительской халатности было прекращено – ведь тогда она могла бы создать альтернативную абстрактную вселенную, где она с успехом обрушила бы свои мучения на черствую, равнодушную мать, которая это заслужила. В каком-то смысле Мэри словно не понимала, в чем проблема. Проблема была не в том, кого за что наказали. Проблема была в том, что ее дочь погибла. И хотя я очень ей сочувствовала, этот факт нельзя было обрушить на кого-то другого.
Кроме того, я, может, и отнеслась бы более благожелательно к той крайне мирской идее, что если происходит что-то плохое, то кто-то должен за это ответить, если бы этот любопытный маленький ореол невиновности не окружал, казалось бы, тех самых людей, которые считают, что их со всех сторон осаждают агенты порока. То есть мне кажется, что это те же люди, которые обычно подают в суд на строителей, не сумевших полностью защитить их от разрушительных последствий землетрясения, и первыми заявляют, что их сын провалил тест по математике, потому что он страдает синдромом дефицита внимания, а не потому, что предыдущую ночь он провел в салоне видеоигр, вместо того чтобы повторять сложные дроби. Более того, если бы в основе этого обидчивого отношения к катастрофам – главного признака американского среднего класса – лежало бы глубокое убеждение, что плохое просто не может случаться, и точка, я бы даже сочла такую наивность обезоруживающей. Но ключевое убеждение этих разгневанных типов, которые сами с жадным любопытством разглядывают аварии на федеральных трассах, – это, скорее, то, что плохое не должно происходить с ними. Наконец, хотя тебе известно, что я никогда не была особенно религиозна, после того как в детстве мне навязывали всю эту ортодоксальную чушь (хотя мне повезло, что к моим одиннадцати годам мать уже не отваживалась пройти целых четыре квартала до церкви и проводила лишенные энтузиазма «службы» дома), я все же удивляюсь, что нация стала настолько антропоцентричной, что все события – от извержений вулканов до глобальных изменений температуры – стали делами, за которые ответственны отдельные люди. Сам наш вид – это деяние (за неимением лучшего слова) Господа. Лично я бы поспорила, что рождение отдельных опасных детей – это тоже деяния Господа, но в том и состояло наше судебное дело.
Харви с самого начала считал, что мне следует уладить дело до суда. Ты ведь помнишь Харви Лэнсдона? Ты считал, что у него большое самомнение. Так и есть; но он рассказывал такие чудесные истории. Теперь его приглашают на ужин другие люди, и там он рассказывает истории обо мне.
Харви и правда слегка меня бранил, потому что он любит сразу переходить к сути дела. В его офисе я мямлила и отклонялась от темы, а он возился с бумагами, намекая на то, что я зря трачу его время или свои деньги – что, в общем, одно и то же. Мы не пришли к согласию в понимании того, что есть истина. Он хотел знать только самую суть. Я же считаю, что суть можно понять, лишь собрав воедино все крошечные неоконченные истории, которые не имеют успеха за обеденным столом и кажутся несущественными, пока ты не соберешь их вместе. Может быть, именно это я пытаюсь сделать в своих письмах, Франклин, потому что, хоть я и старалась отвечать на его вопросы прямо, каждый раз, когда я делала простое оправдательное утверждение типа «Конечно же, я люблю своего сына», я чувствовала, что лгу и что любой судья и присяжные смогут об этом догадаться.
Харви было плевать. Он один из тех адвокатов, для которых закон – игра, а не моралите. Говорят, именно такие адвокаты и нужны. Харви любит с пафосом утверждать, что никто не выигрывал дело только потому что был прав, и он даже внушил мне неясное ощущение, что если справедливость на твоей стороне, то это даже небольшая помеха.
Разумеется, я вовсе не была уверена, что справедливость на моей стороне, а Харви мое отчаяние казалось утомительным. Он скомандовал мне отбросить всякое смятение по поводу того, как это будет выглядеть, если я приму свою репутацию Плохой Матери, и ему явно было совершенно плевать, являюсь ли я плохой матерью на самом деле. (А я, Франклин, была ею. Я была ужасной матерью. Не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь меня простить.) Его аргументы были откровенной экономикой, и, насколько я понимаю, так решается множество судебных процессов. Он сказал, что во внесудебном порядке мы сможем выплатить родителям гораздо меньшую сумму, чем та, которую могут присудить им чувствительные присяжные. Самое главное, что не было гарантии получить компенсацию за судебные издержки, даже если бы мы выиграли. Я постепенно поняла: это означает, что в стране, где ты «невиновен, пока не доказано обратное», любой может обвинить меня в чем угодно, и я могу потерять сотни тысяч долларов, даже если докажу, что обвинения были беспочвенны. Добро пожаловать в США, весело сказал он. Мне так не хватает тебя, чтобы хорошенько на это посетовать. Харви не интересовало мое раздражение. Его забавляли эти юридические парадоксы, потому что под ударом была не его компания, которая когда-то началась с единственного льготного авиабилета.
Оглядываясь назад, я понимаю, что Харви был совершенно прав – я имею в виду насчет денег. И с тех самых пор я все думаю: что же заставило меня вынудить Мэри передать дело против меня в суд, вопреки здравым советам юриста. Должно быть, злость. Если я что-то и сделала не так, то мне казалось, что я уже достаточно сильно наказана. Ни один суд не смог бы приговорить меня ни к чему хуже, чем эта лишенная событий жизнь в убогом дуплексе, с куриной грудкой и капустой на ужин, с мерцающими галогеновыми лампами и доведенными до автоматизма визитами в Чатем дважды в месяц; или, что еще хуже, к почти шестнадцати годам жизни с сыном, который, по его собственному утверждению, не желал иметь меня в качестве матери и который почти ежедневно давал мне повод не желать иметь его в качестве сына. И все равно я, наверное, должна была сама сообразить, что, если обвинительный вердикт присяжных никогда не смягчит горе Мэри, точно так же более мягкое решение никогда не уменьшит мое чувство соучастия. Грустно это признавать, но, должно быть, в большой степени мною двигало отчаянное желание быть публично оправданной.
Увы, по-настоящему я желала вовсе не публичного оправдания; наверное, именно поэтому я сижу тут ночь за ночью и пытаюсь вспомнить любую уличающую деталь. Посмотрите на этот жалкий образчик: будучи зрелой, счастливой в браке женщиной почти тридцати семи лет, она узнает о своей первой беременности и чуть не падает в обморок от ужаса – реакция, которую она скрывает от своего обрадованного мужа, надев дерзкий хлопковый сарафан. Благословленная чудом новой жизни, она вместо радости предпочитает рассуждать о бокале вина, от которого ей теперь придется воздерживаться, и о венах на ногах. Она скачет по гостиной под песню безвкусной попсовой группы, совершенно не думая о своем нерожденном ребенке. В момент, когда ей всем своим нутром стоило бы усваивать истинное значение слова «наш», она вместо этого решает беспокоиться о том, является ли будущий ребенок ее чадом. Даже перейдя черту, за которой она уже давно должна была усвоить урок, она все равно продолжает разглагольствовать о фильме, в котором человеческие роды перепутаны с выталкиванием из чрева огромной личинки. И она – лицемерка, которой невозможно угодить: она признала, что порхание по всему земному шару – это не волшебная загадочная поездка, как она раньше притворялась, и что эти поверхностные странствия на самом деле стали трудными и монотонными; но в тот же миг, когда эти разъезды оказались под угрозой из-за потребностей другого человека, она начала восторженно млеть от своей прежней безмятежной жизни, в которой записывала, есть ли кухонные удобства в молодежных хостелах в Йоркшире. А хуже всего то, что еще прежде, чем ее несчастному сыну удалось выжить в стиснутой, сопротивляющейся матке, она совершила то, что ты сам, Франклин, считал невозможным говорить вслух. Она закапризничала и передумала, как будто дети – это всего лишь одежки, которые можно примерить, придя из магазина домой, и, критически осмотрев себя в зеркале, решить: нет, извините, очень жаль, но это мне действительно не очень подходит – и отвезти их обратно в магазин.
Признаю, что портрет, который я рисую, не привлекателен, и если уж на то пошло, я не могу вспомнить, когда я в последний раз чувствовала себя привлекательной в своих собственных глазах или в чужих. За много лет до моей беременности я встретила в баре на Манхэттене одну молодую женщину, с которой когда-то училась в колледже в Грин-Бэй. Она незадолго до того родила первого ребенка, и, хотя после колледжа мы с ней ни разу не говорили, мне стоило лишь поздороваться с ней, и она тут же выплеснула на меня свое отчаяние. Плотно сбитая, с необыкновенно широкими плечами и густыми кудрявыми черными волосами, Рита была физически привлекательной женщиной. Без какого бы то ни было побуждения с моей стороны она принялась развлекать меня рассказами о том, каким было ее телосложение до беременности. По-видимому, раньше она ежедневно ходила в спортзал, и прежде ее мышцы выглядели весьма рельефными, соотношение жира и мышц в теле было просто невероятным, а физическая выносливость била все рекорды. А потом случилась беременность, и это было ужасно! Спортзал больше не приносил ей удовольствия, и ей пришлось бросить занятия… А теперь? Теперь она развалина, она едва может сделать один подъем корпуса лежа, не говоря уж о трех подходах правильных скручиваний, ей придется начинать все с нуля или даже хуже!.. Эта женщина просто кипела, Франклин, она явственно бормотала что-то о мышцах пресса, когда в гневе шагала по улице. И ни разу за время разговора она не назвала имя своего ребенка, его пол, возраст и его отца. Я помню, что сделала шаг назад, извинилась, зашла в бар и ускользнула от Риты не попрощавшись. Самым унизительным для меня – тем, что спровоцировало побег – стало то, что она казалась не только бесчувственной и самовлюбленной, но и в точности такой же, как я.
Я больше не уверена в том, сожалела ли я о появлении нашего первого ребенка еще до его рождения. Мне трудно восстановить в памяти тот период, не отравляя эти воспоминания огромным сожалением последующих лет, сожалением, которое разрывает временные рамки и потоком льется в тот период, когда Кевин еще не родился, и я еще не желала, чтобы его вообще не было. Однако мне меньше всего хотелось бы обелить себя и свою роль в этой ужасной истории. При этом я решительно готова принять на себя положенную ответственность за каждую непокорную мысль, каждое раздраженное замечание, каждый миг эгоизма – но не для того, чтобы взять на себя всю вину, а для того, чтобы признать, что я виновата вот в том и вот в этом; а вот там, там, именно там я провожу черту, и по другую ее сторону, Франклин, моей вины нет.
И однако же, чтобы провести эту черту, боюсь, мне придется подойти к ней вплотную.
К последнему месяцу беременность уже почти доставляла мне удовольствие. Я стала такой неуклюжей, что в этом состоянии была даже некая придурочная новизна, а для женщины, которая всегда добросовестно приводила себя в порядок, было облегчением обнаружить, что она превращается в корову. И живет так, как вторая половина нации – или, если угодно, больше, чем половина, поскольку, по данным статистики, 1998-й стал первым годом, когда в США больше половины людей были официально признаны толстыми.
Кевин родился на две недели позже срока. Оглядываясь назад, я с суеверной убежденностью думаю, что он нарочно тянул время даже в матке, что он прятался. Может, я была не единственной стороной эксперимента, у которой были сомнения.
Почему тебя никогда не терзало это предчувствие дурного? Мне пришлось отговаривать тебя от покупки многочисленных зайцев, колясок и детских одеялец до его рождения. Я заметила: а что, если что-то пойдет не так? Разве не может случиться так, что ты обрекаешь себя на провал? Ты презрительно фыркнул: думать о плохом – значит, призывать его в свою жизнь. (Поэтому, ожидая более темного близнеца вместо того ослепительно здорового и счастливого младенца, на которого ты рассчитывал, я выпустила этого подкинутого эльфами оборотня в мир.) Я стала матерью после тридцати пяти и очень хотела проверить плод на болезнь Дауна; ты категорически возражал. Все, что тебе скажут, – это процентное соотношение, утверждал ты. Ты хочешь мне сказать, что если оно будет 1:500, ты станешь вынашивать ребенка дальше, а если 1:50 – избавишься от него и попробуешь снова? Конечно нет, сказала я. Тогда 1:10. Или 1:3. Какое соотношение станет причиной для прерывания? Зачем принуждать себя к такому выбору?
Твои аргументы были убедительны, хоть я и думаю: а не скрывалась ли за ними плохо продуманная романтическая история про жизнь с ребенком-инвалидом – одним из этих неуклюжих, но мягких характером посланцев божиих, которые учат своих родителей тому, что в жизни есть вещи поважнее, чем умственные способности; бесхитростная душа, щедро осыпаемая той же любовью, с которой все треплют шерстку хвостатого домашнего любимца. Ты был готов с жадностью выпить любой генетический коктейль, приготовленный из наших с тобой ДНК, и, должно быть, заигрывал с перспективой получить все эти дополнительные очки за самопожертвование: твое терпение, когда нашему дорогому дурню требуется шесть месяцев ежедневных тренировок, чтобы научиться зашнуровывать ботинки, оказывается сверхчеловеческим. Безмерно щедрый и решительно встающий на его защиту, ты обнаруживаешь в себе кажущийся бездонным источник великодушия, из которого никогда не пьет твоя «завтра-я-уезжаю-в-Гвиану» жена, и в конце концов ты бросаешь работу по поиску мест для съемок, чтобы полностью посвятить себя нашему ребенку с ростом выше полутора метров и разумом трехлетки. Все соседи превозносят твое смирение и готовность мужественно переносить тяготы судьбы, разыгрывать те карты, что сдала тебе Жизнь, зрелость и умение справляться с такими обстоятельствами, которые другие люди нашей расы и класса сочли бы тяжким, сокрушительным ударом. Ты прямо-таки отчаянно мечтал броситься в эту жизнь в роли отца, правда? Броситься вниз со скалы, рухнуть в костер. Неужели наша совместная жизнь была для тебя настолько невыносимой, настолько безрадостной?
Я никогда тебе об этом не говорила, но я сдала этот анализ тайком. Оптимизм результата (вероятность 1:100) позволил мне вновь избежать широты наших различий. Я ведь всегда была разборчива. Мой подход к материнству имел условия, и эти условия были строгими. Я не хотела быть матерью умственно отсталого или страдающего параличом ребенка. Когда я видела измученных женщин, кативших в инвалидной коляске своих отпрысков с ножками-палочками и мышечной дистрофией на водные процедуры в больнице Найака, сердце мое не таяло – оно обрывалось. Более того, честный список всего того, что я не желала растить, – от банально слабоумного до абсурдно толстого – мог бы, черт побери, растянуться на две страницы. Однако в ретроспективе моя ошибка была не в том, что я сдала анализ тайком, а в том, что его результат меня успокоил. Доктор Райнштейн не проводила анализы на злобу, презрительное равнодушие или врожденную подлость. Если бы это было возможно – интересно, сколько рыбы было бы выброшено обратно в реку?
Что касается самих родов, то я всегда пыталась изображать суровое отношение к боли – что лишь выдавало тот факт, что я ни разу не страдала от подрывающих здоровье недугов, у меня не было ни единого перелома, и я ни разу не попадала в массовые автомобильные аварии. Честно говоря, Франклин, я даже не знаю, с чего я решила, что я такая крутая. В физическом смысле я была Мэри Вулфорд. Мое понятие о боли складывалось из ушибленных пальцев на ногах, ободранной кожи на локтях и менструальных спазмов. Я знала, что такое чувствовать боль во всем теле после первого дня сезона игры в сквош; я понятия не имела, каково это – потерять кисть, работая у промышленного станка, или когда тебе отрезало ногу поездом в метро. И тем не менее как же охотно мы верим в мифы, которые рассказываем друг другу – неважно, насколько они неправдоподобны. Ты решил, что моя невозмутимая реакция на порезанный палец во время готовки – а это, мой дорогой, была лишь откровенная попытка вызвать твое восхищение – достаточное доказательство того, что я смогу протолкнуть объект размером с целый ростбиф из спинной мякоти через отверстие, в которое раньше не проникало ничего толще сардельки – и что я сделаю это с таким же стоицизмом. То, что анестезии я буду избегать, даже не обсуждалось.
Я совершенно не могу понять, что именно мы пытались доказать. Ты со своей стороны, возможно, доказывал, что я – героическая яркая личность, на которой ты хотел жениться. Я со своей стороны, наверное, была втянута в это женское соревнование по деторождению. Даже скромная жена Брайана, Луиза, объявила, что рожала Кайли двадцать шесть часов, и для облегчения боли пила лишь «чай из листьев малины» – бережно хранимая в ее семье неправдоподобная история, которую она рассказывала по трем разным поводам. Именно случайные встречи такого рода способствовали увеличению числа посетителей курсов естественных родов, на которые я ходила в Новой школе[78]; хотя держу пари, многие из тех, кто гордо надувал щеки и говорил: «Я хочу знать, каково это», ломались и начинали просить эпидуральную анестезию при первых же схватках.
Но не я. Я не была храброй, но была упрямой и гордой. Чистое упрямство надежнее мужества, хотя выглядит не так привлекательно.
Поэтому, когда я в первый раз почувствовала, как мои внутренности скрутило, словно мокрую простыню, я слегка вытаращила от удивления глаза и сжала губы. Тебя впечатлило мое спокойствие. Я этого и хотела. Мы снова обедали в «Бич-Хаус», и я решила не доедать свой чили. Продемонстрировав в ответ собственное самообладание, ты быстро доел кусок кукурузного хлеба, а затем принес из туалета огромную стопку бумажных полотенец: у меня отошли воды – целое ведро, как мне показалось – и сиденье подо мной насквозь промокло. Ты заплатил по счету и даже не забыл оставить чаевые, а потом повел меня под руку в нашу квартиру, проверяя продолжительность схваток по часам. Мы не собирались ставить себя в неловкое положение, заявившись в Бет-Изрейел[79] задолго до того, как у меня начнется раскрытие.
Позже, когда ты вез меня через Канал-стрит в своем светло-голубом пикапе, ты бормотал, что все будет хорошо, хотя не мог этого знать. В приемном отделении меня поразил обыденный характер моего состояния: медсестра зевала, отчего я укрепилась в решимости показать себя образцовой пациенткой. Я поражу доктора Райнштейн своим грубым практицизмом! Я знала, что роды – это естественный процесс, и не собиралась суетиться. Поэтому, когда от очередной схватки я согнулась пополам, словно меня внезапно ударили в живот, я лишь тихо охнула.
Все это было нелепо и совершенно бессмысленно. Незачем было стараться поразить доктора Райнштейн, которая мне не особо-то и нравилась. Я намеревалась вести себя так, чтобы ты мной гордился, но ведь ты получал от этой сделки сына – вполне достаточное вознаграждение за то, чтобы немножко потерпеть крики и грубость. Тебе даже было бы полезно признать, что твоя жена – простая смертная, которая обожает комфорт и ненавидит страдания, и потому разумно отдаст предпочтение анестезии. Вместо этого я слабо шутила, лежа на каталке в коридоре, и держала тебя за руку. Потом ты сказал мне, что эту руку я тебе чуть не сломала.
Ох, Франклин, сейчас незачем притворяться. Это было ужасно. Может, у меня и есть какой-то запас прочности в отношении некоторых видов боли, но если и так, то находится эта стойкость в моих икрах или предплечьях, но никак не между ног. Эту часть тела я никогда не ассоциировала со способностью переносить боль с чем-то столь отвратительным, как физкультура. И когда потянулись часы схваток, я начала подозревать, что просто слишком стара для этого, слишком неэластична к своим почти сорока годам, чтобы растянуть себя ради новой жизни. Доктор Райнштейн строго сказала, что у меня узкий таз – словно хотела указать на несоответствие требованиям, и по прошествии примерно пятнадцати часов она грозно возопила: «Ева! Ты должна наконец сделать усилие!» Вот тебе и поразила доктора!
Примерно через сутки несколько слезинок стекали по моим вискам, и я торопливо вытирала их, чтобы ты не видел. Мне неоднократно предлагали сделать эпидуральную анестезию, и в ответ на мою решимость воздержаться от спасительного облегчения на меня смотрели как на чокнутую. Я так ухватилась за этот отказ, словно смысл был в том, чтобы пройти это испытание, а не в том, чтобы произвести на свет сына. Пока я отталкивала иглу, я побеждала.
В конце концов вопрос решила угроза кесарева сечения. Доктор Райнштейн прямо заявила, что ее ждут другие пациентки и что мои посредственные старания вызывают у нее отвращение. Я испытывала аномальный страх перед хирургическими операциями. Я не хотела, чтобы у меня остался шрам: стыдно признаться, но я, как и Рита, боялась за мышцы своего пресса, и сама процедура слишком напоминала все эти фильмы ужасов.
Поэтому я сделала усилие и тут осознала, что все это время сопротивлялась рождению. Каждый раз, когда эта огромная масса приближалась к узкому проходу, я втягивала ее назад. Потому что мне было больно. Мне было очень больно. На курсах в Новой школе нам вдалбливали, что боль – это хорошо, нужно принять ее, нужно столкнуть себя в боль; и только совершенно обессилев, я поняла, насколько этот совет устарел. Боль – это хорошо?! Меня охватило презрение. Я никогда тебе этого не говорила, но эмоцией, за которую я уцепилась, чтобы превозмочь себя на этой критической отметке, было отвращение. Мне было противно, что я лежу распростертой, словно какой-то живой экспонат, и незнакомые люди таращатся мне между согнутых коленей. Я ненавидела похожее на крысиную морду заостренное личико доктора Райнштейн и ее отрывистые и строгие манеры. Я ненавидела себя за то, что вообще согласилась на этот унизительный спектакль, хотя раньше у меня все было хорошо и прямо сейчас я могла бы находиться во Франции. Я отреклась от всех подруг, которые прежде делились со мной своими сомнениями касательно экономики с уклоном на предложение, или хотя бы вяло расспрашивали меня о последней поездке за границу, а теперь месяцами болтали только о растяжках и средствах от запора или весело хвастались жуткими историями о преэклампсии[80] на поздних сроках или об отпрыске-аутисте, который целыми днями только раскачивается взад-вперед и кусает себя за руки. От твоего лица, на котором застыло желание помочь и ободрить, меня тошнило. Легко тебе было хотеть стать папочкой и уверовать во все эти нелепые мифы, когда именно мне предстояло раздуться, словно свиноматка; именно я вынуждена была превратиться в трезвенницу и пай-девочку, глотающую витамины; именно мне пришлось наблюдать, как моя грудь, прежде такая плотная и аккуратная, расплывается, отекает и болит; и именно я должна была разорваться на клочки, проталкивая арбуз через проход диаметром в поливочный шланг. Это правда: я ненавидела тебя, твое воркование и бормотание, и мне хотелось, чтобы ты прекратил промокать мне лоб влажной салфеткой, как будто это хоть чем-то мне помогало, и думаю, я понимала, что причиняю тебе боль, сжимая твою руку. И да, я ненавидела даже ребенка – пока что он не принес в мою жизнь надежду на будущее, историю, и удовлетворение, и «перевернутую страницу», а подарил лишь неповоротливость, неловкость и грохочущую подземную дрожь, которая сотрясала самые основы той личности, которой я себя считала.
Но пытаясь перейти этот порог, я испытала такую адскую муку, что больше не могла себе позволить тратить силы на ненависть. Я кричала, и мне было на это плевать. В тот момент я бы сделала что угодно, чтобы эта мука прекратилась: заложила бы свою компанию, продала нашего ребенка в рабство, отдала бы душу дьяволу.
– Пожалуйста, – задыхаясь, просила я, – сделайте мне анестезию.
Доктор Райнштейн принялась меня распекать:
– Слишком поздно, Ева; если вам совсем невмоготу терпеть боль, нужно было сказать об этом раньше. Уже видна головка плода. Ради бога, не расслабляйтесь сейчас.
И вдруг все закончилось. Потом мы будем шутить о том, как долго я продержалась и как стала умолять облегчить мне страдания, лишь когда они почти прекратились, но в тот момент мне было совсем не смешно. В самый миг его рождения я связала Кевина с пределом своих возможностей – не только со страданием, но и с поражением.
Ева
13 декабря 2000 года
Дорогой Франклин,
когда я сегодня утром пришла на работу, то по злым и угрюмым лицам демократов сразу поняла, что «флоридский вопрос» закрыт. Такое чувство, словно оба лагеря испытывают послеродовое разочарование.
Но если мои коллеги по обе стороны баррикад разочарованы окончанием такой вдохновляющей публичной драки, то я чувствую себя в еще большей степени безутешной, потому что мне недоступно даже это связывающее их совместное чувство утраты. Мое многократно умноженное одиночество, должно быть, приближается к состоянию моей матери в конце войны, потому что день моего рождения – 15 августа – совпадает с Днем победы над Японией, когда Хирохито[81] по радио объявил японцам о капитуляции. Медсестры пришли от этой новости в такой исступленный восторг, что их было трудно заставить следить за частотой ее схваток. Слушая, как в холле падают на пол пробки от шампанского, она, должно быть, печалилась и чувствовала себя такой брошенной. Мужья многих медсестер вернутся домой, но не мой отец. Если вся остальная страна выиграла войну, то Качадуряны из Расина, штат Висконсин, ее проиграли.
Позже она, должно быть, точно так же ощущала себя не в ладах с чувствами, запечатленными на готовых поздравительных открытках, выпускаемых компанией, в которую она устроилась работать (куда угодно, только не на производство моющих средств!). Как жутко – упаковывать подарки других людей и вкладывать в них открытку с надписью «С годовщиной», когда тебе незачем класть в свою сумочку такую открытку по случаю наступления годовщины в твоем собственном доме. Я не уверена, следует ли мне радоваться, что эта работа навела ее на мысль открыть собственный бизнес по изготовлению поздравительных открыток ручной работы, потому что это позволило ей безвылазно сидеть на Эндерби-авеню. Но скажу, что открытка, которую она сделала специально для меня – «С рождением первенца!», обклеенная шелковой бумагой в сине-зеленых тонах – была очень красива.
На самом деле, когда в Бет-Изрейел голова моя немного прояснилась, я вспомнила о матери и почувствовала себя неблагодарной. Мой отец не имел возможности держать ее за руку, как ты держал меня. Я же, сжимая руку живого мужа, едва ее не сломала.
Однако все мы знаем, что женщины в родах могут становиться жестокими, поэтому мне очень хочется признать, что в разгар событий я вела себя немного враждебно, и тем и ограничиться. В конце концов, я немедленно смутилась и поцеловала тебя. Это было в те дни, когда врачи еще не прикладывали новорожденного к материнской груди сразу после родов, и у нас было несколько минут, пока они перевязывали пуповину и мыли ребенка. Я была взволнована, сжимала и гладила твою руку, прислонившись лбом к мягкой коже на сгибе твоего локтя. Я еще не держала нашего ребенка на руках.
Но я не могу так легко себя простить.
Вплоть до 11 апреля 1983 года я тешила себя мыслью, что я – исключительная личность. Но с момента рождения Кевина я стала подозревать, что все мы глубоко стандартны. (По правде говоря, думать о себе как о ком-то исключительном – это скорее правило, чем исключение.) У нас есть четкие ожидания от самих себя в определенных ситуациях; это даже не ожидания – это требования. Некоторые из них мелкие: если для нас устроят вечеринку-сюрприз, мы будем очень рады. Другие существенные: если у нас умрет один из родителей, мы будем убиты горем. Но, возможно, в паре с этими ожиданиями идет скрытый страх, что в кризисной ситуации мы не сможем вести себя согласно традиции. Что мы получим роковой телефонный звонок, узнаем, что мать умерла, и ничего не почувствуем. Интересно, не является ли этот тихий, невыразимый маленький страх более острым, чем боязнь самих плохих новостей: страх обнаружить, что ты – чудовище. Если это не слишком тебя шокирует, то на протяжении всего нашего с тобой брака я жила с одним страхом: что, если с тобой что-нибудь случится, это меня сломит. Но у этого страха всегда была странная тень – еще более глубокий страх, если угодно, – что это меня НЕ сломит, что в тот же день я беззаботно отправлюсь играть в сквош.
Тот факт, что этот более глубокий страх редко становится чрезмерным, рождается из голой веры. Приходится надеяться, что, если немыслимое все-таки произойдет, отчаяние само ворвется в твою жизнь; и что горе, к примеру – это не опыт, который нужно приобрести, и не навык, который требуется отрабатывать. То же касается и предписанной традициями радости.
Вот так даже трагедия может сопровождаться чувством облегчения. Когда мы обнаруживаем, что разбитое сердце действительно болит, это утешает: значит, в нас есть человечность (хотя, если подумать о том, что порой творят люди, то странно считать это слово синонимом сострадания или хотя бы эмоциональной состоятельности). В качестве готового примера возьмем вчерашний день, Франклин. Я ехала на работу по шоссе 9W, когда какая-то фиеста повернула вправо, задела и выбросила на обочину велосипедиста. Переднее колесо велосипеда, столкнувшееся с пассажирской дверью, превратилось в крендель, а велосипедиста перебросило через крышу машины. Он упал на землю в неестественной позе, словно на наброске неумелого художника. Я уже проехала мимо, но в зеркало заднего вида заметила, что три ехавших сзади машины свернули на обочину, чтобы оказать ему помощь.
Кажется неправильным находить утешение в таком несчастье. Однако я могу предположить, что ни один из водителей, которые остановились, чтобы вызвать скорую, не знали этого велосипедиста лично и не были заинтересованы в его судьбе. И все же им было в достаточной степени не все равно, чтобы доставить себе потенциальные неудобства – вплоть до необходимости давать показания в суде. Что касается меня, то эта драма сильно подействовала на меня физически: мои руки на руле тряслись, в открытом рту пересохло. Но у меня было хорошее оправдание: я все еще бледнею и слабею при виде мучений незнакомых людей.
И все же я знаю, что значит действовать не по сценарию. Вечеринка-сюрприз? Забавно, что я об этом упомянула. В ту неделю, на которой мне должно было исполниться десять, я почувствовала, что что-то затевается. Перешептывания, кладовка, в которую мне было велено не заглядывать. Как будто всего этого было недостаточно, Джайлс то и дело проникновенно говорил: «Тебя ждет сюрприз!» Во вторую неделю августа я поняла, что знаменательный день приближается, и когда он наконец настал, меня разрывало от любопытства.
После полудня в день рождения мне велели выйти в сад за домом.
«Сюрприз!» Когда меня позвали обратно в дом, я обнаружила пятерых своих друзей, которые тихонько вошли через парадную дверь, пока я пыталась подсматривать в кухонное окно через задернутые занавески. Они стояли в украшенной флажками гостиной вокруг покрытого кружевной бумажной скатертью столика. На нем расположились разноцветные бумажные тарелки, а рядом с ними мама разложила именные карточки в тон, подписанные ее профессиональным каллиграфическим почерком. Там лежали и прочие купленные в супермаркете принадлежности для праздника: крошечные бамбуковые зонтики и бумажные язычки-шумелки. Торт тоже был покупной, а в лимонад мать добавила ярко-розовый краситель, чтобы придать ему более праздничный вид.
Без сомнения, она увидела, как вытянулось мое лицо. Дети паршиво умеют скрывать свои чувства. Во время вечеринки я говорила мало и обрывками фраз. Я попробовала открыть и закрыть свой зонтик, но мне это быстро наскучило; странно – ведь раньше я сильно завидовала девочкам, побывавшим на празднике, куда меня не пригласили, и пришедшим в школу именно с такими розово-голубыми зонтиками. И тут я обнаружила, что они продаются упаковками по десять штук, и купить их может любой – даже такие, как мы, что несказанно обесценило для меня эти предметы. Двоих из гостей я не очень-то жаловала – родители никогда не разбираются в друзьях своих детей. Торт был залит сверху помадкой и был похож на пластиковый, а на вкус оказался пресно-сладким; мамина выпечка была лучше. Подарков было больше, чем обычно, но все, что я о них помню, – это то, что каждый меня необъяснимо разочаровал. И меня посетило пророческое чувство взросления – редко досаждающее детям ощущение, что выхода нет: мы сидим в комнате, и нам нечего сказать и нечем заняться. Когда это чувство исчезло, а пол покрылся крошками от торта и обрывками подарочной упаковки, я расплакалась.
Я, должно быть, кажусь избалованной, но я такой не была. Раньше на мои дни рождения обращали мало внимания. Оглядываясь назад, я чувствую себя просто жалкой. Моя мать так старалась. Долгое время ее бизнес не приносил больших денег: она трудилась над одной открыткой больше часа, а потом продавала ее за четверть доллара, и даже эту цену ее клиенты платили со скрипом. В масштабах ничтожной экономики нашей семьи расходы на этот праздник были существенными. Она, наверное, была сбита с толку; будь у нее другие родительские принципы, она бы отшлепала меня неблагодарную по заднице. Чего же такого я ждала, по сравнению с чем мой праздник-сюрприз оказался таким разочарованием?
Ничего. Вернее, ничего конкретного – ничего такого, что я могла бы четко сформулировать. В этом и была проблема. Я ждала чего-то большого, не имеющего формы, и такого безбрежно-чудесного, что я даже не могла его себе представить. Праздник, который она устроила, было слишком легко вообразить. И даже если бы она пригласила духовой оркестр и фокусников, я бы все равно приуныла. Не было ничего экстравагантного, что могло бы оправдать мои ожидания, потому что все это было бы окончательным и неизменным, чем-то одним, а не другим. Это было бы лишь тем, чем оно являлось.
Суть в том, что я не знаю, что именно, по моим представлениям, должно было со мной произойти, когда я впервые поднесла Кевина к груди. Я не предвидела ничего конкретного. Я хотела того, чего не могла себе представить. Я хотела, чтобы во мне произошла перемена; я хотела перенестись в иную реальность. Я хотела, чтобы открылась дверь и передо мной возникла бы совершенно новая перспектива, о существовании которой я даже не подозревала. Я не хотела ничего, кроме откровения; а откровения – по самой его природе – нельзя ожидать: оно обещает то, к чему мы еще не причастны. Но если я и извлекла какой-то урок из праздника по случаю моего десятого дня рождения, то он был таким: ожидания опасны, если они одновременно высоки и бесформенны.
Наверное, я представила себя здесь в неверном свете. Разумеется, у меня имелись опасения. Но мои ожидания от материнства действительно были высоки, иначе я бы на него не пошла. Я жадно прислушивалась к рассказам друзей: Ты не сможешь даже представить, каково это, пока не родишь сама. Каждый раз, когда я признавалась, что меня вовсе не очаровывают младенцы и маленькие дети, меня уверяли: Я чувствовала то же самое! Терпеть не могла чужих детей! Но все иначе – все совершенно иначе, когда рождаются свои! Мне это нравилось – эта перспектива другой страны, незнакомой территории, где надменные еретики чудесным образом превращались, как ты сам сказал, в ответ на Главный Вопрос. И возможно, я даже неправильно понимала собственные чувства относительно других стран. Да, я очень уставала от дороги, и да, я в самом деле вечно боролась с наследственным страхом перед посадкой в самолет. Но впервые ступая на землю в Намибии, или Гонконге, или даже в Люксембурге, я испытывала настоящий кайф.
Чего я не осознавал, – признавался Брайан, – это того, что ты влюбляешься в своих детей. Ты не просто любишь их. Ты влюбляешься. И этот момент, когда ты впервые их видишь – его невозможно описать. Очень жаль, что он хоть как-то его не описал. Очень жаль, что он не попытался это сделать.
Доктор Райнштейн покачала младенца над моей грудью и опустила это крошечное создание со старательной мягкостью – я была рада, что она ее наконец-то продемонстрировала. Кевин был влажным, кожа на его шее и согнутых конечностях сморщилась от крови. Я неуверенно обняла его. Его искаженное лицо казалось недовольным. Тело его было вялым, и я могла расценить эту апатию лишь как отсутствие энтузиазма. Сосание – один из врожденных инстинктов, но, хотя его рот был совсем рядом с моим большим коричневым соском, голова его лениво кренилась в сторону.
Я продолжала попытки; он продолжал им сопротивляться, и второй сосок понравился ему ничуть не больше. И все это время я ждала. Я дышала мелкими вдохами и ждала. И я продолжала ждать. Но ведь все говорят… – думала я. А потом пришла четкая мысль: Берегись того, что «все говорят».
Франклин, я чувствовала себя… отсутствующей. Я шарила внутри себя в поисках этого неописуемого чувства, словно копалась в ящике со столовыми приборами в поисках картофелечистки, но как бы я ни рылась, что бы ни отодвигала в сторону, этого чувства не было. В конце концов картофелечистка всегда находится в ящике: она под кухонной лопаткой или завалилась под гарантийный талон на кухонный комбайн…
– Он такой красивый, – пробормотала я, нашарив фразу из телевизора.
– Можно? – робко спросил ты.
Я протянула тебе ребенка. На моей груди Кевин печально корчился, но тебе он сразу закинул ручку на шею, словно нашел своего настоящего защитника. Когда я посмотрела на твое лицо – глаза закрыты, щека прижата к тельцу новорожденного сына – я поняла (и пусть это не прозвучит слишком несерьезно): вот она, картофелечистка. Это показалось мне таким несправедливым. Ты совершенно явственно был готов заплакать, тебя переполняло удивление, которое невозможно было выразить. Я словно смотрела, как ты ешь мороженое, которым отказываешься поделиться со мной. Я села, ты неохотно вернул его мне, и тут Кевин завопил. Я держала на руках ребенка, который по-прежнему отказывался сосать, и меня снова посетило то же чувство, что и в мой десятый день рождения: и что теперь? Вот мы, в этой комнате, и похоже, нам нечего сказать и нечем заняться. Тянулись минуты, Кевин то выл, то вяло лежал и время от времени раздраженно подергивался. Я почувствовала первые признаки того, что, как это ни чудовищно, я могу назвать лишь скукой.
Пожалуйста, не начинай. Я знаю, что ты скажешь. Я была измучена. Роды продолжались тридцать семь часов, и глупо было думать, что я окажусь способна на что-то, кроме ощущения усталости и оцепенения. И абсурдно было воображать себе фейерверк: ребенок – это лишь ребенок. Ты бы заставил меня вспомнить ту дурацкую историю, которую я рассказала тебе о том, как впервые поехала за границу, когда училась на третьем курсе в Грин-Бэй. Я шагнула на трап самолета в Мадриде, и меня смутно обескуражил тот факт, что в Испании тоже есть деревья. «Разумеется, в Испании есть деревья!» – глумился ты. Я сконфузилась: конечно, я знала – в каком-то смысле, – что там есть деревья, но на фоне земли и неба и с гуляющими вокруг людьми… ну, мне показалось, что она не очень отличается от Америки. Позже ты ссылался на эту историю, когда хотел показать, что мои ожидания всегда до нелепости огромны и что сама моя жажда экзотики была саморазрушительной, потому что как только я дорывалась до чего-то из другого мира, оно становилось частью этого мира и больше не засчитывалось.
Кроме того, уговаривал ты меня, быть родителем – не значит стать им мгновенно. Факт появления ребенка, когда совсем недавно его еще не было, настолько сбивает с толку, что я, возможно, просто не осознала все это до конца. Я была ошеломлена. Да-да, я была ошеломлена. Я не была бессердечной или неполноценной. Кроме того, когда наблюдаешь за собой слишком пристально, внимательно изучая собственные чувства, они убегают, их не удается ухватить. Я была не уверенной в себе, и я слишком старалась. Я довела себя до какого-то эмоционального паралича. Разве я только что не отметила, что эти спонтанные излияния бурных страстей – это лишь вопрос веры? Значит, моя вера дрогнула: я позволила скрытому страху на время овладеть мной. Мне просто нужно было расслабиться и позволить природе сделать свое дело. И ради всего святого, отдохнуть. Я знаю, что ты сказал бы мне все это, потому что я говорила то же сама себе. И все это не оказало никакого влияния на мое ощущение, что с самого начала все пошло не так, что я не следую программе, что я удручающе подвела и нас, и нашего новорожденного сына. Что, если честно, я была ненормальной.
Пока мне зашивали разрывы, ты снова предложил взять Кевина, и я знала, что мне следовало бы протестовать. Я не стала. Когда меня от него избавили, я почувствовала благодарность, которая была разрушительной для моей души. Хочешь знать правду? Я была зла. Я была напугана, мне было стыдно, но еще я чувствовала себя обманутой. Я хотела получить свой праздничный сюрприз. Я подумала: если женщина не может положиться даже на себя в такой ситуации, тогда ей не на что рассчитывать; с этого момента мир перевернулся с ног на голову. Обессиленная, распростертая, с раздвинутыми ногами, я поклялась: хоть я и научилась демонстрировать всем интимные части своего тела, я никогда и никому на свете не признаюсь, что рождение ребенка меня совершенно не тронуло. У тебя были свои слова, которые нельзя произносить: «Никогда не говори мне, что сожалеешь о том, что мы завели ребенка». Теперь и у меня были свои такие слова. Позже, вспоминая об этом моменте в обществе других людей, я использовала выражение «это невозможно описать». Брайан был великолепным отцом. Я могла на день одолжить у моего доброго друга его нежность.
Ева
18 декабря 2000 года
Дорогой Франклин,
сегодня на работе была рождественская вечеринка, а это нелегко – праздновать с шестью людьми, которые совсем недавно были готовы вцепиться друг другу в горло. У нас мало общего, но в целом я рада их компании – не столько из-за разговоров по душам в обеденный перерыв, сколько из-за обыденных перебранок по поводу пакетных туров на Багамы. (Порой я так благодарна за бесполезную работу по бронированию рейсов, что готова расплакаться.) Кроме того, простое соседство теплых тел обеспечивает глубочайший животный комфорт.
Управляющая была добра, взяв меня к себе на работу. Тот четверг причинил боль многим жителям района, и Ванда поначалу тревожилась, что люди станут избегать ее офиса, просто чтобы не думать об этом. И все же надо отдать должное нашим соседям: часто именно исключительно прочувствованные поздравления с праздниками дают мне понять, что клиент меня узнал. А персонал я разочаровала. Они, должно быть, надеялись, что общение с какой-никакой знаменитостью придаст им самим значимости и что я буду источником волнующих и захватывающих историй, которые мои коллеги станут обсуждать за обедом. Но мы общаемся очень поверхностно, и я сомневаюсь, что их друзья впечатлены: большинство моих историй обыкновенны. Есть лишь одна история, которую они действительно хотят услышать, и эту историю они знали спереди назад и задом наперед еще до моего появления в фирме.
Разведенка с широкими бедрами и пронзительным смехом, Ванда и сама, может быть, надеялась, что мы быстро станем друзьями. К концу нашего первого совместного ланча она по секрету сообщила мне, что ее бывший муж возбуждался, глядя на то, как она писает, что у нее только что вырезали геморроидальный узел и что до тридцати шести лет она страдала маниакальным пристрастием к магазинным кражам, пока однажды ее чуть не поймал охранник в «Сакс»[82]. В ответ я призналась, что, лишь прожив в своем дуплексе полгода, я наконец заставила себя купить шторы. Понятное дело, ее несколько смутило то, что в ответ на ее откровенность я рассказала ей о себе какую-то ерунду.
В общем, сегодня Ванда поймала меня возле факса. Она не хочет совать нос не в свое дело, но обращалась ли я за помощью? Я, конечно, поняла, о чем она. Управление образования предложило бесплатные психологические консультации всему коллективу учащихся старшей школы в Гладстоне; и даже некоторые из поступивших туда в этом году, а не в 1999-м, заявили, что пережили психологическую травму и бросились на кушетки в кабинетах специалистов. Я не хотела быть недружелюбной и поэтому не стала честно говорить, что не понимаю, как простое повторение моих проблем чужому человеку может хоть на йоту их уменьшить и что уж конечно психологические консультации – это логичный способ бегства для тех, чьи проблемы являются эфемерными фантазиями, а не свершившимся фактом. Так что я с сомнением возразила, что мой опыт общения со специалистами по душевному здоровью был не очень приятным, милосердно умолчав о том, что несостоятельность психиатрической помощи моему сыну наделала много шума от одного побережья страны до другого. Кроме того, мне показалось неразумным сообщать, что пока что я нашла лишь один метод «помощи» – письма тебе, Франклин. Ибо я уверена, что эти письма не входят в список рекомендованных методов терапии, поскольку ты находишься в самом центре того, что мне нужно «оставить позади», чтобы испытать «успокоение». И какая же это страшная перспектива!
Даже тогда, в 1983-м, меня озадачивало, почему стандартный психиатрический ярлык вроде «послеродовой депрессии» должен успокаивать. Кажется, наши соотечественники придают большое значение тому, чтобы налепить ярлык на свои недуги. Вероятно, если жалоба достаточно распространена для того, чтобы иметь название, это подразумевает, что ты не одинок и что для тебя имеются соблазнительные опции вроде интернет-чатов и групп поддержки, где можно в экстазе поскулить хором. Иррациональная тяга к этому повальному увлечению просочилась даже в светскую болтовню американцев. Я уж и не помню, когда мне в последний раз кто-то говорил, что «с трудом просыпается по утрам». Вместо этого человек обычно сообщает мне, что он «не жаворонок». Все эти попутчики, которым требуется убойная доза кофе, чтобы проснуться, непременно хотят дать дополнительный пинок нежеланию человека вскакивать с постели и бежать десять миль.
Я могла бы достичь нового уровня признательности за мои стандартные наклонности, включая вполне разумное ожидание того, что, вынашивая ребенка, я буду что-то чувствовать – может быть, даже что-то приятное. Но я не настолько изменилась. Я никогда не находила утешения в том, чтобы быть как все. И хотя доктор Райнштейн предложила диагноз «послеродовая депрессия», словно это подарок – словно если вам просто говорят, что вы несчастны, то одного этого достаточно, чтобы приободриться – я не стала платить профессионалам за то, чтобы меня потчевали очевидными фактами и обычными описаниями. Этот термин был не столько диагнозом, сколько тавтологией: я была в депрессии после рождения Кевина, потому что рождение Кевина вызвало у меня депрессию. Спасибо.
И тем не менее она предположила, что, поскольку Кевин продолжал игнорировать мою грудь, то я, вероятно, страдаю от того, что меня отвергают. Я покраснела. Меня смутило то, что я могу принимать близко к сердцу невразумительные предпочтения такого крошечного полусформировавшегося создания.
Разумеется, она была права. Сначала я думала, что делаю что-то не так – неправильно даю ему грудь. Но нет, я вкладывала ему сосок между губ – куда ж еще? Он сосал разок-другой, но потом отворачивался, и голубоватое молоко текло у него по подбородку. Он начинал кашлять и даже давиться (хотя, возможно, я это себе воображала). Когда я пришла на экстренно назначенный прием, доктор Райнштейн безучастно сообщила мне, что «иногда так бывает». Господи, Франклин, то, что ты обнаруживаешь, став родителем, иногда бывает! Я совсем потеряла голову. Я сидела в ее кабинете в окружении брошюр о том, как укрепить иммунитет ребенка. И я перепробовала все. Я не пила. Я перестала есть молочное. Ценой огромных жертв я отказалась от лука, чеснока и чили. Я отказалась от мяса и рыбы. Я перешла на безглютеновое питание, в результате чего в моем рационе остался практически один рис и салаты без заправки.
В конечном итоге я морила себя голодом, а Кевин продолжал уныло сосать из бутылочки приготовленную в микроволновке смесь и принимал ее только из твоих рук. Он не желал сосать мое молоко даже из бутылочки и уворачивался от нее, не выпив ни глотка. Он чувствовал запах молока. Он чувствовал мой запах. И тем не менее анализы не показывали наличия у него аллергии, по крайней мере в медицинском смысле. А тем временем моя прежде миниатюрная грудь туго наливалась, болела, из нее текло молоко. Райнштейн категорично требовала, чтобы я не позволяла молоку иссякнуть, поскольку иногда эта неприязнь – да, именно это слово она использовала, Франклин – иногда эта неприязнь ослабевала. Это было столь неудобно и болезненно, что я так и не приноровилась использовать молокоотсос, хотя с твоей стороны было очень мило купить модель «Меделы» специально для больниц. Боюсь, я ее возненавидела – это была холодная пластиковая замена теплого сосущего младенца. Я жаждала дать ему молоко самой человеческой доброты, а он его не желал – или не желал принять его от меня.
Мне не следовало принимать ситуацию на свой счет, но как я могла этого избежать? Он отказывался не от материнского молока, а от матери. На самом деле я пришла к убеждению, что наш маленький ребенок меня вычислил. У младенцев великолепная интуиция, потому что это практически все, что у них есть. Я была уверена, что он засекает красноречивое напряжение моих мышц, когда я беру его на руки. Я была убеждена, что по едва уловимому раздражению в моем голосе, когда я ворковала и агукала с ним, он понимал, что агуканье и воркование не даются мне естественно; и что его не по возрасту развитый слух улавливал в этом бесконечном потоке успокаивающего вздора незаметно вкравшийся непреодолимый сарказм. Более того, поскольку я прочла (извини, ты прочел), что важно улыбаться младенцам, чтобы они начали улыбаться в ответ, я улыбалась, улыбалась и улыбалась, пока у меня не начинало болеть лицо, и когда оно болело – я уверена, он мог это определить. Каждый раз, когда я заставляла себя улыбнуться, он явно понимал, что я делаю это без желания, потому что он никогда не улыбался в ответ. За свою жизнь он пока повидал мало улыбок, но он видел твою – и этого оказалось достаточно, чтобы понять, что по сравнению с ней с улыбкой матери что-то не так. Она фальшиво изгибала ее губы; она с красноречивой скоростью исчезала, когда я отворачивалась от его кроватки. Это тогда Кевин научился так улыбаться? Этой улыбкой, которую я увидела в тюрьме – как у марионетки, которую потянули за веревочки в уголках рта.
Я знаю, что ты сомневаешься во мне на этот счет, но я правда изо всех сил старалась развить в себе страстную привязанность к сыну. Но мое чувство к тебе, например, я никогда не рассматривала как упражнение, которое нужно повторять, словно фортепианные гаммы. Чем усерднее я старалась, тем больше осознавала, что само это усилие – мерзость. Несомненно, вся эта нежность, которую я в конечном итоге просто имитировала, должна была наконец внезапно проявиться в реальности. Следовательно, меня вгонял в депрессию не только Кевин и не только тот факт, что твоя привязанность все больше уходила от меня в другое русло. Я сама вгоняла себя в депрессию: я была виновна в эмоциональном преступлении.
Но и Кевин тоже вгонял меня в депрессию, и я имею в виду именно Кевина, а не ребенка. С самого начала этот ребенок казался мне специфическим. Несмотря на то что ты часто спрашивал: «Как малыш?», или «Как там мой мальчик?», или «Где ребенок?», для меня он никогда не был «ребенком». Он был особенной, необыкновенно хитрой личностью, которая появилась в нашей жизни и просто по случайности оказалась очень маленькой. Ты называл его «наш сын» или «мой сын», когда ты уже начал разочаровываться во мне. Твое обожание словно превратилось в постоянный и типичный видовой признак, который он чувствовал, я в этом уверена.
Не злись: я говорю это не в качестве критики. Должно быть, это та самая всеобъемлющая преданность тому, что на самом деле является абстракцией: своим детям, какими бы они ни были. И она может быть даже сильнее, чем преданность им как определенным, трудным людям, и, следовательно, благодаря ей можно продолжать любить своих детей, даже когда как личности они тебя разочаровывают. Наверное, со своей стороны я не смогла выполнить именно этот завет относительно «любить детей в принципе», и именно к нему я не могла прибегнуть, когда Кевин испытал мои материнские узы на прочность до полного математического предела – в тот четверг. Я всегда голосовала не за партии, а за кандидатов. Мои взгляды представляли собой такую же ойкумену, как и мой кухонный шкаф с припасами: в то время он был битком набит зеленой сальсой из Мехико, анчоусами из Барселоны, листьями лайма из Бангкока. Я не возражала против абортов, но ненавидела смертную казнь – наверное, это означало, что я воспринимаю неприкосновенность жизни только взрослых людей. Мои привычки в отношении заботы об окружающей среде были непостоянны: я клала кирпич в сливной бачок унитаза[83], но после того как в Европе мне сотни раз приходилось стоять под душем с весьма слабым напором, дома я могла по полчаса наслаждаться потоком обжигающе горячей воды. В моем шкафу колыхались индийские сари, юбки с запа́хом из Ганы и вьетнамские шелковые платья с узором из лотосов. Моя речь пестрела заимствованиями: gemütlich[84], scusa[85], bugge[86], mzungu[87]. Я так сочетала и комбинировала по своему вкусу всю планету, что ты порой тревожился о том, что у меня нигде нет никаких обязательств, но тут ты ошибался: просто мои обязательства были широко разбросаны и до неприличия специфичны.
Таким же образом я не могла любить какого-то ребенка – мне нужно было любить именно этого. Моя связь с миром представляла собой множество нитей; твоя – несколько крепких канатов. То же и с патриотизмом: ты любил понятие «Соединенные Штаты» гораздо сильнее, чем саму страну, и именно благодаря тому что ты принимал стремления американцев, ты мог смотреть сквозь пальцы на то, как такие же, как ты, родители-янки с ночи выстраивались в очереди у магазинов игрушек, чтобы купить Nintendo ограниченной серии. В привередливых живет любовь к дешевому шику. В отвлеченном живет великое, непостижимое, вечное. Земные страны и отдельно взятые злобные мальчики могут идти к дьяволу, а понятие «страна» и понятие «сын» будут вечно процветать. Хотя ни ты, ни я никогда не ходили в церковь, я пришла к выводу, что ты по природе своей религиозен.
В конце концов мастит положил конец моим отчаянным попыткам понять, из-за какой именно еды Кевин отказывается от моего молока. Наверное, плохое питание сделало меня восприимчивой к болезням; это, а еще то, как я без конца теребила грудь, чтобы заставить Кевина сосать ее – этого было достаточно, чтобы поранить соски и чтобы из его рта в них попала инфекция. Враждебный к питанию от моей груди, он все равно смог познакомить меня с разложением и распадом, словно в свой нулевой год он уже представлял собой более приземленную часть нашей пары.
Поскольку первым признаком мастита является сильная усталость, нет ничего удивительного в том, что ранние симптомы остались незамеченными. Кевин изматывал меня неделями. Готова поспорить, что ты до сих пор не веришь моим рассказам о его припадках раздражения, хотя неистовство, длящееся шесть-восемь часов, похоже уже не столько на припадок, сколько на естественное состояние, а странными отклонениями от него были те спокойные передышки, свидетелем которых ты становился. У нашего сына случались приступы спокойствия. Это может показаться полным безумием, но упорство, с которым Кевин не по возрасту громко верещал все то время, что мы с ним были одни, а потом, словно кто-то выключал хеви-метал-радио, резко прекращал орать в ту же секунду, как ты возвращался домой – все это выглядело умышленным. В наступившей тишине у меня все еще звенело в ушах, а ты склонялся над нашим сонным ангелом, который без твоего ведома как раз начинал отсыпаться после своих олимпийских усилий в течение дня. Хоть я никогда и не желала тебе испытать ту пульсирующую головную боль, от которой страдала сама, мне трудно было переносить едва уловимое недоверие, которое нарастало между нами, потому что твой опыт общения с сыном совершенно не совпадал с моим. Иногда я питаю ретроспективное заблуждение, думая, что даже в колыбели Кевин учился разделять и властвовать, и планировал показывать нам свой темперамент с настолько разных сторон, что мы с тобой просто обязаны были разругаться. Черты лица у нашего сына были необычно резкими для младенца, в то время как мое лицо все по-прежнему оставалось круглым и доверчивым, как у Марло Томас[88], словно он, еще будучи в утробе, высосал из меня мою проницательность.
Пока у меня не было своих детей, я воспринимала детский плач как нечто недифференцированное. Он был для меня громким или не очень громким. Однако, став матерью, я развила слух. Бывает вопль немой потребности, который, в сущности, есть попытка ребенка нащупать средства языка: эти звуки означают «мокро», «еда», «неудобно». Бывает вопль ужаса: здесь никого нет и вдруг никогда больше никого не появится? Бывает усталое нытье, похожее на призыв в мечеть на Ближнем Востоке или на импровизированное пение – это творческий плач, плач ради развлечения; так плачут дети, которые не особо несчастны – они просто не усвоили, что мы любим ограничивать плач лишь состоянием физического или душевного страдания. Наверное, самым печальным из всех является приглушенное, привычное хныканье младенца, который, возможно, совершенно несчастен, но из-за пренебрежения или предвидения больше не ждет облегчения; он уже в младенчестве смирился с тем, что жить – значит страдать.
О, я могу себе представить, что у новорожденных столько же причин для плача, сколько и у взрослых; однако Кевин не использовал ни один из этих стандартных режимов. Конечно, иногда после твоего возвращения домой он немного капризничал, как нормальный ребенок, которого нужно покормить или переодеть. Ты кормил и переодевал его, и он прекращал плакать. А потом ты смотрел на меня, словно говоря: вот видишь? – и мне хотелось тебя стукнуть.
Когда ты уходил и Кевин оставался со мной, от него невозможно было откупиться чем-то столь мелким и преходящим, как молоко или сухие подгузники. Если его страх быть покинутым повышал уровень децибел, который мог соперничать с промышленной дисковой пилой, то казалось, что он испытывает одиночество поразительной экзистенциальной чистоты: его и близко не могла смягчить эта нависающая над ним изможденная корова и возникающая из нее струя тошнотворной белой жидкости. И я не слышала в этом плаче ни жалобной просьбы, ни острого отчаяния, ни клокочущего безымянного страха. Скорее, он использовал свой голос в качестве оружия, и его вопли бились в стены нашего лофта словно бейсбольная бита, сокрушающая стекла павильона на автобусной остановке. Его кулаки дружно колотили по висящему над кроваткой мобилю, ногами он пинал одеяло, и порой, устав его похлопывать, гладить и переодевать, я отступала и с удивлением наблюдала за чистой энергией этого спектакля. Можно было безошибочно утверждать, что этот поразительный двигатель внутреннего сгорания питался одним: чистым и бесконечно возобновляемым горючим под названием возмущение.
Возмущение чем? – вполне мог бы спросить ты.
Он был сухим, накормленным, выспавшимся. Я накрывала его одеялом и снова его убирала – ему не было ни жарко, ни холодно. Он отрыгнул после еды, и я нутром чуяла, что у него нет колик: Кевин кричал не от боли, а от гнева. Над головой у него висели игрушки, в кроватке были резиновые кубики. Его мать взяла на работе полугодовой отпуск, чтобы проводить с ним каждый день, и я так часто брала его на руки, что у меня болели мышцы. Никак нельзя было сказать, что ему недостает внимания. Как с удовольствием будут отмечать газеты шестнадцать лет спустя, у Кевина имелось в наличии все.
У меня возникла теория, что большинство людей можно поместить в самый простой диапазон, и может быть, в соответствии с их положением на этой шкале проявляется их каждая вторая черта: а именно, насколько им нравится там находиться, просто жить. Думаю, Кевин питал к жизни отвращение. Думаю, Кевин был вне этой шкалы – настолько ему не нравилось здесь находиться. Может, он даже сохранил некие следы духовной памяти о бытии до зачатия, и этого чудесного ничто ему недоставало гораздо больше, чем моей утробы. Казалось, Кевина приводило в ярость то, что никто не спросил, хочет ли он появиться в колыбели, где время бесконечно тянется, а его в этой колыбели не интересует абсолютно ничего. Он – самый нелюбопытный мальчик, которого я когда-либо встречала; из этого правила было лишь несколько исключений, думая о которых я содрогаюсь.
Как-то днем мое состояние стало более тягостным, чем обычно, и временами у меня кружилась голова. Уже много дней я никак не могла согреться, а ведь стоял конец мая, и жители Нью-Йорка ходили в шортах. Кевин устроил мне виртуозный сольный концерт. Я лежала на диване, завернувшись в одеяло, и раздраженно думала о том, что ты набрал как никогда много работы. Это выглядело разумно, поскольку ты, будучи фрилансером, не хотел, чтобы твои давние клиенты нашли тебе замену, а мою компанию можно было доверить подчиненным – никуда она не денется. Но как-то получилось, что из-за этого я весь день торчала в домашнем аду, пока ты весело катался в своем голубом пикапе, высматривая поля с коровами нужной масти. Я подозревала, что, будь ситуация обратной – если бы ты возглавлял процветающую компанию, а я была специалистом по поиску натуры, работающим в одиночку, – то ты ожидал бы, что твоя Ева мигом бросит свою работу.
Когда я услышала, как на нашем этаже с лязгом и дрожью остановился лифт, я как раз заметила, что небольшой участок кожи под моей правой грудью стал ярко-красным, болезненным и странно плотным; точно такая же, только гораздо большего размера область была слева. Ты открыл решетчатую дверь и сразу направился к кроватке. Я была рада, что ты стал таким внимательным отцом, но из двух прочих обитателей нашего лофта только твоя жена понимала значение слова «привет».
– Пожалуйста, не буди его, – прошептала я. – Он уснул всего двадцать минут назад, и сегодня превзошел самого себя. Сомневаюсь, что он вообще засыпает. Он просто вырубается.
– Ты его кормила?
Ты остался глух к моим проклятиям; ты взял его на руки и стал трогать его лицо. Он был в полной отключке и выглядел обманчиво довольным. Может, видел сны о небытии.
– Да, Франклин, – ответила я с чрезмерным самообладанием, – после того как я четыре или пять часов слушала, как маленький Кевин производит фурор своим ором, я об этом подумала. Зачем ты включил плиту?
– В микроволновке разрушаются питательные вещества.
За ланчем в «Макдоналдсе» ты читал книги о грудных детях.
– Это не так просто – понять, чего он хочет и не может попросить. Большую часть времени он понятия не имеет, чего он хочет.
Я успела увидеть, как ты закатил глаза с выражением «о нет, только не начинай снова».
– Ты считаешь, что я преувеличиваю.
– Я этого не говорил.
– Ты думаешь, что он «ноет». Кевин иногда «капризный», потому что голодный…
– Слушай, Ева, я уверен, что он иногда вредничает…
– Вот видишь? Иногда вредничает.
Я проковыляла в кухню, не снимая с себя одеяла.
– Ты мне не веришь!
Я покрылась холодным потом и, должно быть, сильно покраснела или побледнела. От ходьбы у меня болели стопы, и по левой руке прокатывались волны боли.
– Думаю, ты сейчас честно говоришь о том, как тяжело ты это воспринимаешь. Ну а чего ты ждала – что это будет похоже на прогулку в парке?
– Нет, я не ждала, что это будет беззаботная прогулка; но это больше похоже на нападение бандита в парке!
– Слушай, он и мой сын тоже. Я вижу его каждый день. Иногда он немного поплачет – и что? Я бы беспокоился, если бы он не плакал.
Судя по всему, мои свидетельские показания не вызывали доверия. Мне придется призвать в свидетели другого человека.
– Ты понимаешь, что Джон снизу грозится переехать?
– Джон гей, а они не любят детей. Вся эта страна настроена против детей, я только что начал это замечать.
Такая суровость была на тебя не похожа, разве что в кои-то веки ты говорил о реальной стране, а не об усыпанной звездами Валгалле в твоей голове.
– Вот видишь?
Кевин приподнялся у тебя на руках, и мирно, не открывая глаз, взял бутылочку.
– Прости, но большую часть времени он кажется мне вполне добродушным.
– Он сейчас не добродушный, он измотанный! Так же, как и я! Я знаю, что я очень устала, но я как-то не так себя чувствую. Голова кружится. Знобит. Может, у меня температура?
– Очень жаль, – сказал ты официальным тоном. – Тогда отдохни. Я приготовлю ужин.
Я пристально посмотрела на тебя. Такая холодность была совершенно не в твоем характере! Я должна была преуменьшать свои недомогания, а ты – суетиться из-за них. Чтобы вынудить тебя хотя бы для галочки изобразить свою озабоченность, я взяла у тебя бутылочку и приложила твою руку к своему лбу.
– Теплый, – сказал ты, сразу убрав руку.
Боюсь, я не могла больше стоять; кожа болела везде, где ее касалось одеяло. Я, шатаясь, дошла до дивана, и голова моя теперь кружилась от только что сделанного открытия: ты злился на меня. Отцовство тебя не разочаровало – тебя разочаровала я. Ты думал, что женился на стойкой женщине. Вместо этого твоя жена стала проявлять черты нытика того самого капризного сорта, который она сама осуждала в среде недовольных перекормленных американцев, тех, для которых банальное усилие – когда ты трижды пропустил доставку от FedEx и теперь должен идти за ней на склад – представляет собой невыносимый «стресс» и является поводом для дорогостоящей психотерапии и корректировки фармацевтическими препаратами. Ты считал меня смутно ответственной даже за то, что Кевин отказывался сосать грудь. Я отказывала тебе в картине материнства: сладкая нега в постели воскресным утром, тост с маслом в руке, сын сосет грудь, жена раскраснелась, груди проливают свои щедрые дары на подушку, и ты вскакиваешь с кровати и бежишь за фотоаппаратом.
И вот я думала, что вплоть до настоящего момента блестяще скрывала свои истинные чувства по поводу материнства, вплоть до полного небрежения к себе: для того, чтобы в семейной жизни было много лжи, достаточно хранить молчание. Я удерживалась от того, чтобы словно трофей швырнуть на стол самоочевидный диагноз «послеродовая депрессия», и держала эту официальную формулировку при себе. При этом я брала домой горы редактур, но мне удалось просмотреть лишь несколько страниц. Я плохо ела, плохо спала и принимала душ в лучшем случае раз в три дня; я ни с кем не виделась и редко выходила из дома, потому что истерики Кевина были социально неприемлемы для пребывания на публике. И каждый день, сталкиваясь с бесконечно повторяющимися приступами его багровой ненасытной ярости, я повторяла про себя с тупым непониманием: Мне полагается это любить.
– Если ты не справляешься, у нас ведь нет недостатка в средствах.
Я лежала на диване, а ты возвышался надо мной, держа на руках своего сына. Ты был похож на один из тех мощных символов крестьянской преданности семье и родине, которые изображали в советских настенных росписях.
– Мы могли бы нанять помощницу.
– Ой, забыла тебе сказать, – с трудом пробормотала я, – у меня была конференц-связь с офисом. Мы исследуем спрос на издание об Африке. «Африка на Крыльях Надежды». Я подумала, это звучит неплохо.
– Я не имел в виду, – ты наклонился, и твой голос тяжело и жарко отдавался у меня в ушах, – что кто-то другой будет воспитывать нашего сына, пока ты ищешь питонов в бельгийском Конго.
– В Заире, – поправила я.
– Мы в одной лодке, Ева.
– Тогда почему ты всегда принимаешь его сторону?
– Ему семь недель от роду! Он слишком мал, чтобы у него была какая-то сторона!
Я рывком встала. Ты, наверное, подумал, что я готова расплакаться, но мои глаза слезились сами по себе. Когда я неуклюже добралась до ванной, это было не столько для того, чтобы взять термометр, сколько для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что ты не додумался принести мне его сам. Когда я вернулась с градусником, торчащим изо рта, мне показалось, или ты снова закатил глаза?
Я посмотрела на ртутный столбик в свете лампы.
– На, посмотри. У меня все как-то расплывается перед глазами.
Ты рассеянно поднял градусник повыше к свету.
– Ева, ты это специально сделала: поднесла его к лампе или еще что.
Ты потряс градусник, сунул его мне в рот и пошел менять Кевину подгузник.
Я прошаркала к пеленальному столику и снова предложила тебе посмотреть. Ты посмотрел на шкалу и пронзил меня недобрым взглядом.
– Ева, это не смешно.
– О чем ты?
На этот раз я и правда готова была заплакать.
– Ты греешь термометр. Это грязная шутка.
– Я не грею термометр. Я просто подержала его кончик во рту…
– Чушь, Ева, он показывает почти 40 °С!
– Ох.
Ты посмотрел на меня. Ты посмотрел на Кевина, в кои-то веки разрываясь между преданностью нам обоим. Ты торопливо взял его с пеленального столика и уложил в кроватку с такой небрежностью, что он забыл о своем строгом театральном графике и выдал фирменный дневной вопль под названием «я ненавижу весь мир». С мужеством, которое меня всегда в тебе восхищало, ты его проигнорировал.
– Прости меня! – Одним движением ты поднял меня с пола и положил обратно на диван. – Ты и впрямь заболела. Надо позвонить Райнштейн, отвезти тебя в больницу…
Меня клонило в сон, я совсем ослабела. Но я точно помню, как думала, что от меня требуют слишком многого. Интересно, был бы у меня прохладный компресс на лбу, вода со льдом, три таблетки аспирина под рукой и доктор Райнштейн по телефону, если бы термометр показал всего 38,3 °С.
Ева
21 декабря 2000 года
Дорогой Франклин,
я нахожусь в некотором замешательстве, потому что мне только что позвонили по телефону, и я понятия не имею, откуда этот Джек Марлин добыл мой номер, не внесенный ни в один справочник. Он утверждал, что снимает документальные фильмы для NBC. Мне кажется, что курьезное рабочее название его проекта – «Внеклассная деятельность» – выглядит вполне подлинным, и он, по крайней мере, быстро дал понять, что не имеет отношения к фильму «Боль в старшей школе Гладстона» – этому шоу, второпях снятому телеканалом Fox. Джайлс говорил мне, что оно по большей части состояло из слез на камеру и церковных молебнов. И все же я спросила Марлина, с чего он решил, что я захочу поучаствовать еще в одном сенсационном анализе того дня, когда моя жизнь, как я ее понимала, закончилась. Он сказал, что я, возможно, захочу рассказать, как это выглядело «с моей стороны».
– И что же это за сторона?
Я ведь официально заявила, что предполагаю наличие противостояния в семье, когда Кевину было семь недель от роду.
– Например, не был ли ваш сын жертвой сексуального насилия? – сделал маневр Марлин.
– Жертвой? Мы точно говорим об одном и том же мальчике?
– А что с прозаком[89]? – Сочувствующее мурлыканье в его голосе могло быть лишь насмешкой. – Это ведь линия защиты на суде, и довольно хорошо обоснованная.
– Это была идея его адвоката, – еле выговорила я.
– Ну а в целом – может быть, вы считаете, что Кевина недопонимали?
Прости, Франклин, я знаю, что мне стоило повесить трубку, но я так мало общаюсь с людьми за пределами офиса… Что я сказала? Что-то вроде «Боюсь, что я понимаю своего сына слишком хорошо». А еще я сказала: «Если на то пошло, то Кевин, должно быть, один из самых понятых молодых людей в стране. Судят ведь не по словам, а по делам, так? Мне кажется, он донес до людей свое личное мировоззрение лучше, чем это удается большинству. Мне кажется, вам следует брать интервью у детей, которые имеют гораздо меньше способностей к самовыражению».
– Как по-вашему, что именно он пытался сказать? – спросил Марлин, взволновавшись оттого, что сумел выловить живой образчик труднодоступной родительской элиты, представители которой странным образом не желали получить свои пятнадцать минут славы на ТВ.
Я уверена, что звонок записывали, и мне следовало следить за языком. Вместо этого я выпалила:
– Каким бы ни было его послание, мистер Марлин, оно было откровенно неприятным. Ради чего, собственно, вам так хочется предоставить ему еще один форум для обсуждения?
Когда мой собеседник принялся нести какую-то чушь про то, как важно понимать внутренние мотивы детей с нарушениями, чтобы в следующий раз «мы могли это предвидеть», я его обрубила:
– Я предвидела это в течение шестнадцати лет, мистер Марлин, – рявкнула я. – Какая, к черту, от этого польза?!
И я повесила трубку. Я знаю, что он просто выполнял свою работу, но его работа мне не нравится. Меня тошнит от ищеек-журналистов, сопящих у меня под дверью, словно собаки, почуявшие мясо. Я устала от того, что вокруг меня устраивают спектакль.
Я испытала удовлетворение, когда доктор Райнштейн сначала прочла лекцию о том, что это практически небывалый случай, но после этого все же вынуждена была признать, что у меня двусторонний инфекционный мастит. Те пять дней, проведенных в Бет-Изрейел под капельницей с антибиотиками, были мучительными, но я стала ценить физическую боль как форму страдания, которая была мне понятна, в противоположность непостижимому отчаянию, которое принесло мне материнство. И я испытывала огромное облегчение от простого покоя, который меня окружал.
Все еще под влиянием лихорадочного желания зарабатывать на жизнь и возможно – ну признайся! – не желая подвергать проверке «добродушный» темперамент нашего сына, ты воспользовался этой возможностью, чтобы нанять няню. Или правильнее будет сказать двух нянь? Потому что к тому времени, как меня выписали, первая из них уволилась.
И не то чтобы ты сообщил мне об этом сам, добровольно. Когда ты вез меня домой в пикапе, ты просто принялся болтать о чудесной Шиван, и мне пришлось прервать тебя.
– Я думала, ее зовут Карлотта.
– А, та… Знаешь, многие из этих девчонок – иммигрантки, которые просто исчезают, когда в установленный срок их виза превращается в тыкву. Им плевать на детей.
Каждый раз, когда пикап наезжал на кочку, мои груди горели огнем. Мне совсем не хотелось сцеживать молоко по приезде, а именно это мне было велено делать строго раз в четыре часа из-за мастита, даже если молоко потом придется спустить в канализацию.
– Я так понимаю, у Карлотты не получилось.
– Я ей сразу сказал, что он – ребенок. Какающий, пукающий, отрыгивающий…
– …орущий…
– …ребенок. А она как будто ожидала чего-то вроде самоочищающейся духовки.
– И ты ее уволил.
– Не совсем так. Но Шиван – святая. Из Северной Ирландии, подумать только! Может, люди, которые привыкли к взрывам и всякому дерьму, в состоянии не придавать большого значения детскому плачу.
– Значит, Карлотта ушла сама. Всего через несколько дней. Потому что Кевин – какой там у тебя был специальный термин? Капризничал?
– Ты не поверишь: она ушла всего через день. А когда я в обеденный перерыв заглянул проверить, все ли в порядке, у нее хватило наглости настаивать, чтобы я взял на работе короткий день и избавил ее от своего сына. У меня было большое искушение не заплатить ей ни цента, но я не хотел, чтобы приславшее ее агентство внесло нас в черный список.
(Ты как в воду глядел. Приславшее ее агентство внесло нас в черный список два года спустя.)
Шиван и вправду оказалась святой. Невзрачная на первый взгляд, с непослушными черными кудрями и белой кожей без всякого румянца, которая бывает у ирландцев, она имела словно кукольное тело: оно не сужалось в суставах, а лишь слегка изгибалось, и, хотя она была вполне стройной, из-за этих колоннообразных конечностей и отсутствия талии Шиван выглядела толстой. Но со временем она стала казаться мне красивее, потому что была очень доброй. Правда, я встревожилась, когда при нашей первой встрече она упомянула, что является членом христианской секты «Альфа Курс»[90]. Подобных людей я представляла себе бездумными фанатиками и боялась, что меня станут подвергать ежедневным проповедям. Но мое предубеждение Шиван никак не подкрепила – она больше почти не упоминала об этом. Может быть, этот оригинальный религиозный путь был ее попыткой устраниться от католическо-протестантской мишуры на ее родине, в графстве Антрим[91], о которой она никогда не говорила и от которой еще больше отгородилась Атлантическим океаном, словно для пущей надежности.
Ты дразнил меня, говоря, что я так полюбила Шиван просто потому, что она была поклонницей «Крыла Надежды»: она пользовалась нашим путеводителем, когда путешествовала по Европе. Не будучи уверенной в том, к чему «призывает» ее Господь, она сказала, что не представляет себе более восхитительного занятия, чем профессиональный путешественник, и это пробудило во мне ностальгию по той жизни, которая уже отдалялась от меня. Она горела той же гордостью, которой, как я надеялась, однажды загорится и Кевин, когда будет достаточно взрослым, чтобы оценить достижения родителей. В своем воображении я уже радостно представляла, как сын будет внимательно изучать мои старые фотографии и спрашивать, затаив дыхание: Где это? А это что? Ты бывала в АФРИКЕ? Ух ты! Но восхищение Шиван жестоко меня обмануло. Кевин действительно однажды уделил внимание коробке с моими фотографиями: он облил их керосином.
После повторного лечения антибиотиками мастит у меня прошел. Решив, что ребенка нужно окончательно перевести на детскую смесь, я сначала перетерпела нагрубание груди, а потом молоко иссякло; и поскольку теперь у меня дома стояла на страже Шиван, осенью я наконец смогла вернуться в «Крыло Надежды». Какое было облегчение снова хорошо одеваться, быстро двигаться, говорить спокойным взрослым тоном, объяснять людям, что нужно сделать и следить, чтобы они это делали. Пока я заново наслаждалась тем, что прежде было для меня будничным, я также бранила себя за то, что приписывала крошечному бестолковому свертку такие злобные побуждения, как намерение вбить клин между мной и тобой. Мне ведь нездоровилось. Мне оказалось труднее приспособиться к нашей новой жизни, чем я ожидала. Восстановив прежние силы и с радостью обнаружив, что из-за нервотрепки я вернулась к прежней своей фигуре, я решила, что худшее позади, а также сделала себе мысленную пометку: в следующий раз, когда кто-то из подруг родит первого ребенка, я буду из кожи вон лезть, выражая ей сочувствие.
Когда я приходила домой, я часто приглашала Шиван посидеть со мной за чашкой кофе. Удовольствие, которое я получала от бесед с женщиной почти вдвое младше меня, было не столько радостью от общения с другим поколением, сколько более привычной радостью от возможности хоть с кем-то поговорить. Я доверялась Шиван, потому что не могла довериться своему мужу.
– Вы, наверное, ужасно хотели родить Кевина, – сказала однажды Шиван. – Видеть столько достопримечательностей, встречаться с удивительными людьми – и подумать только, вам еще за это платят! Не представляю, как можно от этого отказаться.
– А я и не отказывалась, – сказала я. – Примерно через год я буду заниматься бизнесом как обычно.
Шиван помешала свой кофе.
– А это то, чего ожидает Франклин?
– Это то, чего ему следует ожидать.
– Но он как-то сказал, что вроде… – было видно, что ей неудобно сплетничать, – что ваши отъезды на месяц или вроде того… что этого больше не будет.
– Ну, в какой-то момент я действительно немного выгорела. У меня вечно заканчивалось чистое нижнее белье, вечно эти забастовки железнодорожников во Франции. Может, у него сложилось неверное впечатление.
– Ох, да, – печально сказала она. Сомневаюсь, что она пыталась доставить мне неприятности, хотя явно видела, что они грядут. – Должно быть, ему было очень одиноко, когда вы уезжали. А теперь, если вы снова отправитесь в путешествия, он будет единственным, кто присмотрит за крошкой Кевином в мое отсутствие. Хотя, конечно, в Америке некоторые папы ведь сидят дома, пока мамы работают, да?
– Американцы бывают разные. Франклин не из тех, кто станет сидеть дома.
– Но вы ведь управляете целой компанией. Вы-то уж точно можете себе позволить…
– Только в финансовом смысле. То, что про его жену пишут в журнале Fortune[92], а он при этом всего лишь подбирает место для съемок рекламы на одном из разворотов – это само по себе уже достаточно тяжело.
– Франклин сказал, что вы раньше проводили в путешествиях по пять месяцев в году.
– Очевидно, – мрачно сказала я, – мне придется сократить длительность отъездов.
– Знаете, вам может казаться, что Кевин чуточку хитроват или вроде того. Он… неспокойный мальчик. Иногда они это перерастают.
А потом отважилась решительно добавить:
– А иногда нет.
Ты считал, что Шиван предана нашему сыну, но мне казалось, что ее лояльность больше касается тебя и меня. Она редко говорила о Кевине вне практического контекста: новый набор бутылочек простерилизован; одноразовые подгузники заканчиваются. Такой механический подход казался несвойственным ей с ее пылким характером. (Хотя однажды она заметила: «Глаза у него словно пуговицы, верно?» Она нервно засмеялась и уточнила: «То есть они… смотрят очень пристально». «Да, их взгляд пугает, правда?» – откликнулась я настолько нейтрально, насколько могла.) Но нас с тобой она обожала. Ее восхищала свобода, которую нам обоим давало индивидуальное предпринимательство, и несмотря на евангельскую романтику «семейных ценностей», она явно была обескуражена тем, что мы по собственной воле урезали эту головокружительную свободу, обременив себя младенцем. И может быть, мы давали ей надежду на ее собственное будущее. Мы достигли средних лет, но мы слушали The Cars