Читать онлайн Город чудес бесплатно
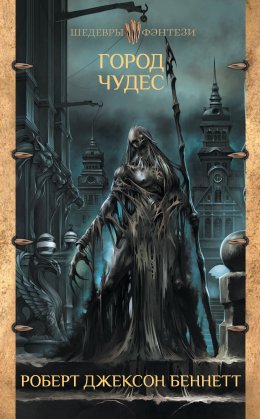
Robert Jackson Bennett
CITY OF MIRACLES
Публикуется с разрешения автора и его литературных агентов, Donald Maass Literary Agency, Inc (США) при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия)
Серия «Шедевры фэнтези»
Перевод с английского: Наталия Осояну
Дизайн обложки Юлии Межовой
В оформлении обложки использована иллюстрация Михаила Емельянова
Copyright © 2017 by Robert Jackson Bennett. All rights reserved.
© Наталия Осояну, перевод, 2019
© Михаил Емельянов, иллюстрация, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019
* * *
Посвящается Харви.
Привет, малыш. Добро пожаловать на Землю. Местечко весьма шикарное, и я тебе рекомендую тут задержаться.
Кто знает – может быть, станет еще лучше. Может быть. По крайней мере, мы стараемся.
Честное слово.
1. Поваленные деревья
Любая политическая карьера оборачивается крахом.
Бывают долгие карьеры, бывают короткие. Одни политики идут ко дну грациозно и хладнокровно, а другим такое не вполне удается.
Но какими бы ни были эти самые политики – любимыми или ненавидимыми, сильными или слабыми, поборниками справедливости или творцами беззакония, толковыми или бестолковыми, – в итоге в самом конце карьера любого из них оборачивается крахом.
Из письма министра иностранных дел Виньи Комайд премьер-министру Анте Дуниджеш. 1711 г.
Когда Рахул Кхадсе подходит к молодому человеку, чтобы попросить сигарету, тот сперва ведет себя высокомерно, а потом снисходит до ворчливой вежливости. Понятно, что у него перекур, единственная возможность забыть про свои обязанности и расслабиться в одиночестве в переулке позади отеля, и он нервничает из-за того, что кто-то помешал. Еще понятно, что молодой человек занимает серьезный пост – достаточно одного взгляда на его темный пиджак узкого фасона, черные ботинки, загорелую кожу и черный тюрбан, чтобы понять: он военный, полицейский или начальник охраны какой-нибудь важной шишки. Может, сайпурской, может, континентской – но, несомненно, кто-то платит ему за то, чтобы он внимательно смотрел по сторонам.
Однако на Рахула Кхадсе молодой человек глядит без особого внимания, лишь с вежливым презрением. Ну разумеется, с чего ему беспокоиться из-за Кхадсе? С чего ему переживать из-за старика в грязных очках, с потертым портфелем и в несвежем тюрбане набекрень?
– Ладно, – говорит молодой человек, уступая. – Почему бы и нет.
Кхадсе коротко кланяется.
– Спасибо, господин. Спасибо. – Он опять кланяется, ниже, а молодой человек, выполняя просьбу, сует руку внутрь пиджака, чтобы достать портсигар.
Молодой человек не замечает, как Кхадсе заглядывает ему под пиджак и мельком видит рукоять пистолета в кобуре. Молодой человек не замечает, как Кхадсе аккуратно ставит на землю портфель, как его правая рука тянется к поясу во время поклона и вытаскивает нож. Того, как Кхадсе делает шажок вперед, принимая сигарету, он тоже не замечает.
Он ничего этого не замечает, потому что молод. А молодости, увы, свойственна глупость.
Глаза юноши распахиваются, когда нож плавно входит в пространство между его пятым и шестым ребрами с левой стороны, протыкает легкое и задевает мембрану вокруг сердца. Кхадсе подается вперед, когда всаживает лезвие, левой рукой закрывает разинутый рот и толкает голову назад, так что череп юноши с глухим ударом врезается в кирпичную стену переулка.
Юноша пытается сопротивляться, но, пусть он и силен, этот танец Рахул Кхадсе знает слишком хорошо. Он подается вправо, не отпуская рукоять ножа, разворачивается всем телом. Потом скользящим движением вытаскивает лезвие из груди юноши и делает шаг в сторону, аккуратно увертываясь от брызнувшей крови, пока жертва сползает вдоль стены переулка.
Кхадсе озирается по сторонам, пока молодой человек испускает дух. День выдался дождливый, туманный и унылый, как нередко случается в это время года в Аханастане, и лишь немногие отваживаются выбраться из дома. Никто не замечает, как старикашка в переулке позади «Золотого отеля» рассматривает улицы, глядя поверх очков.
Молодой человек задыхается. Кашляет. Кхадсе откладывает нож, встает над своей жертвой, хватает за лицо и бьет головой об стену, снова и снова, опять и опять.
В таких вещах важна уверенность.
Когда молодой человек застывает, Кхадсе натягивает пару коричневых перчаток и аккуратно проверяет его карманы. Находит пистолет, разряжает и выкидывает – у него, разумеется, есть собственный, – после чего продолжает обыск, пока не обнаруживает необходимое: отельный ключ от номера 408.
На ключе много крови. Приходится его обтереть там же? в переулке, вместе с ножом. Впрочем, ничего страшного.
Кхадсе кладет находку в карман и думает: «Это было нетрудно».
А вот теперь начинается рискованная часть. Точнее, то, что его наниматель назвал рискованной частью. По правде говоря, Кхадсе не так уж легко разбираться в том, по поводу каких приказов нанимателя стоит беспокоиться, а какие можно проигнорировать. Это потому что нынешний наниматель Рахула Кхадсе, по его собственной оценке, абсолютный, бесспорный, совершенно-мать-его-чокнутый безумец.
Впрочем, а разве могло быть иначе? Только сумасшедший мог послать наемника вроде Кхадсе разобраться с одной из самых противоречивых политических фигур современности, женщиной столь уважаемой, знаменитой и влиятельной, что всем не терпится дождаться суда истории, чтобы понять, как следует относиться к ее сроку пребывания в должности премьер-министра.
Персона, прямо скажем, легендарная. И в том смысле, что она как будто явилась из легенды, и в том, что за свою жизнь успела лично прикончить парочку легенд, о чем было известно широкой общественности.
Возможно, Кхадсе сошел с ума, взявшись за эту работу. Или, может, он хотел проверить себя – хватит ли сил? В любом случае он собирается ее выполнить.
Рахул Кхадсе подходит к концу переулка, выглядывает на аханастанскую улицу, потом поворачивает направо и поднимается по лестнице в отель, где остановилась Ашара Комайд.
* * *
«Золотой отель» остается одним из самых прославленных и знаменитых мест в Аханастане, реликвией той эры, когда Сайпурское государство беспрепятственно вмешивалось в дела Континента по своему усмотрению, разбрасываясь зданиями, блокадами и эмбарго, согласно собственным причудам. Войти в эти двери – все равно что вернуться в прошлое, потому что внутри имперское величие Сайпура, знакомое Кхадсе не понаслышке, сохранено в безупречном виде, как чучело птицы в музее живой природы.
Кхадсе останавливается в вестибюле, словно для того, чтобы поправить очки. Мраморные полы, бронзовая фурнитура и пальмы. Он считает тела: привратник, метрдотель, горничная в дальнем углу, три девушки за стойкой. Никаких охранников. По крайней мере таких, как только что убитый им в переулке юноша. Кхадсе в подобных делах стреляный воробей, и они с помощниками сделали домашнюю работу: ему известно расписание охранников, их количество и посты. Его подручные следили за отелем неделями, готовя каждый шаг этого щекотливого испытания. Но теперь Кхадсе в одиночку должен все завершить.
Он поднимается по ступенькам, с его темного пальто капает вода. Пока что все идет очень гладко. Он пытается не думать о нанимателе, его безумных посланиях и его деньгах. Обычно Кхадсе с удовольствием размышляет о вознаграждении за работу, но не в этот раз.
В основном потому, что сумма невообразимая, даже по меркам Кхадсе, который собаку съел на фантазиях о больших деньгах – вообще-то он этим фантазиям и посвящает почти все свободное время. Сегодня не первое задание, которое он выполняет для нанимателя, но в качестве платы ему обещано куда больше, чем в прошлый раз. От такой суммы недолго и встревожиться.
Но требования по поводу гардероба… это странно. Действительно, очень странно.
Ибо когда Кхадсе отправился забирать последние причитающиеся ему деньги, вместе с ними он обнаружил сложенное черное пальто и черные блестящие туфли. И то и другое сопровождалось строгими указаниями: он был должен надевать эти предметы одежды, когда выполнял обязанности по контракту, без исключений. Между строк читалось, что, если Кхадсе ослушается, его жизнь окажется в опасности.
В тот момент Кхадсе просто подумал: «Ну ладно. Мой новый наниматель – чокнутый. Я уже работал на безумцев. Все не так плохо». Но, примерив пальто и туфли, он обнаружил, что сидят те безупречно – и это было очень странно, потому что Кхадсе никогда не встречался с новым нанимателем и уж точно не сообщал ему свой размер обуви.
Он пытается не думать об этом, пока поднимается на третий этаж. Пытается не думать о том, что прямо сейчас одет именно в это пальто и эти туфли – такие аккуратные, темные, безупречные. Пытается не думать, до чего все вопиюще странно, включая и тот факт, что наниматель особо указал, чтобы Кхадсе отправился выполнять задание один, без своих обычных спутников.
Кхадсе достигает третьего этажа. Осталось совсем немного.
«Я бы вообще не занимался этой проклятой работой, – думает он, – если бы не Комайд». И это в каком-то смысле правда: когда Ашара Комайд стала премьер-министром, лет этак семнадцать назад или около того, первым пунктом в ее повестке дня было вычистить из Министерства иностранных дел всех ярых противников. Таких, как Кхадсе, который в то время поучаствовал во многих делах, большей частью весьма грязных.
Он все еще помнит ее служебное письмо, в котором каждая строчка излучала привычные для Комайд самодовольство и самоуверенность: «Мы должны помнить не только то, что мы делаем, но и то, как мы это делаем. Таким образом, министерство вступает в период реорганизации и переориентации, поскольку мы вносим коррективы на будущее».
Ашара Комайд наводила порядок в доме, вышвыривая всех, кого завербовала ее тетя, Винья Комайд, – а Кхадсе всегда был фаворитом Виньи.
И вот внезапно все изменилось. После десятилетия службы он оказался на улице в Аханастане, и про него быстро забыли. Он думал, что получит хоть какое-то утешение, когда саму Комайд вытурили из парламента – когда это было, лет тринадцать назад? Но у политиков всегда есть парашюты. Это рядовых, вроде Кхадсе, ожидает более жесткая посадка. Даже личный бандит Комайд, этот неуклюжий одноглазый болван-дрейлинг, – даже он удостоился почетной отставки, какой-то там королевской должности на дрейлингских берегах; впрочем, по слухам, придурок нашел способ все испортить.
«Я бы сделал это бесплатно, – думает Кхадсе, и внутри у него все бурлит. – Двенадцать лет службы, а потом – пока-пока, Рахул, прощай и распростись со всем, ради чего ты работал, за что ты боролся, за что истекал кровью, а я собираюсь растратить казну министерства на бесполезный идеализм, и пускай разведка превратится в дымящийся кратер за моей спиной».
Он идет по коридору четвертого этажа. Охранница – молодая, собранная, вся в черном – стоит по стойке смирно на углу. Как Кхадсе и ожидал.
Кхадсе подходит к девушке, волоча ноги; ни дать ни взять сбитый с толку трясущийся старикан со смазанным листком, на котором записаны имя и номер в отеле.
– Простите, сударыня, – говорит Кхадсе, низко кланяясь и излучая подобострастие, – но… кажется, я попал не на тот этаж?
– Верно, – отвечает охранница. – Этот этаж закрыт для посторонних, сэр.
– Пятый этаж закрыт для посторонних? – изумленно переспрашивает Кхадсе.
Охранница почти закатывает глаза.
– Пятого этажа не существует, сэр.
– Да что вы говорите? – Он озирается. – Но что это за этаж…
– Четвертый, сэр.
– Ох. Скажите, я ведь в «Золотом отеле», верно?
– Да, верно.
– Но я… батюшки мои. – Кхадсе роняет бумажку, и та улетает к ногам охранницы.
Девушка со вздохом наклоняется, чтобы ее поднять.
Она не видит, как Кхадсе легко заходит ей за спину. Не видит, как он выхватывает нож. Не успевает отреагировать, когда сталь вонзается в яремную вену и вскрывает ее.
Кровь бьет фонтаном. Кхадсе отпрыгивает в сторону, чтобы на одежде не осталось ни пятнышка; мельком приходит мысль, что способность избегать кровавых пятен на вещах – один из его самых странных, но и самых ценных талантов. Охранница падает на колени, издавая сдавленные звуки, и он бросается к ней, наносит сокрушительный удар ногой в затылок.
Охранница валится на пол, заливая его кровью. Кхадсе снова откладывает свой портфель и надевает коричневые перчатки. Вытирает и прячет нож, потом обыскивает мертвую. Находит отельный ключ – на этот раз от номера 402, – хватает охранницу за ноги и затаскивает за угол, чтобы не была на виду.
«Теперь нельзя медлить. Быстро, быстро».
Он прижимается ухом к двери 402-го – на этом этаже только номера люкс – и, ничего не услышав, открывает. Затаскивает труп, бросает за диваном. Вытирает коричневые перчатки, снимает и выходит из номера, по пути изящным жестом подобрав портфель.
Переступая через пятна крови, он сдерживает желание радостно насвистывать. Кхадсе всегда был хорош с ножом. Пришлось научиться после той операции в Жугостане, когда какой-то местный обратил внимание на его походку и приложил немало усилий, чтобы перерезать шпиону горло. От этой истории у Кхадсе остался мертвенно-бледный шрам на шее и склонность подбираться близко и действовать грязно. «Делайте с континентцами, – говорил он коллегам, – то, что они могли бы сделать с вами».
Он идет в номер 408 – который, как и ожидалось, находится прямо рядом с королевским люксом, где вот уже месяц располагается офис Ашары Комайд. Кхадсе точно не знает, чем она занимается. Ходят слухи, что Комайд руководит каким-то там благотворительным фондом, собирает бездомных детей и подыскивает им дома.
Но, если верить нанимателю Кхадсе, дело отнюдь не в этом.
«Впрочем, – думает Кхадсе, тихонько открывая номер 408, – чокнутый ублюдок также сообщил, что отель напичкан средствами защиты. – Он распахивает дверь. – Но я бы не назвал двух молокососов такими уж суровыми защитниками».
И опять Кхадсе пытается не думать о пальто и туфлях, в которые одет прямо сейчас. Пытается не думать, почему наниматель предположил, что эти предметы одежды воспрепятствуют защитным мерам Комайд – ведь это, конечно же, означало бы, что Кхадсе не в силах увидеть, как именно защищена ее контора.
Это его весьма тревожит.
«Бред сивой кобылы, вот что это такое, – думает он, закрывая за собой дверь. – Попросту бред сивой кобылы».
Люкс пуст, но обстановка отлично знакома Кхадсе, от оружия на дальнем столике до отчетов службы безопасности на прикроватной тумбе. Здесь охранники готовятся к работе – вот и телескоп, с чьей помощью они с балкона наблюдают за улицей, – а вот тут они спят в перерыве между сменами.
Кхадсе подбирается к стене, прижимается к ней ухом и прислушивается. Он почти уверен, что Комайд там, с еще двумя охранниками. Необычно много телохранителей для бывшего премьер-министра, но ведь Комайд чаще угрожали расправой, чем почти всем ныне живущим политикам.
Он слышит двух телохранителей. Слышит, как они прочищают горло, тихонько кашляют. Но Комайд он совсем не слышит. И это вызывает беспокойство.
Она должна быть там. Должна, без вариантов. Он хорошо подготовился.
Быстро соображая, Кхадсе тихонько проходит на балкон. В дверях стеклянные окна, прикрытые тонкими белыми занавесками. Он подбирается бочком к этим окнам и выглядывает наружу, на соседний балкон.
Его глаза широко распахиваются.
Она там.
Вот она – сидит, собственной персоной. Женщина из рода каджа, покорителя богов и Континента; та, которая почти двадцать лет назад сама убила двух Божеств.
Какая она маленькая. Какая хрупкая. Ее волосы белы как снег – преждевременная седина, конечно, – и она сидит, ссутулившись, в небольшом кованом кресле, смотрит на улицу внизу, держа в маленьких руках кружку с чаем, над которой вьется пар. Кхадсе так поражен ее малостью, ее банальностью, что почти забывает о своем задании.
«Это неправильно, – думает он, отступая в комнату. – Неправильно, что она сидит снаружи, у всех на виду. Слишком опасно».
Тут его сердце замирает. «Комайд все еще оперативный работник в душе, после стольких лет. А зачем оперативник наблюдает за улицей? Да еще и выставив себя напоказ?»
Ответ очевиден: Комайд чего-то ждет. Возможно, сообщения. И хотя Кхадсе понятия не имеет, о чем оно и когда может прибыть, сообщение способно заставить Комайд действовать. И тогда все усилия пойдут прахом.
Кхадсе резко поворачивается, приседает и открывает портфель. Внутри кое-что очень новое, очень опасное и очень мерзкое: адаптированная версия противопехотной мины, устроенная таким образом, чтобы всю силу взрыва направить в одну сторону. Для этого конкретного дела ее еще и усилили, ведь большинство противопехотных мин не пробивают стены, но эта заряжена так, что никаких проблем возникнуть не должно.
Кхадсе вытаскивает мину и аккуратно прикрепляет к стене, за которой расположен люкс Ашары Комайд. Он облизывает губы, проходя процедуру активации – три простых этапа, – а потом устанавливает таймер на четыре минуты. Этого должно хватить, чтобы он успел выбраться из опасной зоны. Но если что-то пойдет не так, у него есть еще одна новая игрушка: радиопередатчик, который позволит при необходимости взорвать бомбу раньше.
Он очень надеется, что до этого не дойдет. Ведь тогда сам Кхадсе может оказаться слишком близко. Но в таких вещах надо предусматривать все варианты.
Он встает, выглядывает, чтобы в последний раз взглянуть на Комайд, бормочет: «Прощай, сука проклятая», – и выскальзывает из номера.
К концу коридора, мимо пятен крови, потом вниз по лестнице. Вниз по лестнице и через вестибюль, где все идет по старому скучному сценарию: люди, зевая, листают газеты, борются с похмельем, попивая кофе, или пытаются решить, чем заняться в выходной.
Никто из них не замечает Кхадсе. Никто из них не видит, как он поспешно пересекает вестибюль и выходит на улицу, где моросит дождь.
Кхадсе не впервые выполняет такую работу, так что ему вообще-то полагается быть спокойным. Его сердце не должно сбивчиво колотиться. Но почему-то колотится.
«Комайд. Наконец-то. Ну наконец-то, наконец-то…»
Надо уходить. Надо уйти на юг или на восток. Но он не в силах удержаться. Он идет на север – на ту самую улицу, за которой наблюдает Комайд. Он хочет увидеть ее в самый последний раз, хочет насладиться своей неотвратимой победой.
Когда Кхадсе поворачивает за угол, солнце выглядывает из-за туч. Улица почти пуста, ведь в такой час все уже на работе. Он держится у стены здания, безмолвно отсчитывает секунды, не приближается к «Золотому отелю», но разрешает себе быстрый взгляд в сторону…
Балконы, балконы. Вот он замечает ее на балконе четвертого этажа. Пар над чашкой виден даже отсюда.
Кхадсе ныряет в подворотню, чтобы оттуда следить за нею, и от предвкушения кровь бурлит у него в жилах.
«Уже скоро. Уже скоро».
И тут Комайд садится прямо. Хмурится.
Кхадсе тоже хмурится. «Она что-то видит».
Он чуть высовывается из подворотни, чтобы разглядеть, на что смотрит Комайд.
И обнаруживает юную девушку-континентку: она стоит на тротуаре, глядит прямо на балкон Комайд и яростно жестикулирует. Девчонка бледная, курносая, с густыми вьющимися волосами. Кхадсе никогда раньше ее не видел, и это плохо. Его помощники как следует подготовились. Они должны были знать всех до единого, с кем вступает в контакт Комайд.
Но вот этот жест – три пальца, потом два. Кхадсе не знает, в чем смысл чисел, зато смысл жеста ясен: это предупреждение.
Продолжая подавать знаки Комайд, девчонка окидывает улицу взглядом. И замечает Кхадсе.
Она цепенеет. Они с Кхадсе смотрят друг на друга.
Глаза у нее очень, очень любопытного цвета. Не синие, не серые, не зеленые, не карие… такое впечатление, что они бесцветные.
Кхадсе бросает взгляд на Комайд. Оказывается, она смотрит прямо на него.
На лице Комайд появляется гримаса отвращения, и хотя это невозможно – с такого расстояния? И после стольких лет? – Кхадсе готов поклясться, что она его узнала.
Он видит, как шевелятся ее губы, произнося всего одно слово: «Кхадсе».
– Вот дерьмо, – говорит Кхадсе.
Его правая рука ныряет в карман, где спрятан радиодетонатор. Он снова глядит на бледную девчонку в ожидании атаки, но незнакомка уже исчезла. Тротуар чуть дальше по улице от него совершенно пуст. От нее не осталось и следа.
Кхадсе встревоженно озирается, спрашивая себя, не нападет ли она. Но ее рядом нет.
Потом он опять смотрит вверх, на Комайд – и понимает, что случилось невероятное.
Бледная девчонка теперь на балконе с Шарой, помогает ей встать, пытается увести.
Он смотрит на них, ошеломленный. Как девушка могла так быстро переместиться? Как она могла исчезнуть из одного места и внезапно появиться через дорогу и четырьмя этажами выше? Это невозможно.
Девушка распахивает балконные двери и затаскивает Комайд в комнату.
«Я раскрыт, – думает он. – Они удирают».
Рука Кхадсе сжимает детонатор.
Он слишком близко. Он прямо через дорогу. Но он раскрыт.
Другого выхода нет. Нужно быть уверенным в таких вещах.
Кхадсе нажимает на кнопку.
От взрыва его швыряет оземь, осыпает мусором; в ушах звенит, а глаза слезятся. Как будто кто-то ударил его по вискам и пнул в живот. Он чувствует боль в правом боку и постепенно понимает, что взрывной волной его долбануло о стену, только это произошло слишком быстро, чтобы он успел осознать.
Мир вокруг него плывет. Кхадсе медленно садится.
Все выглядит тусклым и далеким. Мир полон приглушенных криков. Воздух тяжелый от дыма и пыли.
С трудом моргая, Кхадсе смотрит на «Золотой отель». Верхний правый угол здания исчез как вырезанная опухоль, и на месте балкона Комайд осталась зияющая, дымящаяся дыра с неровными краями. Похоже, мина уничтожила не только люкс Комайд, но и номер 408 и большинство комнат вокруг него.
Нет никаких признаков Комайд или странной девушки. Он подавляет желание подойти поближе, убедиться в том, что работа выполнена. Он просто смотрит на разрушения, вскинув голову.
Континентец – судя по одежде, кто-то вроде пекаря – останавливает его и лихорадочно спрашивает:
– Что случилось? Что случилось?
Кхадсе поворачивается и уходит. Он спокойно идет на юг, мимо бегущих очевидцев, мимо полиции и медицинских автомобилей, мчащихся по улицам, мимо толп, собирающихся на тротуарах, – все они смотрят на север, на колонну дыма, который струится из «Золотого отеля».
Он не говорит ни слова, ничего не делает. Просто идет. Он едва дышит.
Он добирается до своего убежища. Убеждается, что никто не трогал ни дверь, ни окна, потом отпирает замок и входит внутрь. Идет прямо к радио, включает его и стоит там почти три часа, слушая.
Он ждет и ждет, пока наконец не начинают сообщать о взрыве. Он продолжает ждать, пока не объявляют главное:
«…только что подтвердили, что Ашара Комайд, бывший премьер-министр Сайпура, была убита в результате взрыва…»
Кхадсе медленно выдыхает.
Затем медленно-медленно опускается на пол.
А потом, к собственному удивлению, начинает смеяться.
* * *
Они подходят к дереву утром, пока в подлеске еще не рассеялся туман, неся топоры и двуручную пилу, в касках и с ранцами, притороченными к спинам. Дерево отмечено пятном желтой краски, которая стекает по стволу. Они осматривают местность, прикидывают, куда должно упасть дерево, а потом, как хирурги в начале сложной операции, приступают к делу.
Пока остальные суетятся, он смотрит на дерево и думает: «Убедить это великое старое существо упасть – все равно что вырезать часть самого времени».
Все начинается с подпила: они с напарником водят пилой туда-сюда, и ее изогнутые зубья вгрызаются в мягкую белую плоть, опилки сыплются на руки и на ноги, заваливают сапоги. Достигнув нужной глубины, они начинают рубить топорами, размахивают ими, как поршни в двигателе, вверх-вниз, вверх-вниз, отсекая огромные куски дерева.
Они останавливаются, чтобы вытереть пот со лба и оценить свою работу.
– Что скажешь, дрейлинг? – спрашивает бригадир.
Сигруд йе Харквальдссон медлит с ответом. Он бы хотел, чтобы они использовали имя, которым он им назвался, – Бьорн, – но такое бывает редко.
Он встает на колени и засовывает голову в выемку, смутно осознавая, что прямо над его черепом повисло несколько тонн древесины. Потом прищуривается, поднимается, машет влево и говорит:
– Десять градусов на восток.
– Уверен, дрейлинг?
– Десять градусов на восток, – повторяет он.
Другие мужчины переглядываются, ухмыляясь. Потом возобновляют работу, внеся небольшую поправку в подпил.
Закончив с ним, они переходят на противоположную сторону дерева и опять начинают работать пилой, рассекая ствол мучительно выверенными движениями, стараясь приблизиться к подпилу, но не слишком сильно.
Когда напарник на другом конце пилы устает, Сигруд просто терпеливо ждет, пока кто-то другой его подменит. Потом они снова пилят.
– Провалиться мне на этом месте, дрейлинг, ты машина? – спрашивает бригадир.
Он не разговаривает, пока пилит.
– Если я вскрою тебе грудную клетку, там будут только шестеренки?
Сигруд молчит.
– У меня в бригаде уже были дрейлинги, но ни один из них не мог работать пилой, как ты.
И снова ничего.
– Наверное, все дело в молодости, – решает бригадир. – Быть таким молодым, как ты, – да, вот в чем секрет.
Сигруд по-прежнему ничего не говорит. Но последнее утверждение его весьма беспокоит. Ибо его нельзя назвать юношей даже с очень большой натяжкой.
Время от времени они перестают пилить и прислушиваются: раздается глубокий, жалобный треск, как будто где-то рушится ледник. Это чем-то напоминает спор, в котором старый друг неохотно соглашается с твоими доводами: «Пожалуй, ты прав, пожалуй, я должен упасть… Пожалуй, так надо».
И вот наконец они слышат этот звук – бац-бац-бац! – как будто лопаются струны огромной арфы. Бригадир кричит: «Падает!» – и они бросаются прочь, придерживая каски.
Старый гигант рушится со стоном и треском ветвей, комья земли разлетаются во все стороны от его падения. Когда оседает пыль, лесорубы подбираются обратно. Светлый круг древесины на обрубленном конце ствола как будто излучает приглушенное сияние.
Сигруд на миг задерживает взгляд на пне – вот и все, что обозначит десятилетия существования дерева на этом месте, – и подмечает бесчисленные годовые кольца. Как странно, что такого колосса за несколько часов уничтожила горстка дураков с топорами и пилой.
– На что уставился, дрейлинг? – спрашивает бригадир. – Влюбился? Начинай цеплять эту проклятую штуку, а то я тебе мозги еще сильней взбаламучу!
Другие лесорубы хихикают, взбираясь на упавшее дерево. Сигруд знает, что о нем думают: туповат – видать, в детстве по башке получил. Вот почему, шепчутся они между собой, он ни с кем не разговаривает, никогда не снимает перчаток и один его глаз смотрит все время вправо, а не на то, что перед ним; вот почему он никогда не устает, орудуя пилой, – конечно, его организм просто не замечает усталости. Ни один нормальный человек не выдержал бы такое грубое обращение без единого слова.
Он не против их болтовни. Лучше пусть недооценивают, чем переоценивают. Если он будет слишком выделяться, привлечет ненужное внимание.
Сигруд взмахивает топором, отсекая ветку со ствола. «Тринадцать лет меняю одну ерундовую работу на другую». Ему не нравится идея о том, чтобы снова уйти, но он не хочет, чтобы его присутствие заметили. Так что он ведет себя тихо.
Он сосредотачивается на одном и том же вопросе, который снова и снова приходит ему на ум: «Может, сегодня она позовет меня? Может, сегодня она попросит меня снова ожить?»
* * *
Бригада лесорубов отрабатывает норму, и оттого к наступлению ночи, когда они отправляются в обратный путь в лагерь, чьи огни костров видны на полпути вниз по горному склону, настроение у всех приподнятое. Они спускаются через вырубленные дочиста леса, суровые пустоши, испещренные унылыми пеньками точно оспинами, их тележка с инвентарем позвякивает и побрякивает на ухабах. Чем ближе к лагерю, тем сильнее они спешат. Их лесосека не так уж далеко от Мирграда, так что крепленое вино здесь достойное, пусть еда и отвратная.
Но когда они входят в лагерь, там не слышно обычных громких разговоров, песен и сиплых возгласов, знаменующих празднование того, что прожит очередной день с топором в руках. Несколько попавшихся им навстречу лесорубов держатся группками, как гости на похоронах, и о чем-то перешептываются.
– Да что такое приключилось нынче вечером, чтоб мне провалиться? Эгей, Павлик! – зовет бригадир идущего мимо лесоруба с вислыми усами. – Что за новости? Опять несчастный случай?
Павлик трясет головой, его усы качаются из стороны в сторону, как маятник в напольных часах.
– Нет, не несчастный случай. По крайней мере не здесь.
– В каком смысле?
– Говорят, в Аханастане кое-кого убили. Ходят слухи о войне. Опять.
Лесорубы переглядываются, не понимая, стоит ли отнестись к известию серьезно.
– Тьфу! – говорит бригадир и сплевывает. – Опять кого-то убили… Об этом сообщают таким мрачным тоном, словно жизнь какого-нибудь дипломата стоит ну прям очень много. Но в конце концов все уляжется, надо просто подождать.
– О, я бы согласился, будь это попросту какой-нибудь дипломат, – возражает Павлик. – Но все не так. Это Комайд.
Бригада умолкает.
Потом кто-то тихим голосом спрашивает:
– Комайд? Что… случилось с Комайд?
Лесорубы расступаются, чтобы посмотреть на Сигруда, который стоит возле тележки, выпрямив спину. Но тут они замечают, что его взгляд сделался намного ярче и чище, чем им помнится, и он не только стоит прямо, но еще и кажется выше ростом – вообще-то намного выше, как будто его хребет каким-то образом удлинился на три дюйма.
– В каком смысле – что случилось с Комайд? – спрашивает Павлик. – Она умерла, разумеется.
Сигруд не сводит с него взгляда.
– Умерла? Ее… Она умерла?
– Она и еще куча народу. Новость передали по телеграфу сегодня утром. Ее взорвали вместе с половиной фешенебельного отеля в центре Аханастана, шесть дней назад, множество людей поги…
Сигруд делает шаг к Павлику.
– Тогда откуда они знают? С чего вдруг они уверены, что она мертва? Они знают наверняка?!
Павлик не знает, что сказать, а Сигруд приближается – и вот громила-дрейлинг уже нависает над лесорубом, словно одна из тех пихт, которые они валят каждый день.
– Ну, э-э… Ну они же нашли тело, конечно! Или то, что от него осталось. Будут пышные похороны, и все такое, об этом во всех газетах пишут!
– Почему Комайд? – спрашивает кто-то. – Она была премьер-министром больше десяти лет назад. Зачем убивать того, кто уже не при делах?
– Откуда мне знать? – огрызается Павлик. – Может, кто-то отомстил за давнюю обиду. Она разозлила почти всех, пока была в должности; говорят, список подозреваемых такой длинный, что им можно дважды обернуть квартал.
Сигруд медленно поворачивается и опять смотрит на Павлика.
– Значит, – тихо говорит дрейлинг, – они не знают, кто… сделал с нею это?
– Если и знают, то не говорят, – отвечает Павлик.
Сигруд замолкает, и выражение шока и ужаса на его лице сменяется чем-то новым: быть может, мрачной твердостью, словно он только что принял решение, которое откладывал слишком долго.
– Ну хватит, – говорит бригадир. – Дрейлинг, кончай придуриваться и помоги разгрузить телегу.
Другие лесорубы спешат взяться за дело, но Сигруд стоит как вкопанный.
– Бьорн? – спрашивает бригадир. – Бьорн! Впрягайся, ты, ленивая задница!
– Нет, – тихо отвечает дрейлинг.
– Что? «Нет»? В каком смысле «нет»?
– В прямом, – говорит Сигруд. – Я больше не такой, довольно.
Бригадир решительно подходит к нему и хватает за руку.
– Ты будешь таким, каким я, мать твою, тебя назо…
Сигруд поворачивается, и внезапно голова бригадира откидывается назад. Потом Сигруд крутит его, вертит и швыряет на землю. Бригадир лежит, скрюченными пальцами хватая себя за горло, давится и кашляет, и другие лесорубы лишь через несколько секунд понимают, что дрейлинг ударил его в трахею – одним резким движением, таким быстрым, что его оказалось трудно заметить.
Сигруд идет к телеге, хватает топор, потом возвращается к распростертому бригадиру. Держа топор в одной руке, заносит его над лежащим так, что лезвие оказывается на расстоянии волоса от его носа. Бригадир перестает кашлять и таращится на лезвие широко распахнутыми глазами.
Топор надолго зависает без движения. Потом Сигруд как будто немного уменьшается, его плечи поникают. Он швыряет топор прочь и уходит в ночную темноту.
* * *
Он упаковывает свою палатку и вещи, прежде чем лесорубы придут в себя достаточно, чтобы явиться с претензиями. Делает последнюю остановку на выходе из лагеря, где вынимает лопату из рабочих принадлежностей. Он уже слышит крики бригадира, которые эхом раскатываются над кострами, и голос его потрескивает, как восковая бумага: «Где этот ублюдок? Где этот ублюдок?»
Сигруд пускается бегом через расчищенные поля к низким лесным зарослям; вокруг него залитая бледно-серым светом равнина, покрытая оставшимися от погубленных деревьев пнями и оттого похожая на испещренную кратерами поверхность луны. Он замедляет ход, лишь оказавшись в тени пихт. Он знает эти земли, знает эту местность. Ему известно о сражениях в таких условиях гораздо больше, чем лесорубам.
Сигруд ненадолго останавливается на верхушке оврага, закинув ботинки на извивающийся корень. Его сердце колотится. Все кажется смутным, далеким и ужасно неправильным.
«Мертва. Мертва».
Он встряхивается, пытаясь отстраниться от случившегося. Чувствует слезы на щеках и встряхивается опять.
«Она не могла умереть. Не могла, и все тут».
Он опускает голову набок и прислушивается: лесорубы за ним не последовали – по крайней мере, пока.
Он смотрит на луну и приблизительно определяет свое местоположение. Потом крадется через лес, и все старые навыки возвращаются к нему: пальцы ног нащупывают мягкие иголки, а не хрупкие, ломкие веточки; он не покидает широкие, пересекающиеся тени, следит, чтобы на теле не блеснул никакой металл; а когда изредка поднимается ветер, он осторожно принюхивается, выискивая любые чужеродные запахи, которые могли бы выдать преследователя.
Он выслеживает отметины на деревьях, сломанные ветки – ориентиры, что сам оставил, чтобы вернуться к спрятанному здесь. Чтобы вернуться к тому человеку, которого похоронил или попытался это сделать.
Он подходит к склоненной, мертвой сосне с длинным косым шрамом на стволе. Откладывает в сторону свой ранец и начинает копать. Он в шоке, понятное дело, и работает быстрее, чем хочет, тратя драгоценную энергию, которую следовало бы экономить. И все равно он копает.
Наконец острие лопаты обо что-то ударяется с тихим звоном. Дрейлинг встает на колени и руками выгребает оставшуюся землю. На дне ямы – завернутый в кожу ящик, примерно полтора фута в ширину и полфута в глубину. Сигруд вытаскивает его дрожащими руками и пытается развернуть кожу, но перчатки лесоруба слишком неподатливые. Бросив взгляд через плечо, он их снимает.
Яркий, блестящий шрам на левой ладони как будто светится в лучах луны. Он морщится при виде шрама, который весьма смахивает на клеймо – печать, выжженную в его плоти, представляющую две руки, только и ждущие момента, чтобы взвешивать и судить. Прошли месяцы с той поры, как Сигруд его видел, демонстрировал реальному миру. Он вдруг понимает, насколько это странно – день за днем скрывать часть собственного тела.
Сигруд разворачивает кожу. Ящик из темного дерева, застежка по-прежнему яркая и чистая. Он неоднократно перемещал сверток – всякий раз, когда приходилось переходить на новую работу, – но никогда не открывал ящик.
Дрожь в руках становится сильнее, когда он щелкает застежкой и поднимает крышку.
В ящике множество вещей, любая из которых заставила бы глаза его товарищей-лесорубов выскочить из орбит – вероятнее всего, такое приключилось бы из-за семи тысяч дрекелей в банкнотах, свернутых в тугие трубочки; наверное, в три раза больше жалования лесоруба за год. Он распихивает деньги по различным тайникам в одежде: под манжеты, в куртку, в штаны, под фальшивое дно ранца, которое пришил собственноручно.
Потом он достает семь разных документов, завернутых в провощенную бумагу: это транспортные бумаги, позволяющие держателю свободно перемещаться по всему Континенту и Сайпуру. Он разворачивает их, перебирает имена и личности – конечно, все дрейлинги, поскольку он не может скрыть свою расу, хотя побрил голову и избавился от бороды, чтобы дистанцироваться от своей старой жизни, не говоря уже о покупке фальшивого глаза. «Виборг, – думает он, просматривая документы. – Микалесен, Бенте, Йенссен… Кто из вас скомпрометирован? За кем из вас они будут наблюдать спустя столько лет?»
На миг он задается вопросом, зачем делает все это и каким будет следующий шаг. Но легче просто двигаться вперед, нестись, словно камень по склону холма, все дальше и дальше.
Рядом с документами лежит миниатюрный арбалет – устройство, которому далеко до истинного боевого оружия, но на один тихий смертоносный выстрел его хватит, если, конечно, оно не испортилось за месяцы под землей. Следующий предмет на первый взгляд кажется свертком овечьей шкуры, но когда Сигруд ее разворачивает, то оказывается, что у него в руках старый ухоженный нож в черных кожаных ножнах. Дрейлинг осторожно складывает овечью шкуру и прячет – кто знает, вдруг понадобится, – а потом вытаскивает нож из ножен.
Лезвие черное, как нефть. В его блеске есть что-то злобное, как будто свидетельствующее о том, что этот нож испил очень много крови.
«Дамслетова кость, – думает Сигруд. Берет сосновую иголку и взмахом ножа, применяя ничтожное усилие, аккуратно рассекает ее надвое. – Остается острым, – думает он, – десятилетия напролет».
Впрочем, он знает, что нынче дамслетовых китов не осталось: одни пали жертвами китобойного промысла, которым Сигруд и сам занимался в юные годы, а другие или уплыли, или погибли из-за изменения климата, когда охлаждение воды убило или вынудило рассеяться все их запасы еды. Он ни разу не видел дамслетового оружия, кроме собственного, и даже не слышал о существовании чего-то подобного.
Он вкладывает нож в ножны и пристегивает их к правому бедру. Движение восстанавливается мгновенно и приносит с собой все воспоминания о днях оперативной работы, когда дрейлинг вел тихую теневую войну против бесчисленных врагов.
И воспоминания о ней – о женщине, которая тогда все время находилась рядом.
– Шара… – шепчет Сигруд.
Они были ближе, чем любовники – ибо любовь, конечно, штука быстротечная и зыбкая. Они были товарищами, соратниками, чьи жизни в буквальном смысле зависели друг от друга, с того момента, когда она вытащила его из жалкой тюремной каморки в Слондхейме, до дней восстановления после Мирградской битвы.
Он слегка оседает, ссутулившись на краю ямы.
«Я не могу в это поверить. Я просто не могу в это поверить».
Сигруд всегда чувствовал, что, несмотря на долгие годы, которые он провел в бегах, Ашара Комайд – для друзей просто Шара – однажды его позовет; однажды она каким-то образом разыщет его среди бедняков и подсобных рабочих, рядом с которыми он трудился, и он получит какое-нибудь тайное послание – может, письмо или открытку, где будет написано, что она сделала свое дело и очистила его имя и он может к ней вернуться, принять участие в последней миссии или, возможно, возвратиться домой.
Это была романтическая идея. Она сама предостерегала его от такого. Он вспоминает, как она, сидя у окна на заставе возле Жугостана – кажется, тридцать лет назад у них была там какая-то скучная миссия, – подула на горячий чай и тихонько проговорила: «Ни ты ни я не обладаем никакой важностью. Ни для дела, ни для начальства… – Она повернулась к нему, и ее темные, широко распахнутые глаза глядели сурово. – …ни друг для друга. Если мне придется выбирать между тобой и миссией, я выберу миссию – и рассчитываю, что ты сделаешь то же самое относительно меня. Наша работа требует от нас совершать ужасный выбор. Но мы так и поступим».
В тот раз он ухмыльнулся, потому что тогда и сам так думал, рассуждая о жизни с жестоким прагматизмом; но с течением лет вопреки собственной воле смягчился – может быть, из-за нее.
Он смотрит на лунный свет, отраженный в лезвии черного клинка.
«И чего же я жду теперь? Чей зов жажду услышать?»
Он возвращается к ящику. Медлит.
«Я не хочу этого видеть, – думает он, чувствуя себя ужасно. – Только не это».
Но так надо.
Сигруд достает последний оставшийся артефакт: вырезку из газеты, пожелтевшую от времени. Это снимок молодой женщины, которая стоит на палубе корабля и смотрит на фотографа со смесью веселья и тщательно отмеренной доли пренебрежения. Хотя кадр черно-белый, ясно, что женщина белокурая, а ее глаза за очками странного вида – светло-голубые. На груди у нее эмблема компании с буквами «ЮДК».
Подпись под фотографией гласит: «СИГНЮ ХАРКВАЛЬДССОН, НЕДАВНО НАЗНАЧЕННЫЙ ГЛАВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ЮЖНОЙ ДРЕЙЛИНГСКОЙ КОМПАНИИ».
Единственный глаз Сигруда широко распахивается, когда он смотрит в лицо своей дочери, зернистое от грубой газетной печати.
Он вспоминает, как она выглядела, когда он видел ее в последний раз, тринадцать лет назад: холодная, бледная и неподвижная, с застывшим на лице выражением легкого неудовольствия, как будто выходное пулевое отверстие в груди было источником лишь незначительного дискомфорта.
Он помнит ее. Ее – и то, что сделал с солдатами потом, в приступе дикой ярости.
«Я не смог тебя спасти, – говорит он фотографии. – Я не смог спасти Шару. Я никого не смог спасти».
Сигруд прячет газетную вырезку в карман и ободряюще похлопывает по нему, словно принуждая воспоминание снова уснуть.
Другой рукой он сжимает нож. Его хватка крепка, костяшки побелели.
Сигруд кидается вперед и наносит удар по мертвой сосне – нож погружается почти по самую рукоять. Из его рта едва не вырывается рыдание, но он достаточно владеет собой, чтобы подавить звук, прежде чем тот сможет выдать его местонахождение.
«Жалок жребий существа, – думает он, – которому даже не позволено плакать!»
Он напрягает все тело, пытаясь вогнать нож все глубже и глубже, его пальцы вопиют от боли. Потом он сдается и повисает, обняв ствол и тяжело дыша.
Инстинкты берут верх. «Там, в лагере, ты поступил плохо, – говорит он себе. – Испортил свою легенду. Опять». Ну что он за тупое существо, движимое яростью и эмоциями.
Надо сосредоточиться. Ничего не поделаешь, придется двигаться дальше. Двигаться, не останавливаясь.
Он вытаскивает нож, прячет в ножны и берет свой ранец. Затем пускается в путь вверх по склону холма, во тьму.
* * *
Часы осторожного, внимательного продвижения через полуночную тьму густой чащи. Когда в пологе леса возникает просвет, Сигруд всматривается в звезды, вносит поправки в свой курс и идет дальше.
Где-то перед рассветом он вспоминает.
Это случилось в Жугостане, кажется, в 1712-м. Кто-то в министерстве был скомпрометирован, причем очень сильно, все их ресурсы и сети в подробностях утекли к агентам Континента, и никто не мог с уверенностью оценить ущерб.
Ему и Шаре пришлось расстаться, потому что министерство подозревало крота в своих рядах – и Сигруд как иностранец был высоко в списке подозреваемых. «Я договорилась, тебя увезут из города, – сказала Шара в последний день, который они провели вместе в тот опасный период, – а дальше позаботишься о себе сам. Чего, на мой взгляд, вполне достаточно».
Он хмыкнул.
«Я вернусь и скажу им, что это не ты, Сигруд, – продолжила она. – Я вернусь и расскажу им все, что они хотят знать. Не знаю, будут ли они слушать, но я постараюсь. И я найду тебя и свяжусь с тобой, как только все прояснится».
Он слушал равнодушно, поскольку предполагал, что она считает его всего лишь инструментом в своей оружейной. «А если это не сработает, – спросил он, – если тебя посадят под замок или убьют?»
Тут в ее глазах вспыхнул редкий проблеск страсти.
«Если такое случится… Тогда, Сигруд, я хочу, чтобы ты ушел. Хочу, чтобы ты убежал от всего этого, убежал прочь от этой жизни и начал жить своей собственной. Найди семью, если сможешь, начни сначала, если хочешь, но просто… уйди. Ты заплатил достаточно, ты сделал достаточно. Забудь обо мне и просто уйди».
Это удивило его. Они провели так много времени вместе, двое одиноких людей на невидимой войне одиночек, и он предполагал, что она никогда не думала о жизни, выходящей за рамки их ремесла, – в особенности для него, ее мрачного исполнителя, чья доля – сидеть в кустах с ножом в зубах. Но оказалось, Шара не хотела, чтобы Сигруд оставался ее ручным головорезом.
«Она заботилась о тебе даже тогда, – думает он, недвижно стоя во тьме. – Она хотела, чтобы ты сделался кем-то лучшим».
Он глядит на свои руки. Грубые, в шрамах, грязные. Большинство шрамов он получил не во время работы лесорубом, но в отвратительных, жестоких сражениях во тьме.
Он думает о Шаре. О своей дочери. Своей семье. О тех, с кем разлучился и кого смерть отняла навсегда.
Он смотрит на свои покрытые шрамами руки. Он думает: «До чего я уродливое существо. С чего я взял, что могу посеять в этом мире что-то иное, кроме уродства? Почему мне взбрело в голову, будто тех, кто рядом со мной, ждет что-то еще, кроме боли и смерти?»
Стоя в одиночестве посреди леса, он смотрит на бледную луну в небе.
«Неужели что-то еще осталось? Неужели что-то еще можно сделать?»
Он склоняет голову, понимая, что осталось.
* * *
Олененка легко отследить, легко поймать, легко убить одним зарядом из ручного арбалета. Сигруд сомневался, что не растерял свои охотничьи навыки, но олени здесь, в Тарсильских предгорьях, действительно дикие создания, которым ничего не известно о людях с их трюками и ловушками.
Дрейлинг несет добычу на спине к вершине холма. Он не станет есть это мясо, потому что съесть его означало бы извлечь пользу. Смысл ритуала – который Сигруд не проводил больше сорока лет – в осквернении и нарушении, сотворении ужасной неправильности.
В лучах рассвета Сигруд раздевается до пояса. Затем осторожно обезглавливает олененка, потрошит его и подвешивает тушу в вертикальном положении, чтобы зверь как будто обращался к небесам, умоляя их… о чем-то. Возможно, о милосердии; возможно, о мести. Сильные и беспощадные руки ломают тонкие кости, разрывают сухожилия и связки. Сигруд складывает органы олененка кучей перед вскрытой полостью его тела и на вершину водружает крошечное красивое сердце.
Затем он раскладывает веточки и палочки вокруг органов и тела. Поджигает хворост спичкой и наблюдает, как пламя медленно ползет по окровавленной земле, огибая гротескную сцену, и жар опаляет кровавую шкуру некогда красивого, хрупкого существа.
Он вспоминает, как в последний раз делал это, когда убили его отца. «Клятва пепла. А известно ли что-то подобное на дрейлингских берегах теперь? Или я один помню про этот ритуал, потому что превратился в реликвию жестоких древних времен?»
Пламя начинает умирать с восходом солнца. Останки олененка – черные, скрученные фрагменты. Сигруд наклоняется и втыкает пальцы во влажную теплую почву. Берет горсть земли, смоченной кровью и горячей от золы, и размазывает по лицу, по груди, по плечам и рукам.
«Совершено осквернение, – думает он. – И оно коснулось меня».
Потом из того, что осталось от кучи органов, он выбирает обугленное сердце олененка. Держит в руках, счищая пепел. Это странным образом напоминает о детской руке в его ладони.
Плача, он кусает сердце олененка.
«И я совершу больше осквернений, – думает он. – Пока не свершится правосудие или пока я не умру».
2. Начиная битву
Из шести континентальных божеств только четыре когда-либо производили на свет детей: Таалаврас, Божество порядка и знаний; Жугов, Божество веселья; Олвос, Божество надежды, и Аханас, Божество плодородия. Несмотря на это ограниченное количество, взаимодействие и отношения у них были постоянные и беспорядочные, вследствие чего они породили десятки, если не сотни божественных потомков: божественных духов и существ, которые наводнили Континент. Это потомство было произведено таким образом, что смертные не могут его по-настоящему понять: пол божественных родителей не имел особого значения, и инбридинг, похоже, не оказал воздействия, но мы должны рассматривать их, во всех смыслах и целях, как отпрысков божественности.
Один из тех вопросов, с которыми любят возиться современные историки, заключается в следующем: что именно случилось со всем этим потомством? Исчезло ли оно, когда кадж вторгся на Континент и убил Божеств? Божественные существа – те, что были созданы конкретными Божествами подобно чудесам, – определенно не перенесли смерти своих создателей. Но похоже, что некоторые божественные дети пережили родителей, хотя тех, кто был впоследствии обнаружен, немедленно казнили.
Неужели они сами обладали неким подобием божественной силы, как миниатюрные версии своих родителей? Удалось ли каджу казнить их всех? Или они нашли способ спрятаться? Мы точно не знаем. Но если они и живут в этом мире, то пока не объявили о себе.
Д-р Ефрем Панъюй. «О жизни Божеств»
По тротуару бежит мальчик, и от бега его легкие горят. Он ныряет под навес, поворачивает вокруг фонарного столба, рывком пересекает вымощенную брусчаткой улицу. Старушка, выходящая из бакалейной лавки, сердито глядит ему вслед, когда он мчится мимо выставленных напоказ яблок. Лавочник кричит: «Осторожнее!» Но мальчик не обращает на них внимания, помня лишь о следующем повороте и следующей улице, и в лучах солнца его лицо покрывается каплями пота.
Быстрее, еще быстрее, как можно быстрее. Он должен оторваться от преследователя, он просто обязан это сделать.
По идее, задача не такая уж трудная: улицы Мирграда похожи на замысловатый лабиринт, так что заблудиться здесь можно и по пути домой. Но пока что оказалось, что от этого конкретного преследователя потрясающе тяжело избавиться.
Поворот, еще поворот. Вниз по ступенькам, мимо пустырей, и снова в переулок…
Мальчик останавливается, хватая воздух ртом, и нетвердым шагом направляется к боковой улице. Ждет, тяжело дыша, и осторожно выглядывает из-за угла.
Никого. Улица пуста.
Может, ему удалось оторваться. Может, здесь и впрямь никого.
– Наконец-то, – говорит мальчик.
А потом свет… сдвигается. Искажается. Меняется.
Тени у его ног начинают кружиться.
– О нет… – шепчет мальчик.
Он поднимает голову и видит странное зрелище, но такое, которого ожидал и даже страшился: ясное летнее небо прямо у него над головой заполняется темнотой, как будто в атмосферу впрыскивают вечер – оттенки индиго, темного пурпура и черноты клубятся на бледно-голубом фоне. Мальчик смотрит, широко распахнув глаза, как тьма наползает на солнечный диск, стирает его, закрашивает, как будто солнца там никогда и не было.
Звезды светятся в этой новой тьме, которая нависает прямо над ним: холодные, далекие, мерцающие белые звезды. Мальчик знает: если он промедлит еще немного, небо над ним станет непроницаемо черным и эти яркие звезды сделаются единственным источником света.
Мальчик поворачивается и бежит со всех ног по переулку. Небо над ним расчищается, как будто до сих пор он находился в тени грозовой тучи: возвращается солнце, и яркая небесная синева проступает опять.
«Слишком близко, – думает мальчик. – Чересчур близко, чересчур…»
Подступает отчаяние. Он знает, что должен использовать один из своих трюков. Ему не нравится делать это на бегу, но выбора нет…
Он закрывает глаза, воображает город вокруг себя и выискивает их.
Обнаружить их удается не сразу – он не находится вблизи от какого-нибудь из кварталов развлечений, так что рядом очень мало театров, ресторанов или баров, – но потом он видит, как поблизости что-то вспыхивает, некий спутанный клубок чего-то яркого, серебристого и трепещущего, весело подрагивает на фоне мрачного и сдержанного дневного города.
Он тянется к этому клубку. Хватает его.
Становится им.
Мир вокруг него меняется.
В его мыслях всплывает последняя строчка:
– …и пастушка, конечно же, говорит: «Ну, на отца, знаете ли, тоже не похоже!»
Внезапно уши мальчика наводняет славный, чудесный, счастливый звук: люди смеются, гогочут, по-настоящему хохочут до слез, до колик, и мальчик вместе с ними весело хихикает.
Приходится приложить усилие, чтобы вспомнить о происходящем. Он открывает глаза и видит, что находится в лачуге возле Солды, окруженный грязными рыбаками, которые распивают сливовое вино из бутылок. Никто из них не замечает внезапного появления юного, бледного континентского мальчика, который как будто возникает из пустоты. Они ведут себя так, словно он был с ними в компании всегда. Один пьяный рыбак даже предлагает ему глотнуть вина, и мальчик, все еще хихикая, вежливо отказывается.
Еще слишком ранний час для такого праздника. Но он благодарен за возможность. Вино создает веселье, веселье создает смех, а смех дарит ему…
Мальчик смотрит в окно рыбацкой лачуги. Он в трех милях от переулка, где был перед этим.
Он облегченно вздыхает и договаривает:
– …выход.
Но потом хмурит лоб. Ему кажется, или небо над ним темнеет? Прямо над хибарой?
Неужели это звезды сияют так холодно и чисто наверху?
Он смотрит, как небосвод заливает густая тьма, словно кровь, которая просачивается сквозь повязку.
Мальчик отчаянно соображает. Еще один трюк, еще один поворот. У него нет выбора.
Он закрывает глаза и ищет.
Еще один клубок серебристой радости. Этот не такой толстый и непристойный, но его все равно должно…
Мир вокруг него меняется.
…хватить.
Он слышит голос:
– Где же Миша? Где мой… Миша!
Слышится веселый смех. Он открывает глаза и видит, что попал в маленькую квартиру. Кудрявый младенец лежит на диване и истерически смеется, а его мама прячется за спинкой дивана и выглядывает оттуда, восклицая:
– Где мой Миша? Куда подевался мой дорогой малыш? Неужели он… здесь!
Новый взрыв восторженного хихиканья. Никто из них не замечает внезапного появления мальчика, но, наверное, это потому, что они слишком увлеклись игрой. Смех ребенка заразителен: мать начинает смеяться, от чего малыш смеется еще сильнее.
«Помни, где находишься. Помни, что происходит».
Мальчик подходит к окнам квартиры. Видимо, он примерно в семи милях от рыбацкой лачуги. Он все еще чувствует тот, другой, клубок смеха – рыбаки продолжают делиться похабными шутками – и может определить расстояние между ними. Достаточно далеко. Никто не может перемещаться так быстро. И как его преследователь вообще узнал, куда он…
Мальчик застывает.
Тени на улице снаружи начинают меняться. Тьма наводняет небо, как будто сама ночь проявляется прямо над ним.
– Нет! – говорит он. – Нет, этого не может быть!
Мать и младенец истерически смеются позади. Он чувствует ее радость, боль в животе от слишком сильного смеха, веселье, которое затмило все прочие чувства.
Он хочет остаться здесь. Это его суть – его дело, его любовь. Но надо снова двигаться вперед.
«На этот раз – дальше, – думает он. – Иди и не останавливайся».
Он закрывает глаза. Находит очередной смех, очередную яркую искру радости.
Мир меняется.
Он в доме на окраине Мирграда. Мужчина сидит на полу кухни, а вокруг него разлита огромная кастрюля макарон, и желтый соус ярко выделяется на фоне белой плитки. Его лицо покраснело от смеха, а жена стоит в дверях, завывая от восторга.
– Я же тебе говорила, что она слишком тяжелая! – восклицает она, хватая воздух ртом. – Я же говорила!
Мальчик тоже смеется, хоть у смеха есть привкус постыдного ликования. Потом он закрывает глаза и снова ищет.
Мир меняется.
Он в студенческой спальне при университете. На кровати сидит обнаженная девушка, и ее тело конвульсивно содрогается от смеха. Глядя на нее, трудно понять, что смешного происходит, – но лишь пока не увидишь голову юноши меж ее бедер, а остальное его тело скрыто под одеялом.
Мальчик смеется вместе с нею. Ее смех – как солнечный свет и осыпающиеся цветочные лепестки в его сознании. Но он знает, что должен двигаться дальше.
Он закрывает глаза. Тянется.
Мир меняется.
В переулке играют в мяч, и после неудачного броска один молодой человек лежит на земле, держась за пах и хватая ртом воздух. Другая молодежь гогочет, не в силах удержаться, а юноша повторяет: «Не смешно… честное слово, не смешно!» – однако это лишь заставляет их смеяться еще сильнее.
Он ухмыляется. В этом смехе ощущается жестокость, привкус меди и крови. Но мальчик знает, что должен двигаться дальше.
Он закрывает глаза. Ищет.
И снова все меняется.
Он во внутреннем дворе. Пожилые мужчина и женщина сидят в деревянных инвалидных колясках на солнце, их ноги укрыты одеялами. Они слабо хихикают, вспоминая какую-то древнюю историю из давно минувших дней.
– Она действительно мне это сказала! – говорит женщина. – «Горячей, чем жесткий член», – вот что она сказала, прямо перед всеми. Клянусь тебе!
– Я знаю, я знаю! – говорит мужчина хрипло, но с улыбкой. – Но кто мог в это поверить?
Смех мечтательного недоверия, омытый радостью двух хорошо прожитых жизней. Его сердце поет, ему хочется слушать этот смех, ощущать его вкус. Но надо двигаться дальше.
«Я смех, – говорит он, закрывая глаза. – Я там, где есть веселье. Так что он никогда не сможет поймать меня…»
Он протягивает руку. Еще один клубок, неряшливый, пьяный и кривой, серебристый смех того, кто хорошенько набрался.
«В шторм годится любая гавань», – думает мальчик и хватается за этот смех, тянет себя к нему.
Мир меняется…
Он открывает глаза. Он думал, что окажется в баре или чьей-то комнате, но… похоже, это подвал. Тусклый подвал с одним столом и одним стулом.
На стуле сидит сайпурец и хихикает, но понятно, что это происходит не по его воле: глаза у него остекленели, по подбородку течет слюна. Несмотря на это, у него вид солдата, как и у женщины, которая стоит у него за спиной с пустым шприцем в руке. Они оба в тюрбанах, что типично для военных, но к тому же они подтянутые, мускулистые, как люди, которые делают из собственных тел оружие, в особенности женщина: в ее жестком, мрачном лице и янтарно-золотистых глазах есть нечто, свидетельствующее об опыте командования и смертоубийства.
Мальчик глядит на них. Но потом женщина со шприцем делает кое-что очень странное: она смотрит ему в лицо с таким видом, словно за что-то извиняется. Это должно быть невозможно – когда мальчик перемещается, он становится воплощенным смехом, духом веселья, невидимым для смертных глаз, – но эта сайпурская женщина просто улыбается ему с оттенком сожаления и говорит:
– Привет.
– К-как? – спрашивает мальчик.
– Он подумал, что, если заставить тебя все время прыгать, в конце концов ты окажешься здесь, – объясняет женщина. – Просто нужно было принудить кого-то смеяться достаточно долго.
Затем мальчик чувствует нечто покрывающее одежду обоих людей: силы, замыслы и структуры, вплетенные в ткань.
Мальчик моргает. Два солдата носят защитные чудеса, божественные чудеса, но они такого типа, которого он никогда раньше не видел. Так кто же мог их сделать?
Сайпурская женщина смотрит на что-то позади мальчика.
– А-а. Ну да. Значит, все в сборе.
Мальчик оборачивается.
Позади него стена тьмы – не теней, но самой ночи, стена огромной, бесконечной черноты, пронизанная холодно сверкающими звездами…
Из темноты доносится гулкий голос, такой же холодный, как свет звезд:
– ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ?
Мальчик кричит.
* * *
Грохот, рев, и поезд выходит из туннеля.
Сигруд просыпается. На то, чтобы вспомнить, где он и что происходит, уходит больше времени, чем положено. Он трет глаз и оглядывается на других пассажиров поезда – все они отдыхают или скучают. Игнорируют его, думая, что это еще один безработный докер-дрейлинг в синем бушлате и вязаной шапке.
«Как странно, – думает он, – надевать цивилизацию опять, словно старый жакет, который без толку висел годами в дальнем углу чулана». Возможно, цивилизация никогда по-настоящему не подходила Сигруду, но он должен подстраиваться под нее сейчас, после стольких лет в диких землях. И после того, что произошло в Вуртьястане более тринадцати лет назад, он все еще в розыске. Как человек, который когда-то работал на Министерство иностранных дел, он прекрасно знает одно: министерство ничего не забывает.
И не должно забывать. Он помнит тот момент, как смутные тени и крики – он бредил от горя и ярости после того, как убили его дочь, – но фрагменты произошедшего в форте Тинадеши все еще ярки и горячи в его сознании.
Схватить солдатский меч, отсечь чью-то руку ниже локтя. Вырвать у другого человека винташ со штыком и вонзить ему же глубоко в живот.
«Я даже не знал их имен, – думает он, ссутулившись. – И до сих пор не знаю».
Поезд мчится дальше.
Когда Сигруд работал оперативником на Континенте, понадобились бы две-три недели, чтобы добраться от окрестностей Мирграда в Аханастан. Сегодня кажется, что можно просто купить билет, пойти на вокзал – и весь мир будет перемещаться вокруг тебя, пока ты не окажешься там, где хочешь быть, через считаные дни.
Он сосредотачивается на своей цели. «Аханастан, – думает он, вспоминая прочитанное в газетах. – „Золотой отель“».
«А потом что?» Что ему там делать?
Сигруд смотрит на свое отражение в оконном стекле. «То единственное, что я еще умею».
Сигруд йе Харквальдссон неотрывно глядит на свое отражение. Видит шрамы, морщины, мешки под глазами. Спрашивает себя, хватит ли ему сил. Прошло много лет с той поры, как он занимался оперативной работой, – больше десяти лет.
Возможно, это глупо. Возможно, он старый пес, который упорствует, заявляя, будто может выполнять старые трюки.
Но есть в его лице кое-что любопытное – то, что волнует его вот уже некоторое время, то, о чем он пытался не думать. Однако теперь, когда вокруг то и дело появляются зеркальные поверхности – ведь в лагере лесорубов зеркала попадались нечасто, – он понимает, что с его внешним видом кое-что не в порядке.
Лицо в отражении – это не лицо пожилого человека. Он выглядит почти так же, каким помнит себя перед уходом в бега: средних лет, покрытый шрамами и суровый – но все-таки средних лет. А ведь Сигруд уже миновал средний возраст.
Может, это всего лишь хорошая наследственность. Но, может, и нет.
Потом на горизонте появляется Аханастан. И Сигруд мгновенно забывает о своих тревогах.
– Ох, – шепчет он, – клянусь морями…
Когда Сигруд впервые попал в Аханастан больше тридцати лет назад, город показался ему одним из самых впечатляющих метрополисов, какие только существуют в мире (не считая Мирграда и Галадеша, разумеется). Но в то время большей частью он все еще представлял собой морской порт, где много места занимали промышленность и военщина, – иными словами, тут было грязно, сыро и опасно. В нем уже тогда возвели несколько небоскребов, зданий высотой в четырнадцать, пятнадцать и даже шестнадцать этажей, монументальных достижений архитекторов тех дней, и все соглашались, что на Континенте и впрямь наступила заря грядущего.
Но, по мере того как поезд Сигруда приближается к колоссальному скопищу башен на берегу океана, он понимает, что архитекторы и промышленные магнаты тридцатилетней давности понятия не имели, что готовит им будущее.
Он пытается сосчитать этажи. Возможно, тридцать, сорок или даже шестьдесят? Сигруд не может в это поверить, не может объять массивные постройки из камня и стекла, которые стоят у моря, такие ровные и безупречные, и солнце пятнает их силуэты с зубчатым верхом. Одни высокие, прямые и квадратные, другие похожи на огромные клинья, на сырные ломти из гранита и стекла, но есть еще такие, которые выглядят как гигантские металлические шесты, серебристые и мерцающие, со всех сторон испещренные многочисленными рядами окошек. Через сельскую местность по направлению к этому скопищу зданий сбегаются бесчисленные сверкающие речушки: но, приглядевшись, Сигруд постепенно понимает, что это рельсы: наверное, сотня или больше железнодорожных путей переплетаются и сливаются, пока в конечном итоге все они не объединяются друг с другом в Аханастане.
На северо-западе виднеется что-то еще более странное: сверкающая металлическая конструкция, которая выглядит почти как линия электропередачи – огромные провода, прикрепленные к шестам, только вот они слишком высокие… и похоже, что по проводам перемещаются маленькие кабинки. Он не может толком разглядеть их с такого расстояния.
Сигруд снова поворачивается к огромному городу впереди.
«И я, – думает дрейлинг, – должен отыскать убийцу Шары… вон там?»
Он хватает это чувство и запихивает куда-то в дальний угол разума. Нет времени на неуверенность в себе.
«Там Шара встретила свой конец, – думает он. – Там она была убита. И там я пролью кровь и сломаю кости тех, кто погубил ее».
Сверкающие башни Аханастана растут перед ним. Он вспоминает, что говорила Шара, когда они впервые сюда прибыли; она сидела за столом, кодируя сообщение, а Сигруд на кровати зашивал прореху на пальто. Она сказала: «Никто не знает, как на самом деле выглядел первоначальный Аханастан, еще в божественные дни. Историки предполагают, что это был гигантский органический клубок деревьев и лиан, которые сливались воедино, создавая дома и структуры. Светящиеся грибы и персики заменяли лампы, лозы сочились целебной водой, и все такое прочее. Судя по кое-каким письменным свидетельствам, это было красиво. Но все исчезло, когда умерла Аханас. – Тут она помедлила, а потом добавила: – Ну и скатертью дорожка».
Он отвлекся от шитья. «Скатертью дорожка? При том что это было очень красиво?»
«Конечно, красиво. Но Аханастан служил еще и портом, куда привозили сайпурских рабов. Все эти красивые строения взирали на залив, который изобиловал человеческими страданиями… Даже самые прекрасные творения не могут стереть с лица земли такую гниль».
Сигруд смотрит на гигантские башни, которые возвышаются над ним.
«Может быть, – думает он, – перемены всего лишь поверхностные».
* * *
Прежде всего, логистика.
Комната на краю города, близко к докам, но не слишком. Он знает набережную, знает ее закоулки и дымную атмосферу с ноткой дизельного топлива. Ему нужно, чтобы за спиной была знакомая территория.
Комната выглядит голой. Стены, кровать и чулан – души и очарования не больше, чем у замызганного куска мыла. Не лучшее место, чтобы спрятать что-нибудь. Так что он и не прячет.
Он находит в том же квартале заброшенный ресторан. Помещение пострадало от воды во время какого-то из минувших штормов, и в ближайшее время им явно никто не воспользуется. Сигруд вскрывает замок на задней двери и осторожно пробирается внутрь. Устраивает тайник в вытяжке печи – трудится, оглашая полуразрушенную кухню постукиванием и позвякиванием.
В тайник он помещает свой арбалет, а также пистолет и боеприпасы, приобретенные по пути, и еще второй арбалет, наплечный – более мощный, чем маленький, карманный. Запасные документы тоже прячет; здесь, в Аханастане, он мистер Йенссен, приехал искать работу, но может стать кем-то другим, если того потребует ситуация. Еще он кладет в тайник часть денег. Он умеет прятать нужное по всей территории, как белка – орехи. Но ему уже приходилось жить без денег. Он знает, что в городе проще не умереть с голоду, чем в пустошах. Если, конечно, не быть слишком разборчивым в еде.
Он выскальзывает из окна ресторана, затем стоит в тени, наблюдая за улицами. Никакого движения, никаких шпионов. Туда-сюда, и готово.
Теперь дождаться наступления темноты. А потом посетить «Золотой отель».
* * *
Полночь в Аханастане. Город теперь в значительной степени электрифицирован, поэтому на улицах никогда не бывает совсем темно. Сигруд, который среди теней чувствует себя как рыба в воде, испытывает странные ощущения. Ему не по себе. Ему не нравится, как пар и облака прячут луну и звезды, как влага поглощает искусственный свет этого современного места, превращая мир наверху в смазанное грязно-оранжевое пятно.
Или, возможно, ему просто не нравится находиться здесь, на этой улице, в этом квартале. Где побывала она. Где она умерла.
Сигруд смотрит на «Золотой отель» из темной подворотни. Это оболочка здания, труп с разбитым и темным фасадом. Полицейские веревки, окрашенные в ярко-красный цвет, перегородили улицу снаружи, предупреждая людей, чтобы держались подальше.
Его взгляд задерживается на огромной дыре в верхнем углу, обрамленной расщепленным деревом, похожим на сломанные зубы в зияющей пасти.
«Там она и была. Там все и случилось».
Несколько патрульных прячутся в дверных проемах; аханастанские полицейские стерегут это место. Сигруд уже заметил их – даже тех, кто пытается остаться в тени. Полиция Аханастана не хуже других знает, что смерть Ашары Комайд – международный инцидент, потому они бросили все силы, чтобы отбиться от критики, пусть даже сами толком не знают, как эти силы применить.
Сигруд выскальзывает из подворотни с сумкой через плечо. Он идет по узкой улочке, пробирается через дыру в заборе из металлической сетки и продолжает путь по извилистому грязному переулку, пока не приближается к отелю с восточной стороны.
Он ныряет под полицейскую веревку и ждет во тьме, склонив голову набок, внимательно прислушиваясь. Ничего. Если его и заметили, пока что ничего не предприняли.
Он идет вдоль кирпичной стены отеля, пока не обнаруживает служебную дверь. Пробует ручку – заперто, разумеется. Но после минутной работы с гаечным ключом и отмычками пружины замка открываются, и дрейлинг проскальзывает внутрь.
Он стоит во тьме отеля, снова прислушиваясь. Он сразу чувствует, что здание разрушено: в домах, где был взрыв, образуются любопытные сквозняки, какие можно услышать лишь там, где отсутствуют куски стен.
Он петляет по просторному вестибюлю, потом поднимается по лестнице. У него есть фонарь, но Сигруд предпочитает его не использовать. Свет уличных фонарей просачивается через множество окон «Золотого отеля», и этого более чем достаточно, чтобы осмотреться.
Он поднимается на четвертый этаж. Сквозняк становится сильнее, принося с собой запахи дымохода и горелой ткани. Сигруд идет по коридору, и его ботинки вздымают облачка пыли с грязного ковра.
Он останавливается на одном углу и принюхивается.
Знакомый запах с нотками меди.
Он встает на колени и касается ковра у ног. Вытаскивает фонарь и включает, позволяя узкому лучу света танцевать по ткани.
Кровь. Много крови.
«Кто-то убил охранника на посту, – думает он. – Затем тихонько проследовал по коридору, чтобы установить взрывчатку».
Он встает и окидывает коридор взглядом. Видит свет улиц и слабый лунный свет, которые пятнают стены за пределами разрушенных комнат. Через несколько шагов будет нечего осматривать. Только руины стен и выгоревшие помещения.
«Я должен посмотреть, – думает он, хотя сам не понимает зачем. Вероятно, потому что ему было отказано в возможности стоять на страже. – Я должен посмотреть и проверить».
Он подходит к краю разрушений и выглядывает наружу. Комната Шары полностью уничтожена. От нее не осталось даже щепки. Перед ним открывается прямой вид на улицу внизу. Он читал в газетах, что с Шарой погибли двое охранников и молодая пара, которая отдыхала в номере этажом ниже. Все умерли, исчезли в один миг.
Он думает о Шаре. О том, как она двигалась, как смеялась, как сутулилась над чашкой чая. И еще он думает о ее дочери, хотя они так и не познакомились, – приемная, из континентцев. Кажется, зовут Татьяной. Сигруд видел ее всего одно мгновение после Вуртьястана. Он читал в газетах – когда их получалось раздобыть в горах, – что Шара и ее дочь удалились в сельскую местность, чтобы жить в мирном уединении.
Где бы ни была сейчас эта девочка, теперь ей придется продолжать жить без матери.
Он вспоминает Сигню – холодную и неподвижную на том столе в темноте. Листья в ее волосах и криво застегнутый воротник.
«Это просто преступление, что те, кто создан для надежды и справедливости, исчезают из этого мира, – думает он, – а такие, как я, продолжают жить».
Сигруд глядит на аханастанский городской пейзаж снаружи, веселый и искрящийся огнями. Он моргает, внезапно чувствуя себя очень пустым, очень бессильным, очень маленьким. Здесь ему нечего искать. Но чего он ожидал от этого места? Метки, записки, папки, сообщения? Думал ли Сигруд, что в последнее мгновение она вспомнила про него? Но здесь только пепел и кровь.
Он делает глубокий вдох и говорит себе: «Время для крайних мер».
Он опускает свой ранец на пол и начинает распаковывать содержимое. Вытаскивает стеклянную банку, мешочек с лепестками маргариток и жестяную баночку серой земли.
«Я столько раз видел, как ты это делаешь, Шара, – думает он, работая, – что могу все повторить даже во сне».
Он наполняет банку лепестками, встряхивает, высыпает их. «Маргаритки. Цветы, посвященные Аханас за то, что вновь и вновь по собственной воле возвращаются в мир».
Потом он берет немного серой земли – все еще влажной – и размазывает по дну банки. «Могильная пыль – то, чем все заканчивается». Немного ждет и стирает землю. Потом берет банку и прикладывает открытым концом к глазу, как телескоп.
Он смотрит через банку на разрушенные комнаты перед собой, и у него екает сердце. Ничто не меняется. Это старое чудо, конечно, – старый ритуал из периода до падения Континента. Шара все время им пользовалась: усиливала стекло правильными реагентами, а потом смотрела сквозь него, и любые божественные изменения мира начинали сиять ярким сине-зеленым светом. Он вспоминает, как она говорила, что в Мирграде ритуал почти бесполезен, потому что стены полыхают так ярко, что от них болят глаза, и все остальное меркнет.
Но разрушенные комнаты перед ним выглядят такими же темными, мрачными, как раньше. Если здесь и было что-то чудесное, бомба уничтожила его так же безжалостно, как и жизни людей.
Он вздыхает, отворачивается и опускает руку с банкой.
Потом замирает. Размышляет.
Медленно поворачивается и опять подносит банку к глазу.
Ничто не светится в разрушенных комнатах перед ним. Там по-прежнему тени и пепел. Но кое-что светится на улице снаружи отеля. Он мало что видит – под таким углом заметен только кусочек уличного пейзажа, – но понимает, что кто-то нарисовал на тротуаре линию, что-то вроде барьера.
Эта линия, или барьер, должны быть чудесными, потому что свет яркий, как от маяка на морском берегу.
Сигруд медленно опускает банку.
– Клянусь морями, – шепчет он. – Кто-то что-то сделал… с улицей?
Была ли это Шара? Или кто-то другой?
Его руки дрожат, отчасти от волнения, отчасти от шока. Он еще ни разу с таким не сталкивался, даже когда работал с Шарой в этом самом городе. Он поворачивается, чтобы вернуться вниз и наружу, но снова замирает, не убирая банку от глаза.
Он и не подумал взглянуть через банку на коридор. Ему не пришло в голову, что в остальной части отеля найдется что-нибудь интересное. Но теперь он понимает, что был неправ.
Сигруд смотрит через маленькую стеклянную банку. Он видит все новые и новые чудесные барьеры, рисунки, светящиеся охранные символы на стенах, полу и потолке коридора. Он делает несколько шагов вперед, убирает банку от глаза – и знаки тотчас же исчезают. Он касается места на стенной панели, которое всего секунду назад ярко светилось, но ничего там не видит – никакого устройства, символа или тотема. Чем бы ни были эти чудеса, они представляют собой изменения такие слабые и несущественные, что невооруженным глазом их увидеть нельзя.
Это странно. В живых осталось лишь одно Божество, и это Олвос. Ее чудеса по-прежнему действуют – потому-то чудесные стены Мирграда все еще стоят, – но они должны быть единственными.
И все же Сигруд не узнает, кто приложил руку к этим божественным изменениям в мире. Он не был знатоком божественного – это всегда оставалось областью Шары, – но в разумной степени уверен, что такого, как и изменения самих улиц, он еще никогда не видел.
Он смотрит на чудеса через стеклянную банку. Понятно, что это какие-то барьеры, пересекающие коридор, верхнюю часть лестницы, а может, даже вестибюль.
«Это был не просто отель, – думает Сигруд, опуская стеклянную банку. – Это была крепость».
Он опять бросает взгляд на разрушенную комнату, где погибла Шара.
«Ты воевала, Шара? И если да… то с кем?»
И тут он слышит звуки: кашель, шорох, стук каблуков этажом ниже. В отеле кто-то есть, и он очень близко.
Сигруд вжимается в стену за углом рядом с лестницей и медленно достает нож. Он внимательно прислушивается, сохраняя полную неподвижность.
Он слышит, как человек поднимается по лестнице, как поскрипывает ковер под его подошвами. Внизу загорается свет – чей-то фонарь, – и луч пляшет и скачет по обшитым белыми панелями стенам «Золотого отеля».
Кто-то почти наверху лестницы, осталось всего несколько футов. Сигруд приседает, готовый к прыжку, чтобы вонзить нож в ребра или перерезать горло – смотря что будет тише или быстрее.
Кто-то доходит до последних ступенек и стоит там недолго, водя фонарем из стороны в сторону, едва не задев Сигруда, который присел в углу совсем рядом. Судя по осанке и походке, это мужчина.
– М-да, – говорит незнакомец. – Я вроде бы видел… Хм. – Он поворачивается, качая головой, и снова уходит вниз.
Сигруд позволяет себе быстро выглянуть из-за угла и видит золотые эполеты и значок на груди – это аханастанский полицейский.
Дрейлинг ждет, пока не убеждается, что полицейский ушел. Потом он ждет еще десять минут, просто на всякий случай. Затем наконец-то переводит дух.
Смотрит на нож в своей руке и видит, что она дрожит.
Просто полицейский. Неважный, незаметный. В общем-то невинный посторонний.
Сигруд прячет нож. Он задается вопросом: сколько невинных жизней на его совести? Сколько человек погибли просто потому, что оказались рядом, когда он делал свою работу?
Он спускается по лестнице, пытаясь не обращать внимания на дрожь в руках.
* * *
Как только он оказывается снаружи «Золотого отеля», снова в безопасной тени, Сигруд изучает изменения на улицах вокруг. Он, наверное, выглядит безумцем, стоя там со стеклянной банкой, приложенной к глазу, но в такой час рядом нет никого, кто мог бы его увидеть.
Кто бы ни сотворил чудеса в «Золотом отеле», с улицами снаружи он поработал еще серьезнее. Повсюду барьеры, линии и невидимые баррикады – некоторые висят в воздухе, призрачные модификации того, что должно быть реальностью как таковой, – и Сигруду не нужно много времени, чтобы понять, с чем он столкнулся.
«Если „Золотой отель“ был крепостью Шары, – думает он, – то это ее рвы, подъемные мосты, наружные стены и сторожевые посты». Он понятия не имеет, что должно было привести в действие эти чудесные ловушки. Они точно никоим образом не препятствовали ему, не причинили никакого вреда. Но, возможно, они были настроены на конкретного противника. Божества могли изменять реальность по своему усмотрению, так что точно были способны сотворить чудесную оборону, которая реагировала бы на единственного, точно определенного врага.
Но по-прежнему тревожит тот факт, что за всю свою карьеру Сигруд таких чудес ни разу не видел. Опять же, он на самом деле знал только то, что знала Шара, и, возможно, Шара многому научилась за время их разлуки.
«Кем она была, когда умерла? Возможно, уже не той женщиной, которую ты знал».
Мысль беспокоит его. Но Сигруд не думает, что Шара могла бы действовать как-то совсем по-другому. Он знал Шару, наверное, лучше, чем кто-либо в этом мире, и оперативник остается оперативником до последнего вздоха.
«У нее должен был быть какой-то способ общения, – думает он, внимательно оглядывая улицы. – Какой-то способ посылать весточки тайным агентам и союзникам». И у Сигруда нет сомнений, что если уж у нее был доступ к божественной защите, она воспользовалась теми же самыми методами, чтобы обустроить систему связи.
Он бродит по темным улицам вокруг «Золотого отеля» почти два часа, держа стеклянную банку у глаза. Он избегает любых ранних пешеходов, особенно сотрудников полиции, хотя кажется довольно безобидным – слишком рискованно допустить, чтобы обычная остановка переросла во что-то нехорошее.
А потом он наконец-то замечает кое-что: просто точку, далекое пятнышко на кирпичной стене почти в двух кварталах от отеля. Но оно там есть и светится ярко, тем же любопытным сине-зеленым фосфоресцирующим сиянием божественного.
Он убирает банку и медленно подходит к кирпичной стене, понимая, что за ним могут следить. Если это место – часть методов связи Шары, оно может быть скомпрометировано.
Сигруд не торопится, два, три часа кружит по соседним улицам, не приближаясь к сине-зеленому пятну. Он ничего не замечает, но, поскольку в этом деле замешано божественное, если чего-то не видно, это еще ничего не значит. Божество Жугов однажды спрятало тело своей возлюбленной в стеклянной бусине, если Сигруд правильно помнит. Убийца, в распоряжении которого достаточно чудес, может выскочить из стены и сразить его.
Однако ничего не происходит. Чем ближе Сигруд подбирается к пятну, тем сильнее его уверенность, что это место – чем бы оно ни было – остается безопасным.
Сигруд подходит к стене и небрежно прикладывает банку к глазу – по крайней мере, со всей небрежностью, с которой это можно проделать.
Один кирпич излучает яркий сине-зеленый свет. Пять кирпичей вверх от земли.
Сигруд приближается к нему, затем проверяет улицы. Никого.
Он смотрит на кирпич. Осторожно прикасается к нему.
Пальцы проходят сквозь кирпич, как будто тот сделан из тумана, и в ту же секунду он исчезает, а в стене остается отверстие.
Сигруд заглядывает внутрь. Там два предмета: свеча, которая горит со странной яркостью, и конверт, запечатанный, но не подписанный.
Он берет свечу и быстро задувает, потому что неразумно скрываться от посторонних глаз при свете фейерверка. Поразмыслив, переворачивает свечу.
На ее основании изображен символ в виде языка пламени между двумя параллельными прямыми – знак Олвос, костер в лесу.
Сигруд хмыкает, удивленный. Он уже видел такие чудесные свечи раньше, с Шарой, в Мирграде – они никогда не сгорают и излучают мощный, яркий свет. Но зачем класть такую сюда? Зачем освещать шпионский тайник?
Он бросает свечу и берет конверт. На лицевой стороне единственная буква – Ш.
Сигруд кладет конверт в карман и отправляется домой долгим обходным путем. Он в разумной степени уверен, что никто за ним не следил. Один человек какое-то время идет в ту же сторону, что и он, – бледная молодая континентская девушка со странными глазами и причудливо вздернутым носиком, – но их пути быстро расходятся, и больше он ее не видит.
* * *
Вернувшись в свою комнату, Сигруд следит за улицей еще час. Удостоверившись, что остался незамеченным, он задергивает шторы и открывает конверт.
В нем два письма, оба написаны от руки, хотя одно закодировано. Сигруд сперва читает другое.
Шара,
он шел за мной опять по улице Нейторова, а потом еще раз – по площади Горенски. Это было 9-го и 12-го. Почти нет сомнений, что это тот же человек, которого мы видели возле отеля две недели назад. Маленький, среднего возраста, сайпурец, шрам на шее. Явно какой-то шпион, но не от министерства. И я думаю, на него трудится целая команда. Слишком много знакомых лиц.
Я подозреваю, что он работает на нашего противника. Его трудно отследить – я считаю, его снабдили приспособлениями, чтобы скрывать свои перемещения. Настоятельно рекомендую побыстрее покинуть Аханастан.
Думаю, нас сюда заманили. Этот город всегда был ловушкой. Теперь у него наш список возможных новичков. Мы должны действовать незамедлительно.
Что касается маленького сайпурского шпиона и его команды, то мне удалось украсть одно из сообщений, которыми они обмениваются. Прямо из их тайника, подменив на копию, пока никто не заметил. Прилагаю к этому письму, но оно закодировано. Впрочем, коды всегда были твоим любимым увлечением.
Будь бдительна. Он не тот бедный ребенок, каким мы его считали. Он сломлен таким ужасным образом, какой мы даже не могли себе представить.
М.
Сигруд перечитывает письмо. Затем делает это в третий, четвертый и пятый раз. Потом откидывается на спинку стула и тяжело, медленно вздыхает.
Теперь понятно, что Шара разрабатывала крупную операцию – в особенности если она составляла списки возможных новичков. Совершенно неясно, для чего вербовали агентов, но, наверное, это было что-то узкоспециализированное, востребованное – иначе то, что противник выкрал список, не стало бы таким разрушительным ударом, как это следует из письма.
Но кто написал письмо и кем мог оказаться их враг, Сигруд понятия не имеет. Что за «М»? Может, Мулагеш, давняя военная союзница Шары? Он так не думает. По последним известиям, Мулагеш все еще служит в Парламенте в Галадеше и испытывает удивительный всплеск популярности – он знает, что приверженцы с нежностью зовут ее «Матушкой Мулагеш», что его забавляет, потому в Мулагеш материнского примерно столько же, сколько в дредноуте.
Кем бы ни был их противник, он проник не только в профессиональные секреты Шары, но и сквозь божественные барьеры, которые она возвела вокруг «Золотого отеля». Значит, с ним не шутят.
И кем бы ни был тот, кто написал это сообщение, он пытался предупредить Шару, что акулы приближаются. Но письмо так и не дошло до нее.
А вот касательно маленького шпиона-сайпурца… Сигруд кое-что вспомнил.
Он перечитал эту строчку несколько раз. За время работы на министерство дрейлинг сталкивался с самыми разными сайпурскими шпионами, оперативниками и верными псами.
Пожилой шпион-сайпурец со шрамом на шее…
Кровь на полу. Грязная работа, тихая и с близкого расстояния – работа ножом.
В его памяти всплывает лицо: худой, жилистый коротышка-сайпурец с высокими острыми скулами, изголодавшейся физиономией и горящими глазами. И прямо под подбородком, почти спрятанный воротником, яркий, страшный белый шрам поперек горла.
Сигруд вспоминает, как этот человек однажды коснулся шрама и сказал: «Я получил его в Жугостане. Гребаный колкастанец обратил внимание на мою походку. Дескать, слишком горделивая для сайпурца. Но я выжил. Нашел его позже. Выпотрошил, как свинью. Так и не забыл, что он пытался сделать со мной. И всякий раз, когда я получаю контракт на континентца… хватаю свой нож и вспоминаю…»
– А-а, – говорит Сигруд. – Кхадсе. Ну конечно.
Рахул Кхадсе, лейтенант сайпурского военно-морского флота. Сигруд его помнит. Мерзкий человечек, один из питомцев Виньи. Когда Шара заняла пост премьер-министра, его уволили в числе первых. Но если это Кхадсе – а у Сигруда есть на этот счет лишь одно таинственное свидетельство, – значит, ему удалось найти дом здесь, в Аханастане, где он и занимается своим ужасным ремеслом.
Сигруд откладывает письмо и берет копию шифрованного сообщения. Похоже, это копия телеграммы, которую должны были отослать обычным способом – поэтому дата обозначена в верхней части простым текстом. Судя по всему, ее отправили за неделю до смерти Шары.
Дрейлинг вздыхает и чешет затылок. «Я думал, мне больше никогда не придется ничего расшифровывать… и вот снова-здорово». Он рыщет по комнате в поисках карандаша и бумаги. «Как я ненавижу шифры».
* * *
На расшифровку уходит все утро. Он пробует некоторые стандартные методы, но ни один не годится. Он применяет кое-что из систем, придуманных Шарой, но и они не работают.
«Мне надо поспать, – думает Сигруд, потирая глаза. – Я должен поспать…»
Но вслед за мыслями о сне ему всякий раз приходит на ум «Золотой отель» с разрушенными, разваленными стенами, и желание отдохнуть исчезает без следа.
Лишь когда Сигруд задумывается о том, кому предназначено это сообщение, – о Кхадсе, – у него появляются кое-какие идеи.
Если Кхадсе был шпионом, с которым сотрудничал враг Шары, то у него, наверное, не имелось своей команды шифровальщиков. Может, двадцать лет назад, когда он все еще работал на министерство и пользовался его ресурсами, но не теперь. Значит, он должен был воспользоваться чем-то знакомым. А какие шифры мог знать Кхадсе?
Еще через час Сигруд замирает, точно громом пораженный.
Он знает. Он уже пользовался этим шифром.
Он пробует ключ.
Первые строки исходного текста начинают вырисовываться:
ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЛИКВИДАЦИИ КОМАЙД…
– Вот дерьмо, – говорит Сигруд. Ему не верится. Этим шифром пользовались мирградские партизаны двадцать пять лет назад, когда столица Континента время от времени сопротивлялась сайпурским властям. Кхадсе нельзя винить за то, что он взял этот шифр – малоизвестный, взломанный министерством давным-давно и применявшийся в регионе, довольно далеком отсюда. Скорее всего, любого современного сотрудника министерства он бы завел в тупик. Но Кхадсе вряд ли думал, что у него на хвосте окажется оперативник-ветеран вроде Сигруда.
Он расшифровывает остаток сообщения и читает:
ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЛИКВИДАЦИИ КОМАЙД НОВЫЙ СПИСОК ЦЕЛЕЙ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН ЧЕРЕЗ 12 ДНЕЙ ТОЧКА
ПЕРЕДАЧА ПРОИЗОЙДЕТ 28 БХОВРА В 1300 ТОЧКА
СКЛАД СУВИН ОСТАЕТСЯ САМЫМ НАДЕЖНЫМ МЕСТОМ ТОЧКА
ОБЕСПЕЧЬТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ТОЧКА
Сигруд перечитывает сообщение, потом в третий, четвертый, пятый и шестой раз.
28 бховра… Приходится посчитать в уме, потому что он обычно мыслит сайпурскими, а не континентскими месяцами, но в конечном итоге Сигруд понимает, что это через три дня. Так что у него еще есть время. Немного, но все-таки есть.
У него есть время, дата, и он знает половину тех, кто там окажется, – Кхадсе и его команда. Скорее всего, их будет много, судя по последней фразе про «максимальную безопасность».
Он смотрит на свои руки. Покрытые шрамами, мозолистые, уродливые – в особенности левая, с ладонью, жестоко искалеченной давным-давно, во время пытки с использованием божественного артефакта. «Я всегда был предназначен только для одного, – думает Сигруд и медленно сжимает кулаки. Суставы неприятно щелкают. – Лишь одним искусством мне суждено заниматься. Именно ему я и посвящу себя сейчас, и это кажется очень справедливым».
Он ложится спать и впервые за несколько недель засыпает глубоким сном.
* * *
Склад Сувин оказывается старым угольным складом, расположенным среди доков в восточном конце Аханастана – очень малонаселенном, очень опасном, очень старом и заброшенном. Странный выбор для передачи чего-то важного: как правило, такие вещи делаются в более доступных местах.
«Значит, это не просто тайник, – думает дрейлинг. – Кто бы ни давал эти сведения Кхадсе, он хочет, чтобы ради их получения поработали».
Но если Кхадсе приходится выполнять какую-то процедуру, это означает, что под защитой находится нечто гораздо большее. Шара была всего лишь одним из аспектов происходящего, а Кхадсе – простым инструментом в более крупной игре.
«Я должен встретиться с этим нанимателем Кхадсе, – думает дрейлинг. – И задать ему много-много вопросов».
Сигруд обходит периметр. «Арбалеты, – думает он, глядя на ниши и тени. – Радио… веревки… может быть, взрывчатка». Он окидывает взглядом соседние ветшающие здания. «И мне нужно убежище. И, наверное, придется угнать автомобиль».
Надо поработать, кое-что купить, кое-что сделать. И не так уж много времени, чтобы все успеть.
Он возвращается на улицы, чтобы найти дорогу домой. Но делая это, проверяет окружение, запутывает следы и выполняет кое-какие быстрые маневры, чтобы проверить, нет ли за ним хвоста.
Хвостов нет. Но Сигруд готов поклясться, что видел знакомое лицо: бледную континентскую девушку со вздернутым носиком и глазами странного цвета.
Он встряхивается.
«Пора приниматься за дело».
3. Такая грязная работа
Глупо, но я все еще переживаю из-за чудес. Мы говорим себе, что они все мертвы, но я так до конца и не уверилась в этом.
Панъюй пишет, что в некоторых древних текстах чудеса описаны не как правила или устройства, но как организмы, как будто Чудесные Ступни Такого-то и Такого-то Святого, или как их там называли, просто рыба в огромном море себе подобных. Как будто некоторые чудеса были наделены собственным разумом.
Это меня тревожит. Это меня тревожит, потому что организмам интересна лишь одна вещь: выживание. Любыми доступными способами.
Из письма министра иностранных дел Виньи Комайд премьер-министру Анте Дуниджеш. 1709 г.
Рахул Кхадсе сердито смотрит через окно машины в ночное небо. Он дрожит. Говорит самому себе: «Это просто нервы. Только и всего». Но нельзя отрицать, что вечер предвещает недоброе.
Он вздыхает. Как же ему ненавистно это задание.
Его помощники кутаются в свои пальто, сидя в машине с работающим вхолостую двигателем, как будто пытаясь отгородиться от наползающей холодной сырости. Безнадежное дело.
– Как же так получается, – бормочет Зденич, – что в этом проклятом городе лето жаркое, а зима – холодная?
– Несколько лет назад было хуже, – замечает Эмиль, их шофер. – Это…
– Заткнитесь, – перебивает Кхадсе. – И следите за другой командой!
Тишина. Кто-то неловко возится на сиденье.
Кхадсе снова дрожит, пока они сидят в авто с работающим вхолостую двигателем, но не из-за холода: он знает, что ждет его на угольном складе сегодня вечером. В точности как его пальто и туфли – те, которые он надел, отправившись разбираться с Комайд, те, что на нем сейчас, – угольный склад сопровождается странными, особенными инструкциями.
Он до сих пор помнит, как растерялся в первый раз, когда наниматель организовал «передачу». В свое время, если кто-то хотел передать информацию, Кхадсе просто устраивал тайник или мимолетную публичную встречу в точно назначенное время. Но его наниматель, конечно, был из другого теста. Кхадсе прислали серебряный ножичек и старый деревянный коробок, заполненный спичками с желтыми головками. Вещицы сопровождались указанием отнести их в определенное помещение на определенном складе, соблюдая наивысшую осторожность, а затем он должен был…
Кхадсе снова бросает в дрожь от одной лишь мысли о том, что ему предстоит. «Может, сегодня последний раз, когда я это делаю? Или я буду заниматься этим всю оставшуюся жизнь, сколько бы она ни продлилась?»
Наконец прибывает второй автомобиль. Они наблюдают, как он останавливается у входа в переулок по другую сторону дороги. Фары моргают, потом гаснут.
– Все чисто, – говорит Эмиль. – Начнем?
Кхадсе кивает. Эмиль переключает передачи, трогается и едет к восточной окраине Аханастана, следуя заданным маршрутом из переулков и узких улочек, а один раз пересекает пустырь.
Старый угольный склад вырастает из тумана. Он похож на какой-нибудь древний призрачный замок и напоминает Кхадсе развалины, которые он видел давным-давно в Мирграде, – фрагменты давно исчезнувшей цивилизации.
Они паркуются. Кхадсе сидит молча, изучая окрестности.
– Матруск проторчал тут весь день, – говорит Зденич. – Никто не входил, не выходил и даже не приближался.
– Если бы у этого придурка не была самая странная система передачи в мире, будь она проклята, – бормочет Кхадсе, – мы не имели бы проблем. – Он тихонько хмыкает. – Ладно, провались оно все. Пойдем.
Кхадсе выходит из машины. Звучит симфония щелчков: остальные делают то же самое, одновременно открывая двери. Он приближается к складу с видом человека, который пришел забрать долг, его темное пальто развевается, деревянные подошвы туфель звонко хлопают об асфальт.
Команда следует за ним. Глупо тащить с собой столько людей просто ради получения чего-то из тайника, но ведь наниматель велел проявить максимальную предосторожность. Кхадсе сразу не понравилось, что наниматель – параноик и предъявляет такие требования, словно за ними постоянно следят. Тут и призадуматься недолго.
У самого входа Кхадсе делает движение рукой. Члены его команды вытаскивают пистолеты и идут вперед, проверяя комнату за комнатой. Кхадсе знает, какая из них важна – она на верхнем этаже, где раньше находилась главная контора. Их ждет долгий путь.
Они входят в складские отсеки. Помещения огромные, зловещие, словно просторные моря теней. Команда Кхадсе включает фонари, и лучи света рассекают тьму, выявляя высокие бетонные стены и потолки, громоздкие кучи угля и кокса по углам.
Лучи фонарей пляшут над грудами угля. «Какая же грязная у нас работа», – думает Кхадсе.
Никого. Ничего.
– Чисто, – говорит Зденич.
Они оставляют двух охранников у входа, затем поднимаются по шаткой деревянной лестнице на следующий этаж. Пересекают весь склад, чтобы забраться по металлической винтовой лестнице на третий этаж. Вокруг темно и сыро, все покрыто копотью и пеплом, как будто это место выстроили из обломков, уцелевших после ужасного пожара.
Четвертый этаж. На третьем они оставили еще троих охранников, и теперь Зденич, Альжбета и Кхадсе идут туда, где раньше был кабинет начальника склада.
Они шагают по коридору, затем через офисы в комнаты отдыха, где, наверное, давным-давно лопнула водопроводная труба, оставив потеки плесени на стенах и полу. Они поворачивают и подходят к кабинету в самом дальнем углу здания. Кхадсе взмахивает рукой, и два оставшихся помощника занимают позиции: Зденич – у двери в кабинет начальника склада, Альжбета – у входа в коридор.
– Не больше минуты, – говорит Кхадсе. Затем он открывает дверь и входит в кабинет начальника склада.
Он включает собственный фонарь, и вокруг тотчас же начинают плясать тени. Комната пустая и унылая, стены и пол, как татуировками, покрыты шрамами и царапинами, отпечатками отсутствующих предметов, которые когда-то провели здесь годы.
Морщась, Кхадсе выключает фонарь. Тьма поглощает его. Он роется в кармане, вытаскивает коробок спичек с желтыми головками. Вытаскивает одну, прикасается ею к полоске наждачной бумаги и чиркает…
Во тьме расцветает тусклое голубое пламя. Кхадсе морщит нос. Это неестественный огонь, от нормальной спички такого не бывает. Он дает свет, разумеется, но этот свет каким-то образом делает тени более резкими и плотными, а не рассеивает их. Кхадсе никогда не видел света, от которого в комнате становилось бы темнее, но именно такой эффект и производит эта спичка даже в таком темном помещении.
Он задувает спичку. Ждет. Потом снова включает фонарь.
Смотрит вниз.
– Чтоб мне провалиться, – бормочет он. – Снова-здорово.
У его ног, на полу, идеальный круг полной темноты, которого там раньше точно не было.
Кхадсе снова морщит нос, вздыхает и достает серебряный нож.
– Что ж, приступим.
* * *
Во тьме Сигруд приходит в движение.
Он плотно сжимает губами стальную трубку, идущую через шесть дюймов угля, которым накрыто его тело, и делает глубокий вдох, прежде чем начинает вылезать наружу. Дрейлинг выбрал особенно пыльный уголь, с большим количеством мягких частиц, и поэтому его подъем сопровождается лишь тихим шорохом.
Он снимает трубку и ткань с лица, моргает. Он провел в укрытии вот уже почти двадцать часов и сидел совершенно неподвижно, пока команда Кхадсе обыскивала склад. В голове у него звенит от голода, в паху все промокло от мочи – прискорбно, но никуда не денешься. Он сглатывает, встряхивается и мысленно перебирает услышанное.
Двое у входа в складской отсек. Еще шестеро на верхних этажах. Видимо, стерегут лестницу. Значит, всего восемь, считая Кхадсе.
Сигруд внимательно прислушивается и слышит тихий кашель возле двери складского отсека за углом. Соскальзывает с груды угля и подкрадывается к краю стены. Он с головы до ног в черном, а его ботинки обвернуты тканью, маскирующей шаги по бетону. Он быстро выглядывает из-за угла и снова прячется.
Да, двое. Оба с пистолетами и фонарями.
Сигруд достает свой портативный радиопередатчик, включает, настраивает на нужную волну. Готовится – ручной арбалет на поясе, нож на бедре, – а потом одним пальцем резко бьет по устройству.
На расстоянии трех складских отсеков такая же рация – ее громкость выкручена на максимум – издает громкий звук, который будит во тьме эхо.
– Это еще что за хрень? – говорит один из охранников.
Долгая тишина.
– Может, уголь посыпался, – предполагает другой. – Или крысы.
Опять тишина.
– Кхадсе бы захотел, чтобы мы проверили, – говорит первый охранник.
– А еще он бы не захотел, чтобы дверь осталась без охраны. Если тебе неймется, иди и взгляни на этих дурацких крыс, а я останусь тут.
– Ладно.
Шаги. Не тяжелые. Легкие. Коротышка?
Охранник поворачивает за угол, перед ним прыгает луч фонаря. Он не видит Сигруда, который стоит в тени. Охранник и впрямь невысокого роста – может, пяти с половиной футов. Сигруд оценивает его, прикидывает, как будет двигаться это тело. Затем он скользит вслед, бесшумно проходит во тьме и прячется за стеной второго угольного отсека.
Охранник приближается к дверям третьего отсека, где Сигруд спрятал рацию. Останавливается, и луч его фонаря медленно ползет по грудам угля.
«Так не пойдет, – думает Сигруд. – Мне нужно, чтобы ты повернул за угол…»
Он снова включает рацию и стучит по ней, помягче. Опять раздается звук, но не такой громкий.
– Что? – говорит охранник. – Да что же это такое?
Он поворачивает за угол и скрывается за стеной, вне поля зрения напарника.
Сигруд бесшумно появляется у него за спиной с ножом в правой руке. Когда охранник отходит достаточно далеко, Сигруд прыгает.
Он переживал, что все испортит, но мышечная память берет верх. Левую руку он протягивает вперед и выдергивает пистолет из руки охранника, а правой делает резкое движение черным ножом вверх и вокруг шеи, аккуратно рассекая яремную вену.
Охранник задыхается, и фонарь падает на пол, хотя его луч по-прежнему не виден напарнику. Ужасный фонтан крови покрывает пятнами темную бетонную стену перед ними. Сигруд держит охранника, обнимает его тело, чтобы то не упало и не произвело шум. Тепло разливается по рукам и бедрам дрейлинга по мере того, как сильный поток крови омывает его.
Охранник сопротивляется, его ноги тщетно бьют Сигруда по коленям. Потом удары стихают, становятся все слабее, и тело замирает.
На это уходит меньше двадцати секунд. Сигруд дышит чуть быстрее, чем ему хотелось бы.
«Потерял форму, – думает он. – И скорость…»
Он осторожно опускает труп на пол. Вся его одежда спереди пропиталась кровью убитого. Потом дрейлинг крадется к углу, чтобы посмотреть на второго охранника.
Во тьме его покрытое шрамами, избитое лицо превращается в свирепую гримасу.
«Но с одним-единственным я разберусь легко».
* * *
Кхадсе берет серебряный ножик, протягивает левую руку и делает небольшой надрез с тыльной стороны ладони, в месте сращения пальцев, морщась от боли. Сперва кажется, что он едва оцарапал кожу, но потом в месте разреза набухает ярко-красная кровь.
Он приседает над безупречным кругом тьмы, сует фонарь под мышку и окунает правый большой палец в кровь. Потом этим пальцем тянется к кругу тьмы…
«Ненавижу эту часть», – думает он.
Его окровавленный палец проникает через круг тьмы, как будто тот обычная дыра, но потом Кхадсе чувствует марлевую мембрану, словно внутри круга тьмы слой паутины, только вот он ничего не видит…
Что-то движется, извиваясь, возле его большого пальца, как будто какое-то создание подставляет спину под руку, чтобы его погладили.
– Фу! – вскрикивает Кхадсе. Он выдергивает руку и трясет ею, словно обжегся. Ему не больно, но ощущение настолько тревожное, настолько чуждое, словно на дне этой черной ямы спит какое-то слепое, мокрое существо, ожидая его прикосновения.
Может, так оно и есть. Он здесь уже в третий раз и понимает, что дыра действует как что-то вроде сейфа, который надежно хранит содержимое, пока кто-то не идентифицирует себя правильным образом.
Хотя с виду никаких изменений нет, он чувствует, что черный круг смещается, меняется, делается плоским, а потом…
Что-то поднимается из него, как рыбацкий поплавок, всплывающий на поверхности пруда: маленький прямоугольник из черной бумаги – конверт.
На лицевой стороне мелким неразборчивым почерком написано: КХАДСЕ.
Шпиона бросает в дрожь. Он наклоняется, берет конверт и прячет в карман пальто.
«Что ж, – думает он, поворачиваясь. – Я рад, мать твою, что все закончилось».
Ведь даже у Кхадсе есть пределы. После первой поездки на склад – первой ночи с ножом, кровью и дырой, ведущей во тьму, – он был так обеспокоен, что пустил в ход свои связи, пытаясь разузнать побольше о нанимателе, вычислить, кто он такой и откуда у него доступ к подобным… средствам.
Он обнаружил две вещи.
Во-первых, имя.
Во-вторых, слух о том, что любой, кто произносил это имя вслух, – не важно, кем он был и где находился, – как правило, исчезал.
Кхадсе решил прекратить расследование.
«Помни о своей пенсии. Помни о свете в конце этого очень длинного туннеля…»
Он выходит из кабинета. Зденич глядит на него, подняв брови.
– Все хорошо?
Кхадсе уже собирается сказать, что все в порядке, большое спасибо, теперь давай убираться отсюда поскорей, но тут они слышат внизу выстрелы и крики.
И смотрят друг на друга.
– Это что еще за хрень? – говорит Кхадсе.
* * *
Старые навыки возвращаются в полную силу. Сигруд приканчивает второго охранника у двери складского отсека довольно умело: бьет его в висок рукоятью ножа, вырывает пистолет из рук и перерезает горло.
Оружие оставляет себе. Использовать его не собирается, потому что хочет, чтобы все было как можно тише: выстрел выдаст его расположение и уведомит Кхадсе о том, что ему противостоит всего лишь один человек, а не армия. Сигруд прячет пистолет в кобуру, потом бежит к веревкам, которые свешиваются вдоль боковой стены склада.
Он привязал их две ночи назад – веревки свисают с четвертого этажа до самой земли, спрятанные за одной из колонн. Бо́льшая часть угольного склада отсырела и рассыпается, полы много где проваливаются после долгих лет аханастанских дождей. Использование веревок для того, чтобы одолеть этажи, не только предоставляет ему элемент неожиданности, но еще и не дает разбиться насмерть, сделав один неверный шаг.
Впрочем, он кое-что подготовил на тех этажах с дырявым полом, на тот случай, если сражение перейдет в другие части склада. Осторожность никогда не бывает лишней.
Сигруд хватает одну веревку, тянет, чтобы вытащить из тайника, и смотрит вверх. Он в разумной степени уверен, что веревка выдержит – он завязал тысячи узлов, будучи моряком, но это было очень давно.
«Можно подумать, – говорит он себе, начиная взбираться по веревке, – это самая глупая вещь из тех, которые я делаю сегодня…»
Он поднимается, пока не оказывается чуть ниже окна второго этажа, где останавливается и слушает. Ни голосов, ни движения внутри. Он продолжает подниматься.
Под окном третьего этажа он снова останавливается и внимательно прислушивается. Слышится очень тихий голос:
– …почти уверена, что слышала, как он только что кричал.
– С этим клиентом что-то не так, – отвечает второй голос, мужской. – Он или она заставляет Кхадсе делать какую-то странную хрень.
– Достаточно странную, чтобы Кхадсе испугался?
– Ага. Вот именно такую странную.
– Тише, – вступает третий голос, негромко. Еще один мужчина. – Мы на посту, не забывайте.
– Можно подумать, кто-то заявится в эту вонючую дыру, – огрызается женщина.
Сигруд очень медленно поднимается еще на несколько дюймов – его руки дрожат от напряжения – и заглядывает в окно третьего этажа. Он видит слабый свет в конце коридора – видимо, отблески их фонарей. Другими словами, они близко, но не слишком.
Сигруд проскальзывает в окно третьего этажа, пригибается, прячась за рядом покрытых плесенью столов, и вытаскивает наплечный мощный самострел, который схоронил там заблаговременно.
Большинство бойцов и оперативников теперь предпочитают пистолеты и винташи, поскольку они стреляют гораздо дальше и быстрее, но, если действуешь в полной тишине, считает Сигруд, лучше арбалета оружия не найти. Впрочем, этот конкретный арбалет жертвует удобством ради мощности, потому что из него можно выпустить только по одному болту за раз. Есть модели с зажимами, с автоматической перезарядкой, но механизм перезарядки необычайно громкий и мог бы выдать расположение Сигруда. У него есть арбалет куда меньшего размера, прицепленный к поясу, и это значит, что он может сделать по меньшей мере два тихих и быстрых выстрела.
«И остается вопрос, – думает Сигруд, – что делать с третьим охранником». За свою долгую карьеру он дважды ловил болт на лету, но не готов пробовать то же самое с пулей.
У него есть один вариант: футах в двадцати по коридору отсыревшее пятно в полу, которое он вчера подготовил, подпилив ножом балку ниже, – его опыт лесоруба наконец-то пригодился для работы оперативника. Он не уверен, что все получится как надо – слишком много переменных замешано, – однако попытаться стоит.
Он идет по коридору и перепрыгивает отсыревший участок, обозревая свою работу. «Если это не подействует, – думает он, – я могу получить пулю в спину».
Придется рискнуть. Дрейлинг подходит к углу и быстро высовывает из-за него голову.
Три фонаря, три охранника. Очень бдительные и готовые ко всему.
Сигруд планирует свой ход. «Трое здесь. Потом еще двое наверху. И Кхадсе».
Он крадется из-за угла и готовит свои арбалеты, мощный и ручной. Целится сперва из ручного: дальность у него меньше, и он не такой точный, так что в напряженной обстановке его сложно использовать.
Сигруд целится в ближайшего охранника, континентскую женщину.
Он ждет, когда она отвернется, обнажит шею, ждет, ждет…
Она шмыгает носом и смотрит вправо.
Сигруд жмет на спусковой крючок.
Выстрел уверенный и точный, болт мчится к цели и вонзается прямо в левую сторону ее горла, почти протыкая шею насквозь. Она давится, роняет пистолет и фонарь и падает на колени.
Охранник справа дергается, когда на него летят брызги крови, и таращится на женщину.
– Какого хрена! – кричит он. – Какого хрена!! – Он колеблется, разрываясь между тем, чтобы помочь ей и определить, откуда стреляли.
Сигруд уже поднял мощный самострел. Он не спешит. Кажется, что проходит вечность, но на самом деле, скорее всего, четыре секунды или меньше.
Он тщательно прицеливается и стреляет.
Этот болт летит высоковато: он попадает второму охраннику прямо в рот, выбивая передние зубы и протыкая нижнюю челюсть, возможно, смертельно пронзая горло. Сигруд не останавливается, чтобы подтвердить убийство: он вскакивает и бежит обратно по коридору.
– Эй! Эй! – кричит третий охранник и стреляет. Выстрелы беспорядочные, запоздалые – Сигруд уже за углом, и пули вонзаются в отсыревшие стены позади него. Он перепрыгивает через отсыревшее пятно на полу, виляет между заплесневелыми столами и прячется, чтобы перезарядить свои арбалеты и прислушаться.
Долго царит тишина; возможно, охранник – опытный оперативник. Сигруд задерживает дыхание.
Затем раздается громкий скрип, оглушительный треск и пронзительный вопль ужаса, который быстро затихает. Потом двумя этажами ниже слышен грохот. И тишина.
Сигруд злобно скалится. «Так приятно, – думает он, – когда все идет по плану».
Он выпрыгивает из окна, хватается за веревку и поднимается на четвертый этаж.
* * *
Кхадсе вытаскивает свой пистолет и взмахом руки приказывает двум товарищам занять позиции вокруг верхней части лестницы. Там, внизу, кто-то есть, и, судя по грохоту, крикам и последующей тишине, похоже, вся прочая его команда обезврежена.
Он морщится, размышляя: «Сколько их там? Пять? Десять? Как они нас выследили? Откуда узнали?» Ему не нравится мысль, что придется с боем выбираться отсюда с двумя оставшимися членами команды.
Зденич смотрит на него.
– Что предпримем?
Кхадсе подносит палец к губам. Скорее всего, они в ловушке здесь, наверху, если противники привели полноценный отряд. Лучшим вариантом было бы найти другой выход с четвертого этажа, но Кхадсе приложил прорву усилий к тому, чтобы его не было. Значит, остается только одно.
– Затаимся, – шепчет Кхадсе. – Пусть они сделают первый ход.
– Мы здесь застряли, как омары в ловушке! – паникует Альжбета.
– Возьми себя в руки! – рычит на нее Кхадсе. – Никакие мы не омары в ловушке, потому что мы вооружены, а им придется атаковать, поднимаясь по лестнице! Занять оборонительные позиции. Сейчас же!
Они начинают перетаскивать какую-то гниющую офисную мебель к выходу на лестницу, строя грубые укрепления, которые вряд ли остановят пулю. Потом они прячутся и ждут.
И ждут.
Кхадсе чувствует капли пота, которые текут по вискам. Он не попадал в такое положение уже много лет. «Всю мою команду одолели за пятнадцать минут… Почему они не нападают? Почему они…»
Тут раздается звук, которого Кхадсе не слышал пару десятков лет: звук болта, который вонзается в человеческую плоть.
Он слегка вздрагивает, когда Зденич начинает падать, а из основания черепа у него торчит металлический прут. Подручный Кхадсе валится на пол, сотрясаемый конвульсиями.
– Что?! – кричит Альжбета. Она вертится на месте, выискивая атакующего.
Но Кхадсе уже понял, где находится стрелок, и устремился прочь.
– Они сзади! – рычит он. – Как, будь оно все проклято, они оказались сзади?!
Новый щелчок, и что-то летит со свистом. Потом Альжбета подпрыгивает, словно ее вдруг осенило особенно блестящей идеей, и падает на пол; прямо над ее ключицей торчит девятидюймовый болт.
«Хороший выстрел, – думает Кхадсе в ужасе. – Нет, отличный выстрел. Но как же они поднялись сюда?»
Кхадсе вскакивает и бросается через коридор, дважды выстрелив в качестве огневого прикрытия. Потом он видит, как по коридору кто-то бежит прочь, кто-то очень крупный.
Он бросается в погоню, поворачивает за угол и видит, как противник мчится через строй офисных столов к открытому окну.
А потом… сигает наружу.
От изумления Кхадсе едва не замирает на месте.
– Чтоб мне провалиться… – шепчет он.
Но фигура как будто повисает в воздухе, подвешенная в ночном небе, прежде чем скользнуть вниз.
И Кхадсе тотчас же понимает, что все это значит. Он знает, ну конечно, он знает, что к чему.
Он подходит к окну – где, как и ожидалось, аккуратно привязаны несколько веревок – и целится вниз, но незнакомец уже забирается в здание этажом ниже.
– Ублюдки! – орет Кхадсе. – Вы из министерства, да? Твари министерские! – Он задирает штанину, вытаскивает спрятанный там нож из чехла и перерезает веревки.
Потом прячет нож, не переставая сыпать ругательствами, и мчится обратно к лестнице вниз. «Я знаю этот проклятый трюк с веревками! – думает он. – Это же прямо по учебнику!» Именно так и поступает оперативник министерства, когда оказывается один против многих. Нужно подготовить окружающую среду так, чтобы твои враги воевали с нею, а потом – разобраться с ними по одному.
Кхадсе прыгает через баррикаду, бежит по ступенькам, намереваясь перехватить незнакомца, поймать до того, как тот успеет пустить в ход новый трюк. «Он всего один… Или, может, их двое».
Он резко поворачивает за угол. Потом его руку с пистолетом – правую руку – пронзает жуткая боль.
Кхадсе вскрикивает и пытается удержать пистолет, но тот падает на пол. Правая рука становится странно тяжелой, и лишь через секунду он понимает: из тыльной стороны торчит десятидюймовый нож, чье лезвие рассекло много сухожилий.
Он выдирает нож левой рукой, рыча от боли. Оружие знакомое: черное лезвие, изукрашенная рукоять, словно какая-то королевская реликвия.
Кхадсе узнает нож.
– Харквальдссон! – он выплевывает это имя в ярости.
Из теней выходит человек, одетый в черное. Стягивает маску, обнажая лицо, которого Кхадсе не видел много лет, – мрачную физиономию дрейлинга с одним тусклым и мертвым глазом.
– Да уж, время тебя пощадило, – шипит Кхадсе, сжимая кровоточащую руку. – Я-то надеялся, что миру хватило здравомыслия отправить твою гнилую дрейлингскую шкуру в небытие. – Он наклоняется, чтобы поднять с пола пистолет.
– Нет, – говорит Сигруд. Поднимает правую руку, в которой держит пистолет. – И брось нож.
Кхадсе, все еще рыча от гнева и боли, подчиняется.
– Живым берешь? Сдашь меня полиции за убийство грязной суки Комайд? В этом все дело?
Лицо Сигруда бесстрастное, равнодушное. Кхадсе всегда ненавидел эту его особенность, когда они оба работали на министерство.
Дрейлинг бросает к ногам Кхадсе наручники.
– Надень.
– Иди на хрен.
Сигруд вздыхает с видом скучающей вежливости, словно ждет, когда его партнер по картам сделает ход.
– Ладно, – бормочет Кхадсе. Приседает и со стоном защелкивает наручники на кровоточащих руках.
– Иди, – говорит Сигруд. – К лестнице. И я тебя знаю, Кхадсе. Дернешься – выстрелю.
– Да, но не убьешь, – парирует Кхадсе, свирепо смеясь. – Если бы ты хотел моей смерти, уже бы это сделал.
Сигруд не отвечает.
– Твои разговорные навыки, – замечает Кхадсе, поворачиваясь к лестнице, – не улучшились.
Шпион идет к лестнице, быстро соображая. Он бросает взгляд через плечо на Сигруда, который приостанавливается, чтобы подобрать свой нож, но по-прежнему целится из пистолета в спину Кхадсе.
– Ты же здесь на самом деле не от министерства, верно, Харквальдссон? – спрашивает Кхадсе.
Сигруд хранит молчание.
– Будь оно так, – продолжает Кхадсе, – тебя сопровождала бы команда. Целая армия. Но все не так, верно? Ты один-одинешенек.
Снова тишина.
– И ты хочешь увести меня отсюда, – продолжает Кхадсе, – в какое-то второстепенное место, потому что знаешь наверняка: остальная моя команда придет сюда, чтобы меня искать.
И опять молчание. Кхадсе окидывает взглядом пространство впереди: беспокойные тени, неровные ступеньки, бетонные колонны.
– Твои навыки все еще на высшем уровне, Харквальдссон? – спрашивает Кхадсе. – Ты был не у дел сколько – десять лет? Ой-ой-ой. Как много следов ты оставил? Кто-то обязательно найдет меня или тебя…
– Если тебя не нашли после убийства Шары, – говорит Сигруд, – то, скорее всего, их сети недостаточно широки, чтобы найти меня.
– Ты так уверен, что дело в сетях? – тихо спрашивает Кхадсе. – Ты так уверен, что не ввязываешься в дела гораздо более крупных игроков, чем министерство?
Кхадсе чувствует искру неуверенности в поведении Сигруда, который обдумывает последствия.
Этой доли секунды Кхадсе хватает, чтобы прыгнуть, упереться ногами в бетонную колонну и изо всех сил оттолкнуться.
Он не уверен в дальности прыжка – Сигруд достаточно мудр, чтобы соблюдать дистанцию, – но ему с трудом удается выполнить задуманное, ударив макушкой Сигруду в живот. Чуть выше головы Кхадсе раздается выстрел из пистолета, и шпион едва не глохнет от громкого звука, но все же бросается вперед, вытаскивая спрятанный нож из чехла на ноге.
Но Сигруд проворнее: он поднимает пистолет и стреляет.
Кхадсе вскрикивает. Он чувствует мощный прилив тепла в правом плече. Пытается оценить ущерб, неуклюже ощупывая себя скованными руками.
Но крови нет. Тут до него доходит, что – как ни странно – боли и шока тоже нет. А поскольку Кхадсе уже случалось ловить пулю, он знает, что должен чувствовать.
Кхадсе и Сигруд оба глядят на его правое плечо.
Они в полном замешательстве: пуля зависла в половине дюйма от пальто Кхадсе, прямо над тем местом, где он хватается за свой бицепс. Она едва заметно вращается, как цилиндр в фонографе: медленно, будто во сне.
А потом, словно осознав их взгляды, пуля с тихим звоном падает на пол.
– Ни хрена себе… – говорит Кхадсе со смесью замешательства и восторга.
Сигруд снова стреляет. Кхадсе вздрагивает.
Опять жар в груди. И снова пуля зависает в воздухе над поверхностью пальто – на этот раз прямо напротив сердца Кхадсе, – прежде чем упасть.
Кхадсе и Сигруд глядят друг на друга, не вполне понимая, как справиться с таким поворотом событий.
«Выходит, вот что делает пальто, – думает Кхадсе. – Почему этот ублюдок мне сразу не сказал?»
Он ухмыляется Сигруду и прыгает, выставив нож.
Дрейлинг ускользает от лезвия, но движется слишком медленно: Кхадсе успевает захлестнуть пистолет цепью наручников и вырвать из рук противника. Потом шпион кидается на Сигруда – выпад, удар, еще удар. Сигруд уклоняется раз, другой, потом откатывается и вытаскивает собственный нож. Кхадсе, хихикая, делает финт влево, потом вправо. Сигруд пятится, не зная, какие еще чудесные штучки припас бывший шпион.
– Откусил больше, чем можешь прожевать, да? – спрашивает Кхадсе, смеясь.
Двое мужчин кружат, пытаясь определить, кто из них сдастся первым. Кхадсе делает ложный выпад, потом кидается вперед и почти успевает рассечь плечо Сигруда. Тот уклоняется, вскидывает лезвие вверх и вокруг – умный ход, Кхадсе такого не ожидал, – но острие черного ножа, не причинив вреда, отскакивает от спины пальто Кхадсе, как будто то сделано не из ткани, а из плотной резины.
Кхадсе напирает, смеясь, в восторге от такого поворота событий. Он вовсю пользуется своим преимуществом, бьет сверху, снизу, сбоку.
Сигруд поступает неразумно, пытаясь ударить Кхадсе в голову – единственное незащищенное место, которое можно атаковать, – но шпион уклоняется и бьет ножом по руке Сигруда, оставляя рану. Дрейлинг рычит от боли, отступает и убегает по коридору.
Кхадсе бежит за ним, смеясь. Он понятия не имел, что наделен такой мощной защитой. Если бы он знал, что проклятое пальто делает его неуязвимым, убил бы охранников Комайд и выпотрошил ее голыми руками.
Сигруд проворнее, чем он ожидал от такого громилы, и бежит прямо в недра старого склада. Поворачивает на какую-то узкую лестницу, и Кхадсе прибавляет скорости, чтобы не отстать, намереваясь тем или иным способом воткнуть нож в шею громадины-дрейлинга.
На последней ступеньке он чувствует возле лодыжки что-то странное. Некое сопротивление, как если бы его штанина зацепилась о…
Глаза Кхадсе лезут на лоб. Растяжка?!
Затем раздается грохот, оглушительный звон, и все становится белым.
Следующее, что осознает Кхадсе: он лежит на ступеньках и стонет. В ушах у него звенит еще громче, чем после выстрела из пистолета рядом с головой. Мир белый и пестрит черными пузырями, и он с трудом может соображать или шевелиться.
«Светошумовая граната. Ублюдок привел меня прямо к ней…»
Но Кхадсе может чувствовать – например, реверберации в деревянных ступеньках, на которых лежит. Он ощущает, как вблизи открылась дверь, как кто-то приближается. Он пытается ударить ножом, но так оглушен, что попросту валится лицом вниз.
Потом приходит боль. Сильная боль. Боль в руках, которая заставляет выпустить нож. Кто-то наступает на его лодыжку, и раздается треск – Кхадсе воет, но почти не слышит собственного голоса. Потом он чувствует, как большие руки хватают его, расстегивают наручники и срывают пальто.
Горячее дыхание прямо в ухо, и голос, полный гнева:
– Как ты и сказал, ты нужен мне живым.
Кхадсе вздергивают на ноги, и сломанную лодыжку пронзает жуткая боль. Он чувствует, что болтается над землей, и внезапно осознает, насколько Сигруд крупнее и сильнее. Перед глазами у Кхадсе проясняется, лопающиеся белые пузыри исчезают, и теперь он видит: видит лицо Сигруда прямо перед своим, обветренное, покрытое шрамами и лучащееся безжалостным злорадством.
– Как я счастлив, – говорит Сигруд, отводя кулак, – что наконец-то ты в моих руках.
* * *
Покончив с ним, Сигруд вытирает пот со лба и прислоняется к стене, все еще ловя воздух ртом. Это оказался его первый настоящий бой более чем за десять лет. Раньше все было намного проще.
Его взгляд скользит по разбитой губе и расквашенному носу Кхадсе. По сломанной лодыжке и рассеченной руке.
«Этот человек убил Шару, – напоминает он себе. – Этот человек убил десятки людей, чтобы добраться до Шары».
И все же… почему Сигруду от этого не легче? Почему он не наслаждается происходящим?
«Помни, что он у тебя забрал. Помни, что ты потерял».
Тактика выживания, давно известная Сигруду: выковать из своей печали компас и идти по стрелке.
Он со стоном опускается на колени, поднимает Кхадсе и перебрасывает через плечо. Шатаясь, поднимается по лестнице, потом следует извилистым маршрутом через недра склада, где воздух пропах углем и кровью. В какой-то момент он наступает в большую лужу крови, которая натекла от трупа, лежащего где-то во тьме, и понимает, что уже почти забыл, как убил этого человека. Он проходит через кучу коксовой пыли, чтобы не оставлять кровавых следов.
Он покидает склад и уносит потерявшего сознание Кхадсе к украденному автомобилю, развалюхе с мигающими фарами. Открывает багажник и небрежно швыряет Кхадсе внутрь. Бывший шпион стонет, падая на запасное колесо.
Сигруд закрывает багажник, потом приостанавливается, прежде чем сесть за руль. Окидывает взглядом просторную бетонную площадку, прислушивается, думает. Он почему-то не может избавиться от ощущения, что здесь только что побывал кто-то чужой.
Он забирается в машину и заводит двигатель. Фары мигают и мерцают, пока он трогается. Сигруд движется в противоположную сторону от той, откуда приехал, просто на всякий случай. На повороте лучи фар рассекают камышовые заросли у канала.
Сигруд резко тормозит. Автомобиль со скрипом останавливается.
Дрейлинг сидит за рулем, щурясь через лобовое стекло, потом медленно выбирается из машины. Оставляет двигатель включенным, мерцающие фары светят ему в спину. Он идет к каналу. Бетонное покрытие обрывается, его заменяет грязный склон, поросший травой и ведущий к камышовым зарослям у воды. Сигруд изучает их, склонив голову набок.
Заросли примяты. Он смотрит вниз и видит следы в грязной траве. Недавние и довольно маленькие – хотя и не детские. Возможно, это следы подростка.
«Кто-то шпионил за мной», – думает дрейлинг.
Он смотрит на канал. Он подозревает, что наблюдатель по-прежнему там, съежился в камышах. Если надо атаковать, сейчас самое время – Сигруд выдохся, а Кхадсе в отключке. Совершить выстрел из темноты нетрудно. Но, кем бы ни был наблюдатель, он ничего не делает.
Сигруд хмыкает. Возвращаясь к автомобилю, он решает придерживаться изначального плана: доставить Кхадсе в свое убежище, но придется кое-что изменить на месте на случай каких-нибудь сюрпризов.
«Очень хорошо, – думает он, открывая дверь машины, – что я прихватил много взрывчатки».
4. Разве ты не знаешь, что идет война?
Перемены – это цветок, который расцветает медленно. Большинству из нас не суждено увидеть его во всем великолепии. Мы сажаем его не для себя, но для будущих поколений.
И все же за ним стоит ухаживать. Да, это очень дорого.
Из письма бывшего премьер-министра Ашары Комайд лидеру меньшинства в Верхней палате Парламента Турин Мулагеш. 1732 г.
Сигруд видит, когда Кхадсе приходит в себя. Дыхание бывшего оперативника слегка изменяется. Через минуту он сглатывает, шмыгает носом.
Сигруд, сидя на грязном полу, заканчивает зашивать жуткий порез, который Кхадсе оставил на его руке. Он кладет иголку с ниткой обратно на шаткий деревянный стол, потом ухмыляется Кхадсе и говорит:
– Доброе утро.
Кхадсе стонет. Сигруд его не винит. Он раздел бывшего оперативника до пояса и подвесил к крюку для мяса в потолке, а потом избил так, что лицо Кхадсе гротескно раздулось, щеки и лоб выпятились, губа треснула, а подбородок потемнел от крови.
Кхадсе некоторое время сопит. Потом он делает то, чего ждет Сигруд: начинает кричать. Громко. Он вопит и воет, зовет на помощь, орет, чтобы кто-нибудь пришел и спас его, что его держит в плену безумец, и так далее, и тому подобное… Сигруд кривится и морщится, наблюдая, как Кхадсе набирает воздуха, чтобы крикнуть громче, а потом его вопли наконец-то прекращаются.
Наступает полная тишина.
Кхадсе сверлит его взглядом, тяжело дыша.
– Стоило попробовать.
– Думаю, – говорит Сигруд, – ты знал, что я спрячу тебя вдали от посторонних глаз. И ушей.
– Все равно стоило попробовать.
– Как скажешь.
Кхадсе озирается. Они в длинной, узкой комнате, почти такой же темной и обветшалой, как угольный склад. В потолке торчат рядком крюки, а на бетонных стенах и полу виднеются темные пятна старой крови. Сигруд подвесил к нескольким крюкам масляные лампы, и теперь они заливают пространство тусклым оранжевым светом.
– Скотобойня? – Кхадсе фыркает, кашляет и сплевывает полный рот крови. – Мило. Значит, я еще в окрестностях порта. Возможно, в том же квартале, что и склад… Может быть, кто-то заглянет в гости.
– Может быть, – соглашается Сигруд. Впрочем, он уже приготовил это место к любым визитерам. Он держит в руках пальто Кхадсе. – Что это такое?
– Пальто, – отвечает бывший оперативник.
Сигруд устремляет на него хладнокровный взгляд.
– Откуда мне знать, мать твою? – говорит Кхадсе. – Я понятия не имел, что оно пули останавливает. Если бы знал, повеселился бы как следует.
Сигруд отрывает подкладку пальто. Внутри оно выглядит потрясающе. К ткани пришиты черные ленты, и они разных оттенков черного цвета, хотя человеческий разум и глаза настаивают, что это невозможно. Сигруд приглядывается, и чем дольше он смотрит, тем больше убеждается, что на черных лентах есть письмена, замысловатые миниатюрные завитки.
– Ух ты, – говорит Кхадсе. – Я не знал, что там такое есть.
– Это чудо, Кхадсе, – сообщает Сигруд. – Ты носил чудесную вещь. Знаешь, какие они редкие? Их теперь почти не осталось, не считая тех, что сотворила Олвос. Точнее, их не должно было остаться.
Кхадсе не реагирует.
– Но ты об этом знал, – продолжает Сигруд. – Ты знал, что оно чудесное.
Тишина.
– Тебе что-то известно. Где ты это взял?
Лицо Кхадсе делается странно замкнутым. Сигруд понимает: бывший оперативник думает, как бы ему выторговать собственную жизнь.
– Я расскажу об этом, – медленно говорит Кхадсе. – И еще кое о чем. У меня есть сведения, которые ценны для тебя.
– Знаю. Я нашел в твоем кармане это. – Сигруд демонстрирует черный конверт. – Похоже, это список, причем на очень занимательной бумаге. Шифрованный. Наверное, ради него ты и явился на склад этим вечером, да?
Кхадсе прищуривается.
– Может, ты и завладел посланием, да. Но шифр у меня.
– Хочешь обменять его на свою жизнь?
Кивок.
– Неплохой вариант. Но ты надолго отключился, Кхадсе, и у меня было время поработать. Я предположил, что это тот же шифр, который ты использовал в своих телеграммах, – код мирградских партизан, – и оказалось, что так оно и есть.
Кхадсе стискивает зубы и ничего не говорит.
Сигруд открывает конверт и громко читает:
– Бодвина Вост, Андель Душан, Георг Бедрич, Мальвина Гогач, Леош Рехор и… – Сигруд бросает взгляд на Кхадсе. – Татьяна Комайд. Дочь Шары.
Кхадсе теперь побелел. Его лоб покрылся каплями пота от попыток придумать выход.
– Имена. Что это такое, Кхадсе? Что это за люди?
– Откуда мне знать? – огрызается бывший оперативник. – Я впервые их слышу. Так происходит обмен информацией – обычно кто-то отдает кому-то сведения, которые тот не знает.
– Все имена континентские. Это твои следующие цели? Это люди, которых ты должен был убивать дальше?
– Я тебе все скажу, – говорит Кхадсе. – Но сперва отпусти.
Сигруд позволяет молчанию длиться еще некоторое время.
– Почему ты убил Шару? – тихо спрашивает он.
– Тебе не понравится мой ответ.
Сигруд цепенеет.
– Скажи. Сейчас же.
Кхадсе фыркает.
– По той же проклятой причине, которая заставляет действовать большинство людей. Мне заплатили. Много. Больше, чем я получал за всю свою жизнь.
– Кто?
Кхадсе молчит.
– Я не хочу тебя пытать, Кхадсе, – говорит Сигруд. – Ну… это не совсем правда. Хочу. Но у меня нет времени на такие игры. И все же, если придется, я найду время.
– Нас обоих учили терпеть пытки, – рычит Кхадсе.
– Это верно. Но я провел семь лет в Слондхейме. И там меня многому научили о боли – научили такому, что агентам министерства и не снилось. Если ты не сделаешься сговорчивым, что ж… я поделюсь с тобой этой наукой.
Кхадсе вздрагивает.
– Я тебя всегда ненавидел, – говорит он. – Вы с Комайд разгуливали по Континенту, словно гребаные туристы. Вы никогда на самом деле не служили Сайпуру, никогда по-настоящему не уважали честь и службу. Вы делали то, что хотели, изображая «историков».
– Имя. – Сигруд встает. – Сейчас же, Кхадсе.
– Я не могу дать то, чего у меня нет! – рычит бывший оперативник. – Психованный ублюдок приложил все усилия к тому, чтобы со мной не встретиться, и я его никогда не видел!
– Психованный? – переспрашивает Сигруд. – Сумасшедший дал тебе чудесное пальто?
– Он точно безумен, – говорит Кхадсе. – Он убежден, что у стен есть уши и что весь мир против него ополчился, и он готов платить за мои услуги целое состояние! По крайней мере он ценит меня выше, чем министерство когда-нибудь ценило.
– И в чем заключались твои услуги, Кхадсе, помимо Шары?
– В п-первый раз он нанял меня, чтобы найти мальчишку. Континентца, горожанина. Это все. Ни убийств, ни навыков агента, ничего. Просто хотел, чтобы я выследил засранца. Хоть это и оказалось нелегко. Он дал мне только имя. Но старина Кхадсе все сделал в лучшем виде. Я нашел ребенка, и все. Наверное, ему понравилось, как я работаю, потому что он стал обращаться ко мне снова и снова.
– Что за мальчик?
– Какое-то проклятое континентское имя… Кажется, Грегоров. Угрюмый подросток. Вероятно, приемный. Я думал, в нем не было ничего особенного.
– Что с ним случилось после того, как ты его обнаружил?
– А, это… ну, с этим сложнее. Я в общем-то не знаю. Похоже, мальчик исчез. Но мне известно, что родителей маленького Грегорова настигла преждевременная смерть. Непосредственно перед его исчезновением. Кажется, какой-то несчастный случай. Их сбила машина на улице. А потом внезапно все забыли, куда подевался маленький Грегоров. Вот тогда-то, Харквальдссон, я и решил, что с моим новым нанимателем не шутят.
– И что дальше? Что ты делал для него потом?
– Много, очень много мерзостей. Но все закончилось, когда приехала Комайд и поселилась в «Золотом отеле». Это его испугало. Ну, по крайней мере, так мне казалось со стороны.
– И он поручил тебе убить Шару, – тихо говорит Сигруд.
– Ага. Может, она ему надоела. Или, может, он что-то от нее получил, украл какую-то часть ее операции. Например, именно этот список, который ты держишь в руке.
Сигруд смотрит на лист черной бумаги. Он вспоминает строчку из письма, адресованного Шаре: «Этот город всегда был ловушкой. Теперь у него наш список возможных новичков. Мы должны действовать незамедлительно».
«Наниматель Кхадсе украл список рекрутов у Шары, – думает Сигруд, – потом велел Кхадсе с ними разобраться… Но почему в списке есть Татьяна?»
Он долго думает, потом спрашивает:
– Значит, это наниматель передал тебе пальто?
– Для дела Комайд, да. И туфли.
– Туфли?
Сигруд смотрит на кучу одежды Кхадсе. Берет одну туфлю, переворачивает. С виду ничего необычного. Дрейлинг достает свой черный нож, втыкает в подошву и отдирает каблук. Под каблуком прибита жестяная пластинка, на которой выгравированы очень любопытные иероглифы, сложные и… похоже, они движутся. Ему трудно рассмотреть невооруженным глазом, в чем дело.
– Хм, – говорит Кхадсе. – Об этом я тоже не знал.
Сигруд подносит жестяную пластинку к свету.
– Мне это знакомо… я такое уже видел, когда мы выслеживали спекулянтов в окрестностях Жугостана… Это одно из чудес Олвос. Ослепляющий свет на снегу, что-то в таком духе. Он не дает людям идти по твоему следу, создает препятствия у них на пути, мешает хорошо тебя разглядеть.
– Тогда как же ты меня нашел?
– Я не шел по твоему следу. Я знал, где ты будешь. Ты сам пришел ко мне. Эти штуки работают по строгим правилам. – Сигруд вспоминает чудеса у дверей «Золотого отеля», на улицах снаружи… По их сегодняшней схватке он понял, что пальто Кхадсе – мера защиты. Но что, если оно оберегает не только от ножей и пуль? Что, если наниматель Кхадсе дал ему это пальто, чтобы убийца смог пробраться через все охранные символы и препятствия Шары и разместить бомбу как можно ближе к ней?
Но это последний из всех вопросов, о которых надо думать прямо сейчас.
– Почему дочь Комайд в этом списке? – спрашивает Сигруд. – Почему твой наниматель хочет, чтобы ты нашел Татьяну Комайд?
– Это вне моей компетенции, – говорит Кхадсе. – Спросил бы людей Комайд. Она занималась тем же.
– В смысле?
– Искала детей. Ее проклятое благотворительное предприятие, приют или что там? – Он хихикает. – Куча дерьма. И никак иначе. Она искала рекрутов. Собирала сети. Тренировала континентцев.
– Ради чего?
– Понятия не имею. Может, хотела собрать частную армию. А может, маленькая Татьяна должна была стать ее полковником. Кто знает?
– Но твой наниматель хотел добраться до этих людей первым.
– И опять же, это вне моей компетенции.
Сигруд долго молчит.
– Ты когда-нибудь встречался со своим куратором, Кхадсе?
– Я же тебе сказал, нет.
– Не говорил с ним – допустим, по телефону?
– Нет.
– Тогда как вы вступаете в контакт?
– Я получаю телеграммы с указанием, где будет осуществляться контакт. Затем иду в назначенное место, делая именно то, что говорит куратор, и как только я оказываюсь там, то… – Он закрывает глаза. – Совершаю ритуал.
Затем Кхадсе описывает чудо, о котором Сигруд никогда раньше не слышал: дыру из совершенной тьмы, которая ждет крови, и нечто спящее на дне – то, что выдает ему письмо.
Сигруд смотрит на лист в руке.
– Так это письмо… получено из чуда?
– Да. Возможно. Какая разница? Вы с Комайд всегда знали о чудесном чуточку больше, чем было известно нам.
– И ты понятия не имеешь, кто поместил туда… эту тьму и вложил в нее письмо, чтобы передать тебе.
– Верно. И я не думаю, что это так работает. Я думаю… Каждый раз, когда я это делал, мне казалось, что дыра соединяется с каким-то другим местом. Местом, которое находится под миром или за его пределами… я не знаю, как сказать. И, чтоб мне провалиться, не уверен, что хочу узнать.
– Как странно, – тихо говорит Сигруд, – что ты, человек, который так сильно презирает континентцев, с готовностью воспользовался континентскими трюками, чтобы убить сайпурку.
Кхадсе пожимает плечами.
– Я же сказал – он платит. – Он сплевывает полный рот чего-то кровавого и вонючего. – Ну да, мой куратор, возможно, псих. Может, он какой-нибудь континентский тайный агент, который раздобыл кучу реликвий. Так все устроено. Мы в эту игру играем со щенячьего возраста, Харквальдссон. Сильные мира сего делают ходы. А мы, пешки и пушечное мясо, сражаемся в траншеях, пытаясь выжить. Сложись все чуть по-другому, в цепях был бы ты, а с ножом – я.
Сигруд размышляет над услышанным. Он решает, что согласен.
Он поворачивается и аккуратно прячет список в свой ранец. Потом отдирает другую пластинку от обуви Кхадсе, забирает обе и пальто агента и тоже прячет.
– Грабишь меня, да? – говорит Кхадсе. Он снова сплевывает. Что-то со стуком падает на пол – возможно, зуб. – Я тебя не виню. Но мы подошли к концу, да? Теперь ты решаешь, как меня убить. Как отправить старого Рахула Кхадсе прочь из этого смертного мира. Какой же ты ублюдок.
– Еще нет. – Сигруд смотрит на него. – Ты знаешь о своем кураторе больше, чем говоришь, Кхадсе.
– О, так ты хочешь пойти за ним? – спрашивает бывший агент.
Сигруд не отвечает.
Кхадсе хихикает.
– Ох, надо же. С ума сойти. Валяй стреляй! Он тебя на куски разорвет, громила!
– В каком смысле?
– В таком, что он не из тех, с кем можно шутить. Я просто знаю его имя. И слушок о том, что если произнести это имя вслух… Ну, поминай как звали.
– Твой наниматель убивает? Просто за то, что его имя произнесли вслух?
– Чтоб мне провалиться, если я знаю. Никто не в курсе, что с ними происходит. Но, куда бы они ни попали, оттуда не возвращаются.
Сигруд приподнимает бровь.
– То, что ты описываешь, – говорит он, – смахивает на страшную сказку для детей.
– А я взял да и сунул руку в крови в дыру в реальности! – смеется Кхадсе. – А ты взял да и выстрелил в меня, и пули просто попадали на пол! Я уже не понимаю, во что верить, но знаю – разумно быть осторожным. – Он ухмыляется, как безумный. – Я тебе скажу это проклятое имя, если ты хочешь, дрейлинг. С радостью. И тебе крышка.
Сигруд качает головой.
– Я никогда не слышал о чуде или божественном создании, которое могло бы услышать свое имя с другого конца мира. На такое способно только настоящее Божество – и если ты не собираешься сказать мне, что твой куратор – Олвос, это означает, что ты здорово ошибаешься.
– Думаю, ты сам поймешь. – Улыбка Кхадсе увядает. – И после того как я скажу тебе это имя… старине Кхадсе придет конец. Не правда ли?
– Ты бы сделал то же самое со мной.
– Да. Верно. – Он глядит на Сигруда горящими глазами. – Как ты собираешься это сделать?
– Если бы все происходило двадцать лет назад, я бы тебя выпотрошил. Оставил болтаться здесь с кишками наружу. Это заняло бы несколько часов. За то, что ты сделал с Шарой.
– Но сегодня?..
– Сегодня… я стар, – говорит Сигруд, вздыхая. – Знаю, я таким не выгляжу. Но мы оба старики, Кхадсе, а это игра для молодых. У меня больше нет времени на такие вещи.
– Верно. – Кхадсе смеется. – Я думал, выберусь. Выйду на пенсию. Но от всех этих вещей так просто не сбежать, так?
– Да. Ты прав.
– По крайней мере это ты. Ты, а не один из этих тупых маленьких ублюдков. Тебе не просто повезло. Ты заслужил это. – Кхадсе на мгновение смотрит в пространство. Затем он поворачивается к Сигруду и произносит: – Ноков.
– Что?
– Его имя, – говорит Кхадсе, тяжело дыша, как будто каждый слог причиняет боль. – Его имя – Ноков.
– Ноков? Ноков – и все?
– Да. И все. – Он наклоняется вперед. – Знай, ты умрешь. Что бы ты ни сделал со мной, он с тобой поступит в тысячу раз хуже.
Сигруд хмурится. «За всю жизнь, – думает он, – я не слышал ни о каком Нокове, ни в мире тайных агентов, ни в мире Божеств».
Дрейлинг встает, достает нож и аккуратно приподнимает подбородок Кхадсе, обнажая тонкий белый шрам на горле. Прикладывает черное лезвие к шраму, как будто следует инструкциям к детской вырезке из бумаги.
– И ты это заслужил, – говорит Кхадсе, глядя Сигруду в глаза. – За все, что сделал. Ты и это заслужил.
– Да, – говорит Сигруд. – Знаю. – Потом он резко проводит лезвием по горлу Кхадсе.
Бьет фонтан крови, горячий и влажный. Сигруд отступает и смотрит, как Кхадсе давится и кашляет, как его грудь и живот заливает его собственная кровь.
Он умирает быстро. Не важно, сколько раз Сигруд такое видел – его всегда поражает, как мало секунд отделяют жизнь от смерти.
«Сколько секунд, – думает он, наблюдая за тем, как содрогается тело Кхадсе, – умирала Шара?»
Голова бывшего агента без сил падает на грудь.
«Или Сигню?»
Кхадсе перестает двигаться.
В комнате становится тихо, не считая звука, с которым капает на пол кровь. Сигруд вытирает руки тряпкой, садится на пол и снова вытаскивает список целей Кхадсе.
Он смотрит на последнее имя: Татьяна Комайд. Девочку он видел один раз в жизни, и, наверное, это единственная частица его подруги, которая еще сохранилась в мире.
* * *
Бледная континентская девушка наблюдает за бойней из камышовых зарослей у канала. Она медленно начинает взбираться к краю участка, следя, не мелькнет ли что-нибудь в окнах. К счастью, громила увез Кхадсе недалеко – всего лишь на несколько миль вниз по течению. Так как за рекой здесь никто не следит, она без труда движется в нужном направлении, хотя теперь промокла до колен.
Она не знает, что это за здоровяк, но он ей не нравится. Ушли месяцы, чтобы отследить перемещения Кхадсе, месяцы, чтобы внедриться в его средства связи, месяцы, чтобы почти все вычислить. Это было особенно трудно, потому что у Кхадсе при себе имелись какие-то чудеса – что-то, делающее его невидимым, почти неуловимым для слежки, – но ей все же удалось придумать, как с этим справиться.
А потом тупой верзила с пистолетами и ножом ввалился на склад и все испортил, а в последний момент уволок Кхадсе прочь, словно мешок с треклятой картошкой.
Потом она забралась внутрь и увидела трупы. Увидела, что он с ними сделал. Кем бы он ни был, она не хочет, чтобы такой человек прослышал о ее планах.
Медленно светает, но ее настроение от этого не улучшается. Она окидывает взглядом развалины скотобойни. Ей это место не нравится. Отчасти потому, что оно уродливое и обветшалое, но в основном из-за того, что ей не нравится его прошлое.
А она может увидеть любой отдельно взятый момент из прошлого.
Она вздрагивает. Когда-то это место было переполнено смертью. Стоит ей отвлечься, и прошлое начинает просачиваться, она замечает огромные стада коров и коз, которые бродят туда-сюда в загонах, беспокойные и испуганные, словно гадая, что с ними будет. Иногда она слышит их блеяние, мычание и крики, чувствует впереди запах крови и знает, что приближается. Она слышит их прямо сейчас – слышит, как они вопят на скотобойне…
Она трясет головой, изгоняя звуки из своего разума. Раздумывает о вариантах. Верзила утащил Кхадсе куда-то в глубь скотобойни, и ей пока что не хочется пускать в ход свои способности, чтобы найти его. Это может оказаться слишком рискованно для нее. Но она должна что-то извлечь из ситуации. Нельзя, чтобы ее слежка за Кхадсе на протяжении дней и недель оказалась напрасной.
Потом свет начинает меняться. Она растерянно озирается. Оранжевые лучи рассвета, что просачиваются сквозь двор бойни, мерцают и в конце концов угасают.
– О нет, – шепчет она.
И смотрит вверх. Небо прямо над ней темнеет, оттенки черного просачиваются сквозь бледную голубизну и приносят с собой блестящие холодные звезды. Пятно черноты густеет и распространяется – необычная темная заря в центре небес.
«Как же он смог меня найти? Как он мог оказаться тут?»
Потом она понимает, что пятно тьмы находится не над нею, а над скотобойней – предположительно, над двумя мужчинами внутри.
Она понимает, что, кем бы ни был верзила и чего бы он ни хотел, он, скорее всего, понятия не имеет, какая сила вот-вот обрушится на него.
Что же делать?..
– Гребаный ад, – бормочет она. А потом встает.
* * *
Сигруд сидит на полу и думает.
Все плохо. Вообще все плохо, но кое-что хуже остального.
Для начала: откуда у нанимателя Кхадсе чудесные предметы? Все изначальные Божества – Сигруду, по правде говоря, не верится, что это придется опять подвергнуть сомнению, – мертвее мертвого, не считая Олвос. Но большинство чудесных предметов Олвос были утрачены восемнадцать лет назад, когда сгорел дотла сайпурский секретный склад. Сигруд это знает, потому что находился в числе людей, которые его и сожгли. Так что даже чудеса Олвос должны быть невероятно редкими.
«Неужели существовал еще один секретный склад? – Он чешет подбородок. – Или, что еще хуже, кто-то придумал, как делать новые чудеса?» Такое должно быть невозможным без помощи Олвос. По крайней мере Сигруд так думает. Справиться с подобным выше его сил.
Он опять просматривает список имен. Жаль, что в нем так мало сведений и не указано, где все эти люди находятся. «Но если бы было известно, где все находятся, – думает Сигруд, – скорее всего, люди из списка оказались бы уже мертвы».
Ему известно местонахождение лишь одного человека – Татьяны Комайд, которая, если верить газетам, жила в Галадеше с Шарой.
Он снова складывает список и прячет в карман.
Итак, каков следующий шаг? Сигруд тяготеет к одной идее, но сама мысль об этом его откровенно приводит в ужас.
Дрейлинг пытается придумать альтернативы. Выследить Нокова? Выудить больше связей из приспешников Кхадсе? Исходить улицы вдоль и поперек в поисках людей из списка?
Вряд ли какой-то из этих вариантов окажется плодотворным. И самой важной остается одна задача: кто-то угрожает приемной дочери Шары. Скорее всего, в министерстве об этом никто не знает.
Ему надо в Галадеш. Галадеш, столицу Сайпура, самый богатый и самый хорошо защищенный город в мире. Место, где, пожалуй, охрана правопорядка устроена лучше, чем в прочих цивилизованных странах, – а значит, то самое место, где его, беглеца от сайпурского правосудия, скорее всего, поймают, посадят, будут пытать и, возможно – очень даже вероятно, – казнят.
Что делать после того, как он разыщет Татьяну, Сигруд не знает. Предупредить ее, отвезти в какое-нибудь безопасное место и убраться. Но дрейлинг видел, что случается с людьми, которые соприкасаются с его окутанной мраком судьбой. У него нет никакого желания допускать, чтобы такое приключилось с Татьяной.
Но он должен сделать хоть что-нибудь. Ему больно просыпаться каждый день и понимать, что он не был рядом с Шарой, когда она нуждалась в нем больше всего. Представить себе, что с ее ребенком случится то же самое… эта идея для него отвратительна.
Потом Сигруд замирает. Прислушивается.
Вокруг тишина, но что-то… не так.
Он бросает взгляд через плечо. Длинная комната тянется позади него, череда масляных ламп болтается на крюках. Он наклоняет голову.
Он почти уверен, что, когда притащил сюда Кхадсе, зажег девять масляных ламп. В южном конце скотобойни он обнаружил огромный чулан с лампами и решил ими воспользоваться. Тем не менее теперь горят только шесть, как будто в дальнем конце комнаты три отчего-то потухли. Но здесь нет никакого сквозняка.
«Масло закончилось? Это странно…»
У него на глазах гаснет самая дальняя лампа. Ни звука, ни шипения, ни дыма. Она просто… исчезает, и остаются всего пять огоньков. И стоит лампе погаснуть, как дальний конец комнаты заполняет непроницаемая тьма.
Затем он слышит шаги. Кто-то идет к нему через длинную, погруженную во мрак комнату. Сигруд прищуривается, приглядывается, но ничего не видит в темноте. Кем бы ни был появившийся, он не пытается скрываться: он идет в быстром, размеренном темпе, словно торопясь на очередную встречу.
Сигруд хватает ранец и вытаскивает пистолет.
– Кто здесь? – говорит он.
Шаги не замедляются.
Гаснет пятая лампа. Стена мрака становится ближе.
Сигруд бросает ранец через плечо, поднимает пистолет и направляет его вдоль длинной узкой комнаты.
– Я буду стрелять, – говорит он.
Шаги не замедляются.
Гаснет четвертая лампа. Тьма становится все ближе.
Он прикидывает по звуку шагов расположение идущего и жмет на спусковой крючок. Грохот выстрела в замкнутом помещении звучит особенно громко. Дульное пламя не разгоняет тьму. И хотя Сигруд стреляет в небольшом пространстве, пуля как будто никуда не попадает и никого не пугает – потому что шаги продолжают приближаться.
Гаснет третья лампа. Остаются только две, подвешенные прямо над Сигрудом. Стена тьмы теперь очень близко, как и шаги.
Потом он видит это.
Что-то проникает в полутень, всего лишь в десятке метров от него. Но это… невозможно.
Там, на границе света, тень – тень, которую определенно отбрасывает двуногое существо, идущее к нему. Но Сигруд не видит того, кто ее порождает. Есть свет от лампы, есть тень человеческой фигуры, идущей в его сторону, – но нет человека, чтобы отбрасывать эту тень.
– Чтоб мне провалиться… – говорит дрейлинг.
Шаги замолкают. Тень человеческой фигуры тоже перестает двигаться.
Тишина.
Затем звучит мужской голос, высокий, холодный и ломкий. Кажется, что он исходит не из какого-то определенного места – не из тени человека перед ним, не из стены тьмы за тенью, – но от всех теней в комнате, как будто они одновременно вибрируют, создавая… эти звуки.
Голос произносит:
– Он мертв.
Бросив взгляд через плечо на труп Кхадсе, Сигруд говорит:
– Гм.
– Я его знаю, – продолжает голос. Снова шаги. Гаснет вторая лампа, и тень продвигается по полу, изгибаясь, словно невидимка – кого бы или что бы он собой ни представлял, – обходит оставшуюся лампу по кругу. – Кхадсе, верно? Он был полезным. – Шаги останавливаются, тень замирает на полу, намекая, что невидимый гость стоит прямо над трупом Кхадсе. Голос негромко прибавляет: – Он выполнял приказы. Не задавал вопросов. Ненавижу, когда задают вопросы… Мне всегда кажется, что я обязан ответить.
Долгая тишина. Сигруд гадает, стоит ли ему атаковать, удирать или… сделать что-то еще. Внезапно его переполняет убежденность в том, что он не должен покидать свет. Он сам не знает почему, но чувствует: если пересечь границу тени – которая внезапно кажется такой четкой, такой жесткой, – то обратно он не вернется.
– Я хотел сделать это сам, – говорит голос с намеком на сожаление. – Неразумно, чтобы кто-то разгуливал с таким количеством секретов. Ну что ж…
Опять шаги. Тень человека вертится, пока он обходит лампу по кругу. Потом она падает на труп Кхадсе…
И тот исчезает. Как будто гость своей тенью мимоходом стер Кхадсе из реальности, как тряпкой стирают пятно на оконном стекле.
Сигруд озирается, стоя посреди крошечного островка света, который отбрасывает единственная оставшаяся масляная лампа. «Не покидай свет!»
Мгновение спустя тень исчезает, мигнув.
Сигруд хватается за радиопередатчик свободной рукой – это часть приготовлений на случай, если кто-то попытается устроить ему засаду. «От этого не будет толку здесь, так далеко от входа», – думает он. Отбрасывает эту мысль, гадает, что же делать.
А потом дрейлинг чувствует внезапное внимание, словно вся тьма в комнате повернулась к нему и начала разглядывать.
Во тьме раздается низкий, страшный стон, похожий на звук, с которым высокие деревья медленно колышутся на ветру. Его левую руку внезапно пронзает ужасная боль, как будто шрам наполняется расплавленным свинцом.
Откуда-то из дальнего угла шепотом спрашивают:
– А ты кто такой?
Сигруд опускает пистолет. Он не очень-то понимает, что делать в такой ситуации, – его не готовили к беседам со стеной тьмы, – но, с другой стороны, отвечать на вопросы он умеет.
Дрейлинг инстинктивно прибегает к легенде, которая соответствует документам в его кармане.
– Йенссен, – говорит он.
В ответ тишина.
Потом голос озадаченно повторяет:
– Йенссен?
– Да.
– И… что же вы здесь делаете, господин Йенссен?
– Ищу работу, – решительно отвечает Сигруд. – В ханастане.
На этот раз пауза длится гораздо дольше. Потом справа раздается ритмичное постукивание, как будто змея дергает хвостом. И медленно, очень медленно во тьме проступают… крошечные искорки холодного света, словно ужасно далекие звезды.
– Не уверен, что понимаю смысл происходящего, – негромко произносит голос. – Ты или глуп, или врешь, что тоже довольно глупо. – Потом, приблизившись, он продолжает: – Но ты меня призвал. Ты, или он, или вы оба.
Сигруд смотрит вниз. Круг света медленно сжимается. Дрейлинг самому себе напоминает водяную крысу, которую душит питон.
Голос шепчет:
– Ты работаешь на них? Это они тебя наняли? Скажи мне.
Сигруд понятия не имеет, о ком говорит невидимка, но отвечает:
– Нет. Я один.
– Почему ты убил Кхадсе?
– Потому что… потому что он убил моего друга.
– Хм… но ведь это было довольно трудно, не так ли? Я окружил его защитой, снабдил разными мерами. – Короткий, тихий всплеск стрекота, словно поют сверчки в огромном лесу.
Сигруд спрашивает себя: «Где я? Может, это уже и не скотобойня?» Но над ним по-прежнему висит масляная лампа.
Голос продолжает:
– Ты не должен был его выследить, не должен был ему навредить. Но все же я чувствую, что защита, которую я ему дал, в твоей сумке…
Круг света еще немного сжимается. Единственный глаз Сигруда распахивается, когда он осознает смыл сказанного. «Так это… это существо, – думает он, – и есть наниматель Кхадсе? Неужели эта тварь… Ноков?»
– И я чувствую от тебя запах, – продолжает голос во тьме, – мой собственный почерк, мой собственный список, переданный по моим каналам. Письмо. Мое письмо!
Сигруд сглатывает.
– Ты лжешь мне, – говорит голос. – Я не верю, что ты мог убить Кхадсе без помощи. Их помощи.
– Я сделал это в одиночку.
– Ты так говоришь. И все же я тебе не верю.
Долгая тишина. Сигруд чувствует, как что-то шевелится среди теней: сухой шорох, приглушенный вздох.
– Ты знаешь, кто я такой? – шепчет голос. Граница тени уже всего в нескольких дюймах от ног Сигруда. Он держится очень прямо и напряженно, стараясь изо всех сил не допустить, чтобы локоть или колено соприкоснулись с этой мрачной завесой. – Знаешь, что я могу с тобой сделать? – спрашивает голос. – С Кхадсе ты, конечно, расправился… но я способен на такое, что убийство покажется благостью.
Рядом раздается вздох. Шарканье и скрип – что-то тащат по бетонному полу. Рука так болит, что Сигруд не может перестать сжимать ее в кулак.
– Вечное блуждание в самой темной ночи, – шепчет голос, теперь с другой стороны. – Бескрайняя черная равнина под далекими звездами… Ты будешь идти, идти и идти, идти так долго, что забудешь, как выглядит твое собственное лицо и кто ты вообще такой. И лишь когда это случится – когда ты забудешь собственное имя, саму идею о себе, – тогда я нарушу твое уединение и задам тебе вопросы.
Что-то шипит впереди него. Позади слышится хихикающий звук, но издает его точно не человеческое горло.
– И ты, – шепчет голос, – рыдая, расскажешь мне все.
Тень приближается. Сигруду кажется, что он стоит в тоненькой трубочке света.
Шепот над ухом, как будто существо во тьме нависло над ним со спины:
– Хочешь, чтобы я так поступил с тобой?
– Нет.
– Тогда скажи, кто…
Граница темноты дрожит. Сигруд ждет первого удара.
Потом невидимка издает досадливое восклицание:
– Хм.
Сигруд приподнимает бровь.
– Хм?
Круг света у его ног расширяется, как будто кто-то – или что-то – теряет хватку. Голос говорит:
– Кто… кто это делает?!
Кажется, у невидимки ужасная мигрень.
Сигруд озирается.
– Делает… что?
Круг света продолжает расширяться. А потом он слышит коров.
* * *
Мир сдвигается, меняется, искажается.
Единственный глаз Сигруда распахивается от полнейшего изумления.
Дрейлинг не уверен, когда все изменилось: всего пару секунд назад он был во тьме, и ему угрожало… нечто или некто. Но теперь, и в этом нет сомнений, все обстоит совсем иначе.
Ведь прямо сейчас Сигруд стоит посреди бетонного коридора и таращится на гигантское стадо коров, которое бредет мимо и мычит в легком раздражении. Яркий белый солнечный свет льется из-за его спины. Он поворачивается и видит что-то вроде деревянных ворот на скотный двор. Очевидно, что в какой-то момент ворота откроются и коров выгонят наружу, но пока что они топчутся в тесном коридоре и громко выражают недовольство.
Сигруд тоже недоволен тем, что ничегошеньки не понимает в происходящем. Звучит странно, и все же в последний раз он был уверен в реальности окружающего мира, когда перерезал глотку Кхадсе. А вот теперь все стало каким-то… податливым.
Его окликает женский голос:
– Эй!
Сигруд оборачивается. Через стадо коров к нему пробирается девушка. Он ее узнаёт: невысокая, бледная континентка с забавным вздернутым носиком…
– Ты, – говорит Сигруд. – Я тебя знаю…
Континентка изящно огибает последних коров и резко спрашивает:
– Какого хрена ты тут устроил?
Сигруд понятия не имеет, как отвечать. Он глядит на эту девушку всего-то пяти с половиной футов ростом с пышной гривой черных волос и таким дерзким ртом, словно с ее языка в любой момент может сорваться едкое замечание.
Но есть что-то странное в ее глазах: они бледные, блеклые, цвета неправильно окрашенного фарфора – не серые, не синие, не зеленые. Сигруду кажется, что ее глаза созданы видеть… нечто иное.
– Ты назвал его по имени? – продолжает девушка. – Назвал вслух?! Да что с тобой такое? Хочешь, чтобы всех убили?
Сигруд поднимает руку, словно школьник на уроке, пытающийся ответить на вопрос.
– Кажется, я должен признаться, – говорит он, поглядывая на толпящихся впереди коров, – что на самом деле не понимаю, что происходит.
– Ха-ха, тоже мне новость! Ты прикончил убийцу? Кхадсе?
– Э-э… да.
– Почему?!
– Потому что он убил Шару Комайд, – говорит Сигруд. – И я не смог это вытерпеть.
Девушка тяжело вздыхает, словно ждала такого ответа, но не хотела его услышать.
– Понятно. Провались оно все пропадом.
– Почему?
– Потому что я, – говорит незнакомка, – искала его по той же причине.
– Что происходит? Кто ты? Где мы?
– То же место. Скотобойня. Незадолго до того как ее перестроили, так что поблизости был дневной свет. Я могу – я попробую! – тебя отсюда вытащить, но…
– Погоди, – перебивает Сигруд. – Постой. Ты хочешь сказать, это… прошлое?
– Что-то очень близкое к нему, да, – говорит девушка. – Достаточно далекое, чтобы дневной свет былого просочился в настоящее. Он наиболее силен там, где простираются тени, и, хотя это делает его могущественным, оно же влечет за собой кое-какие ограничения. Там, где есть свет, его нет.
Сигруд пытается понять. Потом он бледнеет и задает вопрос, который, как он считал, ему не придется задавать ни разу в жизни:
– Ты Божество? – тихо говорит он.
Девушка с сожалением рассмеялась.
– Я? Нет. А вот он… Он старается изо всех сил. Ты ничегошеньки не знаешь, верно? Разве ты не знаешь, что идет война? Теперь нам придется… ой!
Она падает на колени, ее лицо искажается от боли. Сигруд смотрит вверх и видит, что стены скотобойни дрожат, а потом мир как будто сжимается в точку…
Их захлестывает тьмой, и в конце концов оказывается, что они не на бойне, но внутри крошечного пузыря света, который дрейфует в море теней. В этом пузыре только часть бойни – словно кто-то смотрит на нее через телескоп, кажется Сигруду, и видит лишь миниатюрный кружок изображения, исключая все прочее.
– Что происходит? – спрашивает Сигруд.
– Я проигрываю, вот что происходит, – рычит девушка. – Часть нас все еще на бойне, в настоящем, с ним. Он может бить по стенам пузырька прошлого, который я создала. И он их разобьет. – Она сдувает прядь волос с лица и стискивает зубы. – Ты хочешь выбраться отсюда?
– Да.
– Тогда следуй за мной. Не отставай. Если выскользнешь из пузыря, попадешь прямо туда.
– Куда?
– К нему. В ночь. За пределами этого пузыря – настоящее. А он там. И тебе с ним быть не захочется.
Она идет вперед, пробираясь между коровами. Пузырь движется вместе с нею, как будто она проецирует его вокруг себя. Сигруд, встревоженный, бросается следом и старается держаться поближе.
– Я наблюдала за Кхадсе много дней, не одну неделю, – говорит девушка, качая головой. – А потом появился ты и начал стрелять…
– Что ты знаешь про Кхадсе и Шару?
Она косится на него.
– Ну да, я прям возьму и поверю тебе. Человеку, который громко крикнул его имя.
– Ты говоришь про Н…
– Не смей! Ты хочешь пригласить его сюда?! Прямо к нам?!
Сигруд начинает понимать.
– Нет.
– Хорошо. Держи рот на замке, пока не испортил еще что-нибудь.
Они поворачивают за угол и видят две лестницы вниз. Одна освещена газовым светом, другая темная.
– Будем надеяться, эта выведет наружу, – бормочет девушка, когда они приближаются к освещенному коридору.
Человек в окровавленном фартуке выходит оттуда и минует их без единого слова. Сигруд смотрит на него в недоумении. Он видел эти дверные проемы всего лишь час назад, и оба почти обвалились.
– Мы… мы действительно в прошлом?
– Отчасти. Это его куски, части. Они нас не увидят. Прошлое не меняется, оно твердое и долговечное. По нему легко передвигаться, от секунды к секунде, как лягушка прыгает по кувшинкам. Ты заметил?
– Заметил что?
– Переходы между секундами?
– Н-нет.
– Значит, я делаю хорошую работу. Будем надеяться, что это продлится достаточно долго, чтобы мы смогли выбраться…
Они начинают спускаться. Потом границы пузыря снова дрожат, и девушка кричит и спотыкается, словно ее ударили ножом.
Сигруд приседает, чтобы помочь ей встать.
– Опять?
– Я… я больше не выдержу, – говорит она, задыхаясь. – Я думала, что смогу, но он теперь сильнее меня. Я рискую собой, спасая тебя. Он убил стольких из нас и теперь может заполучить меня…
Сигруд мало что понимает в происходящем, но до него начинает доходить грубая, причудливая как сон логика того, что предлагает девушка.
– Итак… ты хочешь провести нас вниз через прошлую версию скотобойни… а как только мы окажемся снаружи, на свету, вернуть в настоящее?
Девушка опять вскрикивает от боли, прижимая пальцы к вискам.
– Да! – кричит она. – Ты тупой?
– Но ты не сможешь туда дойти, – говорит Сигруд.
Она качает головой, слезы текут из ее глаз.
– Похоже, не смогу.
Сигруд смотрит на радиопередатчик, висящий на поясе.
– У меня была стратегия выхода отсюда – на случай, если здание будут штурмовать… но здесь от нее мало толку. – Он быстро соображает.
«Какие инструменты могут быть полезны против этого существа? Какие инструменты у нас вообще есть?»
Потом у него появляется идея.
– Ты можешь хотя бы довести нас до первого этажа? – спрашивает он. – Может, поближе к выходу?
– Может. Я попробую.
– Ладно. Второй вопрос… – Он роется в своем ранце и вытаскивает кусочки гравированной жести из туфель Кхадсе. – Знаешь, что это такое?
Она таращит глаза.
– Это… это чудеса, которые были на убийце, верно? Они не давали мне толком рассмотреть его, следить за его передвижениями. «Солнечный свет на горном перевале…»
Сигруд щелкает пальцами.
– Так вот как оно называется! Я не мог вспомнить. Держи. Засунь в туфли. Быстрее. Сейчас же.
– Но…
– Немедля!
Она садится на ступеньки и делает, что велели, – морщась и кривясь, как будто от болезненного шума в ушах.
– Хорошо, – говорит Сигруд. – Теперь третий вопрос. Что бы ни было, э-э, кем бы ты ни была… ты можешь пострадать от взрыва?
Она бросает на него сердитый взгляд.
– Чего?!
– Будем считать, – говорит дрейлинг, – что это значит «да».
* * *
К моменту, когда они добираются до нижней части лестницы, дела идут так плохо, что девушка уже едва переставляет ноги. Сигруд почти несет ее.
– Это плохо, – говорит она, почти теряя сознание. – Не уверена, что смогу хотя бы убежать.
– Тебе и не придется, – отвечает Сигруд. – Просто подведи нас как можно ближе к двери. Потом мы зажжем спички, и ты позволишь пузырю лопнуть – я хочу сказать, вернешь нас в настоящее…
– Да, да! Я поняла!
– Хорошо. Затем ты сделаешь свой ход.
Они ковыляют через нижние помещения скотобойни, что-то вроде зоны упаковки и погрузки, куда раньше заезжали и откуда выезжали грузовики и повозки. Граница пузыря дрожит и дребезжит, словно кто-то колотит по ней снаружи, и каждый раз девушка стонет чуть сильнее.
– Кто ты? – спрашивает Сигруд. – Ты друг Шары? Шары Комайд?
Девушка молчит.
– Ты… «М»? Из письма, адресованного Шаре?
Она угрюмо смеется.
– А ты не дурак. Послушай, убийца, – ты рыбешка в очень большом пруду. Скорее всего, если ты выживешь сегодня – в чем я, честно говоря, сомневаюсь, – то тебя просто поймают на следующей неделе, в следующем месяце или, возможно, завтра же ночью. И когда он поймает тебя, то вытащит все твои секреты из самого нутра. Я не допущу, чтобы среди них оказался и мой секрет.
– А если я все же выживу?
– Если выживешь и я снова тебя увижу… возможно, передумаю. – Она подозрительно смотрит на него. – Возможно.
Сейчас они возле входа на скотобойню. Сигруд аккуратно опускает девушку на пол. Их маленький пузырь прошлого теперь довольно сильно трясется, словно ворота, в которые бьют тараном.
– Быстрее, – шепчет она. – Пожалуйста, поторопись…
Сигруд сует руку в ранец и достает коробок спичек и пальто Кхадсе. «Слава морям, – думает он, – что я еще курю». Он надевает пальто Кхадсе – оно трещит на дрейлинге, но это наименьшая из его проблем. Потом, двигаясь аккуратно и плавно, он зажигает одну спичку. Вручает девушке, а сам собирает половину оставшихся спичек в пучок и тоже передает ей. Затем зажигает еще одну спичку и берет оставшуюся половину так, что они оба держат по зажженной спичке в одной руке и по пучку незажженных – в другой.
Он смотрит на девушку: она тяжело дышит от боли и ужаса.
– Готова? – спрашивает Сигруд.
– Да.
– Тогда вперед.
Она закрывает глаза. В тот же самый миг они подносят зажженные спички к незажженным пучкам. Спички ярко вспыхивают, и свет от них столбом пронзает тьму.
Пузырь прошлого вокруг них содрогается. Трясется.
Растворяется.
Тьма с ревом и писком льется со всех сторон – дикие, странные звуки ночного леса…
Но вокруг них она резко останавливается: мерцающие спички в их руках удерживают ее на расстоянии. Так темно, что непонятно, находятся ли они все еще на скотобойне, но Сигруд видит, как через щели в одной из дверей в отдалении просачивается свет зари.
Девушка кивает Сигруду и начинает медленно двигаться в сторону двери. В ее пальцах трепещет пламя.
Потом высокий, холодный голос шепчет ему на ухо, дрожа от ярости:
– Где она? Она здесь, не так ли?
Сигруд прячет улыбку. «Значит, чудеса из туфель Кхадсе работают, – думает дрейлинг. – Он не может ее как следует увидеть…»
– Ты и впрямь работаешь с ними, – говорит голос. – Я знал. Я это знал! Ты же понимаешь, твой огонек долго не протянет. И тогда тебе от меня не уйти.
– Я расскажу тебе все, – говорит Сигруд. – Прямо сейчас.
Пауза. Сигруд видит, что девушка почти добралась до двери.
– Что именно ты мне расскажешь? – спрашивает голос.
– Про Комайд. Про тех, кто в ее списке. Я знаю, где они.
Это, разумеется, сказочная ерунда. Но голос среди теней размышляет.
Потом он ласково произносит:
– Если тебе есть что сказать, начинай.
– Я работал с Комайд, – произносит Сигруд. Он старается говорить как можно медленнее. – Я работал с нею очень, очень долго. Даже если она этого не знала, я работал на нее и ждал ее – до самой ее смерти.
Тихое позвякивание и лязгающий звук – девушка отодвинула скользящую дверь.
Голос звучит снова, на этот раз рядом с другим ухом Сигруда:
– И? – подозрительно спрашивает невидимка.
– Она была осторожным человеком, – говорит Сигруд. Он наблюдает, как пламя ползет вниз по спичкам. – Но даже самый осторожный человек совершает ошибки. И тебе это известно.
Сигруд наблюдает за тем, как девушка выбирается туда, где безопасно. Она не оглядывается.
– Однажды мы были в убежище, вели допрос, – говорит Сигруд. – Но его прервали. Понимаешь, ворвались наши враги и чуть не взяли нас в плен. И с той поры я настаивал принимать меры предосторожности, чтобы такое не повторилось. Она это ненавидела. Но система была очень простая.
Сигруд переводит дух.
Берет радиопередатчик, демонстрирует и говорит:
– Она выглядит вот так.
После чего бросает спички, левой рукой натягивает пальто на голову и жмет на кнопку.
Раздается взрыв.
На самом деле Сигруд его почти не слышит. Он слышит, наверное, первые 0,0001 от взрыва. Потому что потом его с такой силой швыряет на землю, что он отключается.
Свет. Жар. Шум. И дым.
Он приходит в себя, задыхаясь и моргая; вокруг пляшут языки пламени, и он смутно осознает, что ему не больно. Пальто по-прежнему на голове, а спина и череп – которые должны были удариться об пол на смертельной скорости – совсем не болят. Наверное, пальто не дало ему врезаться в пол, но, как бывает с людьми, чью голову мотает во время автомобильной аварии, это не защитило его мозг от сотрясения.
Все еще в полубессознательном состоянии, он встряхивается и садится. Зажигательные мины нанесли немалый ущерб: тени разорваны в клочья тысячей маленьких огоньков, которые мерцают тут и там по всей скотобойне. Он высматривает своего противника – этого Нокова, – но ничего не видит.
Разве что…
В дальнем углу бойни виднеется какая-то фигура, тень на стене – только вот ее некому отбрасывать. Тень выглядит так, словно человек, кем бы он ни был, согнулся пополам, упирается руками в колени, как будто оправляясь от ошеломляющего удара. Затем тень шевелится и поворачивается, чтобы посмотреть на него…
Он видит глаза тени, холодные и мерцающие, как далекие звезды.
– Посмотри, что ты наделал! – кричит голос, возмущенный и растерянный. – Да только посмотри, что ты наделал!
Сигруд встает и кидается к двери наружу, хотя слегка шатается как пьяный. На бегу он видит, что ловушка сработала не так хорошо, как в былые времена: только две из трех зажигательных мин, которые он заложил здесь, взорвались. Он, похоже, испортил третий заряд, самый мощный. Скорее всего, приемник третьего заряда был поврежден во время взрыва, но пока Сигруд бежит, он прикрывает как можно больше своего тела пальто Кхадсе и щелкает передатчиком снова и снова, надеясь, что устройство все же проснется.
Он видит, как тени кружатся, роятся, клубятся позади, тысячи маленьких лужиц соединяются вместе, чтобы схватить его, прежде чем он достигнет дневного света снаружи.
Сигруд в двадцати футах от двери, потом в десяти. Он видит, как снаружи рябит на солнце поверхность реки Лужницы.
– Нет! – кричит высокий, холодный голос позади него. – Нет, нет!
Большой палец Сигруда в последней попытке неистово бьет по кнопке передатчика: щелк-щелк-щелк-щелк-щелк!
А затем стены заливает горячий и оранжевый свет, идущий откуда-то позади дрейлинга. Всплеск жгучего тепла омывает его.
Потом Сигруд вылетает через дверной проем, как пуля из ружья.
Кажется, время замедляется. Сигруд медленно кувыркается над рекой, что позволяет ему видеть плод своих усилий: яркий огненный шар, вылетающий из входа в скотобойню, словно язык дракона, который решил попить воды.
Сигруд смотрит вниз – точнее, поскольку он вверх тормашками, вверх – на воду, которая стремительно приближается к нему.
«Это, – думает он, – не то, чего я хотел».
Он пытается завернуться в пальто, но потом…
Удар.
Мир темнеет, и все его чувства сводятся к пронзительному «и-и-и-и-и-и-и-и!» в ушах. Когда Сигруд приходит в себя, то мгновенно осознает, что очутился под водой, что пузыри струятся из его носа и рта и в общем-то в глотке уже немало воды.
«Не паникуй. Не паникуй…»
Он начинает биться, дергаться, рваться вверх, к мерцающему там свету, красному и злобно-оранжевому. Он вырывается из воды, кашляя и задыхаясь, и от облегчения едва не начинает тонуть опять. Он снова выбирается на поверхность, работая руками и ногами, и плывет к далекому берегу.
Наконец под ногами у него мягкая грязь, и он выкарабкивается на берег, еле дыша от изнеможения. Позади раздается оглушительный треск, и Сигруд оборачивается как раз в нужный момент, чтобы увидеть: скотобойня начинает разваливаться.
Дрейлинг хмурится. Он намеревался устроить всего лишь яркую и жаркую вспышку, а не разрушить все здание.
«Мне точно надо стряхнуть пыль со своих навыков взрывника».
Он смотрит, как здание рассыпается. Интересно, а эта тварь – Ноков – погибла в огне, оказавшись в ловушке? Сигруд в этом сомневается. Восемнадцать лет назад в Мирграде он видел, как Божество получило несколько десятков артиллерийских снарядов прямо в физиономию и у него даже кровь из носа не потекла.
«Но разве оно… он… Божество? – Сигруд сует мизинец в ухо, пытаясь вытрясти каплю воды. – И кто эта девушка? Во что же я ввязался?»
Он вспоминает, что сказала молодая континентка: «Разве ты не знаешь, что идет война?»
Он смотрит на себя. Пальто Кхадсе разорвано – не из-за внешних сил, но явно из-за того, как очень большие руки Сигруда вертелись и дергались туда-сюда в одежде размеров на пять меньше нужного. Вздохнув, он снимает с себя лохмотья. Очень бы хотелось сохранить такую штуковину, но он решает, что было бы глупо доверяться чуду, особенно такому, которого никогда раньше не видел.
Он встает и ковыляет прочь. Теперь надо добраться до квартирки и спрятанных денег и документов. А потом уматывать как можно скорее из Аханастана.
«А оттуда в Галадеш, – думает он, – чтобы уберечь Татьяну от этого существа, чем бы оно ни было».
Понадобится местный ресурс. Но дрейлинг знает отличный вариант. Тот, чей домашний адрес известен широкой публике.
«Надеюсь, – думает он, пока плетется в сторону дороги, – она не застрелит меня при встрече».
5. Все, что мне оставалось
Иногда меня спрашивают про Во. Я нахожу такие вопросы очень прямолинейными, но пресса нынче рвется вперед и вперед. Еще немного рвения, и она споткнется – по крайней мере, я на это надеюсь.
Я думаю о том же, о чем думала всегда: статус-кво равнозначен рефлекторной смерти.
Люди не меняются. Государства не меняются. Их меняют. Они сопротивляются. А иногда и дерутся.
Из письма бывшего премьер-министра Ашары Комайд лидеру меньшинства Верхней палаты Парламента Турин Мулагеш. 1732 г.
Капитан первого ранга Кавита Мишра идет через пустырь, сунув руки в карманы шинели. Руины скотобойни за пустырем все еще дымятся, откуда-то из глубин поднимаются извилистые струйки дыма. Аханастанская полиция отгородила район, и Мишра замечает, что все офицеры выглядят очень серьезными, хмурятся и качают головами, щеки и носы у них раскраснелись под высокими шлемами с гребнями. У нескольких на плечах блестит золото – лейтенанты, а может, один-два капитана. Да, и впрямь очень серьезное дело.
Впереди констебль машет рукой в черной перчатке, завидев ее приближение.
– Простите, барышня, это место преступления, и я…
Мишра вытаскивает удостоверение и показывает ему.
– Доброе утро, – говорит она.
Констебль читает. Таращит глаза и отступает на шаг.
– Я понял, сударыня, – говорит он. – Э-э. Хотите, чтобы я позвал лейтенанта, сударыня?
– Если он тут главный – то да, пожалуйста.
– Да, сударыня.
Он рысью убегает прочь. Мишра ждет, окидывая взглядом руины скотобойни. Она могла бы пройти на место преступления, если бы захотела, – сколько бы золота ни украшало эти мундиры, ее пост с лихвой превосходит все прочие, – но не делает этого. Она не хочет, чтобы какие-то другие ее поступки, кроме появления и ухода, особенно запомнились.
Аханастанский лейтенант с внушительными седыми усами, которые колышутся всякий раз, когда он пыхтит от негодования, широким шагом идет к ней по тротуару.
– Да-да? – спрашивает он. – Чем могу помочь?
Она показывает документы. Лейтенант пугается, как и констебль, но возмущения в нем куда больше.
– Понятно, – говорит он. – Ну-ну. Как мило, что вы к нам присоединились, капитан Мишра. Министерство иностранных дел, да? При чем тут военная разведка? Разве что… дело каким-то образом связано с Комайд?
Лейтенанту неловко, потому что аханастанские власти прямо сейчас подвергаются серьезной критике. Такое случается, если допустить, чтобы бывшего главу самого могущественного государства в мире убили у тебя на заднем дворе.
– Мы пока что не уверены, – говорит Мишра. – Мы еще оцениваем ситуацию. А вы думаете, эти случаи связаны?
– Нет, – с удивлением отвечает он. – По крайней мере пока нет. Хотя я точно надеюсь, что связь и не обнаружится.
– Вы сказали, у вас еще серия трупов в другом месте, ниже по течению реки?
– На угольном складе, да. Работал профессионал. Очень высокого уровня. – Он окидывает ее взглядом. – Но я очень надеюсь, вы мне не скажете сейчас, что Сайпур с этим как-то связан. Я думал, дни, когда где-то рядом вызревают смертоубийственные конфликты, остались в прошлом.
– Сейчас я мало что могу вам сказать. Но можете не сомневаться, что Министерство иностранных дел не причастно к случившемуся. Хотя оно, разумеется, нас тревожит. Вы опознали какие-то из тел?
– Ни одного. Еще рано.
– И… – Она кивком указывает на выгоревшую скотобойню. – Здесь трупов не нашли?
– Пока нет. Но руины в плохом состоянии. Нужно время, чтобы все обыскать.
– Ниже по течению реки ничего не прибило к берегу?
– Нет. – Он устремляет на нее тяжелый взгляд. – Кого именно мне следует искать, капитан?
– Высокого мужчину, – говорит Мишра. – Волосы острижены очень коротко. Дрейлинг. С фальшивым глазом.
Лейтенант качает головой.
– Мы не находили трупов, соответствующих этому описанию, сударыня. Может, что-нибудь еще подскажете?
– Если бы знала больше, лейтенант, не стала бы утаивать. Он всего лишь сомнительный тип, которого заметили на месте предыдущего происшествия. – Она вытаскивает визитку и протягивает ему. – Если что-то узнаете, не могли бы вы уведомить меня? В этом деле нам лучше держаться друг друга.
– С радостью, сударыня, – говорит он, но улыбается достаточно недружелюбно, чтобы понять: все совсем наоборот.
– Спасибо, лейтенант, – говорит Мишра. Кивает ему, поворачивается и уходит обратно к своему автомобилю.
Она с облегчением переводит дух. Она ожидала, что кто-то из Министерства иностранных дел уже нанес ему визит – кто-то с официальным приказом явиться сюда, – и это могло обернуться некрасиво. Ибо, хотя у Мишры и был приказ проверить место происшествия, он пришел не из министерства.
Она едет на север, прочь от промышленных кварталов, мимо фабрик и нефтеперегонных заводов, чьи трубы извергают дым. Едет и едет, пока не оказывается возле дорожных туннелей, соединяющих восточный Аханастан с автомагистралями, идущими с севера на юг, – узкими, тесными артериями, высеченными в горе. Она въезжает в один из туннелей и примерно на полпути останавливается на аварийной полосе. Некоторое время сидит, наблюдая за другими машинами. Смотрит в зеркало заднего вида прищуренными, внимательными глазами янтарного цвета. Убедившись, что за ней не следили, достает конверт.
Конверт толстый и выглядит очень официальным, закрыт на шнурок, обвернутый вокруг бронзовой пуговицы. Мишра снова проверяет окрестности, потом открывает конверт и достает из него лист чего-то похожего на черную бумагу.
Она это делала уже много раз. Но все равно вздрагивает, прикасаясь к бумаге. Она знает, что на самом деле это не бумага, а нечто иное: поверхность листа кажется нежной, как соболиный мех, но если ее потыкать, то оказывается, что она твердая, как стекло… Чем бы это ни было, ее кожа воспринимает его как нечто чужеродное.
И оно попросту слишком черное. Чересчур черное.
Она достает карандаш и начинает писать. Она не может прочитать написанное – серое на черном неразличимо для глаза, – но знает, что для него это не важно. Куратор, как он предпочитает называть себя в обычной беседе, может видеть сквозь любую тьму.
Она пишет:
ТЕЛА ЕЩЕ НЕ ОПОЗНАНЫ. НИКТО НЕ ОБНАРУЖИЛ СВЯЗЬ С КХАДСЕ ИЛИ КОМАЙД. Я УБЕДИЛАСЬ, ЧТО В ШТАБ-КВАРТИРЕ КХАДСЕ КАК СЛЕДУЕТ НАВЕЛИ ПОРЯДОК.
ПЕРЕДАЛА АХАНАСТАНСКОЙ ПОЛИЦИИ ОПИСАНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ ПРЕДОСТАВИЛИ. ПОКА ЧТО НИКАКИХ ПРИЗНАКОВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО. ЖДУ ВАШИХ УКАЗАНИЙ ПО ПОВОДУ ТОГО, СТОИТ ЛИ УВЕДОМИТЬ МИНИСТЕРСТВО ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ КАНАЛАМ.
КМ
Она складывает листок и выходит из машины, морщась, когда мимо с грохотом проносится большой грузовик, извергая выхлопные газы. Хотя Мишра – сайпурка, в глубине души она сельская девушка и предпочла бы повозку с лошадью всем этим новым автомобилям.
Она идет к маленькой служебной двери в стене туннеля, опять озирается по сторонам и открывает ее.
Внутри маленький цементный чулан, просто четыре голые стены и пол. В углу стоит сломанная метла вместе со старой и пыльной бутылкой. Больше ничего нет.
Она кладет листок в центр пола, потом закрывает дверь, следя, как тень от двери наползает на «бумагу».
Мишра смотрит на часы – ждать пять минут, – прислоняется к стене туннеля и зажигает сигарету.
Она не гадает, получится ли. Она знает, что получится. Все кусочки теневой бумаги находят его достаточно быстро, если поместить их в достаточно густую тьму. Не важно, где найдется такая тьма, ибо вся тьма для него едина.
Она наблюдает за ходом машин, подмечая модели, цвета, лица водителей. Он ее защитил, благословил, взял под крыло; но после того, что случилось прошлой ночью, кто знает, сработает ли это. «На какой безумный риск я иду, – думает Мишра, – ради существа, которое почти не понимаю».
Впрочем, это неверно. Она его понимает. А он понимает ее.
Она вспоминает, как он пришел впервые – кажется, в 1729-м, почти десять лет назад. Через четыре года после Вуртьястана. Через четыре года после того, как ее брат Санджай умер там в бою от ножа девчонки-штани не старше пятнадцати лет. Он сражался с повстанцами, пытался спасти девчонку, но она этого не поняла – или, может быть, ей просто было все равно. Кому есть дело до того, что думают эти дегенераты?
И что получил Сайпур в обмен на жертву, принесенную ее братом? Чего они добились благодаря его смерти? После того как Комайд покинула пост, Мишра уже ничего не понимала. Министерство и армия были в ужасном состоянии. Доверие общественности к национальным силам достигло рекордно низкого уровня. Торговцы рвались во власть и обходились с генералами и командирами, словно те были простыми бюрократами, канцелярскими крысами и чинушами. Мишра, как и множество других лоялистов, преисполнилась отвращения к собственному государству.
Она думала, что держит свое отвращение в секрете. Но скоро стало понятно, что это ей не удалось. Потому что однажды, после того как ее отправили сюда, в Аханастан, кто-то подсунул конверт под дверь ее квартиры.
Это ее встревожило. Адрес Мишры был тщательно охраняемым секретом министерства. Прямая корреспонденция запрещалась строго-настрого.
Но еще одной вещью, которая встревожила ее в связи с этим письмом, стал цвет бумаги.
Черная. Не выкрашенная в черный, как рубашка, но по-настоящему черная, словно кто-то взял идеальную черноту и выкроил из нее безупречный квадрат.
Мишра открыла письмо. И, сама не понимая каким образом, увидела строчки, написанные черным по черному, но это были разные оттенки черного.
…или, может быть, письмо делало кое-что другое. Может быть, глядя на эту бумагу, она на самом деле не видела написанных слов, но бумага сама писала их прямиком в ее разуме.
Письмо гласило следующее:
СЧИТАЕШЬ, ЧТО КОНТИНЕНТ ПОТЕРПЕЛ НЕУДАЧУ?
СЧИТАЕШЬ, ЧТО САЙПУР ПОТЕРПЕЛ НЕУДАЧУ?
ХОЧЕШЬ РАСПРАВИТЬСЯ С ОБОИМИ?
ХОЧЕШЬ НАЧАТЬ ВСЕ ЗАНОВО?
ЕСЛИ ДА, ТО Я СМОГУ ТЕБЕ ПОМОЧЬ. А ТЫ СМОЖЕШЬ ПОМОЧЬ МНЕ.
ПРОСТО СКАЖИ ЭТО СЛОВО ВСЛУХ:
И в нижней части письма появилось имя.
Мишра уставилась на письмо. Не только потому, что все это было очень странно, но еще и потому, что слова вторили глубокому ужасу, который метастазировал внутри нее, – той идее, что в этом мире ни одно государство и ни одна нация не могли по-настоящему добиться успеха. Континент был мерзостью, и теперь Сайпур, единственная надежда этого мира на справедливую, гордую и свободную демократию, губили меркантилизм и тщеславная, бесплодная борьба за мир. За десять лет военной карьеры Мишра привыкла просыпаться и думать: «У нас ничего не получится. Мы всегда находим способ все испортить. Всегда». И пока ее товарищи сражались, страдали и умирали, она не переставала сомневаться в том, ради чего все это происходило.
Увидев перед собой собственные мысли в письменном виде – и не важно, каким странным способом они к ней попали, – Мишра испытала мощные эмоции. Казалось, она впервые за много лет поняла, что не одинока.
Она перевела дух и громко прочитала имя.
А затем пришел мальчик – в то время он еще выглядел как мальчишка, – и у них случился долгий, очень долгий разговор.
За минувшие годы капитан первого ранга Кавита Мишра сделала для куратора немало странных вещей. На него работают и другие министерские – она это знает, потому что лично завербовала кое-кого, – но никто не сотрудничает так тесно, как она. К примеру, он и не мог выбрать кого-то другого, чтобы послать в Мирград, когда понадобилось заманить в ловушку того смеющегося мальчика, который как будто возникал из ниоткуда. И хотя то задание было как будто самым странным из всех, что ей поручили, она подозревает, что в будущем случатся еще более странные.
В особенности после Комайд, и Кхадсе, и той кутерьмы, что приключилась тут прошлой ночью.
Стоя в туннеле, Мишра смотрит на часы. Переводит дух и открывает чулан.
Листок черной бумаги все еще на полу. Она его поднимает и разворачивает.
Внутри новое послание. В точности как в тот первый раз в ее квартире, буквы как будто написаны черным – или, быть может, они пишут себя сами, в каких-то глубоких и тайных частях ее разума:
ПОКА ЧТО НЕ НАДО ПРЕДУПРЕЖДАТЬ МИНИСТЕРСТВО.
ИСПОЛЬЗУЙ ЗЕРКАЛА. СЛЕДИ ЗА ИХ ДЕЙСТВИЯМИ. ДОЛОЖИ НЕМЕДЛЕННО, ЕСЛИ БУДУТ ЗАМЕЧЕНЫ КАКИЕ-НИБУДЬ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, В ОСОБЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПОДОЗРЕВАЕМЫМ.
ОН С НИМИ ЗАОДНО. ОН ОПАСЕН.
Она вздыхает.
Потом берет спичку, зажигает о стену чулана и подносит пламя к уголку листа.
Огонь медленно ползет по черной странице, превращая ее в пепел. Она немного дует на него, помогая распространиться, а потом затаптывает остатки. Забирается в машину и едет прочь.
– Вот дерьмо, – говорит Мишра.
Она ненавидит дежурство у зеркал. Но приказ есть приказ.
* * *
В некотором роде современный мир теперь кажется Сигруду очень новым и продвинутым. В его дни автомобили встречались редко, телефоны и подавно, а пистолеты и винташи были дорогими экзотическими штуковинами.
Тем не менее, к его удивлению, мир остается в точности тем же самым. Например, если бы кто-то сказал Сигруду, что в этом очень современном, очень продвинутом обществе по-прежнему можно использовать поддельную трудовую визу – надежный запасной вариант, к которому прибегали разведчики, когда он был на службе, – чтобы пересечь Южные моря вплоть до Наваштры в Сайпуре, он бы подумал, что этот человек – дурак. Ведь бюрократы и власти должны были закрыть разнообразные лазейки, которые делали такие подделки возможными? Ведь этому новому поколению, купающемуся в таком количестве технологий и инноваций, следовало найти способ устранить этот заурядный обман?
Но похоже, что мельницы правительства мелют еще медленнее, чем Сигруд себе представлял. Потому что он наряду с десятками других неряшливо одетых дрейлингов и континентцев беспрепятственно покупает билет и плывет через Южные моря в Наваштру без происшествий. Сайпурские чиновники даже не смотрят в его сторону. Возможно, Сайпур так сильно нуждается в умелых рабочих, что его не особенно волнует, если некоторые из них будут вредоносными агентами.
Попасть из Наваштры в Галадеш потрясающе просто. Все идущие вдоль побережья транспортные пути – будь то дороги, маршруты кораблей или рельсы – неизбежно поворачивают к Галадешу, второму по величине городу мира, бесспорной столице цивилизации. И хотя блокпосты и меры безопасности в Галадеше серьезнее, чем где-либо, они все же не настолько серьезны, как те, с которыми Сигруду приходилось справляться на службе сайпурскому Министерству иностранных дел, – и, удивительное дело, они не представляют никакой угрозы для него.
«Возможно, это общество, которое я никогда не мог себе представить, – думает он. – Возможно, это общество, где более или менее царит мир».
А потом он внезапно оказывается на месте. Он ходит по Галадешу свободно и беспрепятственно – по городу, который во многом определил его жизнь и бесчисленное множество других жизней. Потому что любой выбор, сделанный здесь – касайся он хоть войны, хоть торговли, – обязательно имел миллионы последствий и жертв.
Сигруд старается не озираться, пока идет по Галадешу. Его больше всего поражает, насколько город чист и хорошо организован. Мирград был шизофреническим, полуразрушенным бедламом, Вуртьястан лишь немногим превосходил форпост посреди диких земель, а Аханастан построили специально для обслуживания судоходного канала, создавая полупромышленное-полуурбанистическое подобие города.
Но Галадеш другой. Галадеш, в отличие от всех прочих городов, которые он когда-либо видел, осмысленный.
Это можно почувствовать, когда идешь, минуя квартал за кварталом. От изящных деревянных свай, на которых стоит множество домов, до сточных канав на улицах и извивов надземки все сделано не просто хорошо, но именно так, как надо. Галадеш, как убеждается Сигруд, это город инженеров, город мыслителей, город людей, которые не действуют опрометчиво.
Или, по крайней мере, действуют опрометчиво только на своей территории. В остальном мире, как известно Сигруду, все происходит иначе.
Он не может не удивляться тому, как город течет, как он дышит. Как выстроенные из камня старые коммерческие здания в центре превращаются в изящные жилые кварталы, где все дома стоят на столбах или сваях на случай затопления – ибо Галадеш построен на море и постоянно воюет с водой. Возможно, именно поэтому бо́льшая часть города кажется безукоризненно продуманной и спланированной. Или, возможно, сайпурцы, которые были в рабстве у Континента на протяжении веков, невероятно, немыслимо чувствительны к вторжению в чужую жизнь. Стоит заглянуть в газеты, и сразу видно: если кто-то где-то предлагает построить новое жилое здание, галадешцы сразу устраивают масштабные дебаты о последствиях и воздействии такого строительства, а также о том, приемлемо ли оно. Такое поведение кажется Сигруду немного излишне цивилизованным, потому что сам он – дитя культуры, в которой в споре обычно побеждал тот, кто кричал громче остальных.
Он сразу же берется за дело. В этом высокоорганизованном мегаполисе не требуется много времени, чтобы найти адрес. Нужное ему место – недалеко от центра Галадеша, в одном из самых богатых и престижных районов. Когда он добирается туда, то не видит дома за высокими деревянными стенами, но понимает, что попал куда надо, благодаря охранникам-сайпурцам у ворот – они в штатском, разумеется, но дрейлинг знает, как выглядят солдаты.
Сигруд ждет вечера, потом пробирается тайком через дворы соседних зданий. Никто его не видит, никто не удивляется. Это цивилизованные люди. У них нет необходимости следить за своей собственностью.
Притаившись по другую сторону стен, он ждет звука шагов или вздоха. Ничего не слышит. «Наверное, охрана только у входа, – думает Сигруд. – И это… удивительно глупо». Дрейлинг готовится, потом перепрыгивает через забор.
Он приземляется в очень аскетичном саду позади дома. В основном просто трава, камни и странный кустарник, обстриженный почти под ноль. В задней части дома раздвижная стеклянная дверь, и замок на ней совершенно непримечательный. Сигруд вскрывает его менее чем за полторы минуты, а потом проскальзывает внутрь.
Он сверяется с карманными часами. Уже поздний вечер. Она скоро вернется.
Он тихонько крадется через дом, находит глубокую тень на балконе над входом и ждет.
Примерно через час раздается звон ключей. Дверь открывается. Затем появляется старая женщина.
Она слегка сутулится, волосы у нее серовато-белые, кожа в морщинах от долгих лет на солнце и напряжения. У нее теперь есть трость, которую она использует с большим нежеланием, как будто кто-то приклеил ее к руке, и она не знает, как снять эту штуку. Он наблюдает, как она подходит к вешалке для одежды и вставляет трость в углубление на дне, бормоча: «Проклятая хреновина», а затем начинает длинный, медленный, сложный процесс – снимает пальто. Это требует времени, ведь у нее не просто явно болят суставы, но к тому же левая рука – протез, сияющий металлом от локтя вниз.
Сигруд смотрит на нее, не шевелясь и даже не дыша. Не потому, что боится, но потому, что даже не ожидал увидеть, какая она старая. Она вовсе не то стремительное, могучее существо, с которым он был некогда знаком и которое, казалось, могло пробить корпус линкора, стоит только захотеть. За тринадцать лет она стала кем-то другим.
Он смотрит, как она ковыляет в кухню, где наливает себе стакан бренди. Стоит у раковины, не спеша потягивает алкоголь. Но он чувствует: что-то изменилось в том, как она движется. Слишком напряженно, слишком осторожно…
Женщина опускает стакан.
– Если это не ты, Сигруд, – произносит она, – то я повернусь и начну стрелять.
– Это я, – отвечает он, выходя из тени. – Как ты поняла, что я здесь?
– Потому что ты воняешь, – говорит она. – Очень сильно. Как будто сидел в трюме корабля не одну неделю. Как оно, скорее всего, и произошло. Все честно, не правда ли? Ты меня унюхал в Вуртьястане…
Генерал Турин Мулагеш замолкает, повернувшись и увидев его. Ее лицо обмякает от потрясения.
– Клянусь морями, Сигруд, – шепчет она. – Взгляни на себя. Только взгляни на себя.
Сигруд смотрит на нее с балкона, не зная, что делать.
– Ты ничуточки не изменился, Сигруд, – тихо говорит она. – Не постарел ни на день.
* * *
Сигруд ждет в читальне, где за большими эркерными окнами открывается вид на хаотичный центр Галадеша. Дрейлинг не может перестать его рассматривать.
– Ах, – говорит Мулагеш, возвращаясь с бутылкой вина и двумя бокалами. – Впервые в Галадеше?
Он кивает.
– Очень славный город, – говорит Мулагеш. – Если ты можешь позволить себе жить здесь. Большинство не может. Этот треклятый дом, где меня поселили, – мне, мать твою, пришлось бы прожить свою жизнь десять раз кряду, чтобы его оплатить.
Он вежливо улыбается, не зная, что сказать.
– Итак, поведал ли тебе кто-нибудь, – небрежно продолжает Мулагеш, зубами вытянув пробку из бутылки вина и выплюнув ее на пол, – каким гребаным дурнем ты себя выставил, явившись сюда?
– Да. Включая меня самого.
– Но не сработало.
– Нет. Обстоятельства.
– Да уж, это должны быть особенные обстоятельства, мать их за ногу. Ты все еще в розыске, Сигруд. За то, что ты сделал, многие военные шишки хотели бы увидеть твою голову на блюде. – Она поглядывает на него, пока наливает бокал. – И мне трудно их винить.
– Да. Я понимаю.
– И что же с тобой приключилось за последние десять лет или сколько там? – спрашивает она, наливая себе.
– Ничего хорошего.
Она угрюмо смеется.
– Сомневаюсь, что это было лучше, чем случившееся со мной. Сидеть в Парламенте больше десяти лет, иметь дело с тупоумными идиотами…
– Наверное, это было лучше, – говорит Сигруд. – У тебя, скорее всего, имелась уборная.
– А-а. Ну да, конечно. Это, безусловно, позволяет взглянуть на вещи в перспективе. Итак, скажи-ка, каким образом ты сюда прокрался, не потревожив никого из моей службы безопасности?
Дрейлинг пожимает плечами.
– Тихонько.
Она хмыкает и вручает ему бокал.
– Ну да. Ты всегда был жутким шпионом, Сигруд. Приятно, что хотя бы одна вещь не изменилась. Но я подозреваю, что знаю, почему ты здесь.
Сигруд берет стакан и нюхает. Он не будет сегодня пить. Он должен быть начеку.
– Да. Шара.
– Ага, – говорит она. – Ага.
Мулагеш медленно, со стоном садится в кресло рядом с ним. Он наблюдает за ее движениями, подмечая, что левое бедро движется труднее правого – наверное, артрит.
– Ах, – говорит она, видя его лицо. – Время меня не пощадило, верно? Впрочем, кого оно щадит?
Сигруд не знает, что сказать. Он так часто представлял себе, как пройдет эта встреча, но теперь, когда все происходит на самом деле, слова покинули его.
– Но с тобой, конечно, оно обошлось по-доброму, – продолжает она, потягивая вино. – Ты совсем – ничуточки! – не изменился с той поры, как я тебя запомнила, Сигруд. И если ты пробрался сюда так, чтобы никто ничего не заметил, то и двигаешься ты весьма неплохо.
– Моя мать в старости была очень крепкой, – говорит он. – Ну, так мне сказали.
– Человека, который постареет так же хорошо, как ты, – отвечает Мулагеш, – я назову гребаным медицинским чудом.
От слова «чудо» он вздрагивает. Его левая рука пульсирует от боли. Он так близко к женщине, которая видела, как умерла его дочь… Воспоминания захлестывают его, их слишком много, и они слишком быстры.
– Как твои дела, Турин? – спрашивает он, чтобы сменить тему.
– Хорошо, как мне говорят. Когда политика Шары действительно начала действовать лет этак пять или шесть назад, я куда реже стала слышать «нет» и куда чаще «как мы можем помочь вам, министр». Такой вот радикальный разворот. Оказывается, людям нравится открывать границы, если это приносит им деньги. Может, они поблагодарят Шару теперь, когда она мертва. Конечно, если это не навредит их положению. Политики, что с них взять.
– Ты… лидер меньшинства?
– М-м, – она потягивает вино, – Верхней палаты Парламента. Но, говорят, в следующем году буду лидером большинства. Вот забавно, правда? Полагаю, мне придется куда чаще беседовать с иностранными делегатами. – Она бросает на него взгляд. – Кстати… Хочешь знать, как дела у Хильд?
Сигруд моргает, озадаченный упоминанием своей жены.
– Ты с нею связывалась?
– Она была торговым канцлером Соединенных Дрейлингских Штатов. Я не смогла бы избежать разговора с нею.
– Д-да… наверное.
– Вообще-то она только что ушла в отставку. У них там все хорошо, так что ей больше нет нужды работать смотрителем, как она сама выразилась. – Мулагеш опять бросает на него взгляд. – Она снова вышла замуж. Полагаю, ты должен это знать.
– Понятно. Я об этом думал. – Он трет рот, его лицо слегка озадачено. «Как странно слышать о жизни твоих любимых на брифинге». – Она… ну, как бы сказать… счастлива?
– Думаю, да. У нее появились новые внуки.
Сигруд сглатывает.
– Карин?
– Наверное. У тебя ведь была только она и… и Сигню, правильно?
Он кивает, чувствуя себя странно – как будто какой-то чужак нарядился в его тело.
– У Карин уже пятеро детей, – говорит Мулагеш. – Четыре девочки и мальчик.
Он выдыхает.
– Это… немалое потомство.
– Да. Как-то так. – Она медлит, потом с теплотой спрашивает: – Хочешь, разузнаю, нельзя ли достать их фотографии для тебя?
Он долго думает. Потом качает головой.
– Нет?
– Нет. Это сильно усложнит то, что я собираюсь сделать.
– Что ты имеешь в виду?
– Сайпур не позволит мне вернуться, – говорит он. – Так что мне нет необходимости знать о таких вещах. Потому что у меня их никогда не будет.
Неловкое молчание. Мулагеш потягивает вино.
– Она с тобой связывалась, Сигруд?
– Кто? Хильд?
– Нет. Шара, конечно.
– Нет, – говорит он. – Я узнал, что она мертва, из вторых рук.
Мулагеш медленно кивает.
– Итак… Ты не знаешь, что она делала на Континенте?
– Нет. – Он выпрямляется в кресле. – А что? Ты знаешь?
Она безрадостно улыбается.
– Нет. Понятия не имею. Хотела бы знать. А ведь я спрашивала. Она не пожелала рассказать. Кажется, думала, что это поставит мою жизнь под угрозу. Что, учитывая случившееся с нею, могло быть правдой. Единственное, что она мне сказала… как же она выразилась… ах, да. Она сказала, цитирую: «Весьма вероятно, что однажды тебя навестит Сигруд».
Сигруд удивленно моргает.
– Она сказала, что я приду к тебе?
– Правильно. Я ничего не поняла. Ты же был преступником. Но она сказала, что, если ты ко мне придешь, я должна передать сообщение, но я полагаю, ты понятия не имеешь, что бы это могло быть, верно, Сигруд?
Он ошеломленно качает головой. Он такого совершенно не предвидел.
Мулагеш задумчиво глядит в пустоту.
– Значит, Шара знала, – говорит она. – Должна была знать, что ее могут убить. Должна была знать, что ты услышишь об этом. И придешь ко мне. В конечном счете. – Она издает глухой смешок. – Умная малышка. Она находит такие восхитительные способы заставить нас всех делать ее грязную работу за нее, даже из могилы.
– Что за сообщение?
– Очень простое, – говорит Мулагеш, – и очень запутанное. Она сказала, что, если ты однажды придешь ко мне, я должна передать, чтобы ты защитил ее дочь. Любой ценой.
Сигруд на миг застывает. Потом раздраженно трясет головой.
– Но… но я потому и пришел сюда, – говорит он. – Я пришел к тебе, чтобы узнать, где Татьяна Комайд!
– Ты не дал мне закончить, – резко отвечает Мулагеш. – Дело в том, что никто не знает, где Татьяна Комайд. И, по-видимому, не знал в течение нескольких месяцев.
– Что?
– Что слышал. После убийства разыскать Татьяну было государственным приоритетом, но усадьба Комайд оказалась совершенно пустой. Похоже, Шара распространяла идею о том, что ее дочь живет в усадьбе… но это было далеко от истины. И сейчас начнется путаница. – Мулагеш подается вперед, болезненно кряхтя. – Гребаный артрит… Просто дерьмо, когда тело восстает против тебя. Ну да ладно. Шара велела мне передать, чтобы ты защищал ее дочь, но еще Шара сказала, что ты найдешь ее дочь у той единственной женщины, с которой она разделила свою любовь.
Единственный глаз Сигруда выпучивается.
– Чего?!
– Вот я тоже так подумала, – говорит Мулагеш. – Мне как-то и в голову не приходило, что ее интересуют, ну, такие вещи. Я стараюсь ничего не предполагать, так как многие люди предполагали всякое обо мне на протяжении многих лет и их предположения мне никогда на самом деле не нравились, так что…
Сигруд вскидывает руку.
– Нет. Я не думаю, что это правильно.
– Сигруд, мать твою. Какое право ты имеешь…
– Нет! Я про сообщение, Турин. Я думаю, оно должно сбивать с толку любого, кроме меня. Возможно, она намекала на человека, которого мы оба когда-то знали. – Он вздыхает и сжимает ладонями голову. – Но… я не понимаю, кто бы это мог быть.
– Почему она не сказала мне, о ком речь? – спрашивает Мулагеш. – Разве это не было бы проще?
Сигруд вспоминает бледную континентскую девушку и то, как она говорила, что Ноков вытащит все секреты из его нутра.
– Твой адрес всем известен, – говорит дрейлинг. – И твоя охрана не блещет, что я и доказал. Думаю, она считала, что не может рисковать. Даже с тобой, Турин. Но постой… когда она сказала тебе это, ты ничего не сделала? Не встревожилась?
– Еще как встревожилась, – отвечает Мулагеш. – Но к тому моменту я и так была весьма сильно встревожена.
– Чем? Что Шара натворила?
Мулагеш вздыхает, садится обратно в кресло и допивает вино одним гигантским глотком.
– Вот это очень интересный вопрос…
* * *
– Это произошло в начале 1733-го, – говорит Мулагеш. – От Шары не было ни слуху ни духу где-то года два. Она покинула свой пост в 1726-м, и, хотя мы поддерживали связь, времени прошло, я бы сказала, очень уж много. Но вот однажды мой ассистент сказал, что какая-то женщина оставила для меня сообщение и была довольно настойчива – заявила, дескать, она знакомая капитана Незрева из Мирграда.
Сигруд улыбается.
– Того полицейского, с которым у тебя был роман.
– Точно. Но мы встречались всего-то пару раз, – парирует Мулагеш. – По крайней мере по моим понятиям, это было всего несколько раз. Ну ладно. Мне стало очень любопытно, что это за женщина, я пришла в ресторан, упомянутый в сообщении, и кого увидела? Шару. Я удивилась. Я хочу сказать, бывший премьер-министр может устраивать встречи с кем пожелает, верно? Однако она хотела, чтобы все оставалось в секрете. Нельзя было допускать, чтобы нас увидели вместе, ведь тогда кто-то мог бы услышать, какие вопросы она мне задавала.
– И какие же?
– Касательно кое-какого подразделения разведки и кое-какой операции. У нее не было к ним доступа – никогда, за всю карьеру в министерстве, даже в должности премьер-мать-его-министра. Операция «Возрождение». Слышал о такой?
– За последние дни мне пришлось многое вспомнить, Турин, но об этом я слышу впервые.
– Я тоже о ней ничего не знала. Шара попросила выяснить. Она сама выглядела потрясенной. С оттенком паранойи. Это было странно – она ведь жила на окраине Галадеша с дочерью и просто… не высовывалась. И вдруг внезапно явилась из пустоты с таким вопросом. Сказала, это довольно старая история – еще тех времен, когда всем заправляла Винья, наверное, с 1710-х, когда вы с нею были просто щенками и только учились резать глотки.
Вообще-то в 1710-м Сигруд отлично умел резать глотки, но он воздерживается от исправлений.
– Короче, я кое-что проверила. Связалась с надежными источниками в министерстве, в архиве. И все, что мне удалось добыть, это папка с листочком бумаги. Одним-единственным. Отчетом о сайпурском дредноуте под названием «Салим». Знаешь его?
Сигруд качает головой.
– Я тоже. Он утонул во время тайфуна в 1716-м. Вот и все, что мне удалось ей сообщить. Но она почему-то очень воодушевилась. Намекнула, что раскопала какую-то дрянь, и запашок у этого дела и впрямь был дрянной. «Вижу отпечатки Виньи повсюду», – сказала я Шаре, и она… намекнула, что так и есть, но сказала, что больше ничем не может со мной поделиться. Опять же, ради моей безопасности.
– Что было потом?
– После того как я передала ей ту папку, она перестала жить тихо. Посвятила себя благотворительности, начала все чаще посещать Континент, устраивала там приюты и детские дома для сирот. Вроде обычная благотворительная ерунда. Но я все время спрашивала себя: а что, если на самом деле это не благотворительность? Ведь не могло же быть совпадением, что после моего рассказа про эту операцию она чуть ли не поселилась на Континенте. Потом, три месяца спустя, она явилась ко мне в гости без предупреждения и сказала про тебя и Татьяну, а после… – Мулагеш ненадолго умолкает. – Мне пришлось опознавать тело, знаешь ли.
Сигруд резко выпрямляется и смотрит на нее, встревоженный.
– Они нашли фрагменты, – говорит Мулагеш. – Ее… фрагменты, полагаю. Странно, что с этим обратились ко мне. Она же была гребаным премьер-министром, все знали, как она выглядит. Но, наверное, в таких ситуациях приходится соблюдать протокол. До того момента я думала: а вдруг она все подстроила? Видимо, это обычная реакция на подобные вещи. Мы не верим в реальность смерти. Надеемся, что это сон. Ведь так?
Сигруд закрывает глаза. Он видит Сигню: она стоит на причале, глядит в сторону моря, где трудятся придуманные ею поразительные механизмы, творя новую эру.
– Да, – тихо говорит он. – Так.
– Ты отправился сразу сюда, когда узнал?
– Нет. И я пришел, чтобы сказать: Турин, ты была права. Шара не просто занималась благотворительностью. Я думаю, отправившись на Континент, она отправилась на войну.
* * *
Мулагеш слушает рассказ Сигруда о последних месяцах его жизни. Когда он доходит до событий в Аханастане, она отбрасывает притворную вежливость и хватает бутылку с вином.
К концу рассказа бутылка почти пуста. Мулагеш, в смятении закатывая глаза и тяжело вздыхая, наливает себе стакан за стаканом и с усталой покорностью опрокидывает. Сигруд не говорит ей только имя Нокова: не хочет рисковать тем, что она это имя повторит и привлечет к себе внимание существа.
Когда Сигруд заканчивает, Мулагеш переводит дух и говорит:
– Ладно, во-первых… это ты тот тупой кретин, который оставил семь трупов на угольном складе в Аханастане на прошлой неделе?
– Ох. Ты об этом слышала?
– Чтоб мне провалиться, Сигруд, бывшего премьер-министра убили в Аханастане месяц назад! Если во всей провинции хотя бы одно тело падает бездыханным, мне об этом сообщают – а тут целых семь!
– М-да. Если это тебя утешит, все шло более-менее по плану…
– Не считая той части, которая сильно смахивает на появление гребаного Божества, что едва тебя не убило! – в ярости отвечает Мулагеш. – Не говоря уже о том, что, судя по твоим словам, улицы Аханастана кишат божественными ловушками. И я ни хрена не понимаю, что происходит!
– Не ори, – просит Сигруд. – Охранники услышат.
Мулагеш опять закатывает глаза и без сил падает в кресло.
– Я не думаю, – говорит дрейлинг, – что повстречался с Божествами.
– Да? И почему ты так решил?
– В… в Вуртьястане… когда ты держала в руках меч Вуртьи. Что ты чувствовала?
– Зачем, скажи на милость, ты вытаскиваешь это ужасное воспоминание?..
– Турин. Пожалуйста.
Она пристально глядит в окно широко распахнутыми испуганными глазами.
– Как будто… как будто я могла бы сделать что угодно. Без ограничений. Разрезать мир напополам, если захочу.
– Да. Даже крупицу силы истинного Божества невозможно постичь человеческим разумом. Они изменяют реальность, даже не думая об этом. Но два существа, которых я повстречал… они сражались. У них были ограничения. Мир для них полон преград и пределов.
– Тогда что же они такое? Божественные создания? Живые чудеса?
– Понятия не имею, – говорит Сигруд. – Но думаю, Шара знала. Подозреваю, они оба знали Шару. Хотя один сражался против нее, а другая – на ее стороне. И похоже, что все ее дела на Континенте начались с найденной тобою папки…
– Операция «Возрождение».
– Точно. – Сигруд тяжело вздыхает. – М-да. Это… надо осмыслить.
– Да что ты говоришь, засранец. Чего я никак не возьму в толк, так это того, почему Шара, если уж она ввязалась в какие-то дела с существами, которые ведут себя как Божества, не угрохала их черным свинцом, как Колкана? Почему она не пустила в ход ту единственную вещь, которая может их убить?
– Не знаю, – говорит Сигруд. – Думаю, он все еще был у нее. Она даже министерству его не доверила после Мирграда. Такое оружие, сказала она мне, нельзя поручать правительствам.
– Как человек, который пытался какое-то время руководить правительством, я с этим соглашусь.
– Думаю, она никому и ничему не доверяла, – мрачно говорит Сигруд. – Шара, которую я знал, могла бы хоть написать мне сообщение. Закодированное, секретное. Но вот так, из уст в уста… Такой метод говорит об отчаянном положении.
– Шара в отчаянии – такая идея мне не нравится.
– Мне тоже, – говорит Сигруд. – Особенно когда враг, кем бы он ни был, похоже, охотится за ее дочерью.
– Я этого совсем не понимаю. Она всего лишь ребенок.
– Кхадсе сказал, его наниматель охотился на юных континентцев, – задумчиво говорит Сигруд. – Детей. Подростков. Сперва их родителей убивали, потом дети исчезали.
Лицо Мулагеш темнеет.
– Так ты… ты думаешь, Татьяна уже…
– Я не знаю. Сложилось впечатление, что враг Шары получил тот список континентцев совсем недавно. Так что, возможно, время еще есть. – Он трогает свой фальшивый глаз, пытаясь повернуть его получше.
– Ты не мог бы перестать? – просит Мулагеш. – Жуть какая.
– Прости. Скажи-ка мне вот что. Я видел Татьяну всего один раз. Что ты о ней знаешь?
– Немногое, – говорит Мулагеш. – Шара рьяно охраняла их уединение после того, как ушла с поста. Думаю, в этом деле ей очень пригодились навыки, приобретенные в министерстве. Мало кто знал, что она удочерила ребенка, не говоря уже о том, что девочка с Континента. Я встречалась с нею лишь однажды. Она была юная. И одержимая биржами.
– Ч-чем? Биржами?
– Ага. Странная девочка, по правде говоря. Читала много книг по экономике. Впрочем, рядом с Шарой любой станет странным.
Сигруд откидывается на спинку кресла в задумчивости.
– Где Шара жила? В смысле, до того как погибла.
– В родовом имении. Восточный Галадеш. – Она называет точный адрес. – Это огромный особняк, принадлежал ее тете. А что?
– Потому что мне снова кажется, что я должен кое-что вспомнить, – говорит Сигруд. – И для этого надо подстегнуть память.
Мулагеш хмуро смотрит на него. Потом у нее приоткрывается рот.
– Эй, постой! Ты собрался вломиться в особняк Шары? Чтобы «подстегнуть память»?
Сигруд пожимает плечами.
– Вообще-то я сразу туда собирался. А куда же еще мне идти? Шара на кого-то намекала, но мы с ней знали стольких людей… Если я увижу ее записи, то, чем она занималась, это поможет мне понять.
– Ты сбрендил? Сигруд, это место – часть международного расследования! Министерского расследования! За ним следят!
– Значит, буду осторожен.
– Дом Шары будет не таким, как мой, – продолжает Мулагеш. – Ее любили и ненавидели, и теперь она мертва. Они относятся к этому серьезно, мать твою, Харквальдссон! Это тебе не прогулочка по парку. Там будут солдаты, охранники!
– Я не собираюсь гулять по парку, – говорит Сигруд. – Я все сделаю на высшем уровне.
– Да ты меня хоть слушаешь? Я не хочу, чтобы ты снова убивал невинных людей, которые всего лишь пытаются делать свою работу!
Наступает долгое, неловкое молчание.
– Ты ведь знаешь, – тихо говорит Сигруд, – что я этого не хотел.
– Я знаю, что те солдаты в Вуртьястане мертвы. Я знаю, что с людьми, которых ты встречаешь на своем пути, такое случается. И мне не нравится сама мысль о том, чтобы указать тебе на каких-нибудь других тупых ребятишек, которых угораздило оказаться не в том месте, не в то время.
– Это было тринадцать лет назад, – говорит Сигруд. Его голос дрожит от холодной ярости. – И я только что пережил смерть дочери.
– Это тебя оправдывает? Другие родители все еще оплакивают своих детей из-за того, что сделал ты. Правда в том, Сигруд, что ты жесткий оперативник. Ты готов и в этой операции действовать жестко? Готов, если понадобится, убивать, чтобы добиться желаемого?
Сигруд не смотрит ей в глаза.
– Так я и думала, – говорит Мулагеш. – Мы научили тебя одному, Сигруд. И ты в нем хорош. Но, я думаю, это может оказаться всем, что ты умеешь делать теперь. Гляжу на тебя, и мне весьма тревожно – потому что ты, похоже, совсем из-за этого не беспокоишься.
– Я беспокоюсь, – говорит Сигруд, сбитый с толку.
– Да, но не о себе, – огрызается Мулагеш. – Нормальные люди, собираясь в поход против чего-то, весьма похожего на Божество, по крайней мере, упоминают о том, что им неспокойно. Но ты об этом даже не пикнул, Сигруд йе Харквальдссон. Тебе, похоже, все равно, что та тварь может тебя убить.
Сигруд некоторое время сидит и молчит.
– Она была всем, что у меня осталось, – внезапно говорит он.
– Что? – спрашивает Мулагеш.
– Она была всем, что у меня осталось. Шара. Тринадцать лет, тринадцать ужасных лет я ждал ее, Турин. Я ждал от нее хоть словечка, ждал, что она скажет… что все наладилось. Но не дождался и уже не дождусь. Тринадцать лет прошло, а я все еще здесь, все еще жив, и моя рука все еще болит, и… и я в точности такой же жалкий дурень, которого Шара давным-давно вытащила из тюрьмы. Ничего не изменилось. Ничего. Только вот теперь у меня нет надежды, что изменится.
Мулагеш бросает взгляд на его левую руку.
– Все еще болит?
– Да. – Он открывает ладонь, показывает ей ужасный шрам. Печать Колкана: две руки, готовые взвешивать и судить. – Каждый день. Иногда сильнее. Я думал, боль пройдет, когда Шара убила Колкана. Но этого не случилось. – Он издает слабый смешок. – Вот и все, что мне осталось. Прочее забрали. Все и всех. Теперь это весь я. Собираю по крупицам воспоминания о людях, которых потерял. Пытаюсь спасти еще сохранившиеся фрагменты. Если я смогу уберечь дочь Шары, сделаю так, что часть ее продолжит гореть в этом мире, со мной, то, быть может… Может, я смогу…
Он умолкает, уронив голову.