Читать онлайн Прах Анджелы бесплатно
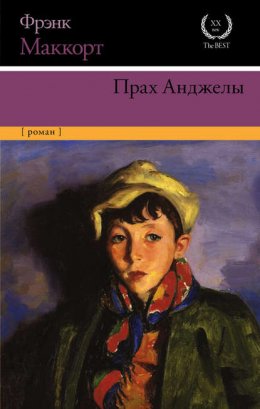
Серия «XX век / XXI век – The Best»
Frank McCourt
ANGELA’S ASHES
Перевод с английского Е. Матвеевой
Компьютерный дизайн В. Воронина
Печатается с разрешения The Friedrich Agency и The Van Lear Agency LLC.
© Frank McCourt, 1996 Школа перевода В. Баканова, 2018 © Издание на русском языке AST Publishers, 2018
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
Фрэнк Маккорт (в первом ряду справа) на площадке школы в Лимерике, Ирландия, 1938.
Благодарности
Позвольте мне пропеть краткую оду женщинам.
Арлин Дальберг разворошила почти угасшие угли воспоминаний.
Лиза Шварцбаум прочла первые страницы и поддержала меня в моем начинании.
Мэри Брэстед Смит, великолепный новеллист, прочла первую треть рукописи и передала ее Молли Фридрих, которая, став моим литературным агентом, рассудила, что Нэн Грэхем – главный редактор издательства «Скрибнер» – именно тот человек, который даст книге путевку в жизнь.
Молли оказалась права.
Моя дочь, Мэгги, показала мне, что жизнь – увлекательнейшее путешествие, а чудесные мгновения, проведенные с моей внучкой Кьярой, помогли мне взглянуть на мир глазами ребенка.
Моя жена, Эллен, была моим слушателем и поддерживала меня в работе с первой до последней страницы.
Благословен я между мужей.
I
Лучше бы мои родители не уезжали из Нью-Йорка, где познакомились, поженились и где родился я. Однако они вернулись в Ирландию, когда мне было четыре года, моему брату Мэйлахи – три, близнецам Оливеру и Юджину едва исполнился годик, а нашей сестры Маргарет уже не было в живых.
Оглядываясь на свое детство, я удивляюсь, что вообще выжил. Разумеется, счастливым его не назовешь, иначе о нем не стоило бы рассказывать. Хуже просто несчастного детства – ирландское несчастное детство, но куда хуже – несчастное детство ирландца-католика.
Как бы кто ни похвалялся, сколько горестей ему, бедному, довелось пережить в малолетстве, ничто не сравнится с ирландской их версией: постоянная нужда, безвольный и болтливый пьяница-отец, набожная безропотная мать, вечно плачущая у очага, надменные священники, жестокие учителя, а еще англичане и то, как ужасно они нас притесняли долгих восемьсот лет.
А в довершение всех бед – постоянная сырость.
Где-то над Атлантикой тучи специально собирались в густую серую пелену, которая, неспешно проплыв вдоль всей реки Шаннон, плотно повисала над Лимериком. Дождь лил с праздника Обрезания Господня[1] и до Нового года. Оттого в городе постоянно слышалась какофония кашля: кто перхал, кто сипел, кто хрипел. Носы превращались в фонтаны, а легкие – в мокрые губки, полные микробов. Изобреталось невероятное количество снадобий: от насморка полагалось выпить отвар лука в молоке с перцем, а от застарелого кашля – шлепнуть на грудь горячую крапивную лепешку, завернутую в тряпицу.
С октября по апрель стены домов блестели от сырости. Одежда не просыхала: твидовые и шерстяные пальто кишели живностью, а подчас и обрастали неведомой растительностью. Воздух в пабах клубился паром от мокрой одежды и дымом от сигарет и курительных трубок. К ним примешивался кислый запах пролитого пива, виски и вонь из уличных сортиров, где блевали только что пропитой недельной получкой.
Дождь загонял нас в церковь. Она была нашим прибежищем, оплотом и единственным сухим местом. Служил ли священник мессу, призывал ли благословение[2] или отчитывал девятину[3], мы, сбившись в кучи, дремали под его монотонный голос, а пар, поднимавшийся от мокрой одежды, смешивался со сладковатым ароматом благовоний, цветов и свечного воска.
Лимерик прославился набожностью своих жителей, но мы-то знали, что причиной всему – дождь.
* * *
Мой отец, Мэйлахи Маккорт, родился на ферме в Туме, что в ирландском графстве Антрим. Как и его отец в свое время, нрава он был бунтарского, выступал то против англичан, то против ирландцев, а то против и тех и других. Сражаясь в рядах старой ИРА[4], он совершил какой-то совершенно отчаянный поступок, и за его голову назначили выкуп.
В детстве я бывало смотрел на отцовы редеющие волосы, плохие зубы и удивлялся: зачем кому-то такая голова, да еще за деньги? Когда мне было тринадцать, бабушка со стороны отца поведала мне по секрету:
– Бедного отца твоего в младенчестве на голову уронили. Нечаянно, но после этого он так и не стал прежним. Так вот запомни: кого на голову роняли, те малость странными становятся.
Из-за выкупа, назначенного за голову, на которую его роняли, отца тайно вывезли на грузовом корабле, отплывавшем из Голуэя. В Нью-Йорке тогда вовсю действовал сухой закон, и отец поначалу подумал, что умер и попал в ад за все свои грехи. Потом он обнаружил подпольные пивнушки и утешился.
После пьяных скитаний по Америке и Англии отец на склоне лет возжаждал покоя и вернулся в Белфаст. Там тогда полыхали беспорядки, но мой родитель махнул на все рукой, сказав: «Чума на все ваши дома», – и свел знакомство с дамами из Андерсонтауна[5]. Они соблазняли его всяческими лакомствами, но он отказывался и только знай себе чаек попивал. Зачем другие радости жизни, если больше не куришь, и к алкоголю не притрагиваешься? Когда пришло его время он тихо скончался в больнице королевы Виктории.
Моя матушка, в девичестве Анджела Шихан, выросла в лимерикских трущобах, где жила с матерью, братьями – Томасом и Патриком – и сестрой Агнес. Отца она никогда не видела – тот сбежал в Австралию за несколько месяцев до рождения младшей дочери.
Вот он, нагрузившись портером, бредет по ночному переулку и горланит свою любимую песню:
- Кто в похлебке хозяйской портки утопил?
- Никто не сознался, и Тим возопил:
- Бросайте свои вы ирландские штучки,
- Иначе задам я серьезную взбучку
- Тому, кто в похлебке портки утопил[6].
Сил у него хоть отбавляй, так отчего бы не поиграть с малышом Патриком, годовалым сыночком. Славный малый. И папочку любит. Смеется, когда папочка его подкидывает. Опля! Малыш Пэдди. А ну, еще раз давай, повыше. Темно-то как! Господи, не поймал! Бедняжка Патрик приземляется прямо на голову, в горлышке у него что-то булькает и он затихает. Бабушка сползает с постели, тяжко ей – в животе еще один ребенок, моя мать. С трудом подняв младенца с пола, она издает протяжный стон и яростно напускается на деда:
– Убирайся отсюда! Вон! Не то за топор возьмусь, пропойца чертов! Или придушу, Богом клянусь! Вон!
Дед не уступает – он же мужчина.
– Имею право, – говорит, – в собственном доме находиться.
Бабушка кидается на него и под натиском этого «крутящегося дервиша» с покалеченным ребенком на руках и здоровым – в утробе, дед пятится к двери, выскакивает на улицу и не останавливается до самого Мельбурна.
Малыш Пэт, мой дядя, так до конца и не оправился после того происшествия: вырос слабоумным и левая нога у него не слушалась всего остального тела. Грамоте он так и не обучился, но одним талантом Господь его все же наградил. В восемь лет он начал продавать газеты – тут-то и обнаружилось, что деньги он считает лучше, чем сам канцлер казначейства. Почему-то Пэта прозвали Эб Шихан, сокращенно от Эббот. Весь Лимерик его любил.
А у моей матушки неприятности начались с той самой ночи, когда она родилась. Вот моя бабушка стонет в родовых муках, молится святому Герарду Майелле[7] – покровителю беременных.
Рядом сидит сестра О’Холлоран, повитуха, в своем лучшем платье. Вот-вот наступит Новый год, и миссис О’Холлоран ждет не дождется, когда младенчик родится и можно будет убежать на праздник.
– Тужься же, тужься, – заставляет она бабушку. – Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом. Если не поторопишься, ребенок не успеет родиться до Нового года, а зачем я тогда платье новое надела? Хватит уже своему Майелле молиться. Какой прок сейчас от мужчины, будь он хоть трижды святой? Нашла кого просить.
Бабушка обращается к святой Анне – вспоможительнице в родах. Ребенок не выходит.
– Святому Иуде молись, покровителю отчаявшихся, – велит сестра О’Холлоран.
– Святой Иуда, помоги мне. Я отчаялась. – Бабушка кряхтит, тужится, появляется головка моей матушки, и тут наступает полночь и Новый год. Город оглашается свистками, гудками, воем сирен, играют духовые оркестры, все поздравляют друг друга с Новым годом, поют «За дружбу старую»[8], колокола в церкви звонят Анжелюса[9], повитуха всхлипывает:
– Да что ж такое-то! Ребенок все никак не родится, а я сижу тут разодетая.
Дитя, родишься ли ты? Бабушка тужится изо всех сил, и младенец появляется на свет – милая девочка с черными кудрявыми волосами и печальными голубыми глазами.
– Господь всемогущий, – сокрушается О’Холлоран. – Дитя непонятно когда родилось: голова в новом году, а зад в старом, или голова в старом, а зад в новом? Вам, миссус, надобно теперь папе римскому писать, чтоб точно знать, в каком году ребеночек народился, а я платье до следующего года приберегу.
Ребенка назвали Анджелой в честь Анжелюса, что звонил в новогоднюю полночь, в ту самую минуту, когда она родилась, да и просто потому что девочка – сущий ангел.
- Ты матушку свою люби, как в детстве,
- Пока жива она, пускай стара, седа.
- По материнской по любви тоскует сердце,
- Когда ее теряешь навсегда[10].
В школе Святого Викентия де Поля[11] Анджелу худо-бедно обучили грамоте и счету, и в девять лет учеба для нее закончилась. Она пыталась работать поломойкой, горничной, привратницей в белом чепце, однако же так и не сумела освоить книксен.
– Ну что ты за неумеха! Поезжай в Америку – там таких привечают. Денег на дорогу дам, – сказала ей мать.
Анджела прибыла в Нью-Йорк в День благодарения аккурат в том году, когда началась Великая депрессия. Мэйлахи она повстречала на вечеринке у Дэна и Минни Макэдори, которые жили на Классон-авеню в Бруклине. Анджела приглянулась Мэйлахи, да и он ей тоже. У него тогда был взгляд побитой собаки после трех месяцев в кутузке, куда он угодил за угон грузовика. Они с дружком Джоном Макерлейном услыхали в пивнушке про грузовик, доверху набитый свиной тушенкой и консервированной фасолью. Водить ни тот ни другой не умели, так что когда полицейские увидели вихляющий по Миртль-авеню грузовик, то без труда прижали его к обочине. Увидев груз, в котором не оказалось ни свинины, ни фасоли, они пришли в недоумение: зачем угонщикам понадобилось столько коробок с пуговицами?
Анджела запала на виноватый взгляд Мэйлахи, а тот насиделся в тюрьме, так что они полюбили друг друга до дрожи в коленках, то есть стоя у стены на цыпочках – попробуй не задрожи от такого напряжения.
Спустя некоторое время выяснилось, что от этой дрожи Анджела в интересном положении, и, конечно, пошли сплетни. В Нью-Йорке жили кузины Анджелы: Делия и Филомена, которые в девичестве носили фамилию Макнамара, а теперь были замужем соответственно за Джимми Форчуном из графства Мейо и Томми Флинном из Бруклина.
Обе – крупные дамы с выдающейся грудью и крутым нравом. Когда они величественно, словно корабли по морю, плыли по тротуарам Бруклина, низшим существам следовало с почтением расступаться. Сестры твердо знали, что правильно и что неправильно, а для всех спорных вопросов существовала единая, святая, апостольская Римско-католическая церковь. Незамужняя Анджела не имела права находиться в интересном положении, посему надлежало срочно предпринять определенные меры.
Они и предприняли. Захватив с собой мужей, Джимми и Томми, сестры отправились в пивнушку на Атлантик-авеню, где Мэйлахи, когда у него была работа, пропивал получку по пятницам. Хозяин забегаловки, Джоуи Каччьямани, впускать сестриц не хотел, но Филомена заявила – если ему дороги его нос и входная дверь, то пусть открывает сейчас же, они с богоугодным делом пришли.
– Ладно-ладно, – сдался Джоуи. – Не шумите. С вами, ирландцами, лучше не связываться, святая правда!
При виде грудастых сестриц сидевший в дальнем углу бара Мэйлахи побледнел, вымученно улыбнулся и предложил им выпить. Улыбку они оставили без ответа, а предложение о выпивке с презрением отвергли.
– Уж не знаю, из какой ты там дыры в Северной Ирландии, – начала Делия.
– У тебя, поди, пресвитерианцы[12] в роду водились, иначе с чего было так поступать с нашей кузиной? – вторила ей Филомена.
– А если и водились, – заахал Джимми. – Он же в том не виноват.
– Пасть закрой, – велела ему Делия.
Томми пришлось вмешаться и заявить, что вести себя так с бедной девушкой – значит позорить всех ирландцев, и что Мэйлахи должно быть стыдно.
– Ага, стыдно, – признал Мэйлахи. – Ох, как стыдно.
– Тебя разве спрашивали? – взъелась Филомена. – Вон до чего дотрепался, так что закрой хлебало.
– А пока хлебало твое закрыто, мы тебе объясним, как по-правильному поступить с нашей кузиной Анджелой Шихан.
– Ага-ага, – закивал Мэйлахи. – Уж что правильно – то правильно, а я бы рад всех вас пивком угостить, пока мы так мило беседуем.
– Возьми свое пивко и засунь его себе в зад, – заявил Томми.
– Не успела наша малышка-кузина с парохода сойти, как ты ее обрюхатил. Мы в Лимерике – люди праведные, не чета вам, недомеркам из Антрима, который кишмя-кишит пресвитерианцами.
– Да не похож он на пресвитерианца, – подал голос Джимми.
– Пасть закрой, – велела Делия.
– И еще мы кое-что заметили, – сказала Филомена. – Ты со странностями.
– Правда? – улыбнулся Мэйлахи.
– Правда-правда, – заверила его Делия. – Мы почти сразу заметили, и нам это не понравилось.
– И улыбочка у тебя хитрющая, пресвитерианская, – поддакнула Филомена.
– А, это… – сказал Мэйлахи. – Это у меня зубы такие.
– С зубами и со странностями или без оных, а на девушке ты женишься, – объявил Томми. – Пойдешь к алтарю как миленький.
– Ох, – сказал Мэйлахи. – Жениться-то я пока и не собирался. Работы нет, и я не смогу содержать…
– Нет уж, женишься и точка, – отрезала Делия.
– Пойдешь к алтарю как миленький, – повторил Джимми.
– Ты-то хоть пасть закрой, – сказала Делия.
И они гордо удалились.
– Вот это я влип.
– Да уж, попал как кур в ощип, – отозвался Джоуи. – Если б ко мне такие крошки поболтать пришли, я б сразу в Гудзон сиганул.
Мэйлахи принялся думать, как бы выпутаться из этой передряги. От получки у него еще оставалось несколько долларов, а в Сан-Франциско или еще где-то в Калифорнии жил его дядя. Не податься ли ему в Калифорнию, подальше от пышногрудых сестриц Макнамара и их угрюмых муженьков? Точно, так он и поступит, а пока нужно обмыть это решение ирландским виски. Джоуи налил чего-то такого, что чуть глотку Мэйлахи не прожгло.
– Да уж, точно ирландское! Никак сам черт это пойло сварил.
– Знать не знаю, ведать не ведаю, – пожал плечами Джоуи. – Я только наливаю.
Однако это все же лучше, чем ничего.
– Пожалуй, надо еще выпить, и себе, Джоуи, тоже налей, и вон тех двух приличных итальянцев неплохо бы спросить, что они пить будут. О чем, ты толкуешь, Джоуи, конечно, я при деньгах!
Проснулся Мэйлахи на скамье на вокзале Лонг-Айленда от того, что коп стучал дубинкой ему по башмакам. Деньги куда-то делись, значит, придется остаться в Бруклине, где сестрицы Макнамара так и норовят съесть его живьем.
* * *
Ненастным мартовским днем, в праздник Святого Иосифа, через четыре месяца после «дрожи в коленках» Мэйлахи и Анджела обвенчались, а в августе родился ребенок. В ноябре Мэйлахи напился и решил, что пора бы выправить сыну метрику. Он собирался назвать его Мэйлахи в честь самого себя, но клерк не понял, что он там спьяну бормочет, да еще и с северным акцентом, и в метрике написал просто Мэйл[13]. И только в декабре Мэйла наконец окрестили в соборе Святого Павла и нарекли Фрэнсисом в честь деда по отцу и славного святого из Ассизи. Анджела хотела дать ребенку еще одно имя, Манчин, в честь святого покровителя Лимерика, но Мэйлахи заявил – только через его труп. Нипочем не будет его сын носить лимерикское имя. С одним-то именем попробуй жизнь проживи. И вообще, все эти вторые имена – дурацкая американская традиция, тому, кого назвали в честь святого из Ассизи, какое-то еще одно имя без надобности.
На крестинах случилось еще одно недоразумение. Будущий крестный отец Джон Макерлейн напился в подпольном кабачке и забыл о своих обязанностях. Филомена объявила своему мужу, Томми, что крестным отцом придется стать ему.
– Душа дитяти в опасности, – сказала она.
Томми пробормотал, что он, так и быть, будет крестным отцом, но заранее снимает с себя всю ответственность, если ребенок вырастет таким же, как его папаша – будет творить безобразия и странно ухмыляться, тогда пусть сразу отправляется к Джону Макерлейну в кабачок.
– Ваша правда, Том, уж вы-то приличный и добропорядочный человек, чья нога ни разу на порог таких заведений не ступала, – заметил священник.
Мэйлахи, сам только из кабачка, обиделся и вздумал пререкаться со священником, будто мало было уже того, что он пришел в церковь пьяным.
– Давай-ка, снимай свой воротник и посмотрим, кто здесь мужчина, – хорохорился он.
Пышногрудые сестрицы и их угрюмые мужья его оттащили. Новоиспеченная мать, Анджела, разволновавшись, забыла, что держит на руках младенца, выронила его, и тот полностью окунулся в купель, как при протестантском крещении. Юноша-алтарник, помогавший священнику, выудил совершенно мокрого ребенка из купели и возвернул его Анджеле. Та с рыданиями прижала дитя к груди. Священник рассмеялся и сказал, что ничего подобного прежде не видел и из младенца получился маленький баптист[14], так что священник ему теперь вряд ли нужен. Это еще больше разозлило Мэйлахи, и он чуть не набросился на священника с кулаками за то, что тот назвал его сына каким-то там протестантом. Священник велел ему утихомириться, мол, он же в Божьем доме, на что Мэйлахи огрызнулся, что какой в задницу божий дом, и тут же был выдворен на улицу, потому что никому не дозволено сквернословить в церкви.
После крещения Филомена объявила, что приглашает всех к себе домой – тут рядом – на чай с бутербродами и пирожными.
– Только на чай? – переспросил Мэйлахи.
– Да, а ты что, на виски рассчитывал? – возмутилась Филомена.
Мэйлахи ответил, что чай, конечно, здорово, но сначала ему нужно повидаться с Джоном Макерлейном, который постыдно пренебрег своим христианским долгом.
– Только и ищешь предлог, чтоб в кабак убежать, – сказала Анджела.
– Да Бог свидетель, и в мыслях не было, – ответил Мэйлахи.
– Сегодня крестины твоего сына, а тебе лишь бы выпить, – расплакалась Анджела.
Делия заявила Мэйлахи, что он отвратительный тип, но чего ожидать от севера-то Ирландии.
Мэйлахи перевел взгляд с одной женщины на другую, попереминался с ноги на ногу, надвинул кепку на глаза, сунул руки поглубже в карманы брюк и, сказав «Ага, ладно», как говорят в таких случаях на окраинах графства Антрим, едва ли не бегом побежал вверх по улице в пивную на Атлантик-авеню, где ему уж точно нальют задарма стаканчик в честь сыновних крестин.
В доме у Филомены сестры и их мужья ели и пили, а Анджела, сидя в уголке, качала дитя и плакала. Филомена, набив рот хлебом с ветчиной, поучала кузину:
– Вот, что бывает с такими дурочками, как ты. Сойти с корабля и тут же связаться с идиотом! Ушла бы от него, ребенка на усыновление отдала, и была бы свободной женщиной.
Анджела заплакала еще горше.
– Прекрати реветь, Анджела, прекрати сейчас же, – напустилась на нее вслед за сестрой Делия. – Никто не виноват, кроме тебя самой – связалась с пьяницей с Севера, да он и на католика-то не похож, и вообще со странностями. Я вот не сомневаюсь, что… что… в жилах у Мэйлахи кровь течет пресвитерианская. Молчи, Джимми.
– На твоем месте, – продолжала Филомена, – я бы позаботилась о том, чтоб детей у вас больше не было. Работы у него нет и не будет никогда, раз так пьет. Так что… больше никаких детей, Анджела. Слышишь? Послушай меня, Филомену.
* * *
Через год родился еще ребенок. Анджела назвала его Мэйлахи, как отца, и дала ему второе имя – Джерард, в честь деда по отцу. Сестры Макнамара заявили, что Анджела – глупая курица и дел они с ней иметь никаких не желают, пока она не образумится. Мужья их поддержали.
* * *
Я на детской площадке, что на Классон-авеню в Бруклине, играю с братиком Мэйлахи. Ему два годика, мне – три. Мы качаемся на качели-доске.
Вверх-вниз, вверх-вниз.
Мэйлахи подлетает вверх.
Я соскакиваю.
Качель летит вниз и брякается о землю. Мэйлахи вопит. Зажимает рукой окровавленный рот.
Ой-ой. Кровь – это плохо. Мама меня убьет.
Вот она уже торопится к нам через всю площадку; бежать ей трудно из-за большого живота.
– Что ты сделал?! – кричит она. – Что ты сделал с братом?
Я не знаю, что сказать. Я не знаю, что я сделал.
Она хватает меня за ухо.
– Марш домой. Ложись спать.
– Спать? Днем?
– Живо! – Она подталкивает меня к калитке, потом берет Мэйлахи на руки и вперевалку куда-то уходит.
* * *
Во дворе папин друг, мистер Макэдори. Он и его жена Минни стоят у края тротуара и смотрят на собаку в сточной канаве. У собаки вся голова в крови. У Мэйлахи такая же изо рта шла.
У Мэйлахи кровь, как у собаки, а у собаки кровь – как у Мэйлахи.
Я тяну мистера Макэдори за руку и говорю ему, что у Мэйлахи такая же кровь, как у собаки.
– Да-да, Фрэнсис. Такая же. И у кошек. И у эскимосов. Кровь у всех одинаковая.
– Хватит, Дэн, – останавливает его Мэнни. – Не морочь ребенку голову.
Она рассказывает мне, что песика сбила машина, он приполз сюда с середины улицы и сдох. Домой хотел, бедный песик.
* * *
– Ступай домой, Фрэнсис, – говорит мистер Макэдори. – Не знаю, что ты сделал со своим братиком, но ваша мама повезла его в больницу. Иди домой, малыш.
– Мэйлахи умрет, как этот песик, мистер Макэдори?
– Что ты, нет, Мэйлахи просто язык прикусил, – говорит Минни.
– А песик почему умер?
– Просто его время пришло, Фрэнсис.
* * *
В доме пусто, я брожу из одной комнаты в другую, то есть – из спальни в кухню и обратно. Отец ушел искать работу, мама в больнице с Мэйлахи. Вот бы съесть чего-нибудь, но в ящике со льдом только оттаявшие капустные листья. Папа не велит есть то, что плавает в воде, потому что там может быть гниль. Я засыпаю на постели родителей. Просыпаюсь уже в темноте оттого, что мама трясет меня за плечо.
– Твоему братику нужно поспать. Чуть язык не откусил. Зашивать пришлось. Иди в другую комнату.
На кухне сидит папа и пьет чай из своей большой белой эмалированной кружки. Он подхватывает меня на руки и сажает к себе на колени.
– Папа, расскажи про Ку-Ку!
– Про Кухулина[15]. Повторяй за мной: Ку-ху-лин. Расскажу, если скажешь правильно. Ку-ху-лин.
Я говорю правильно, и он рассказывает мне про Кухулина, которого в детстве звали Сетанта.
Кухулин вырос в Ирландии, и папа маленьким жил там же, в графстве Антрим. У Сетанты были палица и шар, и вот, однажды он ударил по шару и тот угодил прямо в пасть огромному псу Кулана, пес подавился насмерть. Кулан разгневался и закричал: «Что же мне теперь делать без пса?! Кто станет охранять мой дом, мою жену и десятерых детей, а еще свиней, кур и овец?» – «Прости меня, Кулан, – ответил Сетанта. – Я стану охранять твой дом. У меня вот и палица с шаром есть. А звать-величать меня теперь будут Кухулин, что значит «пес Кулана».
И стал Кухулин охранять дом Кулана и округу и прославился на весь Ольстер[16]. Папа сказал, что Кухулин был сильнее даже Геркулеса и Ахиллеса, которыми похваляются греки.
Он и с королем Артуром и всем его войском сразился бы в честном бою, да с этими англичанами разве сразишься по-честному.
Вот такая сказка. И папа ее не рассказывает ни Мэйлахи, ни соседским детям, только мне.
После сказки он дает мне отпить чаю из своей кружки. Чай горький, но как же здорово сидеть у папы на коленях!
* * *
Язык у Мэйлахи распух и не проходит уже четвертый день. Он даже мычать не может, не то, что говорить. А если б мог, все равно никто бы его не стал слушать, потому что у нас два новых малыша – их принес нам ангел ночью.
– Какие славные и большеглазые! – ахают соседи.
Мэйлахи стоит посреди комнаты, смотрит на всех снизу-вверх, показывает на свой язык и мычит.
– Мы ведь на малышей, а не на тебя пришли глядеть, – говорят соседи.
Мэйлахи плачет. Папа гладит его по голове.
– Сынок, спрячь язык и иди на улицу, поиграй с Фрэнки. Ну, беги.
На площадке я рассказываю Мэйлахи про песика, который умер на улице, потому что кто-то попал ему шаром в глотку. Мэйлахи мотает головой и мычит, что песика убило не шаром, а машиной. Он плачет, ему больно, и он не может говорить, а ведь так ужасно, когда не можешь ничего сказать. И на качели он не дает мне его раскачивать, потому что я и так его чуть не убил. Он просит Фредди Лейбовица раскачать его, и весело хохочет, когда взлетает высоко-высоко. Фредди большой, ему семь, я прошу его раскачать и меня тоже. А он говорит, что не будет, мол, я чуть брата не убил.
Я пытаюсь раскачаться сам, но у меня плохо получается, и я злюсь, потому что Фредди и Мэйлахи смеются надо мной. Они теперь закадычные друзья, хоть Фредди и семь, а Мэйлахи два. Они смеются каждый день, и язык у Мэйлахи потихоньку заживает.
Когда Мэйлахи хохочет, то видно, какие у него красивые и белые зубки и сияющие глазки. Они у него голубые, как у нашей мамы, волосы золотистые, а щечки розовые. У меня же глаза карие, как у папы, волосы черные, а щеки в зеркале кажутся бледными. Мама говорит нашей соседке миссис Лейбовиц, что Мэйлахи – самый веселый ребенок на свете, а Фрэнк со странностями, как его отец. Я не понимаю, что это за странности такие, а спросить нельзя, потому что подслушивать нехорошо.
* * *
Вот бы раскачаться до небес. Я бы тогда летал высоко над землей и не слышал бы, как по ночам плачут мои братики Оливер и Юджин. Мама говорит, что они плачут от голода. Она тоже плачет по ночам. Жалуется, что замучилась уже всех кормить и переодевать и что четыре мальчугана – это слишком. Вот бы у нее была маленькая девочка. Она бы все отдала за девочку.
Я на площадке с Мэйлахи. Мне четыре годика, ему три. Он теперь разрешает мне качать его на качелях, потому что сам не может, а Фредди Лейбовиц в школе. Нам приходится подолгу торчать на площадке, ведь близнецы спят, а мама страшно устала.
– Идите, поиграйте, – говорит она. – Дайте отдохнуть.
Папа снова ушел искать работу. Иногда, когда он приходит домой, то распевает песни о страдающей Ирландии и от него пахнет виски.
– К черту твою Ирландию, – злится мама.
– Не выражалась бы ты при детях, – укоряет ее папа.
– Где хочу – там и выражаюсь, – отвечает она. – Нет, чтоб еды детям принес, так он опять с Ирландией.
Еще мама говорит, что печален тот день, когда отменили сухой закон, потому что теперь папа ходит по салунам и нанимается мести полы и грузить бочки за стакан пива или виски. Иногда он приносит домой немного еды: ржаной хлеб, говяжью тушенку и соленья. Он выкладывает продукты на стол, а сам пьет чай. Говорит, что еда слишком нагружает организм, и удивляется, что у нас такой аппетит. Мама отвечает – как не быть аппетиту, если дети все время полуголодные.
* * *
Когда папа находит работу, мама веселеет и поет:
- Всем понятно, почему
- Поцелуй мне дорог твой.
- Все поверить не могу,
- Что любима я тобой[17].
После первой папиной зарплаты мама радуется: теперь можно заплатить обходительному итальянцу – владельцу бакалейной лавки, и снова ходить с гордо поднятой головой, потому что ничего нет хуже, чем одалживаться и быть кому-то обязанным. Мама убирается на кухне, моет кружки и тарелки, стряхивает крошки со стола, чистит ящик и заказывает свежего льда у другого итальянца. Еще она покупает специальную бумагу, с которой можно ходить в уборную в конце коридора, мол, хватит уже пачкать зад краской от «Дейли-ньюс».
Мама кипятит воду на плите и весь день стирает в большом жестяном корыте наши рубашки, носки, пеленки близнецов, две простыни и три полотенца. Все это развешивается на веревках за домом, и мы смотрим, как белье «танцует» на ветру. Мама говорит, что не хочется, конечно, все пожитки на погляд вывешивать, но нет ничего приятней одежды, высушенной на солнце.
После первой папиной зарплаты в пятницу нас ждут прекрасные выходные. В субботу мама накипятит воды и вымоет нас в корыте, а папа вытрет насухо. Мэйлахи повернется и выставит зад. Папа притворится, что возмущен, и все засмеются. Мама сварит какао, и можно будет долго не спать, а слушать новую папину сказку – он их на ходу выдумывает. Надо только назвать чье-нибудь имя, например наших соседей – Макэдори и Лейбовица, – и в сказке они будут убегать по бразильской реке от иссиня-смуглых индейцев с зелеными носами. В такие вечера засыпаешь с мыслью, что на завтрак будут яйца, жареные помидоры, хлеб, чай с сахаром и молоком, на обед – картофельное пюре с горошком и ветчиной, а на сладкое мама смешает кусочки фруктов и бисквита, пропитанного шерри, с вкуснейшим кремом.
В день первой папиной зарплаты погода стоит хорошая, и мама ведет нас на площадку. Сама садится на скамейку с Минни Макэдори и рассказывает ей всякие байки про Лимерик, а та маме – про Белфаст, и они обе смеются, потому что чудаков хватает и на севере и на юге Ирландии. Потом они учат друг друга грустным песням; мы с Мэйлахи слезаем с качелей, тоже садимся на скамейку и подпеваем:
- Как-то раз солдаты молодые на привале,
- О делах сердечных меж собою толковали,
- Шел веселый разговор, солдаты улыбались.
- Лишь один сидел в сторонке, глубоко печалясь.
- К нам иди! – ему кричали радостно друзья.
- Иль неужто нет любимой, парень, у тебя?
- Покачал Нед головой и гордо молвил он:
- «Две любимых в моем сердце до конца времен.
- Ни с одной я не расстанусь, не сойти мне с места,
- Одна мне матушка родная,
- Другая же – невеста»[18].
Мы допеваем песню, и мама с Минни до слез смеются над тем, как Мэйлахи низко кланяется и тянет к маме руки. Мимо идет с работы Дэн Макэдори и говорит, что, кажется Руди Валле[19] не видать больше покоя с такими-то конкурентами.
Когда мы приходим домой, мама дает нам чаю с хлебом и вареньем или картофельное пюре с маслом и солью. Папа пьет чай, но ничего не ест.
– Ну дает, – удивляется мама. – Весь день работал и не голодный?
– Чаю попью и хватит, – говорит папа.
Мама ругает его, мол, здоровье сгубишь, а папа повторяет, что еда слишком нагружает организм. Он пьет чай, рассказывает нам сказки, показывает буквы и слова в «Дейли-ньюс» или курит сигарету, глядя на стену и облизывая губы.
На третьей неделе папа не приносит домой денег. Уже вечер пятницы, но его еще нет дома. Мама дает нам чай с хлебом. Темнеет, на Классон-авеню зажигаются фонари. У других отцы пришли с работы и едят яичницу на ужин, потому что по пятницам нельзя есть мясо. Слышно, как наверху и внизу разговаривают соседи, кто-то выходит в коридор, по радио Бинг Кросби поет: «Брат, подай хотя бы грош»[20].
Я и Мэйлахи играем с близнецами. Сегодня мама не будет петь «Твой поцелуй». Она сидит за столом на кухне и приговаривает:
– Что же делать? Что же делать?
Поздно вечером раздается шум – папа поднимается по лестнице, распевая про Родди Маккорли[21].
– Где мои солдаты? Где моя четверка воинов? – кричит он, распахивая дверь.
– Оставь детей в покое, – сердится мама. – Они спать легли голодные, потому что тебе глаза залить приспичило.
– Поднимайсь, мальчики, живо! – кричит папа у двери в спальню. – Даю пять центов тому, кто пообещает умереть за Ирландию.
- Мы родились на острове зеленом,
- Но вглубь лесов канадских нас забросила судьба.
- И пусть идем мы по стране огромной,
- Мы сердцем с родиной своею навсегда[22].
– Подъем, ребята! Фрэнсис, Мэйлахи, Оливер, Юджин. Рыцари Красной ветви[23], фении[24], солдаты ИРА. Вставайте же!
Мама стоит у кухонного стола, ее бьет дрожь, волосы мокрыми прядями свисают на залитое слезами лицо.
– Оставь их в покое, а? – просит она. – Господи Иисусе, Мария и Иосиф! Мало того, что без гроша домой явился, так еще и детей на посмешище выставляешь.
– А ну, обратно в постель, – велит она нам.
– Нет, пусть останутся, – упорствует папа. – И готовятся к тому дню, когда Ирландия станет свободной до самого моря.
– Не спорь, – сердится мама. – Не то твоей матери будет кого оплакивать.
Отец натягивает кепку на лицо и пьяно всхлипывает:
– Бедная моя матушка. Бедная Ирландия. Ох, что же нам делать?
– Совсем ополоумел, – бросает мама и велит нам ложиться спать.
Утром следующей пятницы она спрашивает папу, принесет ли он вечером получку или снова все пропьет? Папа косится на нас и качает головой, мол, не следует так говорить при детях.
– Нет уж ответь, ты придешь домой, чтоб мы худо-бедно поужинали или снова за полночь явишься без гроша и будешь горланить про своего Кевина Барри[25] или еще какую жалостную песню? – не отступает мама.
Папа нахлобучивает кепку, сует руки в карманы и вздыхает, глядя в потолок.
– Я ведь уже говорил тебе, что приду, – наконец отвечает он.
Ближе к вечеру мама одевает нас, усаживает близнецов в коляску, и мы долго идем по улицам Бруклина. Когда Мэйлахи устает, она разрешает ему немного посидеть в коляске, а мне говорит, что я уже слишком большой. У меня тоже ножки болят, и я тоже едва за ней поспеваю, но мама сегодня не поет, поэтому лучше помолчать и не ныть.
Мы подходим к большим воротам, где в будке с окошками стоит сторож. Мама спрашивает, можно ли нам пройти туда, где рабочим выдают зарплату – может, ей выдадут папину, чтоб он все по кабакам не растратил?
– Простите, мадам, – качает головой сторож. – Если б мы такое разрешали, сюда бы половина бруклинских жен сбежалась. Мужья у многих пьют, но мы-то что можем сделать – на работу же они трезвыми выходят.
Мы встаем у стены на другой стороне улицы. Мама разрешает мне посидеть на тротуаре. Близнецам она дает бутылочки с подслащеной водой, а нам с Мэйлахи придется ждать, пока папа даст денег и мы купим чаю, хлеба и яиц в лавке итальянца.
В полшестого раздается заводской гудок, из ворот выходит толпа мужчин в кепках и рабочей одежде. Лица и руки у них черным-черны. Мама велит нам смотреть внимательнее, сама она через дорогу не увидит – зрение слабое. Рабочих сначала много, потом все меньше и меньше, а потом из ворот уже никто не выходит.
– Ну, как же вы его проглядели? Слепые, что ли? – стонет мама.
Она снова идет к сторожу в будке.
– А внутри никого не осталось?
– Нет, мадам, – отвечает он. – Все вышли. И как он умудрился мимо вас проскочить?
Мы снова плетемся по улицам Бруклина. Близнецы ревут, требуют еще сладкой воды. Мэйлахи ноет, что проголодался.
– Обожди, сейчас денег у папы возьмем, и будет у нас хороший ужин, – успокаивает его мама. – Пойдем к итальянцу, яиц купим, хлеба поджарим и вареньем намажем. Поедим, согреемся.
На Атлантик-авеню темно, а привокзальные бары светятся огнями, и в них полно людей. Мы ходим от одного бара к другому, спрашиваем про папу. Мама оставляет нас на улице с коляской, а сама заходит внутрь или меня посылает спросить. В баре шумно и пахнет виски – как от папы, когда он возвращается домой поздно вечером.
– Эй, сынок, чего тебе? Детям нельзя сюда, – говорит мне бармен.
– Я папу ищу. Он здесь?
– Ну, сынок, откуда ж мне знать? Кто твой папа?
Его зовут Мэйлахи, и он поет «Кевина Барри».
– Мэйлархи?
– Нет, Мэйлахи.
– Значит, Мэйлахи. И поет «Кевина Барри».
– Эй, ребят, кто-нибудь знает Мэйлахи, который поет «Кевина Барри»? – обращается бармен к мужчинам в зале.
Те качают головами. Один говорит, что знавал когда-то парня по имени Мэйлахи, который пел «Кевина Барри», но тот умер от пьянства, его на войне ранили, вот он и запил.
– Черт подери, Пит, я что, просил мировую историю мне пересказывать? Нет, сынок, мы тут петь не разрешаем. От того беда одна. С ирландцами особенно. Позволь им петь, так они тут же кулаками размахаются. Так что Мэйлахи тут нет, сынок, я даже имени такого не слыхал.
Дядя по имени Пит протягивает мне свой стакан.
– На, малыш, отпей.
– Ты чего, Пит? Ребенка споить хошь? – кричит ему бармен. – Только попробуй, я тебе живо задницу надеру.
Обойдя все привокзальные бары, мама сдается.
– Боже мой, еще так далеко идти, а у меня четверо детей голодных, – плачет она, прислонившись к стене, потом велит мне вернуться в тот бар, где был дядя по имени Пит, и спросить у бармена, не нальет ли он воды и не положит ли немного сахара близнецам. В баре смеются, что мол бармен будет разливать сахарную воду по детским бутылочкам, но он большой и сильный и велит всем заткнуться. Бармен говорит мне, что детям молоко нужно пить, а не воду, а я отвечаю ему, что у мамы денег нет. Тогда он выливает из бутылочек воду и наполняет их молоком.
– Скажи маме, что молоко нужно для зубов и костей. От воды с сахаром рахит бывает. Обязательно скажи.
Мама радуется молоку. Она знает про зубы, кости и рахит, но нищим выбирать не приходится.
На Классон-авеню мама сразу же идет в лавку к итальянцу, говорит ему, что муж сегодня работает допоздна, и нельзя ли пока взять кое-что в долг, а уж завтра она обязательно расплатится.
– Миссус, вы всегда долг отдаете, так что можете брать все, что пожелаете, – разрешает итальянец.
– О, мне совсем немного нужно, – смущается она.
– Все, что пожелаете, миссус, вы – честная женщина, и детишки у вас славные.
Мы едим яйца и хлеб с вареньем, хотя после ходьбы по Бруклину так устали, что едва можем жевать. Поев, близнецы засыпают, мама кладет их на кровать и переодевает. Мне она велит пойти в уборную и сполоснуть грязные пеленки, – чтобы посушить и завтра снова использовать. Мэйлахи помогает ей подмыть близнецов, хотя сам уже спит на ходу. Я забираюсь в кровать к братьям. Мама сидит за кухонным столом, курит, пьет чай и плачет. Вот бы утешить ее, сказать, что скоро я вырасту, стану работать на заводе с большими воротами, приносить получку по пятницам, она будет покупать яйца, хлеб и варенье и снова петь про поцелуй.
На следующей неделе папа остается без работы. В пятницу вечером он приходит домой, швыряет на стол деньги и говорит маме:
– Что, довольна теперь? Нажаловалась на проходной, а им только предлог дай, чтоб уволить.
Он берет несколько долларов из принесенных денег и уходит. Возвращается поздно, шумит и горланит песни. Близнецы с ревом просыпаются, мама успокаивает их, и сама долго плачет.
* * *
Мы часами торчим на площадке: то близнецы спят, то мама устала, то папа приходит домой с запахом виски и горланит про Кевина Барри, которого казнили утром в понедельник, или про Родди Маккорли.
- По улочке узкой юноша шел,
- Смело врагам улыбаясь.
- Он шел и златые кудри его
- Веревки на шее касались.
- В бесстрашных его голубых глазах,
- Никто не увидит слезу.
- Так Родди Маккорли шел умирать
- На старом Тумском мосту[26].
Он поет и марширует вокруг стола, мама плачет, близнецы ей вторят.
– Фрэнки, Мэйлахи, идите во двор, на площадку. Не к чему вам на отца на такого смотреть, – велит мама.
Мы не возражаем. На площадке можно играть с кучами листьев и качать друг дружку на качелях. Но вскоре наступает зима и качели замерзают так, что с места не сдвинешь.
– Бедные малютки, – говорит Минни Макэдори. – Ни рукавички ведь у них нет.
Мне становится смешно, потому что у нас же с Мэйлахи четыре руки, зачем нам одна рукавичка? Мэйлахи не понимает, почему я смеюсь, – вот будет ему почти пять лет, как мне, тогда, может, поймет.
Минни зовет нас к себе, угощает чаем и кашей с вареньем.
Мистер Макэдори сидит в кресле с малышкой Мэйзи. Он поит ее молоком из бутылочки и напевает:
- Хлоп-хлоп-хлоп в ладошки,
- Папочка идет домой,
- Несет булочки в кармашке,
- Он для Мэйзи для одной.
- Хлоп-хлоп-хлоп в ладошки,
- Папочка идет домой.
- Несет звонкие монетки,
- Ведь у мамы – ни одной.
Мэйлахи пытается ему подпевать, но я говорю, что нельзя – это Мейзина песенка. Мэйлахи пускается в рев.
– Ну, будет, будет, – успокаивает его Минни. – Пой, если хочешь. Это для всех детей песенка.
Мистер Макэдори улыбается Мэйлахи, а я думаю: «Что это за мир такой, где каждому разрешается петь чужие песенки?»
– Не хмурься, Фрэнки, – просит Минни. – Видит Бог, ты и так почти всегда невеселый. Вот появится у тебя сестричка, тоже будешь петь ей эту песенку. Да-да, будет сестричка, вот увидишь.
* * *
Минни оказывается права: как мама и мечтала, у нас вскоре появляется малышка, которой дают имя Маргарет. Мы все любим Маргарет. У нее черные вьющиеся волосы и голубые глаза, как у мамы. Она машет ручками и щебечет, как птички на деревьях вдоль Классон-авеню. Минни говорит, что ангелы пели в раю в тот день, когда было сотворено это дитя, а миссис Лейбовиц – что свет еще не видывал таких глазок, такой улыбки и такого счастья.
– Как погляжу на нее, так хоть в пляс пускайся, – умиляется миссис Лейбовиц.
Папа целый день ищет работу, а когда приходит домой, то берет Маргарет на руки и поет:
- Эльфа-башмачника я повстречал
- В дальнем лесу лунной ночкой.
- Алый колпак да зеленый сюртук,
- Рядом – кувшин на пенечке.
- Молоточек сапожный стучал – тик-ток,
- Я в душе ликовал: «Попался!»
- Но хитрый гном, прибивая каблук,
- Тоже чему-то смеялся[27].
Папа носит ее по кухне и говорит ей, какая же она миленькая девочка с черными кудряшками и голубыми глазами, совсем как у мамы, рассказывает, что повезет ее в Ирландию и будет гулять с ней по долинам Антрима и купаться в озере Лох-Ней и что скоро он обязательно найдет работу и купит ей шелковые платьица и туфельки с серебряными пряжками.
Папа поет Маргарет песенки, и она плачет все реже, а со временем даже начинает смеяться.
– Вы только поглядите, – говорит мама про папу. – Танцует, как слон, а туда же. – Она смеется, а за ней – и все мы.
Когда близнецы были совсем маленькие и плакали, папа с мамой говорили им: «Ш-ш-ш», давали что-нибудь поесть и те засыпали. Но когда плачет Маргарет, в воздухе разливается такое острое чувство одиночества, что папа вскакивает с постели, берет Маргарет на руки и начинает ходить с ней вокруг кухонного стола, петь песенки и утешать ее ласково, как мама. В свете уличных фонарей видно, что на его щеках блестят слезы, и это странно, потому что папа вообще не плачет, разве что, когда напьется и горланит «Кевина Барри» или «Родди Маккорли». А вот с Маргарет он плачет, и выпивкой от него больше не пахнет.
Мама говорит Минни Макэдори, что он на седьмом небе от счастья, – ведь ни капли в рот не взял с тех пор, как малышка родилась! Давно надо было девочку родить.
– Ах, эти девчушки такие миленькие! – говорит Минни. – Мальчики – это, конечно, здорово, но девочку для себя обязательно надо.
– Для себя? – смеется мама. – Да если б я ее грудью не кормила, то и не подобралась бы к ней – он же готов день и ночь ее с рук не спускать.
Минни говорит, до чего же мило, когда мужчина так обожает свою маленькую дочку, но кто же не обожает Маргарет?
Все обожают.
* * *
Близнецы научились стоять и ходить, и теперь с ними без конца что-нибудь случается. Они все время писают и какают, и от этого у них красные попки. Еще тащут в рот всякую гадость: бумажки, перышки, шнурки, а потом их тошнит. Мама говорит, что скоро сойдет с ума со всеми нами. Она одевает близнецов, усаживает в коляску, и мы с Мэйлахи везем их на площадку. Стало тепло, на деревьях по всей Классон-авеню распустились зеленые листочки.
Мы носимся с коляской по площадке, и близнецы сначала хохочут и агукают, а потом принимаются плакать от голода. В коляске лежат бутылочки со сладкой водой, на какое-то время она их успокаивает, но потом снова начинается рев. Я не знаю, что делать – они еще такие маленькие. Вот бы у меня была всякая еда, тогда я бы накормил их и они опять бы смеялись и агукали. Близнецы любят мамино пюре – она растирает в кастрюльке хлеб с молоком, водой и сахаром, у нее это называется «хлебный пудинг».
Если привезти близнецов домой, мама наругает, что отдохнуть не даю или что бужу Маргарет. Нам велено играть на площадке, пока не позовут из окна. Я корчу рожицы, чтоб успокоить близнецов. Кладу себе на голову бумажку и роняю ее, близнецы хохочут. Я подкатываю коляску к Мэйлахи, который играет на качелях с Фредди Лейбовицем. Мэйлахи рассказывает Фредди о том, как Сетанта стал Кухулином. Я требую, чтобы он перестал – это же моя сказка, но он не слушается. Я толкаю его, и он принимается реветь.
– А-а-а, я все маме расскажу.
Фредди толкает меня, в глазах у меня темнеет, я набрасываюсь на него, молочу кулаками и коленками, пинаю ногами.
– Перестань, перестань! – кричит он.
А я не перестаю, потому что не могу и не знаю как, – если я перестану, Мэйлахи совсем заберет у меня сказку. Фредди отпихивает меня и убегает с воплями:
– Меня Фрэнки убивает! Меня Фрэнки убивает!
Я не знаю, что делать, я же никого раньше не убивал, а теперь еще Мэйлахи рыдает:
– Не убивай меня, Фрэнки!
А вид у него такой беспомощный, что я обнимаю его и помогаю слезть с качелей.
– Не буду рассказывать твою сказку, – обнимает он меня в ответ. – Не буду рассказывать Фредди про Ку-ку.
Все это смешно, но я не смеюсь: близнецы ревут в коляске, на площадке темно, а что толку корчить рожицы и ронять бумажки с головы, если все равно ничего не видно?
В лавке итальянца через дорогу лежат бананы, яблоки, апельсины. Близнецы едят бананы. Мэйлахи любит бананы, да я и сам люблю. Но нужны деньги, итальянцы не дадут бананы за просто так, особенно Маккортам, которые и так уже в должниках.
Мама все время твердит мне, чтобы мы никуда не уходили с площадки, но что делать с близнецами, они же воют от голода! Я говорю Мэйлахи, что сейчас вернусь. Оглядевшись по сторонам, хватаю связку бананов, припускаю по Миртль-авеню и, оббежав квартал, возвращаюсь на площадку с другой стороны через дырку в заборе. Мы закатываем коляску в темный угол и чистим бананы для близнецов. Бананов пять, и у нас настоящий пир. Близнецы пускают слюни, жуют бананы, размазывают их по лицу, волосам, одежде. Ну вот, теперь мама спросит, почему близнецы в бананах изгваздались и где я их взял. Нельзя ей рассказывать про лавку итальянца. Скажу, что один дядя дал. Да, точно. Один дядя.
И тут происходит нечто странное. К калитке подходит какой-то человек и зовет меня. Боже мой, это же он, итальянец!
– Эй, сынок, поди-ка сюда. Да-да, ты.
Я плетусь к нему.
– Это ведь у тебя два братика-близнеца?
– Да, сэр.
– Вот тебе кулек фруктов. Бери, а то все равно на выброс пойдут. Яблоки тут, апельсины, бананы. Ты же любишь бананы, да? Точно любишь, я знаю, хе-хе. Ну, бери скорей. Мама у тебя хорошая. Что, опять отец, да? Ох, знаю, знаю, беда с ним эта ирландская. Дай бананчиков близнецам, а то их на всю улицу слыхать.
– Спасибо, сэр.
– Господи, культурный-то какой. И в кого же?
– Папа велел всегда спасибо говорить, сэр.
– Папа? Надо же.
* * *
Папа сидит за кухонным столом, читает газету. Говорит, что президент Рузвельт – хороший человек и скоро у всех в Америке будет работа. Мама сидит напротив, кормит Маргарет из бутылочки. Взгляд у нее какой-то строгий, и я пугаюсь.
– Откуда у тебя фрукты?
– Дядя дал.
– Какой дядя?
– Итальянец.
– Ты их украл?
– Дядя, – говорит Мэйлахи. – Дядя дал Фрэнки кулек.
– А что ты Фредди Лейбовицу сделал? Его мама приходила. Милая такая женщина. Не знаю, что б мы делали без нее и без Минни Макэдори. А ты бьешь бедного Фредди.
– Он не бил, не бил, – подскакивает Мэйлахи. – Он не хотел убивать Фредди. И меня не хотел убивать.
– Тише, Мэйлахи, – говорит папа. – Иди сюда. – Он берет Мэйлахи к себе на колени.
– Иди к соседям, извинись перед Фредди, – велит мама.
– Хочешь извиниться перед Фредди? – спрашивает папа.
– Не хочу.
Родители переглядываются.
– Фредди – хороший мальчик, – говорит папа. – Он не обижал твоего братика, просто на качелях качал, разве нет?
– Он хотел украсть у меня сказку про Кухулина.
– Да не нужна Фредди твоя сказка. У него своих куча. Он еврей.
– А кто такой еврей?
– Евреи… евреи… ну, это люди, у которых свои сказки, – смеется папа. – Им не нужен Кухулин. У них Моисей есть. И Самсон.
– А кто такой Самсон?
Вот пойдешь к соседям, извинишься, тогда расскажу. Хотя Фредди и сам тебе расскажет, если попросишь. Главное, извинись сначала, ладно?
Малышка на руках у мамы хнычет, и папа тут же вскакивает с места, роняя Мэйлахи на пол.
– Чего это она?
– Да ничего, – отвечает мама. – Ест просто. Что ты какой нервный?
* * *
Они принимаются обсуждать Маргарет. Про меня все забыли, ну и ладно. Я иду к соседям: надо спросить Фредди про Самсона, узнать, сильнее он Кухулина или нет, и убедиться, что у Фредди и правда есть своя сказка и он не будет красть мою. Мэйлахи просится со мной – папа встал и на коленях больше не посидишь.
– А, Фрэнки, заходи, заходи, – говорит миссис Лейбовиц. – И малыш Мэйлахи тут. Скажи-ка, Фрэнки, что это ты с Фредди хотел сделать? Убить, что ли? Фредди – хороший мальчик. Книжки читает. Радио слушает с папой. Братишку твоего на качелях качает. А ты – убивать. Ох, Фрэнки, Фрэнки. А еще твоя бедняжка мать, и малышка болеет.
– Она не болеет, миссис Лейбовиц.
– Болеет. Ох, болеет. Мне ли не знать, я в больнице работаю, Фрэнки. Ну, проходи, проходи. Фредди, Фредди! Фрэнки пришел! Где ты там? Фрэнки не будет тебя больше убивать. Ни тебя, ни Мэйлахи. Красивое еврейское имя. Пирожок съешь? Почему тебя еврейским именем назвали, а? Вот молока стакан, пирога кусок. Какие ж вы худые, ребятки. Эти ирландцы не едят совсем.
Мы сидим за столом с Фредди, едим пирог и запиваем молоком. Мистер Лейбовиц читает газету и слушает радио. Иногда он говорит что-то миссис Лейбовиц, но я совсем ничего не разберу – это не слова, а странные звуки какие-то. А вот Фредди их понимает. Мистер Лейбовиц снова издает странные звуки. Фредди вскакивает и относит ему кусок пирога. Миссис Лейбовиц улыбается Фредди и гладит его по голове, Фредди улыбается ей в ответ и тоже произносит странные звуки.
– Ой, худышки какие, – снова качает головой миссис Лейбовиц, глядя на меня и на Мэйлахи.
Она так часто ойкает, что Мэйлахи передразнивает ее и говорит «ой». Лейбовицы смеются, а мистер Лейбовиц наконец произносит что-то понятное:
– Когда веселы ирландские ойчи[28].
Миссис Лейбовиц аж трясется вся от смеха и даже за живот держится, а Мэйлахи повторяет «ой», раз всем от этого так весело. Я тоже говорю «ой», но никто не смеется, значит, это «ой» принадлежит Мэйлахи, так же как Кухулин – мне, ну и пусть Мэйлахи забирает себе свое «ой».
– Миссис Лейбовиц, папа говорит, у Фредди есть любимая сказка.
– Про Сам… Сам… ой, – говорит Мэйлахи.
Все снова смеются, а я пытаюсь вспомнить, что там шло после «Сам».
– Самсон, – произносит Фредди с набитым ртом.
– Не разговаривай с набитым ротом, – говорит ему миссис Лейбовиц.
Я смеюсь, потому что такая большая, а говорит «ротом», вместо «ртом». Мэйлахи смеется, потому что смеюсь я, а Лейбовицы с улыбкой переглядываются.
– Не про Самсона, – говорит Фредди. – А про Давида и великана Голиафа. Давид убил его из пращи – бац, и камень ему в башку, так что мозгá на земле.
– Не мозгá, а мозги, – поправляет его мистер Лейбовиц.
– Да, папочка.
Отец. Фредди зовет своего папу папочкой, а я своего – просто папа.
* * *
Я просыпаюсь от маминого шепота.
– Что с ребенком?
Еще очень рано, в комнате темно, видно только, что папа стоит у окна с Маргарет на руках. Он качает ее и почему-то охает.
– Она что… заболела? – шепчет мама.
– Ох, что-то притихла совсем и холодненькая какая-то.
Мама вскакивает с постели, забирает у него Маргарет.
– Беги за врачом. Скорее, ради Бога.
Папа натягивает штаны, заправляет в них рубашку и как есть – без пиджака, носков и ботинок – выскакивает на холод.
Мы ждем в комнате, близнецы спят в изножье кровати, рядом со мной ворочается Мэйлахи.
– Фрэнки, пить хочу.
Мама сидит на своей постели с малышкой на руках и раскачивается из стороны в сторону.
– Ох, Маргарет, Маргарет, милая моя крошечка. Ну, открой же красивые голубые глазки, дитятко мое ненаглядное.
Я наливаю в кружку воды себе и Мэйлахи.
– Воды, значит, себе и братцу? – охает мама. – Воды, да? А сестричке ничего. Бедняжке сестричке. Рта у нее, что ли, нет, по-вашему? Она воды не хочет? Пьете себе, как ни в чем не бывало. И близнецы знай себе спят, а сестренка лежит тут у меня больная. Вся больная. Да Боже ж ты мой!
Мама какая-то не такая и разговаривает странно. Где папа, хочу папу.
Я возвращаюсь в постель и плачу.
– Ты чего? – спрашивает Мэйлахи.
Он все повторяет и повторяет «Ты чего», пока мама снова не начинает меня бранить.
– Сестричка болеет, а ты все скулишь. Вот подойду сейчас, будешь знать.
Папа возвращается с врачом. Снова запах виски. Врач осматривает Маргарет, тычет ее пальцем, приподнимает ей веки, ошупывает шейку, ручки, ножки. Потом выпрямляется и качает головой. Она умерла. Мама крепко обнимает малышку и ложится, отвернувшись лицом к стене. Врач спрашивает, не было ли несчастного случая, не роняли ли ребенка, или, может, мальчики неосторожно с ней играли?
Папа мотает головой. Врач говорит, что ему нужно забрать Маргарет для установления причины смерти; папа подписывает какую-то бумагу. Мама умоляет дать ей еще хоть минуточку, но врач говорит, что у него пациентов много. Папа тянет к маме руки, чтобы забрать Маргарет, но мама еще крепче жмется к стене. Взгляд у нее безумный, черные кольца кудрей прилипли ко лбу, лицо мокрое от пота и слез, глаза круглые. Она все время мотает головой и стонет:
– Нет, нет!
Папа высвобождает малышку из ее рук и передает врачу, а тот заворачивает ее с головой в одеяло.
– Господи Боже, она же задохнется! – рыдает мама. – Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом, да помогите же мне!
Врач уходит. Мама отворачивается к стене и затихает. Близнецы проснулись и плачут от голода, но папа стоит посреди комнаты, глядя в потолок. Лицо у него белое, и он бьет себя кулаками по ногам. Потом подходит к кровати, кладет руку мне на голову. Рука дрожит.
– Фрэнсис, я за сигаретами.
Мама лежит весь день и почти не шевелится. Мы с Мэйлахи наполняем бутылочки близнецов сладкой водой. На кухне – черствые полбуханки хлеба и две холодные сосиски. Чаю не попьешь – молоко в ящике со льдом прокисло, да и лед растаял, а как известно, чай без молока можно только когда папа рассказывает про Кухулина и дает из своей кружки отпить.
Близнецы опять проголодались, но я не могу давать им воду с сахаром весь день и всю ночь. Я кипячу в кастрюльке прокисшее молоко, размачиваю в нем немного хлеба и пытаюсь накормить их из кружки. Они морщатся и с плачем бегут к маме, но она все лежит лицом к стене, поэтому они снова прибегают ко мне. Соглашаются они на «пудинг» только после того, как я забиваю вкус кислого молока сахаром. Теперь они едят, улыбаются и размазывают «пудинг» по лицу. Мэйлахи тоже хочет «пудинга», а раз ест он, поем и я. Мы все сидим на полу, едим мою стряпню, жуем холодные сосиски и пьем воду из молочной бутылки, которую мама хранит в ящике со льдом.
Мы поели и теперь нам надо в уборную в конце коридора, но там заперлась миссис Лейбовиц и что-то напевает.
– Ждите ребятишки, ждите догогие, – говорит она. – Я сейчас.
Мэйлахи хлопает в ладоши и, пританцовывая, поет:
– Ждите ребятишки, ждите догогие.
– Да вы только поглядите. Артист готовый, – говорит миссис Лейбовиц, выходя из уборной. – Ну как ваша мама?
– Лежит, миссис Лейбовиц. Врач забрал Маргарет, а папа ушел за сигаретами.
– Ох, Фрэнки, Фрэнки. Я же говорила, что ребенок болен.
Мэйлахи хватает себя за штанишки.
– Писать, писать.
– Так иди уже писай. Пописаете и проведаем вашу маму.
Мы пописали, и миссис Лейбовиц идет к маме.
– Ох, миссис Маккорт. Ой-вэй, догогуша. А близнецы-то опять голышом. Миссис Маккорт, что стряслось? Малышка заболела? Ну, скажите что-нибудь. Бедняжка. Давайте, повернитесь ко мне, миссус. Скажите что-нибудь. Ой-вэй, вот беда-то!
Она помогает маме приподняться и сесть к стене. Мама вся как будто уменьшилась.
Миссис Лейбовиц говорит, что сейчас сходит за супом и велит мне пока принести воды, чтобы умыть маму. Я мочу полотенце в холодной воде, провожу им по маминому лбу. Она прижимает мою ладонь к своей щеке.
– Боже мой, боже мой, Фрэнки.
Она не отпускает мою руку, и мне страшно, потому что я никогда маму такой не видел. Наверное, она говорит «Фрэнки» только потому, что держит меня за руку, а на самом деле думает о Маргарет.
– Твоя сестренка умерла, Фрэнки. Умерла. И где, спрашивается, твой папаша? – Она выпускает мою руку. – Где он, а? Пьет. Где ж еще. В доме ни гроша. Работы у него нет, а на выпивку деньги есть, на выпивку есть, есть, есть. – Она бьется головой о стену и кричит: – Где? Где? Малышка моя где? О, Господи Иисусе, и святые Мария с Иосифом, спасите меня. Я сойду с ума, сойду с ума-а-а…
В комнату вбегает миссис Лейбовиц.
– Миссус, миссус, что же все-таки случилось? Где малышка?
– Умерла, миссис Лейбовиц! – кричит мама. – Умерла! – Она роняет голову на грудь и качается взад-вперед. – Посреди ночи, миссис Лейбовиц. В коляске. Как же я недосмотрела? Семь недель прожила моя малышка на этом свете и умерла прямо посреди ночи, миссис Лейбовиц, одна-одинешенька, в коляске.
Миссис Лейбовиц обнимает маму.
– Ш-ш-ш, ну же, ну же. С младенцами такое случается. Бог дал – Бог взял.
– В коляске, миссис Лейбовиц. Рядом с кроватью. Да что ж я не взяла ее на ручки, она бы тогда не умерла. Зачем Господу младенцы, ну зачем ему младенцы?
– Не знаю, миссус. Кто ж знает. Нате-ка вот супчика вкусненького. Силы хоть будут. Мальчики, несите миски. Вам тоже дам.
– Миссис Лейбовиц, а что такое миски?
– О, Фрэнки. Ты не знаешь, что такое миски? Это из чего суп едят, деточка. У тебя миски нет? Ну, кружки неси. Суп с горошком и чечевицей. Окорока не хватает, да? Знаю, ирландцы любят. Но чего нет, того нет, Фрэнки. Пейте, миссус. Пейте суп. – Она кормит маму с ложечки, вытирает капли у нее с подбородка.
Мы с Мэйлахи сидим на полу и едим суп из кружек, а близнецов кормим с ложки. Суп горячий и очень вкусный. Мама такой не готовит. Вот бы миссис Лейбовиц побыла моей мамой. А Фредди стал бы мной, и у него были бы мои мама и папа и Мэйлахи с близнецами. Только Маргарет у него бы теперь не было, потому что она как тот песик на дороге, которого унесли. Я не знаю, почему ее унесли. Мама сказала, она умерла из-за коляски, наверное, это так же, как из-за машины, когда она сбивает и человека уносят.
Так жалко, что малышка Маргарет не ест с нами суп. Я бы кормил ее с ложечки, как миссис Лейбовиц кормит маму. Она бы булькала ротиком и смеялась, как тогда с папой. Она больше бы не плакала, и мама тогда не лежала бы весь день и всю ночь, а папа рассказывал бы про Кухулина, и мне бы захотелось обратно к своим родителям. Миссис Лейбовиц добрая, но лучше пусть папа рассказывает мне про Кухулина, а Маргарет щебечет, и мама смеется, когда папа неуклюже танцует.
* * *
Минни Макэдори тоже спешит к нам на помощь.
– Матерь Божья, миссис Лейбовиц, близнецы-то смердят на всю округу.
– Про Матерь Божью не знаю, но помыть их давно пора. И подгузники поменять. Фрэнки, где чистые подгузники?
– Не знаю.
– У них тряпки вместо подгузников, – говорит Минни. – Сейчас Мэйзиных принесу. Фрэнки, сними с близнецов тряпки да выбрось.
Мэйлахи раздевает Оливера, а я вожусь с Юджином. Он крутится, булавка расстегивается и колет его в ножку. Он плачет и зовет маму. Но тут Минни приносит полотенце, мыло и горячую воду. Я помогаю отмыть близнецов от засохших какашек, и мне разрешают присыпать им тальком красные попы. Минни говорит, что мы молодцы и что у нее есть для нас большой сюрприз. Она уходит к себе в квартиру и возвращается с кастрюлькой картофельного пюре. В нем вдоволь соли и масла, и я тут же принимаюсь мечтать: вот бы Минни побыла моей мамой, тогда я все время бы так ел. Если б миссис Лейбовиц и Минни обе стали моими мамами, я бы объедался супом и картофельным пюре.
Минни и миссис Лейбовиц сидят за столом. Миссис Лейбовиц говорит, надо что-то делать. Дети без присмотра, а отец вообще непонятно где. Минни шепчет, мол, сидит и пьет где-нибудь. Миссис Лейбовиц говорит, это просто ужас какой-то сколько ирландцы пьют. Минни возражает, что ее Дэн вообще спиртного в рот не берет, а еще он ей сказал, что когда бедная крошка умерла, Мэйлахи как с цепи сорвался: по всем пивнушкам на Флэтбуш-авеню и Атлантик-авеню прошелся, потом за привокзальные бары взялся, но там его отовсюду вышвыривали и давно бы в тюрьму забрали, не будь все это из-за смерти малышки.
– У него тут четыре таких славных мальчугана, – говорит Минни, – а он так безутешен. Девочка в нем что-то пробудила. Он даже не пил после того, как она родилась, а это уже само по себе чудо.
Миссис Лейбовиц спрашивает, где мамины кузины, те дородные женщины с тихими мужьями. Минни обещает найти их и рассказать, что дети бегают сами по себе и что у них уже попы болят от грязи, и все такое.
* * *
Через два дня папа возвращается из своего похода за сигаретами и будит нас с Мэйлахи. От папы разит выпивкой. Он велит нам построиться на кухне, мол, мы его солдаты и должны сейчас же поклясться, что умрем за Ирландию.
– Клянемся, папа, клянемся.
Потом мы все вместе поем «Кевина Барри».
- Рано утром в понедельник,
- Во дворе тюрьмы Маунтджой
- Кевин Барри распрощался
- С жизнью со своей младой.
- Восемнадцать лет от роду,
- Совсем юный паренек,
- За отчизну, за свободу,
- Он взошел на эшафот[29].
В дверь стучат. Это мистер Макэдори.
– Мэйлахи, перестань Христа ради, три утра же. Весь дом перебудил.
– Ох, Дэн, я только мальчиков поучу умирать за Ирландию.
– Днем поучишь, Мэйлахи.
– Так это срочно, Дэн, срочно.
– Знаю, Мэйлахи, но они же еще дети малые. Давай, ложись спать, как все приличные люди.
– Спать, Дэн?! Как же мне теперь спать? День и ночь перед глазами ее крохотное личико стоит, кудряшки черные, глазки голубые. Боже мой, Дэн, что же мне делать?! Может, она от голода умерла, а, Дэн?
– Конечно, нет. Жена же твоя ее кормила. Это Бог забрал. Ему лучше знать.
– Ну еще одну только песню, Дэн, и спать.
– Спокойной ночи, Мэйлахи.
– Ну, ребята. Пойте!
- Во имя родины своей,
- Где зелены луга,
- Он жизнь свою готов отдать,
- Смеясь в лицо врагам.
- Идет Маккорли умирать
- На Тумском на мосту.
- Ведь твердо верит до конца,
- В свою он правоту.
– Клянетесь умереть за Ирландию, ребятки?
– Да, папа.
– А с сестренкой вашей мы на небесах встретимся, да, ребятки?
– Да, папа.
* * *
Мой братик спит стоя, уткнувшись лицом в ножку стола. Папа берет его на руки и, шатаясь, несет на постель к маме. Я тоже залезаю к ним, а папа, не раздеваясь, ложится рядом со мной. Мне хочется, чтобы он меня обнял, но он все поет про Родди Маккорли и бормочет, что Маргарет – его кудрявая голубоглазая малышка и что он нарядил бы ее в шелковое платьице и увез бы на Лох-Ней. Потом за окном светает, и я засыпаю.
Мне снится Кухулин. На плече у него сидит большая зеленая птица и распевает про Кевина Барри и Родди Маккорли. Птица мне не нравится, потому что у нее с клюва капает кровь. В одной руке Кухулин держит Га-Болг – копье столь тяжелое, что лишь одному ему под силу его метнуть. В другой руке у Кухулина банан – он протягивает его птице, но та клекочет и плюется кровью. И почему Кухулин это терпит? Если бы близнецы плевались в меня кровью, когда я даю им банан, я бы им этим бананом да по головам.
Утром папа сидит на кухне, и я рассказываю ему про свой сон. Он говорит, что в стародавние времена в Ирландии бананов не было, а если бы даже были, то Кухулин никогда бы не угостил бананом эту птицу, ведь она прилетела из Англии и уселась к нему на плечо, когда он умирал, прислонившись к валуну. Люди Эрина, то есть древней Ирландии, хотели его добить, но боялись подойти, а потом увидели, что птица пьет кровь Кухулина, и поняли, что теперь к нему можно приблизиться без опаски, грязные мерзкие трусы.
– С птицами настороже надо быть, Фрэнсис, и еще с англичанами, – заключает папа.
* * *
Мама почти весь день лежит лицом к стене. Стоит ей выпить чаю или съесть что-нибудь, ее тут же тошнит в ведро под кроватью и мне приходится выливать его в туалет и ополаскивать. Миссис Лейбовиц приносит ей суп и смешной хлеб косичкой. Мама пытается отрезать от него кусочек, но миссис Лейбовиц смеется и говорит, что нужно просто отрывать. Мэйлахи говорит, что это – хлеб-рвачка, но миссис Лейбовиц объясняет, что хала, и учит нас, как это слово произносится.
– Ну, ирландцы, – качает она головой. – Хоть заучи вас, а все равно не сможете «хала» по-еврейски сказать.
Минни Макэдори приносит картошку, капусту, иногда кусочек мяса.
– Ох, тяжелые нынче времена, Анджела, но мистер Рузвельт – хороший человек, он придумает, как всем работу дать, и твоему мужу тоже. Бедняга не виноват, что везде Депрессия эта. И так день и ночь работу ищет. Моему-то Дэну повезло, четыре года уже в муниципалитете работает, да и не пьет совсем. А тоже ведь из Тума. Тут как повезет: одни пьют – другие нет. Это уж беда такая, ирландская. Поешь, Анджела, хоть силы будут, а то извела себя совсем.
Мистер Макэдори говорит папе, что в Управлении общественных работ могут помочь. Папе дают там работу, и он приносит домой деньги на еду. Мама встает, моет близнецов и кормит нас всех. А когда папа приходит домой с пьяным запахом, то денег нет и мама кричит на него. Близнецы начинают реветь, а мы с Мэйлахи убегаем на площадку. В такие вечера мама снова ложится в постель, а папа поет что-нибудь грустное про Ирландию. Почему он не обнимет маму и не успокоит, как успокаивал нашу сестренку, которой больше нет? Почему не споет ей песенку, да хоть одну из тех, что пел Маргарет? Тогда бы мама перестала плакать. Он все так же будит нас с Мэйлахи по ночам, и мы стоим в одних рубашках и клянемся умереть за Ирландию. Как-то раз он захотел, чтобы близнецы тоже поклялись, но они еще говорить-то не умеют, и мама накричала на него, чтобы оставил детей в покое, а то совсем уже, дурень, спятил. Папа пообещал дать нам пятачок на мороженое, если поклянемся умереть за Ирландию. Мы клянемся, но пятачка нам так и не дают.
* * *
Миссис Лейбовиц кормит нас супом, а Минни – картофельным пюре, и вместе они учат нас мыть близнецам попы и стирать пачканые пеленки. Миссис Лейбовиц называет их «подгузниками», а Минни – «пеленками», но как ни назови, близнецы все равно все закакают. Если мама лежит и не встает, а папа уходит искать работу, мы с Мэйлахи весь день делаем, что хотим. Например, качаем близнецов на качельке, пока они от голода не заревут.
– Эй, Фрэнки, поди сюда! – окликает меня итальянец из лавки. – Через дорогу только осторожно! Близнецы опять голодные? – Он дает нам немного сыра, окорока и бананов, но я не могу есть бананы после того, как та птица плевалась кровью в Кухулина.
Итальянец говорит, что его зовут мистер Димино, а там за прилавком – его жена, Анджела. Я говорю, что мою маму зовут так же.
– Вот это да! – удивляется итальянец. – А я думал, у ирландцев не бывает Анджел. Ты слышала, Анджела? Его маму так же зовут.
Анджела улыбается и говорит, что это очень мило.
Мистер Димино спрашивает меня про маму и папу и кто нам есть готовит. Я рассказываю, что еду приносят миссис Лейбовиц и Минни Макэдори, и еще про подгузники и пеленки, и что все равно, как называть – близнецы их так и так дерьмом перепачкают.
– Анджела, ты слышала? – смеется мистер Димино. – Вот ладно ты итальянка…
– Послушай, малыш, – обращается он ко мне. – Я потолкую с миссис Лейбовиц. Должны же быть родственники, которые могут помочь. Увидишь Минни Макэдори, скажи, пусть заглянет ко мне. Не дело это, что вы, ребятишки, сами по себе бегаете.
* * *
У двери стоят две толстые тети.
– Ты кто? – спрашивают они меня.
– Я – Фрэнк.
– Фрэнк! А сколько тебе лет?
– Четыре, пять будет.
– А не мелковат ты для пяти?
– Не знаю.
– Мама дома?
– Да, лежит.
– А чего это она улеглась посредь бела дня?
– Спит.
– Ладно, пропусти нас, нам с ней поговорить надо.
Они заходят в комнату.
– Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом, ну и вонь! А это что за дети?
К толстым тетям подбегает Мэйлахи, улыбаясь во весь рот. Зубы у него беленькие и ровные, глаза голубые, а щечки розовые. Ему тети улыбаются, а мне так не улыбались.
– Я Мэйлахи, – сообщает он. – А это Оливер и Юджин, они близнецы, а вон Фрэнки стоит.
– Ишь ты, смелый какой, – говорит тетя с темными волосами. – Я кузина твоей мамы, Филомена, и это тоже кузина твоей мамы, Делия. Я миссис Флинн, а Делия – миссис Форчун, вот так нас и зовите.
– Боже ж ты мой! – ахает Филомена. – Близнецы-то голышом. У них, что, одежды нет?
– Пеленки все в дерьме, – отвечает Мэйлахи.
– Нет, вы только послушайте, – гаркает Делия. – Рот что помойка, да и неудивительно при таком папаше с Севера. Не говори это слово больше, оно плохое, ругательное. За такое в ад попадают.
– А что такое ад? – спрашивает Мэйлахи.
– Узнаешь в свое время, – грозит Делия.
Толстые тети садятся за стол вместе с миссис Лейбовиц и Минни Макэдори. Филомена говорит, они слышали, какой ужас случился с малышкой Анджелы и еще непонятно, что с тельцем сделали. И ей непонятно, и другим тоже, а Томми сразу все понял, что Мэйлахи с Севера сдал ребенка за деньги.
– Как это за деньги? – переспрашивает миссис Лейбовиц.
– А вот так, – отвечает Филомена. – Трупы увозят, а потом опыты на них ставят, и то, что от ребенка останется, похоронить-то нельзя будет на освященной земле.
– Какой ужас! – восклицает миссис Лейбовиц. – Да разве отец или мать отдадут свое дитя на такое?
– Отдадут, отдадут, – говорит Делия. – Ежели к выпивке есть пристрастие. Пьяница и мать-то родную продаст, что уж говорить о мертвом ребенке.
– Ой, – сокрушается миссис Лейбовиц, раскачиваясь на стуле. – Ой-ой-ой. Бедная малышка. Бедная мать. Слава Богу, у моего мужа нет этого, как вы сказали? Да, пристрастия. У ирландцев вот есть.
– У моего мужа нет, – возражает Филомена. – Коли придет домой с этим пристрастием, я ему рожу-то разукрашу. Вот у Джимми, мужа Делии, оно есть. Как пятница – так шасть в салун.
– Ты на моего Джимми не наговаривай, – сердится Делия. – Он работает. Получку домой приносит.
– А все равно, глаз-то с него не спускай, – наставляет ее Филомена. – А то пристрастие его одолеет, и будет еще один такой же Мэйлахи с Севера.
– Ты лучше за своим приглядывай, – говорит Делия. – Джимми-то хоть ирландец, не то, что твой Томми из Бруклина.
И на это Филомене возразить нечего.
Минни качает на руках дочку, и толстые тети, говорят, что вот мол дитя так дитя: чистенькое, присмотренное, не то, что Анджелин выводок.
Филомена сокрушается, что не знает в кого Анджела такая грязнуля, у матери ее дома ни пылинки, хоть с полу ешь – так чисто.
Я слушаю их и не могу понять, зачем с полу, ни стола, ни стульев, что ли, нет?
Делия говорит, надо что-то делать с Анджелой и детьми, потому что это позор, а не родственнички, и что надо, мол, написать матери Анджелы, а писать будет Филомена, потому что учитель в Лимерике говорил, что она руку на письме набила. Делия поясняет миссис Лейбовиц, что это значит красиво пишет.
Миссис Лейбовиц приносит ручку своего мужа, бумагу и конверт. Вчетвером женщины сидят за столом и сочиняют письмо к моей бабушке:
«Дражайшая тетушка Маргарет,
Во первых строках письма сообщаю, что мы пребываем в наилучшем здравии, чего и Вам желаем. Муж мой, Томми, в добром здравии и трудится усердно, и муж Делии тоже трудится усердно и тоже в добром здравии, чего и вам желаем. А вот Анджела вовсе не в добром, о чем я и имею несчастье Вам сообщить. Недавно у нее умер ребенок, девочка, которую нарекли Маргарет, в Вашу честь. Анджела теперь сама не своя, целыми днями лежит, отвернувшись к стене. А что еще хуже, она, похоже, снова в тягости, и это уж слишком, скажу я Вам. Только одного ребенка потеряла, как другой уже на подходе. Уму непостижимо! Четыре года замужем, пять детей и шестой на подходе. А все потому, что выскочила за проходимца с Севера – совсем эти протестанты собой не владеют. Каждое утро он уходит якобы работу искать, а на самом деле ошивается в салунах – то пол подметет, то бочки потаскает, а заработанные гроши тут же на выпивку и спустит. Это просто ужас какой-то, тетушка Маргарет. Мы все считаем, что Анджеле и детям будет лучше на родине. Времена сейчас тяжелые, так что денег на билеты у нас нет, но, может быть, у Вас найдутся?
С надеждой, что Вы пребываете в таком же добром здравии, что и мы, благодаренье Богу и его благословенной Матери.
Любящая Вас племянница,
Филомена Флинн (урожденная Макнамара)
а также еще одна Ваша племянница
Делия Форчун (тоже, разумеется, урожденная Макнамара, ха-ха-ха).
* * *
Бабушка Шихан выслала Филомене и Делии денег. Они купили нам билеты, раздобыли чемодан в Обществе Святого Викентия де Поля[30], наняли фургон, который отвез нас на пристань Манхэттена, сказали «До свиданьица и слава Богу» и удалились.
Пароход отчалил, и мама показала нам статую Свободы и остров Элис, куда причаливают эмигранты, потом перегнулась через поручни, и ее стошнило, а ветер Атлантики принес все это обратно к нам и к другим пассажирам, которые любовались видом. Пассажиры заругались и убежали, к нам слетелись чайки со всей округи, а бледная мама обессиленно повисла на поручнях.
II
Спустя неделю мы прибыли в Мовилл, что в графстве Донегол, там сели на автобус до Белфаста, а оттуда на другом автобусе доехали до городка Тум в графстве Антрим. Оставив багаж в лавке, дальше мы пошли пешком, а идти до дома дедушки Маккорта надо было около двух миль. Дорога тонула в темноте, рассвет еще только занимался где-то за холмами.
Папа нес близнецов, которые по очереди ревели от голода. Мама то и дело останавливалась и садилась на каменную ограду передохнуть. Мы садились рядом и смотрели, как небо алеет, а потом становится голубым. На деревьях защебетали и запели птички, а когда совсем рассвело, мы увидели, что на поле стоят какие-то странные звери и смотрят на нас.
– Пап, кто это? – спросил Мэйлахи.
– Коровы, сынок.
– А кто такие коровы?
– Коровы это просто коровы, сынок.
Мы пошагали дальше, стало еще светлее, и на другом поле стояли еще какие-то звери – белые и лохматые.
– Пап, а это кто? – спросил Мэйлахи.
– Овцы, сын.
– А кто такие овцы?
– Хватит уже! – рявкнул папа. – Овцы это овцы, коровы это коровы, а вон там вообще коза. Просто коза и все. Она дает молоко, овцы дают шерсть, коровы дают все. Ну, что тебе все неймется, а?
Мэйлахи заскулил от страха – папа никогда раньше не повышал на нас голос. Да, бывало будил по ночам и велел поклясться, что мы умрем за Ирландию, но никогда не кричал вот так.
Мэйлахи кинулся к маме.
– Ну, будет, будет, милый. Просто папа устал, он близнецов несет, а когда тяжело, не до вопросов, – сказала она.
Папа опустил близнецов на землю и протянул руки к Мэйлахи. Близнецы кинулись в рев, а Мэйлахи, всхлипывая, прижался к маме. Коровы мычали, овцы бекали, коза мекала, птицы на ветках чирикали, и вдруг посреди всего этого шума бибикнул автомобиль.
– Боже милосердный! – изумленно воскликнул человек за рулем. – Что вы тут делаете в такую рань, да еще и в светлое Христово воскресенье?
– Доброе утро, святой отец, – поздоровался папа.
– Отец? – переспросил я. – Папа, это твой папа?
– Не задавай вопросов, – шикнула мама.
– Нет-нет, – ответил папа. – Это священник.
– А кто такой свя…? – начал Мэйлахи, но мама зажала ему рот рукой.
У священника были совсем седые волосы и белый воротничок.
– Куда вы идете?
– В Манигласс, к Маккортам, – ответил папа, а священник сказал, что он нас подвезет и что Маккорты – хорошее семейство, добрые католики – некоторые даже причащаются ежедневно, и что он надеется увидеть всех нас на мессе, особенно этих маленьких янки, которые даже не знают, кто такой священник, Господи, помоги нам.
Возле дома мама тянется к щеколде на двери.
– Нет-нет, – останавливает ее папа. – Парадный вход только для священника или когда похороны.
С другой стороны дома есть еще дверь. Папа открывает ее и там, на кухне сидит дедушка Маккорт и пьет чай из большой кружки, а бабушка Маккорт что-то жарит на сковородке.
– Ага, вот и вы, – говорит дедушка.
– Ага, мы, – отвечает папа, потом показывает на маму: – Это Анджела.
– Ага, вы, наверное, устали, Анджела.
Бабушка вообще ничего не говорит, просто отворачивается к плите.
Дедушка ведет нас в большую комнату, где стоят длинный стол и стулья.
– Садитесь, чаю выпейте, – приглашает дедушка. – Оладьев хотите?
– Что такое оладьи? – тут же спрашивает Мэйлахи.
– Блинчики такие, – смеется папа. – Из картошки.
– Еще яйца есть, – говорит дедушка. – Нынче Пасха, ешьте яиц вдоволь.
Мы едим вареные яйца, пьем чай с оладьями и идем спать. Я просыпаюсь на кровати рядом с Мэйлахи и близнецами. Папа с мамой спят на другой кровати, у окна. Где я? За окном темно. Нет, это не пароход. Громкому папиному храпу вторит тоненький мамин. Мне хочется писать. Я встаю и тормошу папу.
– Писай в горшок, – говорит он.
– Куда?
– В ночной горшок, под кроватью. На нем розочки и девицы пляшут на лужочке. Туда и писай.
Я уже еле терплю, но мне хочется выспросить у папы, про что это он, потому что странно писать в какой-то там горшок с розами и девицами. На Классон-авеню, где миссис Лейбовиц пела в уборной, а мы ждали в коридоре, держась за штанишки, ничего подобного не было.
Теперь и Мэйлахи хочет на горшок, но ему надо сесть. Папа говорит, что тогда пойдем на двор, и мне тоже начинает хотеться по большому. Папа ведет нас вниз и через большую комнату. Дедушка читает у огня, а бабушка дремлет в кресле. На улице ночь, но нам светит луна. Папа открывает дверь какого-то маленького домика, и там – сиденье с дыркой. Папа объясняет нам с Мэйлахи, как нужно сесть и как подтираться газетными обрывками, наколотыми на гвоздик. Потом велит нам подождать, закрывается в домике и кряхтит. Луна светит так ярко, что видно коров и овец на поле, – странно, почему они не уходят домой.
В комнате, где были только бабушка с дедушкой, прибавилось народу.
– Это ваши тетушки: Эмили, Нора, Мэгги и Вера, – говорит папа. – Еще есть тетя Ева, но она живет в Баллимене со своими детками, такими же как вы.
Тетушки не похожи на миссис Лейбовиц и Минни Макэдори – не обнимают нас и не улыбаются, только кивают.
В комнату заходит мама с близнецами, и папа говорит сестрам, что это Анджела и близнецы; тетушки снова кивают.
Бабушка уходит на кухню, и вскоре мы пьем чай с хлебом и сосисками. За столом говорит один Мэйлахи. Он показывает ложкой на тетушек и просит повторить, как их зовут. Мама велит ему есть молча. Глаза Мэйлахи наполняются слезами, и тогда тетя Нора гладит его по голове:
– Ну, будет, будет.
Интересно, почему все так говорят, когда Мэйлахи плачет, и что же все-таки «будет»?
Потом все долго молчат.
– Дела в Америке обстоят ужасно, – наконец произносит папа.
– Да уж, – соглашается бабушка. – Читала в газете. Но говорят, мистер Рузвельт – хороший человек, и кабы ты не уехал, то, может, уже с работой был бы.
Папа качает головой.
– Не знаю, что тебе делать, Мэйлахи. Тут еще хуже, чем в Америке. Работы нет, и, видит Бог, еще шестеро у нас не поместятся.
– На фермах работу поищу. И домик какой-нибудь маленький.
– А пока где жить собираетесь? – спрашивает бабушка. – И на что?
– Ну, пособие дадут, наверное.
– Думаешь, приплыли из Америки и сразу нате вам пособие? – замечает дедушка. – Его жди-пожди еще, а до тех пор что делать будешь?
Папа молчит, а мама смотрит в стену перед собой.
– Лучше вам в Свободное Государство[31] ехать, – предлагает бабушка. – Дублин – город большой, а на фермах в округе поболе работы будет.
– Тебе еще от ИРА деньги причитаются, – говорит дедушка. – Ты же свой долг перед страной исполнил, а в Дублине сейчас за это деньги раздают. Вот и поезжай, там помогут. Денег на автобус одолжим. Близнецы на коленях у вас посидят, за них платить не нужно.
– Ага, ладно, – соглашается папа, а мама так и смотрит перед собой, и глаза у нее мокрые от слез.
* * *
Мы поели и снова легли спать, а наутро все взрослые сидели с грустными лицами. Вскоре за нами приехала машина и отвезла нас обратно в лавку, где остался наш чемодан. Его подняли на крышу автобуса, и мы поехали дальше. Папа сказал, что в Дублин.
– А что такое Дублин? – спросил Мэйлахи.
Ему никто не ответил. Папа взял на колени Юджина, мама – Оливера. Папа смотрел на поля за окном и говорил мне, что вот тут Кухулин и любил гулять.
– А где же он угодил шаром в пасть псу?
– В нескольких милях отсюда, – ответил папа.
– Смотрите, смотрите! – закричал Мэйлахи.
За окном разлилась серебром огромная водная гладь, и папа сказал, что это Лох-Ней – самое большое озеро в Ирландии, то самое, в котором Кухулин купался после великих сражений. Разгорячившись в бою, он нырял в озеро, вода вскипала и била ключом, и во всех окрестных деревнях много дней стояла теплая погода. Когда-нибудь мы еще приедем сюда и будем купаться, как Кухулин, а потом наловим угрей и зажарим их на сковородке, хотя вот Кухулин их не жарил, а живьем ел, потому что они дают богатырскую силу.
– Правда, пап?
– Правда.
А мама не стала глядеть на Лох-Ней. Она сидела, прижавшись щекой к макушке Оливера, и смотрела в пол.
* * *
И вот мы въезжаем в город, где большие дома, много автомобилей, телег с лошадьми, велосипедистов и пешеходов.
– Папа, папа, где площадка, где качели? Я хочу к Фредди Лейбовицу! – радуется Мэйлахи.
– Ох, сынок, ты в Дублине, тут нет Классон-авеню. Мы же в Ирландии, далеко-далеко от Нью-Йорка.
Автобус останавливается, нам снимают чемодан с крыши. Папа предлагает маме подождать на лавочке, а он сходит к одному человеку из ИРА – тот в предместье Тереньюр живет. На вокзале туалеты есть, мальчиков сводить можно, а папа только за деньгами туда и обратно, придет – и поедим как следует. Он зовет меня с собой, но мама не отпускает, потому что я нужен ей здесь. А папа говорит, что я ему деньги помогу нести, целую кучу.
– Ладно, иди с папкой, – смеется мама.
«С папкой»… Значит, настроение у нее хорошее, было бы плохое, сказала бы «с отцом».
Я семеню рядом с папой, держась за его руку. Идет он быстро, до Тереньюра далеко, и я все жду, что он понесет меня, как тогда близнецов в Туме. Но папа шагает молча, только иногда спрашивает у кого-нибудь дорогу. Спустя некоторое время он объявляет, что мы пришли и теперь надо найти человека по имени Чарльз Хеггарти. Какой-то человек с розовой повязкой на глазу подтверждает, что это нужная нам улица, а Чарльз Хеггарти, будь он неладен, живет в доме четырнадцать.
– Что, поди за свободу боролись? – спрашивает папу человек с повязкой.
– Да, боролся.
– Я тоже, а толку? Глаза лишился, а на пенсию и канарейку не прокормишь.
– Главное, Ирландия свободна, – возражает папа. – И это великое дело.
– Ха, свободна, – ухмыляется человек. – При англичанах лучше было. Ладно, удачи вам, мистер, я уж догадываюсь, зачем вы пожаловали.
Дверь нам открывает какая-то женщина.
– Боюсь, мистер Хеггарти занят, – говорит она.
Папа объясняет ей, что он только что прошагал пол-Дублина с маленьким сыном, а жену с тремя остальными детьми оставил ждать на вокзале, и если мистер Хеггарти так уж занят, то мы на пороге сядем и будем сидеть.
Женщина уходит, через минутку возвращается, говорит, что у мистера Хеггарти нашлось немножко времени, и показывает, куда пройти.
Мистер Хеггарти сидит за столом у камина.
– Чем могу помочь? – спрашивает он.
Папа подходит к столу.
– Я только что вернулся из Америки с женой и четырьмя детьми. У нас нет средств. Я воевал в «Летучем отряде»[32], и надеюсь, что вы меня в беде не оставите.
Мистер Хеггарти листает толстую книгу, которая лежит у него на столе.
– Вас нет в списках, – качает он головой.
Папа произносит длинную речь. Рассказывает мистеру Хеггарти о том, как он сражался, где, когда, как ему помогли бежать из Ирландии, потому что за его голову был назначен выкуп, и как он учил сыновей любить Ирландию.
Мистер Хеггарти говорит, что сожалеет, но он не может выдавать деньги каждому, кто приходит сюда и утверждает, что исполнил свой долг перед родиной.
– Запомни, Фрэнсис, – говорит папа. – Вот она, новая Ирландия. Жалкие людишки с жалкими бумажонками. Не за такую Ирландию люди кровь проливали.
Мистер Хеггарти говорит, что рассмотрит папин запрос и обязательно сообщит, если что-то узнает, и что пока даст нам денег на автобус.
– Может, чуток прибавите? Тогда на кружечку хватит, – говорит папа, глядя на монеты на ладони мистера Хеггарти.
– Так вам, главное, напиться что ли?
– Ну, одной-то кружечкой разве напьешься.
– И вы назад пойдете пешком и ребенка за собой потащите, потому что пинта вам важнее?
– Ходьба еще никому не вредила.
– Вон из моего дома! – заявляет мистер Хеггарти. – Не то полицию вызову, и уж не сомневайтесь, делом вашим я заниматься не стану. Семейству Гиннесс мы деньги жертвовать не намерены.
На улицы Дублина опускается ночь. Дети хохочут, играя в свете уличных фонарей, матери зовут их домой ужинать, отовсюду пахнет чем-то вкусным, в окна видно, что люди сидят за столами и едят. Я устал и голоден и хочу к папе на ручки, но у него лицо как каменное. Он держит меня за руку, и я почти бегу за ним до самого вокзала.
Мама и три моих братика спят на лавочке. Папа говорит маме, что денег нет.
– Господи, что же нам делать? – всхлипывает мама, качая головой.
К нам подходит какой-то человек в синей униформе.
– Что случилось, миссус?
Папа говорит ему, что нам некуда податься, денег у нас нет и переночевать негде, а дети голодные. Человек говорит, что как раз сдает дежурство, ему так и так идти в участок отмечаться, а там придумают что-нибудь. Еще говорит, что он – гард: так именуются полицейские в Ирландии, и спрашивает, как называют полицейских в Америке.
– Копы, – отвечает Мэйлахи.
– Какой смышленый маленький янки, – говорит гард и гладит его по голове.
В участке сержант сообщает нам, что переночевать можно в бараке, но, к сожалению, спать придется на полу. Сегодня четверг, и все камеры забиты мужчинами, которые пропили пособие по безработице и ни в какую не хотели уходить из пабов.
Гард приносит нам горячий сладкий чай и толстые ломти хлеба с маслом и вареньем, и мы довольные носимся по всему участку. Гарды называют нас славной бандой и малышами-янки и говорят, что заберут нас к себе домой.
– Нет! – протестую я.
– Нет! – повторяет Мэйлахи.
– Нет-нет! – пищат близнецы.
Гарды хохочут. Заключенные тянут руки сквозь решетку, гладят нас по головам. От них пахнет как от папы, когда он приходит домой, распевая про Кевина Барри и Родди Маккорли.
– Надо же, языкастые какие! – восхищаются заключенные. – Ну чисто кинозвезды. Откуда ж вы к нам такие пожаловали?
Женщины из камер в другом конце коридора кричат, что Мэйлахи – красавчик, а близняшки просто лапочки!
– Поди сюда, милок, конфетку хочешь? – обращается ко мне какая-то тетя.
Я киваю, и она продолжает:
– Вот и славно, ручку давай. – Она вынимает что-то изо рта и сует мне в руку.
– Вот тебе ириска, вкусненькая. Ну же, клади в рот скорее.
Я не хочу ириску, потому что она липкая и облизанная, но я не знаю, как себя вести, когда заключенная дает тебе ириску, и уже собираюсь положить ее в рот, но ко мне подходит гард, забирает ириску и швыряет ее обратно тете.
– Шлюха пьяная, – говорит он. – К ребенку бы хоть не лезла!
Женщины смеются.
Сержант дает маме одеяло, и она засыпает, вытянувшись на лавке. Мы все ложимся на пол. Папа сидит у стены и не спит – глаза у него блестят из-под козырька кепки; гарды угощают его сигаретами, и он закуривает. Оказывается, гард, который швырнул ириску, сам родом из Баллимены на Севере, и они с папой вспоминают общих знакомых оттуда, и еще из Кушендалла и Тума. Гард говорит, что когда выйдет на пенсию, поселится на берегу Лох-Ней и тогда уж порыбачит вдоволь.
– Угорьков наловлю! – мечтает он. – Шибко они вкусные, жареные-то.
– Пап, этот дядя Кухулин? – спрашиваю я.
Гард хохочет так, что лицо у него становится совсем красным.
– Вы слыхали? Кухулин, надо же! Ну, малец. Хоть и янки, а Кухулина знает!
– Нет, дядя не Кухулин, – говорит папа. – Просто хороший человек, который когда-нибудь поселится на берегу Лох-Ней и будет рыбачить сколько захочет, – говорит папа.
* * *
– Фрэнсис, вставай! – тормошит меня папа. – Пора!
В бараках шумно. Какой-то парень моет пол и поет:
- Всем понятно, почему
- Дорог мне твой поцелуй.
- Все поверить не могу,
- Что и я любим тобой.
Я говорю ему, что нельзя петь эту песню, потому что она мамина, но он молча попыхивает сигаретой и уходит, а я сижу и удивляюсь: как это люди смеют петь чужие песни?! Заключенные, ворча и позевывая, выходят из камер.
– Ты уж прости меня, малыш, за шутку, – говорит мне тетя с ириской. – Перебрала я вчера малость.
– Шевелись, давай, шлюха старая, не то опять за решетку упеку, – грозит ей гард.
– Ну и упекай, синезадый, – кричит она. – Как сяду, так и выйду.
Мама сидит на лавке, закутавшись в одеяло.
Какая-то седая женщина приносит ей чашку чая.
– Я – жена сержанта, – представляется она. – Муж сказал, помочь вам надо. Яичко всмятку желаете, а, миссус?
Мама качает головой.
– Ну же, ну же, миссус, в вашем-то положении надо яичко скушать.
Но мама снова качает головой, я не понимаю, как можно отказываться от яичка всмятку, ведь на свете ничего вкуснее нет!
– Ладно, мэм, – говорит сержантова жена. – Я тогда вам гренок принесу и что-нибудь детям и вашему бедному мужу.
Она уходит в другую комнату и приносит чай и хлеб. Папа пьет чай, а хлеб отдает нам.
– Да ешь ты уже свой хлеб, ради бога, – ругает его мама. – Свалишься с голоду, какой от тебя толк тогда?
Папа качает головой и говорит сержантовой жене, что ему бы лучше сигаретку. Та приносит сигарету и сообщает маме, что гарды собрали денег нам на билет и что машина отвезет нас с чемоданом на вокзал Кингсбридж, а там каких-то три-четыре часа – и мы в Лимерике.
Мама обнимает ее и благодарит:
– Храни Господь вас и мужа вашего, и всех гардов. Не знаю, что бы мы без вас делали. Вот что значит среди своих быть.
– Что вы, это сущая мелочь, – улыбается сержантова жена. – Ребятки у вас славные такие, а я сама из Корка, знаю, что значит оказаться в Дублине без гроша.
Папа сидит на другом конце лавки, пьет чай и курит. Потом приезжает автомобиль и везет нас по улицам Дублина. Папа спрашивает водителя, нельзя ли заехать на главный почтамт.
– Марку что ль хотите? – спрашивает водитель.
– Нет, – отвечает папа. – Говорят, там статую Кухулина поставили в память о тех, кто погиб в тысяча девятьсот шестнадцатом. Вот, сыну старшему хочу показать – уж очень он Кухулина любит.
Водитель говорит, что знать не знает, кто такой Кухулин, но он и сам не прочь посмотреть, что там за диво такое – с детства не главпочтамте не был, а англичане чуть не разнесли его по камушку, когда палили с того берега Лиффи[33].
– По всему фасаду дыры от пуль, – добавляет водитель. – Так и надо оставить, чтоб ирландцы не забывали про вероломство англичан.
Я спрашиваю его, что такое вероломство, но он говорит, мол, папу спроси, и я собираюсь спросить, но тут мы подъезжаем к большому дому с колоннами. Это и есть главпочтамт.
Мама остается в машине, а мы идем за водителем на главпочтамт.
– Вот твой Кухулин, – говорит он мне, когда мы заходим внутрь.
К глазам моим подступают слезы – наконец-то я вижу самого Кухулина. Он тут, стоит на пьедестале, весь золотой. Волосы у него длинные, голова опущена, а на плече сидит большая птица.
– Ну и что это такое, скажите на милость? – возмущается водитель. – Какой-то кудлатый парень, да еще и с птицей на плече. И при чем тут герои тысяча девятьсот шестнадцатого года?
– Кухулин сражался до конца, как и повстанцы на Красную Пасху, – отвечает папа. – Враги долго не решались к нему подойти, и только когда птица стала пить его кровь, им стало ясно, что он мертв.
– Беда ирландцам, коли без птицы не разберут, помер человек или нет, – хмыкает водитель. – Пойдемте-ка, а то на поезд опоздаете.
* * *
Сержантова жена обещала послать телеграмму бабушке в Лимерик, и вот наша бабушка пришла нас встречать на вокзал – у нее седые волосы, черная шаль и мрачный взгляд, и она даже ни разу не улыбнулась ни маме, ни нам, ни даже Мэйлахи, у которого ангельская улыбка и ровные белые зубки.
– Это Мэйлахи, – указала мама на папу.
Бабушка кивнула и отвернулась. Потом позвала двух мальчишек, которые ошивались около вокзала, и дала им по монетке, чтоб несли чемодан. Мальчишки с бритыми головами и хлюпающими носами шлепали босиком по улицам Лимерика, а мы шли вслед за ними. Я спросил маму, почему мальчики лысые, и она ответила, что так вшам негде прятаться.
– А кто такая вша? – поинтересовался Мэйлахи.
– Не вша, а вошь, – поправила его мама.
– А ну, перестаньте! – рассердилась бабушка. – Нашли о чем болтать.
Мальчишки семенили впереди, насвистывая и смеясь, будто им нипочем, что они босые.
– Хватит смеяться! – прикрикнула на них бабушка. – А то чемодан уроните да сломаете.
Мальчишки замолчали, потом свернули в какой-то парк, где на высокой колонне стояла статуя, а трава была такая зеленая, что глазам больно.
Папа нес близнецов, а мама в одной руке несла сумку, а другой держала за руку Мэйлахи, и то и дело останавливалась, чтобы перевести дух.
– Все куришь? – проворчала бабушка. – Гляди, помрешь раньше времени. В Лимерике и так чахотка, куда уж курить-то еще. Придурь это все богатейская.
Вдоль дорожки пестрели россыпи цветов. Увидев их, близнецы запищали от восторга. Мы все засмеялись, только бабушка молчала и еще плотнее куталась в шаль. Папа опустил близнецов на землю, чтобы они полюбовались цветочками.
– Это цветы, – сказал он, и близнецы принялись носиться взад-вперед, пытаясь выговорить слово «цветы».
– Они что, американцы? – удивился один из мальчишек.
– Да, – ответила мама. – В Нью-Йорке родились. Все мои мальчики там родились.
– Взаправду американцы, – сказал мальчишка своему товарищу.
Они поставили чемодан на землю и уставились на нас, а мы – на них.
– Будете весь день тут стоять и пялиться на цветочки и друг на друга? – рассердилась бабушка.
Мы вышли из парка на узкую улочку, а потом перешли на другую, которая вела к бабушкиному дому.
На каждой стороне улочки ряд маленьких домов, один из них бабушкин. На кухне черная блестящая печка, в ней горит огонь. У окна стол, напротив – буфет с чашками, блюдцами и вазами. Буфет заперт, а ключ от него бабушка хранит в кошельке и никому не дает, потому что посуду оттуда достают только, если кто-то умер или вернулся из-за границы, или когда священник приходит.
Над печкой висит картина, на ней изображен человек с длинными каштановыми волосами и грустными глазами. Он указывает себе на грудь, в которой «полыхает» большое сердце.
– Это Святейшее Сердце Иисуса, – говорит мама.
Я интересуюсь, почему у этого человека горит сердце и он не плеснет на него водой?
– Эти дети что, совсем ничего о своей вере не знают? – удивляется бабушка.
– В Америке все по-другому, – отвечает мама.
– Святейшее Сердце везде есть, так что это не оправдание невежеству, – ворчит бабушка.
Под картиной человека с горящим сердцем, на полочке, стоит красный стаканчик, в котором мерцает свечка, а рядом – маленькая восковая куколка.
– Это Пражский Младенец Иисус, – поясняет ма-ма. – Молитесь ему, когда вам что-то нужно.
– Мам, а можно ему сказать, что я очень есть хочу? – спрашивает Мэйлахи, но мама прижимает палец к губам.
Бабушка с ворчанием ходит по кухне, заваривает чай и велит маме нарезать хлеб, да чтоб не толсто. Мама сидит у стола, тяжело дыша, и говорит, что сейчас, только отдохнет минутку. Папа берет нож и начинает резать хлеб, а бабушке это явно не нравится. Она хмурится, но молчит, хоть куски и выходят толстые.
Стульев всем не хватает – мы с братьями устраиваемся на крыльце, пьем чай и едим хлеб. Мама с папой сидят за столом, а бабушка с кружкой чая сидит под Святейшим Сердцем.
– Бог свидетель, не знаю я, куда вас всех девать. В доме и одному-то места нет, а тут ишь сколько.
– Ишь-ишь, – хихикает Мэйлахи.
И я тоже говорю:
– Ишь-ишь.
Близнецы повторяют за мной, и мы все смеемся так, что чуть не давимся хлебом.
– Ишь чего, смеются они, – зыркает на нас бабушка. – Что в этом доме смешного?! Ишь разбаловались, вот я вам сейчас!
Когда она снова говорит «ишь», Мэйлахи так заходится смехом, что хлеб и чай летят у него изо рта во все стороны, а лицо становится совсем красным.
– Мэйлахи, а ну угомонись, и вы все тоже! – велит папа.
Но Мэйлахи никак не успокаивается.
– Поди-ка сюда, – велит папа. Потом закатывает рукав у Мэйлахи и замахивается ударить его по руке.
– Будешь вести себя как следует?
Глаза Мэйлахи наполняются слезами, и он кивает, потому что папа никогда раньше не замахивался.
– Вот и ладно, иди к братьям и посидите спокойно. – Папа опускает рукав Мэйлахи и гладит его по голове.
* * *
Вечером мамина сестра, тетя Эгги, пришла с работы – со швейной фабрики. Тетя Эгги такая же толстая, как тетушки Макнамара, а волосы у нее огненно-рыжие. Пристроив большой велосипед в комнатушке за кухней, она села ужинать. Тетя Эгги тоже жила у бабушки, потому что поссорилась с мужем, Па Китингом, который спьяну сказал ей, что она жирная корова и пусть уходит жить к своей мамаше. Это бабушка маме рассказала. И теперь места в доме совсем не осталось, потому что, кроме бабушки, тут живут тетя Эгги и сын бабушки, мой дядя Пэт, который ушел в город газеты продавать.
Тетя Эгги разворчалась, услышав от бабушки, что ей сегодня придется спать вместе с мамой.
– Закрой глотку-то, – велела бабушка. – Одну ночь потерпишь, а не нравится – шагай к мужу, там твое место. Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом, ну что за дом! Ты, Пэт, а теперь еще и Анджела со своим американским выводком. И в старости никакого спокою нет.
Она постелила пальто и всякое тряпье на полу в комнатушке за кухней, и мы легли спать рядом с велосипедом. А папа так и просидел всю ночь на стуле, только сводил нас во двор, когда нам приспичило, да успокаивал близнецов, когда те заплакали от холода.
Утром тетя Эгги пришла к нам за велосипедом.
– А ну, подвиньсь! Кыш с дороги!
Она ушла, а Мэйлахи все повторял:
– Подвиньсь! Кыш с дороги!
Папа на кухне засмеялся, но потом пришла бабушка и он шикнул на Мэйлахи, чтоб тот перестал.
Днем бабушка с мамой отправились на поиски жилья и нашли меблированную комнату на Уиндмилл-стрит – на той же улице, где жила тетя Эгги со своим мужем, Па Китингом. Бабушка заплатила десять шиллингов за две недели вперед, дала маме денег на еду, одолжила нам чайник, кастрюльку, сковородку, ножи и ложки, банки из-под варенья вместо кружек, одеяло и подушку.
Она сказала, что больше ничего нам дать не может и пусть папа оторвет свой зад от стула и ищет работу или идет за пособием по безработице, или в Общество Святого Викентия де Поля.
В комнате был камин, где можно вскипятить воду или сварить яйцо, если мы разживемся деньгами. Еще нам достались стол, три стула и кровать – мама сказала, что никогда такой большой не видела. Здорово, что наконец-то можно спать на кровати, а то мы везде спали на полу: и в Дублине, и у бабушки. Ничего, что у нас одна кровать на шестерых, главное, что мы теперь сами по себе, а не у бабушек и не у гардов. Можно сколько угодно говорить «ишь, ишь» и смеяться.
Мама с папой легли ближе к изголовью кровати, мы с Мэйлахи – в ногах, а близнецы пристроились там, где нашли место. Мэйлахи снова смешил нас тем, что говорил то «ишь-ишь», то «ой-ой». Потом он уснул. Мама тоже тоненько засопела. В лунном свете мне было видно, что папа на том конце кровати не спал, так что, когда Оливер заплакал во сне, он стал его успокаивать.
Потом Юджин вскочил и принялся чесаться.
– Ай-ай, мамочка, мамочка! – кричал он.
– Что, что, сынок? – поднялся папа.
Юджин все ревел, тогда папа вскочил с постели, включил газовую лампу, и мы увидели кучу блох. Они прыгали по нам и впивались в кожу. Мы принялись их хлопать, но они перескакивали с одного на другого и снова больно кусались. Мы расчесали укусы до крови. Все повскакивали с постели, близнецы плакали, мама причитала:
– Боже мой, да неужели нам нигде покоя не будет!
Папа налил в банку воды, размешал в ней соль и смазал укусы. Соленая вода жглась, но папа сказал, что скоро все пройдет.
Мама села у камина и взяла близнецов к себе на колени. Папа натянул штаны, стащил с кровати матрас и выволок его на улицу. Потом налил воды в чайник и в кастрюлю, прислонил матрас к стене и принялся колотить по нему ботинком, а мне велел лить воду на землю, чтобы блохи сразу тонули. Над Лимериком ярко светила луна, ее отражение дрожало в воде, и мне хотелось его поймать, но много тут наловишь, когда у тебя по ногам скачут блохи. Папа бил ботинком по матрасу, а мне приходилось то и дело бегать на задний двор и наполнять чайник и кастрюлю водой из крана.
– Посмотри на себя, – причитала мама каждый раз, когда я пробегал по дому. – Ботинки насквозь промочил, замерзнешь же до смерти, а отец твой, как пить дать, свалится с воспалением легких – босой ведь стоит.
К нам подкатил на велосипеде какой-то человек и спросил папу, зачем ему понадобилось ночью выбивать матрас.
– Матерь Божья! – удивился он. – Никогда не слышал, чтоб так блох выгоняли. А известно ли вам, что если бы человек мог прыгать, как блоха, то одним прыжком преодолел бы половину расстояния до Луны? Вы лучше знаете что сделайте? Переверните матрас на кровати, эти мелкие твари запутаются, где верх, где низ и покусают матрас или друг друга, а до вас не доберутся. А то стоит блохе человека куснуть, как она звереет сразу, а когда вокруг еще другие блохи, то все вместе они от запаха человеческой крови совсем дурные делаются. С блохами жить – сущее мучение, уж я-то знаю – в Айриштауне[34] вырос, там блох целые полчища водились, да наглые какие! Бывало сядут тебе на башмак и ведут беседу о тяжелой судьбе ирландского народа.
Говорят, в древней Ирландии блох не было – это англичане их сюда завезли, чтоб уж окончательно нас допечь. С них станется. И вот что любопытно: святой Патрик изгнал из Ирландии змей, зато англичане завезли блох. Столько веков в Ирландии царили тишь да благодать: ни единой змеи или блохи. Весь изумрудный остров вдоль и поперек исходить можно и по ночам спать спокойно. Хотя от змей особой беды-то и не было: они человека не трогали, ежели он сам к ним не лез, а промышляли живностью всякой, что по кустам да в траве прячется, а вот блохи, те готовы человечью кровь сосать с утра до ночи, ну, не могут они без этого, такими уж уродились. Я слыхал, что там, где змей много, блох вовсе нет. В Аризоне, к примеру. И вот все твердят: «Аризонские змеи, аризонские змеи». А про блох тамошних разве кто слышал? Ну ладно, удачи вам. Я тут встал, не подумавши, а вдруг какая-нибудь блошка на меня перепрыгнет и всех родичей с собой позовет. Блохи же плодятся быстрей, чем индусы.
– Сигаретки у вас не найдется? – спросил папа.
– А как же, найдется, конечно. Вот вам, пожалуйста. Я себе этими сигаретами здоровье почти загубил. Кашель чертов мучает. Да сильный такой, чуть с велосипеда не слетаю. Сначала защекочет где-то в солнечном сплетении, потом подымается все выше и выше и как шибанет в голову. – Он чиркает спичкой о коробок, зажигает сигарету и протягивает спички папе. – Но вообще, чтоб жить в Лимерике – и не кашлять, такого не бывает. Это же столица слабых легких, а если легкие слабые, то и до чахотки недалеко. Если бы все чахоточные Лимерика разом померли, тут бы город призраков образовался. У меня-то не чахотка, меня кашлем немцы наградили. – Он помолчал, затянулся сигаретой и тут же закашлялся. – Черт их раздери, эти сигареты, простите уж, что выражаюсь, доконают они меня когда-нибудь. Ну, ладно, занимайтесь дальше матрасом, да не забудьте, что я сказал: сбейте с толку этих тварей.
И он покатил дальше на вихляющемся велосипеде, попыхивая сигаретой и сотрясаясь от кашля.
– До чего болтливый народ в Лимерике, – заметил папа. – Ладно, вернем матрас на место и попробуем уснуть.
Мама сидит у огня, близнецы спят у нее на коленях, а Мэйлахи – свернувшись калачиком на полу у ее ног.
– С кем это вы говорили? Не с Эггиным ли мужем, Па Китингом? Уж больно похож, тоже кашляет сильно. Он на войне во Франции газу наглотался.
Остаток ночи мы спали, а утром стало ясно, что блохи знатно попировали – мы сплошь были в ярко-розовых укусах и красных расчесах.
Мама заварила чай и поджарила хлеб, а папа снова намазал нас соленой водой. Потом вынес матрас во двор. В такой холод блохи уж точно перемерзнут, и ночью мы наконец выспимся.
Спустя несколько дней, когда мы уже пообжились в комнате, папа тормошит меня посреди ночи.
– Проснись, Фрэнсис. Одевайся и бегом к тете Эгги. Маме нужно. Живей.
Мама лежит в постели и стонет. Лицо у нее совсем белое. Папа будит Мэйлахи и близнецов и усаживает их на пол около потухшего камина. Я перебегаю дорогу, стучусь в дверь к тете Эгги, и наконец ко мне выходит дядя Па Китинг, ворча и кашляя.
– Что такое? Что случилось?
– Мама заболела. Лежит и стонет.
– Свалились нам на голову из своей Америки, так теперь покою нет никакого, – ворчит тетя Эгги, выходя на порог.
– Эгги, ребенок-то чем провинился? Просто делает, что ему велели.
Тетя Эгги говорит, чтобы дядюшка Па шел спать, а то ему на работу рано утром, не то, что некоторым с Севера.
– Нет-нет, я тоже пойду, – возражает он. – Анджеле плохо.
Папа велит мне сесть на пол к братьям. Я не понимаю, что с мамой. Взрослые только шепчутся, но мне удается расслышать, как тетя Эгги говорит дяде Па, что, мол, ребенка потеряла, беги за неотложкой, и дядя Па тут же исчезает за дверью.
– Чего-чего, а неотложка у нас тут быстро приезжает, – обращается тетя Эгги к маме.
С папой тетя Эгги вообще не разговаривает, даже не смотрит на него.
– Пап, мамочка заболела? – спрашивает Мэйлахи.
– Она поправится, сынок. Ей просто надо к врачу.
Я не понимаю, какого ребенка она потеряла? Вот же мы: один, два, три, четыре – все в сборе, и почему мне не говорят, что с мамой? Тут возвращается дядя Па, потом почти сразу приезжает неотложка. К нам заходит какой-то человек с носилками, маму уносят, а на полу около кровати остаются пятна крови. Когда Мэйлахи прикусил язык, у него тоже была кровь, и у песика на улице была кровь, а он умер. Я хочу спросить папу: неужели маму тоже заберут навсегда, как нашу сестричку Маргарет? Но папа уезжает с мамой, а тетю Эгги спрашивать без толку, она рассердится и голову оторвет. Вытерев кровь с пола, она велит нам лечь и ждать, пока папа не вернется.
Уже середина ночи, вчетвером в кровати тепло, мы засыпаем и просыпаемся только, когда папа приходит домой и сообщает, что у мамы все хорошо, она полечится и скоро вернется домой.
Через несколько дней папа идет на биржу за пособием по безработице. Тому, у кого северный акцент, нечего и надеяться работу в Лимерике найти.
Он приходит и сообщает маме, что мы будем получать девянадцать шиллингов в неделю. Мама ахает, что этого едва хватит, чтобы с голоду не помереть. Девятнадцать шиллингов на шестерых? Да это меньше четырех долларов в американских-то деньгах, и как на это жить? А за жилье чем платить через две недели? Комната стоит пять шиллингов в неделю, остается четырнадцать шиллингов и на еду, и на одежду, и на уголь, чтоб воду для чая кипятить.
Папа качает головой. Он прихлебывает чай из стеклянной банки, глядит в окно и насвистывает «Вексфордских парней»[35]. Мэйлахи и Оливер хлопают в ладоши и пляшут, а папа не знает, то ли свистеть, то ли улыбаться – нельзя же делать одновременно то и другое. Тогда он замолкает, гладит Оливера по голове и снова принимается насвистывать.
Мама тоже улыбается, но едва заметно. Она сидит и смотрит на пепел в камине, а в опущенных уголках ее губ затаилось беспокойство.
На следующий день она оставляет папу с близнецами, а меня и Мэйлахи берет с собой в Общество Святого Викентия де Поля. Мы встаем в очередь за женщинами в черных шалях. Они спрашивают, как нас зовут, и улыбаются, когда мы отвечаем.
– Вы только послушайте их! Это же маленькие янки! – удивляются они и спрашивают маму, чего это она в американском пальто пришла за пособием – в Лимерике и так бедняков хватает, а тут еще янки заявились последний кусок хлеба отнимать.
Мама отвечает, что пальто ей подарила кузина из Бруклина и что муж сидит без работы, а дома еще двое детей – мальчики-близнецы. Женщины шмыгают носами и кутаются в шали – у них и своих бед предостаточно. Мама рассказывает, что просто не могла оставаться в Америке после смерти дочки. Женщины снова шмыгают носами, теперь уже потому, что мама плачет. Некоторые признаются, что тоже потеряли своих малышей и что, мол, нет в мире ничего хуже – хоть до мафусаиловых лет доживи, а все равно никогда такого не забудешь. Ни один мужчина, доживи он хоть дважды до мафусаиловых лет, не поймет, каково матери терять ребенка.
Очередь плачет, а какая-то рыжеволосая женщина пускает по кругу коробочку. Все что-то берут оттуда пальцами и суют себе в нос. Одна молодая тетенька чихает.
– Что, Бидди, крепковат табачок? – смеется рыжеволосая. – Подите сюда, маленькие янки, возьмите понюшку. – Она сует нам в ноздри какой-то бурый порошок, и мы так чихаем, что женщины плачут уже от смеха, утирая слезы шалями.
– Ничего, это полезно, – говорит нам мама. – Мозги хоть прочистит.
– Славные у вас детишки, – говорит маме тетя по имени Бидди. Потом показывает на Мэйлахи: – Ну разве не прелесть этот паренек с золотыми кудряшками?! Ему бы в кино сниматься с самой Ширли Темпл[36].
В ответ Мэйлахи улыбается, и очередь окончательно теплеет.
– Миссус, вы уж извините, что лезу, но мы тут услышали про вашу потерю, так что, думаю, вам лучше присесть, – говорит маме женщина с коробочкой.
– Нет-нет, не надо, им это не понравится, – обеспокоенно замечает другая.
– Кому им?
– Ну как же, Нора Моллой, господам из Общества, конечно. Им надо, чтоб мы уважительно у стеночки стояли, а не рассиживались тут.
– А ну их к черту, – говорит рыжеволосая Нора. – Садитесь, миссус, вон туда, на ступеньку, а я рядом присяду, а если господа из Общества хоть что-то вякнут, я им тут устрою, уж поверьте. Вы курите?
– Да, – отвечает мама. – Только сигарет нет.
Нора достает сигарету из кармана фартука, разламывает ее и протягивает половинку маме.
– И это им тоже не понравится, – говорит женщина с обеспокоенным лицом. – Они говорят, курить – все равно, что хлеб у своего ребенка отнимать. Мистер Куинливан особенно против. Говорит, если на сигареты деньги есть, то и не еду найдете.
– И Куинливана к чертям. Скотина старая, последней радости нас лишить удумал.
В конце коридора открывается дверь, и оттуда выходит какой-то человек.
– Кому тут детские ботинки?
– Мне, мне! – Женщины одна за другой поднимают руки.
– Кончились ботинки. В следующем месяце приходите.
– Но моему Мики в школу не в чем ходить!
– Нету, я сказал.
– Но холод ведь какой, мистер Куинливан.
– Ботинок нет. Ничего не могу поделать. А это еще что такое? Кто курит?
– Ну, я, – машет сигаретой Нора. – Причем с превеликим удовольствием.
– Курить – это все равно, что… – начинает мистер Куинливан.
– Да-да, – усмехается Нора. – Все равно, что хлеб у своих детей отнимать.
– Наглость какая! Смотрите, не получите от нас никакой помощи.
– Что, правда, что ль?! Что ж, мистер Куинливан. Не вы – так другие помогут.
– Кто это еще?
– Да квакеры[37].
– За тарелку супа продадитесь? – подступает к Норе мистер Куинливан, тыча в нее пальцем. – Так вот, значит, кто среди нас завелся! Супник! Во времена Великого голода тоже такие были. Протестанты ходили по домам и обещали добрым католикам, что если те отрекутся от своей веры и станут протестантами, то их накормят супом до отвала. И, Господи помоги нам, нашлись те, кто выбрал суп, и прозвали их за это супники-отступники. Они погубили свои бессмертные души и обрекли себя на вечные страдания в самых глубинах адского пекла. И если вы, дамочка, пойдете к квакерам, то тоже погубите свою душу и души детей своих.
– Так спасите же нас, мистер Куинливан, это же ваш долг.
Они стоят, уставившись друг на друга. Потом Куинливан переводит взгляд на очередь. Одна из женщин закрывает рот рукой, чтобы не прыснуть со смеху.
– Чего хихикаем? – рявкает мистер Куинливан.
– Ничего, мистер Куинливан, видит Бог, ничего.
– Еще раз говорю, нет ботинок, – объявляет мистер Куинливан и захлопывает за собой дверь.
Женщин по очереди вызывают в кабинет. Нора выходит, улыбаясь и помахивая какой-то бумажкой.
– Ботинки, – поясняет она. – Три пары детишкам моим. Стоит этим господам пригрозить квакерами, так они эти талоны хоть из-под земли, но достанут.
Вызывают маму, и она берет нас с Мэйлахи с собой. Мы стоим перед столом, за которым сидят трое мужчин и задают вопросы. Мистер Куинливан начинает что-то говорить, но господин посередине его обрывает:
– Довольно, Куинливан. Доверь вам это дело, так все нищие Лимерика к протестантам переметнутся.
Он спрашивает маму, откуда у нее такое добротное красное пальто, и мама рассказывает им то же, что и женщинам на улице, но когда доходит до смерти Маргарет, ее всю трясет от рыданий. Она извиняется за слезы, мол, прошло всего несколько месяцев и она еще не оправилась от потери и даже не знает, где похоронили малышку, если вообще похоронили, и окрестили ли ее, потому что сама-то она была слишком слаба – у нее четыре мальчика, и сил не было идти в церковь – а теперь вот сердце кровью обливается при мысли, что вдруг Маргарет навеки останется между раем и адом и никогда не встретится со своей семьей ни на небесах, ни в чистилище.
Мистер Куинливан отдает маме свой стул.
– Ну, что вы, сударыня. Садитесь, пожалуйста. Ну, что вы.
Остальные двое смотрят то на стол, то на потолок. Тот, что сидит посередине, обещает дать маме талон на недельный запас продуктов, который нужно будет отоварить в лавке Макграт, что на Парнелл-стрит. Там будут чай, сахар, мука, масло, а по другому купону на угольном складе на Док-роуд дадут мешок угля.
– Разумеется, каждую неделю вам так помогать не будут, миссус, – предупрежает третий. – Мы вас посетим, чтобы проверить, правда ли вы нуждаетесь. Без этого прошение не утвердят.
Мама вытирает слезы рукавом и берет талон.
– Храни вас Господь за вашу доброту, – благодарит она.
Члены комиссии кивают, смотрят на пол, на потолок, на стены и велят позвать следующую просительницу.
Женщины говорят маме, чтобы следила за весами в лавке, а то эта карга Макграт непременно надует. Она подсовывает под весы бумагу и когда взвешивает продукты, то тянет бумажку к себе, так что ладно, если хотя бы половину положенного отвесит. А у самой-то по всей лавке образа Девы Марии и Святейшего Сердца, а в часовне Святого Иосифа, как ни посмотришь, она все на коленях, да с четками и дышит так, будто ее истязают, как деву-мученицу, фу, курва старая.
– Пойду-ка я с вами, миссус, – предлагает Нора. – Уж я-то старухины проделки знаю, не дам вас обдурить.
Она ведет нас в лавку на Парнелл-стрит. Увидев маму в американском пальто, лавочница сначала ведет себя очень любезно, но когда мама протягивает ей талон от Общества Святого Викентия, ворчит, что мама не в то время пришла и что по талонам она обслуживает после шести вечера, но на первый раз, так уж и быть, сделает исключение.
– У вас тоже талон? – обращается она к Норе.
– Ах нет, я просто помогаю этой бедной семье отоварить талон в первый раз.
Продавщица стелет кусок газеты на весы и насыпает на него муку из большого куля. Потом говорит:
– Вот вам фунт муки.
– Ой, вряд ли, – говорит Нора. – Маловато как-то для фунта.
– В чем это вы меня обвиняете? – негодующе сверкает глазами лавочница.
– Ах, ни в чем, миссис Макграт, – говорит Нора. – Просто вы случайно придавили бедром газету и не заметили, что она немного съехала с весов. А так, что вы, Господи боже мой! Обвинять в чем-то вас, женщину, которая так усердно молится Деве Марии, что служит всем нам примером?! Ой, вон там на полу не ваши денежки лежат?
Миссис Макграт отсупает от весов, стрелка на них дергается.
– Какие денежки? – недоуменно спрашивает она, потом глядит на Нору и догадывается, что та сделала это нарочно.
– А, не денежки, просто тень так легла. – Нора с улыбкой глядит на весы: – Да, точно, ошибочка вышла, едва ли с полфунта.
– Замучилась я уже с этими весами, – ворчит миссис Макграт.
– Представляю, – отвечает Нора.
– Но совесть моя чиста перед Богом, – продолжает миссис Макграт.
– Конечно, чиста! – восклицает Нора. – И все в Обществе Святого Викентия и в Легионе Марии[38] вами просто восхищаются.
– Стараюсь быть доброй католичкой.
– Видит Бог, вам и стараться не надо, такое уж у вас само по себе сердце доброе. Мальчишек вот конфетками не угостите?
– Ну, я не миллионерша, но вот, держите.
– Да хранит вас Господь, миссис Макграт, уж я знаю, что слишком многого прошу, но может, найдется у вас парочка сигарет?
– Ну, по талону сигарет не положено. Роскошь всякую я тут не выдаю.
– Ну же, не откажите, миссус, а я уж господам из Общества непременно напомню о вашей доброте.
– Ну ладно, ладно, – говорит миссис Макграт. – Вот вам сигареты. Но это в первый и последний раз.
– Благослови вас Господь, – благодарит Нора. – Сожалею, что с весами помучиться пришлось.
* * *
По дороге домой мы сворачиваем в Народный парк и садимся на скамейку. Мэйлахи и я сосем леденцы, а мама с Норой курят. Нора тут же закашливается и говорит, что курево ее доконает, чахотка – это у них в семье наследственное и никто еще до почтенного возраста не дожил, хотя в Лимерике и не захочешь до него дожить. Тут, мол, вообще седых почти нет – все или на кладбище, или по другую сторону Атлантики: на железной дороге работают да в полицейской форме разгуливают.
– Счастливая вы, миссус, хоть мир повидали. Я бы все отдала, чтоб увидеть Нью-Йорк и то, как там народ по Бродвею прохаживается, забот не зная. Так нет же, угораздило меня в смазливого пьяницу влюбиться. Питер Моллой, наш пивной чемпион, обрюхатил меня и повел к алтарю, а мне едва семнадцать исполнилось. Ох и глупая я была, миссус. Да мы тут все в Лимерике выросли, ничегошеньки не зная, вот и результат: не женщина еще, а уже мать. Здесь ведь что? Дождь сплошной, да бабки старые Богу молятся. Я б все зубы отдала, лишь бы выбраться отсюда: в Америку уехать или хоть в Англию. Чемпион-то мой всю жизнь на пособии, да и его порой пропивает, и тогда я с ума схожу и меня в лечебницу увозят. – Нора снова затягивается и сотрясается от кашля всем телом, приговаривая:
– Ой, Божечки, Божечки.
Когда кашель отступает, она говорит, что ей домой пора, лекарство принимать.
– На следующей неделе опять в Обществе увидимся. Если вам чего понадобится, пошлите за мной на Вайз-филд. Там любой покажет, где жена Питера Моллоя, пивного чемпиона.
* * *
Юджин спит на кровати, укрытый пальто; а папа с Оливером на коленях сидит у камина. И почему это он рассказывает Оливеру про Кухулина? Это же моя сказка! Но у Оливера такой вид, что мне не хочется обижаться. Щеки у него горят; он неотрывно смотрит на потухшие угольки в камине, и, Кухулин его, похоже, совсем не занимает.
– Кажется, у него жар, – говорит мама, прикладывая руку ко лбу Оливера. – Жалко лука нет, я бы отвар на молоке с перцем сделала. Хорошо помогает. Вот только молоко не вскипятишь. Угля нет.
Она дает папе талон на уголь с Док-роуд. Папа берет меня с собой, но уже темно и все угольные склады закрыты.
– Что же нам делать, папа?
– Не знаю, сынок.
Перед нами женщины в шалях и ребятишки собирают уголь по обочинам.
– Папа, папа, вон уголь!
– Нет, сынок. Мы не будем с дороги собирать, как нищие какие-нибудь.
Папа говорит маме, что склады закрыты и нам придется поужинать хлебом с молоком, но я рассказываю про женщин на дороге, и мама вручает Юджина папе.
– Стыдно ему, видите ли, угля насобирать. Сама пойду.
Она берет кошелку и зовет нас с Мэйлахи с собой. За Док-роуд блестит огоньками что-то темное и большое.
– Это река Шаннон, – говорит мама. – Больше всего я по ней скучала в Америке. Гудзон тоже ничего, но Шаннон поет.
Я не слышу никакой песни, но мама слушает и чему-то радуется. На Док-роуд уже никого нет, только мы идем и высматриваем куски угля, упавшие с машин. Мама велит нам собирать все, что горит: уголь, деревяшки, картон, бумагу.
– Еще, бывает, конским навозом топят, – говорит она. – Но уж до такого мы не опустимся.
Кошелка почти полная, и мама говорит, что теперь надо найти лук для Оливера.
– Я найду, – обещает Мэйлахи, но мама объясняет, что лук бывает не на улице, а в лавке.
– Вон лавка! – радостно вопит Мэйлахи и забегает внутрь.
– Лук, лук для Оливера! – кричит он продавщице.
Мама спешит за ним и извиняется.
– Какой милый ребенок! – улыбается продавщица. – Он что, американец?
Мама говорит, что да. Женщина снова улыбается. У нее во рту всего два зуба: оба сверху и далеко друг от друга.
– Вот милашка, – повторяет она. – А кудряшки какие! И что же он просит, конфетку?
– Нет, – говорит мама. – Луковицу.
– Луковицу? – хохочет женщина. – Первый раз слышу, чтоб дите лук просило. В Америке что ль так?
– Нет, он просто слышал, что братику лук нужен. Тот заболел, так вот лук надо в молоке сварить.
– Да-да, миссус, – подтверждает продавщица. – Лук с молоком – лучшее средство. На тебе конфетку, малыш. А это братик твой? И ему тоже конфетку.
– Ой, что вы, не стоило, – ахает мама. – Скажите спасибо, мальчики.
– И лук возьмите для больного малыша, миссус, – говорит продавщица.
– Не могу я заплатить за лук, – вздыхает мама. – Ни пенни при себе нет.
– Я вам его даром отдам, миссус. Не бывало еще такого, чтоб больному ребенку в Лимерике лука не дали. И перца щепотку положить не забудьте. Есть он у вас?
– Нету, но я куплю на днях.
– Тогда вот вам перец, миссус, и соли немножко. Уж приготовьте малышу самое лучшее лекарство.
– Благослови вас Господь, – говорит мама; в глазах у нее слезы.
Папа ходит взад-вперед с Оливером на руках. Юджин играет на полу с кастрюлей и ложкой.
– Лук принесла? – спрашивает папа.
– Принесла, – отвечает мама. – И лук, и уголь, и чем огонь разжечь.
– Я знал, что принесешь, – говорит папа. – Я молился святому Иуде. Мой любимый святой, покровитель отчаявшихся.
– Это я раздобыла лук и уголь, а не твой Иуда.
– Не надо было с дороги собирать, как нищенка, – укоряет ее папа. – Мальчикам плохой пример подаешь.
– Ну тогда послал бы своего святого Иуду на Док-роуд.
– Я есть хочу, – ноет Мэйлахи.
Я тоже хочу есть, но мама говорит, сначала надо сварить лук для Оливера.
Она разжигает огонь в камине, разрезает луковицу пополам, бросает одну половинку в кипящее молоко, добавляет немного масла и перца. Потом усаживает Оливера к себе на колени и пытается напоить его отваром, но Оливер отворачивается и смотрит в огонь.
– Ну же, миленький, давай, пей, – уговаривает мама. – Вырастешь большим и сильным.
Оливер сжимает губы. Мама отставляет кастрюльку, качает Оливера, а когда он засыпает, кладет его на постель, и велит нам не шуметь, а не то она не знает что с нами сделает. Потом мелко режет оставшуюся половинку луковицы и обжаривает ее в масле с кусочками хлеба. Мы сидим на полу у камина, едим жареный хлеб и пьем ужасно сладкий чай из стеклянных банок.
– Огонь так разгорелся, – говорит мама, – что лампу можно выключить, все равно пока на газ денег нет.
В комнате становится тепло; языки пламени в камине похожи то лица, то на горы и долины, то на скачущих зверей. Юджин засыпает на полу, и папа переносит его на постель к Оливеру. Мама ставит кастрюльку с луком на каминную полку, чтоб ни одна мышь или крыса не добралась. Говорит, что совсем умаялась за день: сначала Общество Святого Викентия, потом лавка миссис Макграт, уголь на дороге, а теперь Оливер лук не ест, и если завтра будет так же, придется к доктору идти, так что сейчас она идет спать.
Мы все ложимся, и если иногда блоха куснет, я не обращаю внимания – в постели так тепло вшестером, и мне нравится смотреть, как отблески огня пляшут на стенах и на потолке, и комната становится то красной, то черной, то снова красной и черной, а потом, постепенно, черно-белой, и слышно только, как Оливер всхлипывает и ворочается на руках у мамы.
* * *
Утром папа разводит огонь, ставит чай, нарезает хлеб. Папа уже одет и просит маму собраться поскорее.
– Фрэнсис, – говорит мне папа. – Твой братик Оливер заболел, мы отвезем его в больницу. Будь умницей и посиди с братиками, а мы скоро вернемся.
– Сахара много не ешьте, – предупреждает мама. – Мы не миллионеры.
Мама берет Оливера на руки, кутает его в пальто, а Юджин стоит рядом с кроватью и хнычет:
– Хочу Олли. Играть с Олли.
– Олли скоро вернется, – обещает мама. – Пока играй с Мэйлахи и Фрэнком.
– Олли, Олли, хочу Олли.
Он провожает Оливера взглядом, а потом садится на кровать и смотрит в окно.
– Джини, Джини, – зовет его Мэйлахи. – У нас есть хлеб и чай. Хлеб с сахарком будешь, Джини?
Юджин мотает головой и отталкивает руку Мэйлахи с хлебом. Потом переползает на постель, туда, где спали Оливер с мамой, и глядит в окно.
На пороге стоит бабушка.
– Говорят, ваши отец с матерью неслись по Генри-стрит с ребенком на руках. Куда это они?
– Оливер заболел, – поясняю я. – Лук вареный в молоке не ест.
– Чего-чего ты там болтаешь?
– Лук не стал есть и заболел.
– А кто за вами приглядывает?
– Я.
– А этот чего лежит? Как его кличут-то?
– Юджин. Он по Оливеру скучает. Они близнецы.
– Знаю, что близнецы. Худющий-то какой. Каша хоть есть у вас?
– Что такое каша? – спрашивает Мэйлахи.
– Господи Иисусе и святые Мария с Иосифом! Что такое каша?! Каша – это каша. Да что за янки бестолковые, никогда такого невежества не встречала. Ну-ка, одевайтесь, пойдем к тете Эгги, дадим вам каши. – Она берет на руки Юджина, закутывает его в шаль, и мы идем к тете Эгги. Она вернулась к Па Китингу, потому что тот наконец признал, что она не корова и не толстая.
– Каша есть у тебя? – спрашивает бабушка тетю Эгги.
– Каша? Я что тут кашу всяким янки раздавать должна?
– Эх ты, – корит ее бабушка. – Каши чуток пожалела.
– А потом небось сахара и молока захотят, да еще яиц скажут подавай. Почему это мы должны расплачиваться за Анджелины ошибки?
– Боже правый, – сокрушается бабушка. – Хорошо, не ты была хозяйкой вифлеемского хлева, не то Святое Семейство так и скиталось бы по свету, падая от голода.
Бабушка оттесняет тетю Эгги в сторону, усаживает Юджина на стул у огня и принимается варить кашу. Из соседней комнаты выходит мужчина. У него черные кудрявые волосы, и кожа темная-претемная; мне нравятся его глаза – синие и веселые. Это муж тети Эгги, тот самый человек, который остановился около нас в ту ночь, когда мы сражались с блохами, рассказывал нам про блох со змеями и кашлял, потому что наглотался газа на войне.
– Ты почему такой черный? – спрашивает его Мэйлахи.
Дядя Па Китинг заходится смехом и начинает так сильно кашлять, что ему приходится закурить.
– Ох вы, янки-малыши, – смеется он. – Ни капли стеснения. Я черный от того, что работаю на газовом заводе, кидаю уголь и кокс в печи. Во Франции газ глотал, и тут снова глотаю. Ну не смешно ли? Подрастете, поймете.
Мы с Мэйлахи выходим из-за стола, чтоб взрослые попили чаю. Они пьют чай, но дядя Па Китинг, который мне дядя, потому что он женат на тете Эгги, усаживает Юджина к себе на колени.
– Ты чего грустный такой? – спрашивает он Юджина, строит ему рожицы и смешно мычит.
Мы с Мэйлахи хохочем, но Юджин молча тянется к черному лицу Па Китинга. Тот делает вид, что сейчас откусит Юджину руку, тот смеется, и все в комнате тоже. Мэйлахи подходит к Юджину и тоже пытается его рассмешить, но Юджин утыкается лицом в рубашку Па Китинга.
– Кажется, я ему нравлюсь, – замечает Па, и тут тетя Эгги ставит на стол свою кружку с чаем и принимается рыдать; по ее покрасневшим пухлым щекам градом катятся слезы.
– Да боже ж мой, – ворчит бабушка. – Чего опять?
– Каково мне на Па с младенцем глядеть, коли я уж и родить не надеюсь?! – всхлипывает тетя Эгги.
– А ну перестань чепуху всякую при детях болтать! – рявкает бабушка. – Совсем стыд потеряла. Господь милостив, пошлет он тебе ребеночка в свое время.
– У Анджелы вон пять и еще одного потеряла, а ведь неумеха такая, полы даже вымыть не может. А у меня и полы блестят, и сготовить я могу хоть что – хоть рагу, хоть жаркое, – а нет никого.
– Я, пожалуй, себе этого паренька оставлю, – смеется Па Китинг.
– Нет-нет-нет! – бежит к нему Мэйлахи. – Это мой братик Юджин.
И я тоже говорю:
– Нет-нет, это наш братик.
– Ничего мне Анджелиного не нужно, – сердится тетя Эгги, смахивая слезы с мокрых щек. – А уж того, что наполовину из Лимерика, а наполовину с Севера тем более. У меня свое дите будет, даже если мне для этого придется по сто раз девятину прочесть к Деве Марии и матери ее Анне или на коленях ползти до самого Лурда[39].
– Ну все, хватит, – говорит бабушка. – Каши поели, теперь домой, мать с отцом уже, наверное, из больницы вернулись. – Она кутается в шаль и собирается взять Юджина на руки, но тот так крепко вцепился в рубашку Па Китинга, что его чуть ли не силой приходится отнимать, и пока мы идем к двери, он все на него оглядывается.
* * *
Бабушка отвела нас домой. Она уложила Юджина в постель, дала ему попить воды и велела быть паинькой и засыпать; его братик Оливер скоро вернется домой, и они снова будут вместе играть на полу.
Но Юджин все смотрел и смотрел в окно.
Бабушка разрешила нам с Мэйлахи поиграть на полу, но только тихо, потому что она будет молиться. Мэйлахи сел на постель к Юджину, а я все пытался разобрать слова в газете, которая у нас вместо скатерти. Слышно было только, как Мэйлахи шептал что-то Юджину, пытаясь его развеселить, да щелкали бусины четок, потому что бабушка бормотала молитвы. Стало так тихо, что я заснул, лежа головой на столе.
* * *
Папа трясет меня за плечо.
– Фрэнсис, пригляди за братиками.
Мама съежилась на краешке кровати и как-то странно плачет – будто птичка чирикает. Бабушка кутается в шаль.
– Дойду до конторы Томпсона, гроб надо заказать и повозку. Уж это-то в Святом Викентии оплатят, – говорит бабушка и выходит за дверь.
Папа стоит у камина, отвернувшись к стене, бьет себя кулаками по ногам и вздыхает.
Меня пугают папины вздохи и мамин птичий плач, и я не знаю, что мне делать, и затопит ли кто-нибудь камин, чтоб попить чаю с хлебом, а то с тех пор, как мы кашу ели, уже много времени прошло. Если бы папа отошел от камина, я бы сам огонь разжег, надо только бумагу, немного угля или торфа и спичку. Но папа так и стоит на месте и бьет себя по ногам. Я пытаюсь его обойти, но он меня замечает и спрашивает, зачем мне огонь. Я говорю ему, что мы есть хотим, и он смеется каким-то странным смехом.
– Есть хотите? – переспрашивает он. – Ох, Фрэнсис, твой братик Оливер умер. Сестричка умерла, а теперь и братик. – Он берет меня на руки и обнимает так крепко, что я вскрикиваю.
Мэйлахи принимается реветь, мама плачет, папа плачет, я плачу, один Юджин молчит.
– Ничего, сейчас попируем, – шмыгает носом па- па. – Идем, Фрэнсис.
Он говорит маме, что мы скоро вернемся; у нее на коленях сидят Мэйлахи и Юджин, и она даже не поднимает головы. Папа ведет меня по улицам Лимерика. Мы заходим подряд во все магазины, и он спрашивает, продавцов, не дадут ли они каких-нибудь продуктов или чего- нибудь еще семье, за год потерявшей двоих детей – дочку в Америке, и сына в Лимерике, – а троим оставшимся грозит та же участь, потому что им есть и пить нечего. Почти все качают головами и говорят, что соболезнуют, что нам лучше пойти в Общество Святого Викентия де Поля или обратиться за пособием.
Папа говорит, мол, отрадно, что в Лимерике торжествует Дух Христов, а ему отвечают, что нечего тут со своим северным акцентом о Христе рассуждать и постыдился бы таскать с собой ребенка, как цыган какой-нибудь или попрошайка.
Некоторые все же дают хлеба, картошки и фасоли в банках, и папа говорит, что, мол, сейчас вернемся домой и вы, ребятки, наконец-то поедите, но по дороге мы встречаем Па Китинга. Тот говорит, что очень сочувствует папе, и предлагает зайти в паб, выпить по кружечке.
У людей в пабе огромные кружки с чем-то черным. Па Китинг и папа тоже заказывают себе такие. Они медленно поднимают кружки и пьют потихоньку. На губах у них остается белая пена, которую они шумно облизывают. Дядя Па покупает мне бутылку лимонада, а папа дает кусочек хлеба, и я вроде как уже и наелся. Интересно, когда мы пойдем домой? Мэйлахи и Юджин сидят там голодные. Каша была много часов назад, а Юджин к ней и не притрагивался.
Папа и дядя Па допивают черное в кружках и берут еще.
– Фрэнки, это пинта, – говорит Па Китинг. – Живая вода. Кормящим матерям уж больно полезна, да и всем, кого давно от груди отлучили тоже. – Он смеется, а папа улыбается, и я смеюсь, потому что, наверное, надо смеяться, когда дядя Па шутит. Потом он уже не смеется, а рассказывает другим людям в пабе про Оливера. Те приподнимают кепки и говорят папе, что соболезнуют и что ему определенно надо выпить.
Папа соглашается и вскоре уже распевает «Родди Маккорли», «Кевина Барри» и всякие другие песни и оплакивает кроху-дочурку, которая умерла в Америке и малыша Оливера, который умер тут в больнице. Мне страшно от того, что папа то воет, то плачет, то поет, и я хочу поскорее домой к трем, нет, теперь уже двум братикам и маме.
– Вам, пожалуй, хватит, мистер, – говорит папе мужчина за барной стойкой. – Мы вам, конечно, сочувствуем, но ребенку пора к матери, она там сидит, наверное, у огня, убитая горем.
– Ну еще только одну пинту, а? – просит папа.
– Нет, – отвечает бармен.
– Я за свободу сражался, – трясет кулаком папа, а когда бармен выходит из-за стойки и берет папу за руку, то папа его отталкивает.
– Пойдем, Мэйлахи, – говорит дядя Па. – Не упрямься. Домой пора, к Анджеле. Завтра похороны, и детишки тебя ждут.
Но папа все упирается, и несколько человек выталкивают его на темную улицу. Вслед за ним из двери вываливается дядя Па с кульком еды.
– Пойдем, – велит он. – Домой тебе надо.
Папа хочет пойти в другой паб, но дядя Па говорит, что у него деньги кончились. Папа убеждает его, что расскажет там о своем горе и ему нальют кружечку бесплатно, а дядя Па отвечает, что нехорошо так делать, и папа рыдает у него на плече.
– Ты – хороший друг, – говорит он дяде Па и снова плачет, а дядя Па похлопывает его по спине и приговаривает, что это ужасное горе, но со временем станет легче.
– Никогда, – говорит папа, выпрямляясь и глядя ему в глаза. – Никогда.
* * *
На следующий день мы поехали в больницу на повозке, запряженной лошадью. Там Оливера положили в белый ящик, который приехал с нами, и мы повезли его на кладбище. Ящик опустили в яму и засыпали землей. Мама и тетя Эгги плакали, у бабушки был сердитый вид, а у папы, дяди Па Китинга и дяди Пэта Шихана – грустный, но они не плакали, и я подумал, что, наверное, мужчине можно плакать только когда он пьет черную воду под названием пинта.
Мне не нравились галки, которые сидели на деревьях и могильных камнях, и я не хотел оставлять им Оливера. Одна галка поковыляла к могиле Оливера, и я швырнул в нее камнем. Папа сказал, что нельзя в галку камнем – вдруг это чья-то душа? Я не знал, что такое душа, но спрашивать не стал, потому что, какая разница. Оливер умер, и я ненавижу галок. Когда вырасту, то приду сюда с мешком камней и все кладбище усею галочьими трупами.
* * *
На следующей утро после похорон Оливера папа пошел на биржу труда за пособием – девятнадцать шиллингов шесть пенсов. Сказал, что к полудню вернется, принесет угля и разведет огонь и мы пообедаем яичницей с ветчиной и выпьем чаю, чтоб Оливера помянуть, а может, нам даже по конфетке перепадет.
Он не вернулся ни к полудню, ни к часу дня, ни к двум. Мы сварили и съели несколько картошин, которые нам дали вчера в лавках. В тот майский день папа пришел только после захода солнца, когда позакрывались все пабы – слышно было, как он распевает на Уиндмилл-стрит:
- Умолкло все вокруг, тревожно бдит.
- А запад спит, увы, все запад спит.
- Напрасно Эрин скорбный клич трубит —
- Не внемлет Коннахт – пеленою сна укрыт.
- Там озеро раскинулось привольно на просторе,
- Вокруг застыли скалы в вековом дозоре.
- И знать не знал бы человек ни слез, ни горя,
- Коли свободе поучился бы у ветра и у моря[40].
Папа вошел в комнату, спотыкаясь и держась за стену. Из носа у него текло, и он то и дело утирался рукавом.
– Мальщикам шпать пора. Слышьте? Шпать нада, – проговорил он заплетающимся языком.
– Дети есть хотят, – преградила ему путь мама. – Пособие принес? Хоть рыбы с картошкой купить, чтоб не совсем с пустыми животами спать пошли.
Она принялась шарить у него в карманах, но он ее оттолкнул.
– Уфашение имей. Перед мальщиками.
Мама снова потянулась к карманам.
– Где деньги? Дети голодные. Ах ты, пьянь поганая, опять все пропил? Как в Бруклине.
– Ох, бедная Анджела. Бедные крошки Маргрет и Ольвер, – пьяно всхлипывал папа.
Потом шатнулся ко мне и обнял. От него несло перегаром, как в Америке. Он намочил мне лицо слезами, слюнями и соплями, и все рыдал мне в волосы, а я хотел есть и не знал, что сказать.
Потом папа меня отпустил и обнял Мэйлахи, по-прежнему бормоча, что наши сестричка и братик лежат в сырой земле и что нам всем надо молиться, хорошо себя вести и делать то, что велит мама. Еще он сказал, что хоть у нас и горе, нам с Мэйлахи пора идти в школу, потому что важнее учености ничего нет, и рано или поздно она нам пригодится, а еще нужно исполнить свой долг перед Ирландией.
* * *
Мама заявляет, что ни минуты на Уиндмилл-стрит не останется, что спать не может, все вспоминает, как Оливер лежал тут на постели, играл на полу, сидел у папы на коленях. И для Юджина нехорошо тут оставаться: близнец страдает от потери брата так, что даже мать не в силах представить. На Хартстондж-стрит сдают комнату. Там две кровати, а у нас одна на шестерых, нет, на пятерых. Мы снимем ту комнату и точка, мама сама пойдет в четверг на биржу, встанет в очередь, и заберет пособие. Папа говорит, что она его опозорит, что биржа – для мужчин, и не дело, когда жены выхватывают у них деньги из-под носа.
– Сам виноват, – отвечает мама. – Если б не шлялся по пивнушкам, мне бы не пришлось гоняться за тобой, как в Бруклине.
Папа повторяет, что она его опозорит навеки, но мама говорит, что ей наплевать. Ей нужно жилье на Хартстондж-стрит: теплая уютная комната с туалетом внизу, как в Бруклине. К тому же, там нет блох и убийственной сырости. А еще на той же улице находится государственная школа Лими, и в обед мы с Мэйлахи сможем забегать домой, чтобы съесть гренок и выпить чаю.
В четверг мама идет с папой на биржу и, как только ему просовывают в окошко деньги, тут же их забирает. Мужчины в очереди пихают друг друга локтями и усмехаются, и папа опозорен, потому что негоже, чтобы женщина распоряжалась пособием, которое дают мужчине. А вдруг ему захочется поставить шестипенсовик на лошадку или выпить пинту? Если все женщины начнут так себя вести, то и скачек больше не будет, и «Гиннесс» разорится. Но теперь деньги у мамы, и мы переезжаем на Хартстондж-стрит. Потом мама берет Юджина на руки, и мы идем в школу Лими. Директор, мистер Скэллан, велит нам приходить в понедельник и принести с собой тетрадь для упражнений, карандаш и ручку с хорошим пером. И чтоб никакого лишая или вшей, и носы высморкать, причем не на пол (нечего тут чахотку распространять) и не в рукав, а в чистый носовой платок или тряпицу. Директор спрашивает, обещаем ли мы хорошо себя вести, и когда мы говорим, что да, он удивляется:
– Бог ты мой, да вы янки, что ли?
Мама рассказывает ему про Маргарет и Оливера, и директор говорит:
– Боже Всевышний, сколько же страданий в мире! Что ж, младшего, Мэйлахи, определим в подготовительный класс, а брата его – в первый. Оба класса занимаются в одном кабинете, и учитель у них один. Итак, жду утром в понедельник, ровно в девять.
Мальчики в школе удивляются, почему мы так говорим.
– Вы что, янки, что ли?
Мы отвечаем, что приплыли из Америки, и они спрашивают:
– А вы гангстеры или ковбои?
Какой-то толстый мальчик подходит ко мне так близко, что мы оказываемся с ним нос к носу.
– Я спрашиваю: гангстеры вы или ковбои?
Я говорю ему, что не знаю, и он тычет меня пальцем в грудь, а Мэйлахи тогда говорит, что он гангстер, а Фрэнки – ковбой.
– Братишка у тебя смышленый, а ты – тупой янки, – усмехается толстяк.
– Врежь ему, врежь ему! – радостно вопят другие мальчики, и он толкает меня так сильно, что я падаю.
Мне хочется заплакать, но в глазах у меня темнеет, так же, как тогда с Фредди Лейбовицем. Я кидаюсь на толстяка и бью его ногами и кулаками. Он падает, и я пытаюсь схватить его за волосы, чтоб треснуть головой об землю, но тут ноги мне чем-то жалит сзади, и меня оттаскивают сторону.
Учитель, мистер Бенсон, хватает меня за ухо и колотит по ногам тростью.
– Ах ты хулиган, – приговаривает он. – В Америке своей драться научился? Богом клянусь, ты у меня научишься себя вести!
Он велит мне вытянуть сначала одну руку, потом другую, и бьет меня палкой по ладоням.
– А теперь марш домой, – говорит он. – И расскажи матери, как плохо себя вел. Ну-ка повтори: «Я дурной».
– Я дурной.
– Теперь скажи: «Я – дурной янки».
– Я – дурной янки.
– Он не дурной, – вступается Мэйлахи. – Это вон тот мальчик сказал, что мы ковбои и гангстеры.
– Это правда, Хеффернан?
– Да я же пошутил, сэр.
– Больше никаких шуток, Хеффернан. Не их вина, что они янки.
– Да, сэр.
– И ты Хеффернан должен каждый день на коленях благодарить Господа, что ты не янки, потому что если бы ты был янки, Хеффернан, то стал бы величайшим гангстером по обе стороны Атлантики. Сам Аль Капоне приходил бы у тебя учиться. И не лезь больше к этим двум янки, Хеффернан.
– Не буду, сэр.
– А если будешь, Хеффернан, я с тебя три шкуры сдеру и на стену их повешу. А теперь все – марш домой!
* * *
В школе Лими семь учителей, и у каждого имеется кожаный ремень, трость и терновая палка. Палкой бьют по плечам, спине и ногам, а особенно часто – по рукам. Последнее называется «шлепать». Колотят за опоздания, за то, что ручка течет, за смех, за разговоры, и если чего-то не знаешь.
Отлупят, если не ответишь, почему Бог сотворил землю и какой святой покровительствует Лимерику, не сможешь прочесть наизусть апостольский Символ веры[41], сложить в уме девятнадцать и сорок семь или отнять девятнадцать из сорока семи, перечислить главные города тридцати двух графств Ирландии и товары, которые в них производят, или найти Болгарию на карте мира, заляпанной плевками, козявками и чернильными кляксами – в качестве мести от учеников, которых выгнали из школы насовсем.
А кроме того, накажут, если не сможешь представиться, прочесть «Богородице Дево, радуйся» и попроситься в туалет на ирландском.
И тут уж главное – слушать старшеклассников. Они знают, кто твой учитель, и могут подсказать, что ему нравится, а что – нет.
Так, один учитель побьет, если не знаешь, что Имон де Валера[42] – величайший из людей. Другой – если не скажешь, что величайшим из людей был Майкл Коллинз[43].
Мистер Бенсон терпеть не может Америку и побьет каждого, кто посмеет хорошо о ней отзываться.
О’Ди ненавидит Англию, и не смей о том забывать, не то будешь бит. А если ненароком брякнешь что-нибудь хорошее про Оливера Кромвеля, побьет любой из учителей.
Даже если тебя шесть раз «шлепнут» по рукам ясеневой тростью или терновой с набалдашником, плакать не смей – прослывешь слюнтяем. Мальчишки будут свистеть тебе вслед и дразнить на улицах, но даже забиякам надо быть осторожными, потому что когда-нибудь накажут и их, а слез показывать нельзя, иначе позор тебе на веки вечные. Некоторые ребята говорят, что лучше поплакать, потому что учителям это нравится. Стерпишь молча – выставишь учителя слабаком перед классом, и он даст себе зарок в следующий раз терзать тебя до слез или до крови, а лучше до того и другого.
Пятиклассники рассказывают, что мистер О’Ди вызывает ученика отвечать перед классом, а сам встает сзади и изо всех сил тянет его за бачки, приговаривая:
– А ну, тянись к знаниям, тянись.
И вот ты уже стоишь на цыпочках, и на глаза у тебя наворачиваются слезы. Нельзя перед однокашниками плакать, но когда тебя тянут за волосы, слезы сами из глаз текут, а учителю того и надо. Мистер О’Ди как никто умеет довести ученика до слез и опозорить перед всей школой.
И все же лучше не плакать, надо быть заодно с ребятами и не доставлять радости учителям.
А отцу и матери без толку жаловаться, что учитель тебя бьет. У них ответ один:
– Значит, за дело. И нечего тут нюни распускать.
* * *
Я-то понимаю, что Оливер умер, и Мэйлахи понимает, а Юджин еще слишком мал и не уразумеет этого никак. Он зовет Олли по утрам, нетвердыми шажками топает по комнате и заглядывает под кровати или забирается на ту, что у окна, и говорит: «Олли, Олли», показывая пальчиком на детей на улице, особенно на светловолосых, как Оливер и он сам.
Мама, всхлипывая, берет его на руки и крепко обнимает, но он не хочет сидеть на ручках, а хочет скорее на пол – искать Оливера.
Папа с мамой говорят ему, что Оливер играет с ангелочками в раю и что мы когда-нибудь встретимся с ним на небесах, но Юджин не понимает – ему всего два, он еще словами объяснить ничего не может, и вот это-то хуже всего.
Я и Мэйлахи играем с ним и пытаемся его развеселить. То рожицы корчим, то ставим себе на головы кастрюли и нарочно их роняем. Еще бегаем по комнате и как будто случайно падаем. Водим его в Народный парк посмотреть на цветочки, поиграть с собачками, поваляться на травке.
Там тоже гуляют дети со светлыми волосами, как у Оливера. Юджин больше не зовет их «Олли», а только показывает на них пальчиком.
Папа говорит, Юджину повезло, что у него такие братья, потому что мы помогаем ему забыть горе, и скоро с Божьей помощью он и не вспомнит про Оливера.
* * *
Но он все равно умер.
Тем злосчастным ноябрьским утром, спустя шесть месяцев после того, как не стало Оливера, мы проснулись утром и обнаружили, что Юджин лежит рядом с нами совсем холодный. Приехавший вскоре доктор Трой сказал, что ребенок скончался от пневмонии и что его давно следовало положить в больницу, почему же этого не сделали?
Папа ответил, что не замечал ничего странного, и мама тоже, а доктор Трой заявил, что так вот дети и умирают, потому что родители не замечают ничего странного, и что если мы с Мэйлахи хотя бы раз кашлянем или чуть осипнем, нас надо немедленно доставить к нему в любое время дня и ночи. И промокать нам категорически нельзя, потому что слабые легкие – это, похоже, у нас семейное. Еще он сказал маме, что очень сочувствует ее горю и пропишет кое-какое лекарство, от которого ей станет легче.
– Слишком многого требует от нас Бог, слишком многого, – вздохнул он.
К нам пришли бабушка с тетей Эгги. Бабушка обмыла Юджина, а тетя Эгги сходила в лавку за белым платьицем и четками. Юджина обрядили в платьице и положили на кровать у окна, откуда он, бывало, высматривал Оливера. Руки ему сложили на груди – одну поверх другой – и обвили их маленькими белыми четками. Бабушка его причесала – убрала волосы со лба, приговаривая, что они у него чудесные и шелковистые. Мама укрыла ему ножки одеялом, чтоб не замерз. Бабушка и тетя Эгги молча переглянулись. Папа стоял у изножья кровати, снова бил себя кулаками по ногам и твердил, будто бы обращаясь к Юджину:
– Это все река Шаннон, сырость с реки убила вас с Оливером.
– Да замолчи ты, – цыкнула на него бабушка. – И без тебя тошно.
Она дала мне рецепт и велела сбегать в аптеку О’Коннора за пилюлями – денег не возьмут, спасибо доктору.
Папа сказал, что пойдет со мной и что мы еще в церкви иезуитов помолимся за Маргарет, Оливера и Юджина и за их счастливое воссоединение в раю. Получив в аптеке пилюли, мы зашли в церковь, а когда вернулись домой, бабушка дала папе денег, чтоб он купил себе не- сколько бутылок стаута.
Мама не разрешала, но бабушка возразила, что ему-то пилюль не прописали, пусть хоть пивом немного утешится. Папе она сказала, что назавтра ему в похоронную контору идти за гробиком, а мне наказала проследить, чтоб он в пабе не просидел всю ночь и все деньги не пропил.
– Фрэнки нечего делать в пабах, – сказал папа.
– Вот и не сиди там, – огрызнулась бабушка.
Папа надел кепку, и мы пошли в «Саутс-паб», и уже у дверей папа велел мне идти домой, мол, он только кружечку одну выпьет и вернется.
Я сказал, что без него не уйду.
– Будь умницей, – уговаривал меня папа. – Иди домой к нашей бедной маме.
Я опять не ушел, и папа сказал, что Бог не любит непослушных мальчиков.
Я заявил, что один домой не уйду.
– И куда только мир катится, – вздохнул папа.
Он быстренько выпил кружку портера в пабе, и мы взяли с собой еще несколько бутылок пива. Дома у нас сидели Па Китинг с бутылочкой виски и стаутом и дядя Пэт Шихан с двумя бутылками стаута. Дядя Пэт прямо на полу обнимал бутылки и твердил, что они его. Те, кого на голову роняли, всегда боятся, что у них украдут пиво.
– Ладно, Пэт, пей свое пиво. Никто тебя не трогает, – сказала бабушка.
Она и тетя Эгги сидели на кровати рядом с Юджином. Па Китинг пил пиво за кухонным столом и предлагал всем отхлебнуть у него виски. Мама приняла пилюли и села у камина, взяв Мэйлахи на колени. Она все повторяла, что у Мэйлахи волосики, как у Юджина, а тетя Эгги твердила, что вот и нет, пока бабушка не пихнула ее локтем и не велела замолчать. Папа стоял, прислонившись к стене между камином и кроватью, и пил пиво. Па Китинг рассказывал всякие байки, и взрослые смеялись, но нехотя и тихонько – ведь негоже смеяться в комнате, где лежит почивший ребенок. Па Китинг рассказывал, что когда он воевал вместе с англичанами во Франции, немцы напустили в окопы газу, и ему так поплохело, что его в госпиталь увезли. Подержали там маленько, а потом отправили обратно. Английских-то солдат домой отпустили, а что до ирландских, то всем было наплевать, выживут они или помрут. Однако Па мало что не умер, так еще и сколотил себе целое состояние, решив величайшую проблему окопной жизни. В окопах было сыро и грязно – ну никак чаю не вскипятишь. Вот он и подумал: «Господи, у меня ж в организме столько газа пропадает!» Поместил он себе в задницу трубку, чиркнул спичкой, да столько огня добыл, что хоть закипятись воду. Тут же к нему сбежались солдаты и стали любые деньги предлагать за кипяток. И столько Па Китинг денег заработал, что подкупил генералов – те отпустили его из армии, и он умчался в Париж, а уж там вдоволь покутил с художниками и натурщицами. И так увлекся, что растратил все деньги, пришлось вернуться в Лимерик, а уж тут другой работы для него не нашлось, кроме как в топку уголь кидать, и теперь в организме у него столько газа, что хватит какой-нибудь город целый год отапливать. Тетя Эгги хмыкнула, что неприлично такое рассказывать рядом с умершим ребенком, а бабушка сказала, что лучше такое рассказывать, чем сидеть с постными рожами. Дядя Пэт Шихан сказал с полу, что сейчас споет.
– Пой, конечно, – разрешил Па Китинг, и дядя Пэт запел «Дорогою в Рашин».
Правда, на самом деле он не пел, а лишь повторял:
– Рашин, Рашин, милая моим.
И прочую бессмыслицу, потому что давным-давно его уронили на голову, и теперь каждый раз он пел эту песню по-разному. Бабушка похвалила его пение, а Па Китинг заявил, что дядя Пэт наступает на пятки самому Карузо. Папа сел на край постели, где спали они с мамой, поставил бутылку на пол и, закрыв лицо руками, зарыдал. Потом позвал меня и обнял, как мама обнимала Мэйлахи.
– Завтра похороны, поспать бы надо, – сказала бабушка.
Взрослые по очереди опускались на колени у постели, читали молитву и целовали Юджина в лобик. Папа спустил меня на пол, встал и проводил каждого кивком. Когда все ушли, он допил все пиво, которое оставалось в бутылках, а в бутылку виски засунул палец и облизал. Потом погасил керосиновую лампу на столе и объявил, что мы с Мэйлахи будем спать на их с мамой постели, потому что на другой лежит Юджин. В комнате стало темно, только мягкие шелковистые волосики Юджина блестели в серебристом свете уличного фонаря.
* * *
Утром папа разводит огонь, заваривает чай, подсушивает над огнем гренки. Он приносит чаю с хлебом маме, но она отказывается и снова отворачивается к стене. Папа велит нам с Мэйлахи встать на колени перед Юджином и помолиться, потому что молитва одного ребенка стоит молитв десяти кардиналов и сорока епископов. Папа показывает нам, как правильно креститься, и говорит:
– Боже милостивый! Вот, значит, какова твоя воля? Ты забрал у меня сына Юджина. И брата его Оливера. И сестру их Маргарет. И кто я, чтоб роптать? Боже милосердный, не знаю, почему должны умирать дети, но на все воля твоя. Ты велел реке Шаннон их убить, и она убила. Сжалься же над нами наконец. Оставь нам хотя бы этих детей. Это все о чем мы просим. Аминь.
Папа помогает нам с Мэйлахи вымыть головы и ноги, чтобы мы пошли чистыми на похороны Юджина. Мы молчим даже когда он больно чистит нам уши уголком полотенца, привезенного из Америки. Надо вести себя тихо, потому что на постели лежит Юджин с закрытыми глазами, и мы боимся, что он их откроет и будет искать в окне Оливера.
Приходит бабушка и уговаривает маму подняться с постели.
– У тебя живые дети остались, им нужна мать, – увещевает она.
Потом приносит маме чаю запить пилюли, от которых станет легче. Папа говорит бабушке, что сегодня четверг и ему надо идти на биржу за пособием, а потом в похоронную контору за повозкой и гробиком. Бабушка велит ему взять меня с собой, но папа отвечает, что мне лучше остаться с Мэйлахи и помолиться за душу умершего братика.
– Нет уж, – говорит бабушка. – Меня не проведешь. За душу двухлетнего-то младенца чего молиться? Он уже давно в раю с братиком играет. Бери сына с собой, он тебе напоминать будет, чтоб ты в такой день в пабе не торчал.
Они сердито смотрят друг на друга, потом папа молча надевает кепку.
На бирже мы встаем в самый конец очереди, но из-за стойки выходит служащий и говорит папе, что очень нам соболезнует и что в такой скорбный день ему выдадут пособие первому. Мужчины в очереди приподнимают кепки и говорят, что очень сочувствуют папе, а некоторые хлопают меня по спине и дают монетки: двадцать четыре пенни и четыре шиллинга. Папа замечает, что я теперь богатый и почему бы мне не купить себе конфетку, пока он зайдет тут рядышком на минуточку. Я знаю, что «рядышком» – это в паб, и что ему хочется черной воды под названием «пинта», но молчу, потому что хочу в соседнюю дверь за ириской. Я жую ириску, и во рту у меня делается липко и сладко. Папа все еще в пабе, и я раздумываю, не купить ли мне еще ириску, пока он допивает свою пинту. Я уже протягиваю деньги лавочнице, но тут меня сильно хлопают по руке, и надо мной склоняется ужасно сердитая тетя Эгги.
– Так-так. Вот, значит, чем ты занимаешься в день похорон родного братика? Конфетами объедаешься? А папаша где?
– В пабе.
– Ну где ж еще, конечно! Один конфетами себе пузо набивает, другой напивается, и именно в тот день, когда твой бедный братик отправится в последний путь.
– Вылитый отец, – бросает она лавочнице. – Тоже со странностями и ухмылочка эта чертова северная.
Она велит мне тут же идти в паб и передать отцу, чтоб сейчас же шел за гробом и повозкой. А сама она в паб ни ногой, потому что пьянство – проклятие этой Богом забытой страны.
Папа сидит в дальнем углу пивной с человеком, у которого лицо грязное и волосы растут из носа. Они молча смотрят куда-то перед собой, между ними на стуле маленький белый гробик, на крышке которого стоят две черные пинты. Я знаю, что это гроб Юджина, потому что Оливера похоронили в таком же, и мне хочется зареветь. Зачем только я ел ириску?! Вот бы можно было вытащить ее из живота и отдать обратно лавочнице, потому что нехорошо есть конфеты, когда дома лежит мертвый Юджин. От вида черных пинт на белом гробике мне делается страшно.
– Нет, мистер, теперь даже гробик в чертовой повозке не оставишь, – сетует папин приятель. – Вот я как-то раз оставил, ну, за пинтой зашел, так сперли, представляете?! Ладно еще пустой был, но все равно. Окаянные времена настали, ох, окаянные. – Он поднимает свою пинту, и делает большой глоток, а потом с глухим стуком ставит кружку обратно на гроб.
– Еще минутку сынок и пойдем, – кивает мне папа.
Он тоже делает большой глоток, но, когда ставит кружку на гроб, я ее убираю.
– Это гроб Юджина. Я расскажу маме, что ты кружку на него ставишь.
– Тише, сынок. Тише.
– Еще по пинте, мистер? – спрашивает его собеседник.
– Подожди на улице, Фрэнсис, – говорит папа.
– Нет.
– Ну же, будь умницей.
– Нет.
– Да если б мой сын со мной спорил, я б ему такого пинка дал, что он бы до самого графства Керри летел. Как можно отцу перечить, да еще в такой скорбный день! Если уж пинту по случаю траура нельзя выпить, то для чего жить-то вообще? – возмущается папин приятель.
– Ладно, пойдем, – говорит папа.
Они допивают пинты и рукавами вытирают бурые следы от кружек на гробе. Папин приятель забирается на козлы, а мы с папой садимся в повозку. Папа крепко прижимает гробик к груди. У нас дома полно взрослых: мама, бабушка, тетя Эгги, ее муж Па Китинг, дядя Пэт Шихан и дядя Том Шихан – мамин старший брат, который раньше даже близко к нам не подходил, потому что терпеть не может тех, кто с Севера. Дядя Том не один, а с женой, Джейн. Она из Голуэя, и про нее говорят, что она на испанку похожа, поэтому с ней никто из родственников не разговаривает.
Человек из паба забирает у папы гробик и заносит его в комнату.
– О, Господи, нет, нет, – стонет мама.
Папин приятель сообщает бабушке, что скоро вернется и отвезет нас на кладбище.
– Не вздумай сюда пьяным являться, – грозит ему бабушка. – Ребеночек и так при жизни настрадался и заслуживает лучшего отношения, и я не потреплю тут пьяного кучера, который того и гляди с повозки свалится.
– Я, миссус, уж столько детей свез на кладбище и ни разу не свалился ни с высокой повозки, ни с низкой.
* * *
Мужчины снова пьют пиво из бутылок, а женщины потягивают шерри из стеклянных банок.
– Мое пиво, мое пиво, – сообщает всем дядя Пэт.
– Ну, конечно, твое, Пэт. Никто на него не покушается, – успокаивает его бабушка.
Потом он начинает твердить, что споет «Дорогою в Рашин», но Па Китинг говорит:
– Нет, Пэт, в день похорон нельзя. Накануне можно.
– Это мое пиво, и я хочу спеть «Дорогою в Рашин», – не унимается дядя Пэт.
И все понимают, что он так себя ведет, потому что его роняли на голову. Он начинает петь, но осекается, когда бабушка снимает крышку с гробика.
– Господи, Боже мой, да когда же это кончится? – рыдает мама. – Хоть одного-то ребенка мне оставят?
Она сидит на стуле у изголовья кровати, гладит Юджина по голове, по лицу, по рукам и говорит ему, что он был самым милым, ласковым и любящим малышом на свете и как это ужасно прощаться с ним навсегда, одно утешение – знать, что он теперь в раю, с братиком и сестричкой, и Оливер больше не тоскует по своему братику-близнецу. Мама кладет голову на край постели рядом с Юджином и так горько рыдает, что все женщины в комнате плачут вместе с ней. Она плачет и плачет, но Па Китинг говорит ей, что пора ехать, а то дотемна не успеем, а в темноте на кладбище делать нечего.
– Кто ребенка в гробик класть будет? – шепчет бабушка тете Эгги.
– Не я, – отвечает та. – Это мать должна сделать.
Их слышит дядя Пэт.
– Я положу ребенка в гробик, – говорит он.
Потом ковыляет к кровати, обнимает маму за плечи. Та поднимает мокрое от слез лицо.
– Я положу ребенка в гробик, Анджела, – повторяет дядя Пэт.
– Пэт, – охает она. – Ох, Пэт.
– Я смогу, – говорит он. – Это же просто ребеночек. Я никогда не держал на руках ребеночка, но я не уроню его, Анджела. Богом клянусь, не уроню.
– Знаю, что не уронишь, Пэт. Знаю.
– Я просто возьму его на руки, а петь «Дорогою в Рашин» не стану, – уверяет дядя.
– Знаю, что не станешь, – отвечает мама.
Пэт откидывает отдеяльце, которым мама накрыла ножки Юджину. Они такие белые, с тоненькими синими прожилками. Дядя берет Юджина на руки и прижимает его к груди, потом целует Юджина в лобик, и все в комнате подходят и целуют Юджина. Пэт кладет его в гробик и отходит. Мы все стоим вокруг гроба и в последний раз смотрим на Юджина.
– Видишь, Анджела, я его не уронил, – хвалится дядя Пэт, и мама гладит его по щеке.
Тетя Эгги идет в паб за кучером. Тот приходит, закрывает гроб и привинчивает крышку.
– Пойдемте, кто на кладбище поедет, – зовет он и уносит гроб в повозку.
В ней хватает места только маме, папе и нам с Мэйлахи.
– Вы поезжайте, а мы тут вас подождем, – говорит бабушка.
Я не знаю, почему нам нельзя оставить дома Юджина. Не знаю, зачем его увозит этот человек, который ставил пинту на белый гроб. И почему увезли Маргарет и Оливера. Как ужасно, что мою сестричку и братиков положили в ящик, и никого даже спросить нельзя, почему так.
* * *
Лошадь, цокая копытами, повезла нас по улицам Лимерика.
– А Оливера мы увидим? – спросил Мэйлахи.
– Нет, – ответил папа. – Оливер в раю, и не спрашивай, где это, не знаю я.
– Рай – это там, где Оливеру, Юджину и Маргарет весело и тепло, и когда-нибудь мы с ними встретимся, – сказала мама.
– А лошадь кучу сделала и на улице воняло, – сообщил Мэйлахи, и мама с папой невольно улыбнулись.
* * *
На кладбище кучер слезает с козел и открывает нам дверцу.
– Давайте гроб. До могилы донесу. – Он хватается за гроб и оступается.
– Нет уж, не понесешь ты моего ребенка в таком состоянии, – негодует мама. Она поворачивается к папе: – Ты неси.
– Да делайте что хотите. Что хотите, черт побери, – говорит кучер и забирается на свое место.
Уже темнеет, гроб у папы в руках кажется совсем белым. Мама берет нас за руки, и мы идем за папой по тропинке между могилами. Галки на деревьях притихли – день почти закончился, а завтра им рано просыпаться и кормить птенцов.
У могилы ждут двое мужчин.
– Поздненько вы, – говорит один. – Ладно, копать мало, а то мы б ушли уже. – Он спускается в яму и говорит: – Гроб давайте.
Папа подает ему гроб.
Копальщик присыпает гроб соломой и травой, потом вылезает из ямы, и его приятель начинает забрасывать гроб землей.
– Господи, Господи, – рыдает мама.
На дереве кричит галка. Жалко, у меня нет камня, а то я бы ее прибил. Могильщики забрасывают землей яму, вытирают пот со лба и стоят, будто ждут чего-то.
– Э-э, горло бы промочить чуток, – произносит наконец один.
– Да-да, – отвечает папа и дает им денег.
– Соболезнуем, – бросают они и уходят.
Мы идем обратно к воротам, но повозки там нет. Папа уходит в темноту, потом возвращается и качает головой.
– Чертов забудлыга, этот кучер, прости Господи, – сердится мама.
Домой с кладбища идти далеко.
– Детям поесть нужно, – говорит мама папе. – От денег, что тебе утром дали, должно что-то остаться. Про пивнушку на сегодня можешь забыть. Сводим детей в «Нотонс», пусть рыбы с картошкой поедят да лимонаду выпьют, не каждый день они брата хоронят.
Рыба и картошка с уксусом и солью вкуснейшие, а от лимонада пощипывает в горле.
Дома у нас уже никого нет. На столе стоят пустые бутылки, огонь в камине потух. Папа зажигает керосиновую лампу, и теперь видно примятое место на подушке, где лежала голова Юджина. Кажется, что вот-вот послышится его голос, а потом и он сам протопает через комнату, заберется на постель и будет высматривать в окно Оливера.
Папа говорит, ему надо пройтись.
– Нет, – отвечает мама. – Знаю, куда ты собрался. Последние гроши пропить хочешь?
– Ладно, – сдается папа.
Он разводит огонь, мама заваривает чай, а потом мы все ложимся спать. Мы с Мэйлахи возвращаемся в кровать, на которой умер Юджин. Я надеюсь, ему не холодно там, в белом гробу на кладбище, хотя и знаю, что на кладбище его больше нет – туда прилетели ангелы, открыли гроб, и теперь Юджин далеко от реки Шаннон с ее убийственной сыростью, он на небесах вместе с Оливером и Маргарет, и там у них вдоволь рыбы и картошки и ирисок, и никакие злые тети их не донимают, а папы с биржи сразу идут домой и не надо искать их в пабах.
III
Мама заявляет, что больше ни минуты не останется на Хартстондж-стрит. Ей тут день и ночь мерещится Юджин: то будто бы он забирается на кровать и высматривает Оливера на улице, то будто Оливер гуляет на улице и они с Юджином лепечут что-то друг другу через окно. Нет, для нее, конечно, утешение знать, что они теперь могут поболтать друг с другом, но она не выдержит, если будет видеть и слышать их всю оставшуюся жизнь. Переезжать жалко, потому что тут школа Лими, но если не переехать, то мама скоро сойдет с ума и попадет в лечебницу.
Мы переезжаем в переулок Роден-лейн, что на Барачном холме. На одной стороне переулка шесть домов, на другой – один. В каждом по две комнаты наверху и внизу. Наш – самый дальний. Рядом сарайчик, уборная и конюшня.
Мама идет в Общество Святого Викентия де Поля – узнать, нельзя ли какую-нибудь мебель получить. Служащий дает ей талон на стол, два стула и две кровати. За мебелью нужно идти в магазин подержанной мебели в Айриштауне, и домой все придется тащить самим. Мама говорит служащему, что мы все увезем на коляске, которая осталась от близнецов, и при этом плачет. Она вытирает слезы рукавом и спрашивает:
– А кровати дают подержанные?
– Разумеется, – кивает служащий, а мама говорит, что ей как-то не по себе будет спать на постели, на которой, возможно, кто-то умер, а вдруг от чахотки?
Ей отвечают, что сожалеют, но нищим выбирать не приходится.
У нас уходит целый день на то, чтобы перевезти на коляске мебель с одного конца Лимерика на другой. Одно из четырех колес кривое, и коляска так и норовит уехать в сторону. У нас теперь есть две кровати, сервант с зеркалом, стол и два стула. Дом нам очень нравится: можно ходить из комнаты в комнату, спускаться и подниматься по лестнице. Знай, ходи себе по лестнице туда-сюда день-деньской и чувствуй себя богачом. Папа разводит огонь в камине, а мама готовит чай. Папа садится на один стул, мама – на другой, а мы с Мэйлахи устраиваемся на чемодане, привезенном из Америки. Сидим мы, пьем чай, и тут вдруг мимо нашей двери идет старичок с ведром, выливает его в уборной и на кухне у нас начинает страшно вонять.
– А почему вы выливаете ведро в наш туалет? – спрашивает мама, выходя во двор.
– Ваш туалет, миссус? – переспрашивает старичок, приподнимая кепку. – Тут вы маленько ошибаетесь. Туалет у нас один на всю улицу. Мимо вас все одиннадцать семейств с ведрами таскаться будут. Ох и вонища тут стоит по теплу, доложу я вам. Это ладно сейчас конец декабря и холодно, а потом так заблагоухает, что противогаз надеть захочется. Так что спокойной ночи, миссус, и с новосельицем вас.
– Постойте-ка, сэр, – говорит ему мама. – А туалет кто чистит?
– Чистит? Ха, ну вы и спросили. Шутить изволите? Дома-то эти еще при королеве Виктории построены, так что если здешний нужник кто и чистил, так разве что давным-давно и темной ночью, потому что никто и никогда этого чистильщика в глаза не видел. – И старичок, посмеиваясь, возобновляет свой путь вверх по улочке.
Мама снова садится у стола.
– Нельзя здесь оставаться, – произносит она. – Этот туалет нас всех убьет, ох и заразы там!
– Ну и куда нам переезжать? – говорит папа. – Где еще найдешь жилье за шесть шиллингов в неделю? Сами почистим. Накипятим воды много ведер и выльем туда.
– Да неужели? – спрашивает мама. – А где мы уголь и торф раздобудем, чтобы столько воды накипятить?
Папа молча допивает чай и принимается искать гвоздь, чтобы повесить нашу единственную картину. На ней какой-то худощавый человек в желтой шапочке, черном одеянии и с крестом на шее. Папа поясняет, что это папа римский, Лев XIII, большой друг рабочего класса, и картина привезена из Америки, где ее выбросил кто-то, кому дела не было до трудового люда.
Мама говорит, что все это чертова чушь, а папа – что разве можно говорить «чертова» при детях? Гвоздь он находит, вот только молотка нет.
– Одолжи у соседей, – предлагает мама, но папа отвечает, что не пойдет ничего выпрашивать у незнакомых людей. Он приставляет картину к стене и бьет по гвоздю донышком стеклянной банки. Стекло разбивается, ранит папе руку, и кровь капает Льву XIII на голову. Папа оборачивает руку ветошью для мытья посуды и кричит маме:
– Быстрее, вытри кровь, пока не засохла.
Мама пытается стереть кровь шерстяным рукавом, но от этого она только больше размазывается, и теперь у папы римского пол-лица в крови.
– Да Боже мой, Анджела, – стонет папа. – Совсем испортила.
– Да не вой ты, – отвечает мама. – Краской потом закрасим.
– Единственный из пап – друг рабочего класса. И что мы скажем, если к нам из Общества Святого Викентия придут, а у нас тут папа римский весь в крови?
– А мне-то что? – говорит мама. – Кровь-то твоя – тоже мне мужик, называется, даже гвоздь вбить не может. Проку от тебя никакого. Лучше бы в поле лопатой махал, и вообще, мне плевать. У меня спина болит, я спать ложусь.
– Ну и что теперь делать? – вздыхает папа.
– Сними портрет и спрячь в угольной яме под лестницей – и не видно, и не наступит никто.
– Нет, нельзя, – не соглашается папа. – Не к добру это. Угольная яма – не место для папы римского. На стену его надо.
– Делай, как знаешь, – отмахивается мама.
– Ну и сделаю.
* * *
Это наше первое Рождество в Лимерике. Девочки в переулке прыгают через веревочку и поют:
- Рождество подходит,
- Гусь наел бока.
- Ну-ка, брось монетку
- В шляпу старика.
- Если нету пенни
- Хватит и полпенни.
- Если нет полпенни,
- Бог тебя простит!
Мальчишки дразнят девчонок и кричат:
- Чтоб твоя мамаша
- В нужник провалилась.
Мама говорит, что вот бы настоящий рождественский обед приготовить, но после смерти Юджина и Оливера пособие урезали до шестнадцати шиллингов в неделю. За жилье мы платим шесть шиллингов, а на оставшиеся десять разве прокормишь четверых?
Папу никуда не берут. Он встает рано утром, разжигает огонь, кипятит воду, чтоб выпить чаю и побриться, и облачается в рубашку с пристежным воротничком. Потом надевает галстук, кепку и идет на биржу за пособием. Он никогда не выходит из дома без воротничка и галстука, говорит, без них ходить – себя не уважать и что на бирже в любой момент могут предложить работу, а ты не при параде! Ну и что, что работа на мукомольной фабрике или на цементном заводе.
Начальники и бригадиры всегда поначалу относятся к нему с уважением и готовы его нанять, но потом слышат северный акцент и берут кого-нибудь из местных. По крайней мере так он объясняет маме, сидя вечером у камина.
– И чего ты не оденешься по-рабочему? – замечает мама, а папа говорит, что гордостью не поступится и достоинство свое ронять не станет.
– Тогда хотя бы попытался говорить как местный, – предлагает мама, а папа отвечает, что никогда не падет так низко, и вообще – хватит того, что родные сыновья теперь этим недугом страдают, для него это и так уже превеликое огорчение.
– Ах ты, бедный-несчастный, – ухмыляется мама. – Больше погоревать ему не из-за чего.
Папа говорит, что в один прекрасный день мы с Божьей помощью уедем куда подальше от Лимерика и от реки-убийцы.
Я спрашиваю папу, что значит «недуг», а папа отвечает, что это болезнь или когда ведут себя неподобающе.
Когда папа не ищет работу, то уходит за город. Там он предлагает фермерам помощь, потому что сам вырос на ферме и все умеет делать. Если для него находится работа, он принимается за дело, не снимая кепки, воротничка и галстука. Работает он так усердно и долго, что сами фермеры упрашивают его передохнуть, мол, как так можно – целый день на жаре без еды и питья? А папа только улыбается в ответ. Он никогда не приносит домой то, что зарабатывает на фермах, мол, пособие – другое дело, пособие следует домой приносить, а эти деньги он пропивает в пабах. Если папы нет дома в шесть вечера, когда звонит Анжелюс, значит, он днем работал на ферме. Мама все надеется, что он вспомнит про семью и хоть раз пройдет мимо паба, не заходя в него, но такого не бывает. Еще мама надеется, что папа принесет домой хоть что-нибудь из еды: картошку, капусту, репу, морковь, но он никогда ничего не приносит, потому что, видите ли, не опустится до того, чтобы по фермам попрошайничать.
– Я так, значит, должна выпрашивать еду в Обществе Святого Викентия де Поля, а ты пару картофелин в карман сунуть не можешь?! – возмущается мама.
Папа говорит, что у мужчин по-другому. Надо носить воротничок, не жаловаться и никогда ни о чем не просить. Сохранять достоинство.
– Ну, сохраняй, сохраняй, – говорит мама.
Пропив полученные от фермеров деньги, папа бредет домой, распевая песни и рыдая об Ирландии и о своих умерших детках, но больше об Ирландии. Если папа поет «Родди Маккорли», значит, денег у него хватило только на одну-две пинты. А если затягивает «Кевина Барри», значит, день удался, и теперь он ввалится домой пьянющим, поднимет нас с постели, велит построиться в ряд и клясться, что умрем за Ирландию.
– Оставь детей в покое, – злится мама. – Не то дам кочергой по башке.
– Не дашь, Анджела.
– Еще как дам, мало не покажется, – грозит мама. Хватит нести чушь, проспись иди.
– Спать, спать, спать. Какой смысл? Утром опять вставать, да и как спать, если с реки не туман плывет, а отрава?
Папа ложится спать, бьет стену кулаком, поет горестную песню и засыпает. Едва займется день, как он уже на ногах, потому что негоже спать, когда уже рассвело. Он будит нас с Мэйлахи, а мы не выспались, потому что он нас ночью будил, а потом спать не давал бормотаньем и песнями. Мы ноем, что нам плохо, мы устали, но он сдергивает с нас пальто, которым мы укрывались, и сгоняет на пол. На дворе декабрь, морозно, изо рта идет пар. Мы писаем в ведерко у двери и скорее бежим вниз, где папа уже разжег огонь. Там умываемся в тазике, что стоит под краном у двери. Шланг, по которому течет вода, привязан к гвоздю на стене. Вокруг крана все отсырело: и стена, и пол, и стул с тазиком на нем. Вода ледяная, пальцы немеют от холода. Папа говорит, ничего, полезно – так мы настоящими мужчинами вырастем. Он плещет себе ледяной водой на лицо, шею и грудь, показывая нам пример. Мы тянем озябшие руки к огню, но долго так стоять нельзя – пора пить чай с хлебом и отправляться в школу. Папа велит помолиться до еды и после и вести себя хорошо в школе, потому что Бог видит каждый шаг и за малейшую провинность отправляет прямиком в ад, вот уж там точно холодно не будет.
И папа улыбается.
За две недели до Рождества мы возвращаемся из школы под проливным дождем, заходим в дом, а там никого нет. Стол, стулья и чемодан куда-то исчезли, огонь не горит. Но Лев XIII висит на стене, значит, мы не переезжаем. Без портрета папа не уехал бы. На полу повсюду лужицы, стены блестят от сырости. Наверху какой-то шум. Мы поднимаемся по лестнице и видим папу, маму и пропавшую мебель. На втором этаже тепло и уютно, в камине горит огонь. Мама сидит на постели, а папа у камина читает «Айриш-пресс» и курит. Мама рассказывает, что нас тут затопило, дождевая вода потоками текла вниз по переулку и подливалась под дверь. Мама с папой пытались заделать щель тряпками, но только вымокли сами и воды в дом напустили. А народ тут еще со своими ведрами ходит, и теперь на кухне тошнотворная вонь. Нам придется жить наверху, пока дожди не прекратятся. Зимой тут будет тепло, а весной – если стены и пол просохнут, – мы снова переедем вниз. Папа говорит, что мы будто бы уехали на отдых за границу, в Италию какую-нибудь. Теперь мы называем верхний этаж «Италией». Мэйлахи говорит, что папа римский на стене внизу замерзнет, может, его наверх принести?
– Нет уж, пусть там висит, – возражает мама. – Хватит того, что мы его из Бруклина в Белфаст тащили, потом еще в Дублин и в Лимерик, теперь хоть немного покоя и уюта хочется.
* * *
Мама берет нас с собой в Общество Святого Викентия де Поля в надежде раздобыть гуся или окорок к рождественскому столу, но распорядитель говорит, что нынче всем в Лимерике туго. Нам дают талон в лавку миссис Макграт и еще один – к мяснику.
– Какой уж там гусь или окорок, – говорит мясник. – По талону деликатесов не полагается. Вон, кровяную колбасу берите, потроха еще могу дать, голову овечью или свиную. Свиная голова – штука хорошая – мяса много и детям нравится. Свиная щечка да с горчичкой – воистину райская пища. В Америке такого нету, наверное, там всем стейки подавай да птицу дикую, домашнюю и водоплавающую.
– Нет, – говорит он маме. – Ни бекона вареного, ни сосисок я вам дать не могу. Да берите же свиную голову, пока бедняки не налетели и все не расхватали.
– Да кто ж свиную голову в Рождество подает? – удивляется мама.
– У Святого Семейства в холодном вифлеемском хлеву и того не было, – отвечает мясник. – Уж они бы там не упирались, коли им бы такую хорошую свиную голову предлагали.
– Не упирались бы, – говорит мама. – Но и есть бы не стали. Они же иудеи были.
– А это тут при чем? – недоумевает мясник. – Свиная голова – это свиная голова.
– А иудей – это иудей, им религия запрещает, такие уж у них правила.
– А вы, миссус, знаток по части иудеев и свинины, – усмехается мясник.
– Вовсе нет, – говорит мама. – Просто у нас в Нью-Йорке соседка была, миссис Лейбовиц, не знаю, что бы мы без нее делали.
Мясник снимает с полки свиную голову, и Мэйлахи кричит:
– Ой, дохлая собачка.
Мама и мясник смеются. Он заворачивает свиную голову в газету и говорит маме:
– С Рождеством!
Потом добавляет в сверток несколько сосисок.
– Возьмите вот сосисок еще, позавтракаете в Рождество.
– У меня денег нет на сосиски, – говорит мама.
– А я разве просил денег? – обижается мясник. – Так возьмите, вместо гуся и окорока.
– Ну, что вы, вовсе не обязательно, – говорит мама.
– Знаю, миссус. Было б обязательно, не давал бы.
Мама говорит, что у нее спина болит и свиную голову придется нести мне. Я прижимаю сверток к груди, но свиная голова мокрая, и газета слезает с нее кусками.
– Теперь все узнают, что у нас свиная голова на Рождество. Вот позор-то, – сокрушается мама.
Мальчики из нашей школы тычут в меня пальцем и смеются:
– О, гляньте, у Фрэнки Маккорта свиное рыло. Это янки такое на Рождество едят, да, Фрэнк?
– Эй, Кристи, знаешь, как свиную голову есть? – кричит один другому.
– Не-а, не знаю, Пэдди.
– Хватаешь за уши и сжираешь морду.
– А ты Пэдди знаешь, как Маккорты свинью съедят? – хохочет Кристи.
– Нет, Кристи, не знаю.
– Подчистую, ни хрю-хрю не останется.
Еще несколько улиц, газета окончательно отваливается и теперь все видят свиную голову. Пятачок упирается мне в подбородок, и мне жаль поросенка – он умер, а над ним все потешаются. Мои сестра и братики тоже умерли, а если б кто вздумал над ними смеяться, я б в того камнем.
Вот бы папа к нам вышел и помог, а то мама все время останавливается и прислоняется к стене. Она держится за спину и говорит, что на Барачный холм ей не подняться, а от папы все равно толку нет, он никогда не носит ни свертков, ни сумок, ни узлов, потому что это унижает его достоинство. Вот близнецов он носил, когда те уставали, и папу римского тащил из Америки, но это ж не свиная голова. Он и мне с Мэйлахи говорит, чтоб, когда вырастем, носили воротничок и галстук, а чтоб с поклажей в руках нас никто не видел.