Читать онлайн Избранное в двух томах. Том II бесплатно
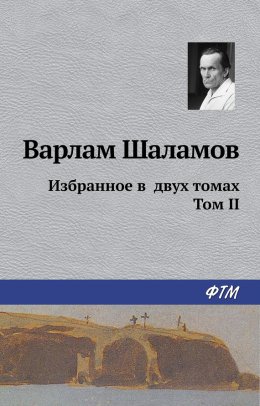
Очерки преступного мира
Об одной ошибке художественной литературы
Художественная литература всегда изображала мир преступников сочувственно, подчас с подобострастием. Художественная литература окружила мир воров романтическим ореолом, соблазнившись дешевой мишурой. Художники не сумели разглядеть подлинного отвратительного лица этого мира. Это – педагогический грех, ошибка, за которую так дорого платит наша юность. Мальчику 14–15 лет простительно увлечься «героическими» фигурами этого мира; художнику это непростительно. Но даже среди больших писателей мы не найдем таких, кто, разглядев подлинное лицо вора, отвернулся бы от него или заклеймил его так, как должен был заклеймить все нравственно негодное всякий большой художник. По прихоти истории наиболее экспансивные проповедники совести и чести, вроде, например, Виктора Гюго, отдали немало сил для восхваления уголовного мира. Гюго казалось, что преступный мир – это такая часть общества, которая твердо, решительно и явно протестует против фальши господствующего мира. Но Гюго не дал себе труда посмотреть – с каких же позиций борется с любой государственной властью это воровское сообщество. Немало мальчиков искало знакомства с живыми «мизераблями» после чтения романов Гюго. Кличка «Жан Вальжан» до сих пор существует среди блатарей.
Достоевский в своих «Записках из Мертвого дома» уклоняется от прямого и резкого ответа на этот вопрос. Все эти Петровы, Лучки, Сушиловы, Газины – все это, с точки зрения подлинного преступного мира, «настоящих блатарей» – «асмодеи», «фраера», «черти», «мужики», то есть такие люди, которые презираются, грабятся, топчутся настоящим «преступным миром». С точки зрения блатных – убийцы и воры Петров и Сушилов гораздо ближе к автору «Записок из Мертвого дома», чем к ним самим. «Воры» Достоевского такой же объект нападения и грабежа, как и Александр Петрович Горянчиков и равные ему, какая бы пропасть ни разделяла дворян-преступников от простого народа. Трудно сказать, почему Достоевский не пошел на правдивое изображение воров. Вор ведь – это не тот человек, который украл. Можно украсть и даже систематически воровать, но не быть блатным, то есть не принадлежать к этому подземному гнусному ордену. По-видимому, в каторге Достоевского не было этого «разряда». «Разряд» этот не карается обычно такими большими сроками наказания, ибо большую массу его не составляют убийцы. Вернее, во времена Достоевского не составляли. Блатных, ходивших «по мокрому», тех, у кого рука «дерзкая», было не так много в преступном мире. «Домушники», «скокари», «фармазоны», «карманники» – вот основные категории общества «урок» или «уркаганов», как называет себя преступный мир. Слово «преступный мир» – это термин, выражение определенного значения. Жулик, урка, уркаган, человек, блатарь – это все синонимы. Достоевский на своей каторге их не встречал, а если бы встретил, мы лишились бы, может быть, лучших страниц этой книги – утверждения веры в человека, утверждения доброго начала, заложенного в людской природе. Но с блатными Достоевский не встречался. Каторжные герои «Записок из Мертвого дома» такие же случайные в преступлении люди, как и сам Александр Петрович Горянчиков. Разве, например, воровство друг у друга – на котором несколько раз останавливается, особо его подчеркивая, Достоевский, – разве это возможная вещь в блатном мире? Там – грабеж фраеров, дележ добычи, карточная игра и последующее скитание вещей по разным хозяевам-блатарям в зависимости от победы в «стос» или «буру». В «Мертвом доме» Газин продает спирт, делают это и другие «целовальники». Но спирт блатные отняли бы у Газина мгновенно, карьера его не успела бы развернуться.
По старому «закону», блатарь не должен работать в местах заключения, за него должны работать фраера. Мясниковы и Варламовы получили бы в блатном мире презрительную кличку «волжский грузчик». Все эти «мослы» (солдаты), «баклушины», «акулькины мужья», все это вовсе не мир профессиональных преступников, не мир блатных. Это просто люди, столкнувшиеся с негативной силой закона, столкнувшиеся случайно, в потемках переступившие какую-то грань, вроде Акима Акимовича – типичного «фраерюги». Блатной же мир – это мир особого закона, ведущий вечную войну с тем миром, представителями которого являются и Аким Акимович, и Петров, вкупе с восьмиглазым плац-майором. Плац-майор блатарям даже ближе. Он богом данное начальство, с ним отношения просты, как с представителем власти, и такому плац-майору любой блатной немало наговорит о справедливости, о чести и о прочих высоких материях. И наговаривает уже не первое столетие. Угреватый, наивный плац-майор – это их открытый враг, а Акимы Акимовичи и Петровы – их жертвы.
Ни в одном из романов Достоевского нет изображений блатных. Достоевский их не знал, а если видел и знал, то отвернулся от них как художник.
У Толстого нет никаких впечатляющих портретов этого сорта людей, даже в «Воскресении», где внешние и иллюстрирующие штрихи наложены так, что художнику за них отвечать не приходится.
Сталкивался с этим миром Чехов. Что-то было в его сахалинской поездке такое, что изменило почерк писателя. В нескольких послесахалинских письмах Чехов прямо указывает, что после этой поездки все написанное им раньше кажется пустяками, недостойными русского писателя. Как и в «Записках из Мертвого дома», на острове Сахалин оглупляющая и растлевающая мерзость мест заключения губит и не может не губить чистое, хорошее, человеческое. Блатной мир ужасает писателя. Чехов угадывает в нем главный аккумулятор этой мерзости, некий атомный реактор, сам восстанавливающий топливо для себя. Но Чехов мог только всплеснуть руками, грустно улыбнуться, указать мягким, но настойчивым жестом на этот мир. Он тоже знал его по Гюго. На Сахалине Чехов был слишком мало, и для своих художественных произведений до самой смерти он не имел смелости взять этот материал.
Казалось бы, биографическая сторона творчества Горького должна бы дать ему повод для правдивого, критического показа блатных. Челкаш – несомненный блатарь. Но этот вор-рецидивист изображен в рассказе с той же принудительной и лживой верностью, как и герои «Отверженных». Гаврилу, конечно, можно толковать не только как символ крестьянской души. Он ученик уркагана Челкаша. Пусть случайный, но обязательный. Ученик, который, быть может, завтра будет «порченым штымпом», поднимется на одну ступень лестницы, ведущей в преступный мир. Ибо, как говорил один блатной философ, «никто не рождается блатным, блатными делаются». В Челкаше Горький, сталкивавшийся с блатным миром в юности, лишь отдал дань тому малограмотному восхищению перед кажущейся свободой суждения и смелостью поведения этой социальной группы.
Васька Пепел («На дне») – весьма сомнительный блатной. Так же, как и Челкаш, он романтизирован, возвеличен, а не развенчан. Несколько внешних, верных черт этой фигуры, явная симпатия автора приводят к тому, что и Пепел служит недоброму делу.
Таковы попытки изображения Горьким преступного мира. Он также не знал этого мира, не сталкивался, по-видимому, с блатными по-настоящему, ибо это, вообще говоря, затруднительно для писателя. Блатной мир – это закрытый, хотя и не очень законспирированный орден, и посторонних для обучения и наблюдения туда не пускают. Ни с Горьким-бродягой, ни с Горьким-писателем никакой блатной по душам не разговорится, ибо Горький для него прежде всего – фраер.
В двадцатые годы литературу нашу охватила мода на налетчиков. «Беня Крик» Бабеля, леоновский «Вор», «Мотькэ Малхамовес» Сельвинского, «Васька Свист в переплете» В. Инбер, каверинский «Конец хазы», наконец, фармазон Остап Бендер Ильфа и Петрова – кажется, все писатели отдали легкомысленную дань внезапному спросу на уголовную романтику. Безудержная поэтизация уголовщины выдавала себя за «свежую струю» в литературе и соблазнила много опытных литературных перьев. Несмотря на чрезвычайно слабое понимание существа дела, обнаруженное всеми упомянутыми, а также и всеми не упомянутыми авторами произведений на подобную тему, они имели успех у читателя, а следовательно, приносили значительный вред.
Дальше пошло еще хуже. Наступила длительная полоса увлечения пресловутой «перековкой», той самой перековкой, над которой блатные смеялись и не устают смеяться по сей день. Открывались Болшевские и Люберецкие коммуны, 120 писателей написали «коллективную» книгу о Беломорско-Балтийском канале, книга издана в макете, чрезвычайно похожем на иллюстрированное Евангелие. Литературным венцом этого периода явились погодинские «Аристократы», где драматург в тысячный раз повторил старую ошибку, не дав себе труда сколько-нибудь серьезно подумать над теми живыми людьми, которые сами в жизни разыграли несложный спектакль перед глазами наивного писателя.
Много выпущено книг, кинофильмов, поставлено пьес на темы перевоспитания людей уголовного мира. Увы!
Преступный мир с гуттенберговских времен и по сей день остается книгой за семью печатями для литераторов и для читателей. Бравшиеся за эту тему писатели разрешали эту серьезнейшую тему легкомысленно, увлекаясь и обманываясь фосфорическим блеском уголовщины, наряжая ее в романтическую маску и тем самым укрепляя у читателя вовсе ложное представление об этом коварном, отвратительном мире, не имеющем в себе ничего человеческого.
Возня с различными «перековками» создала передышку для многих тысяч воров-профессионалов, спасла блатарей.
Что же такое «преступный мир»?
‹1959›
Жульническая кровь
Как человек перестает быть человеком?
Как делаются блатарями?
В преступный мир приходят и со стороны: колхозник, отбывший за мелкую кражу наказание в тюрьме и связавший отныне свою судьбу с уголовниками; бывшие стиляги, уголовные деяния которых приблизили их к тому, о чем они знали лишь понаслышке; заводской слесарь, которому не хватает денег на удалые гулянки с товарищами; люди, которые не имеют профессии, а хотят жить в свое удовольствие, а также люди, которые стыдятся просить работу или милостыню – на улице или в государственном учреждении – это все равно, и предпочитают отнимать, а не просить. Это дело характера, а зачастую примера. Просить работу – это тоже очень мучительно для больного, уязвленного самолюбия оступившегося человека. Особенно подростка. Просить работу – унижение не меньшее, чем просить милостыню. Не лучше ли…
Дикий, застенчивый характер человека подсказывает ему решение, всю серьезность и опасность которого подросток просто не в силах, не может еще оценить. У каждого человека в разное время его жизни бывает необходимость решить что-то важное, «переломить» судьбу, и большинству это важное приходится делать в молодые годы, когда опыт мал, а вероятность ошибок велика. Но в это время также мала и рутина поступков, а велика смелость, решительность.
Поставленный перед трудным выбором, обманутый художественной литературой и тысячей обывательских легенд о таинственном преступном мире, подросток делает страшный шаг, после которого подчас нет возврата.
Потом он привыкает, озлобляется окончательно сам и сам начинает вербовать молодежь в ряды этого проклятого ордена.
В практике этого ордена есть одна важная тонкость, вовсе не замечаемая даже специальной литературой.
Дело в том, что этим подземным миром правят потомственные воры – те, у которых старшие родственники – отцы, деды или хотя бы дяди, старшие братья были уркаганами; те, которые выросли с раннего детства в блатных традициях, в блатном ожесточении ко всему миру; те, которые не могут променять своего положения на другое по понятным причинам; те, чья «жульническая кровь» не вызывает сомнения в своей чистоте.
Потомственные воры и составляют правящее ядро уголовного мира, именно им принадлежит решающий голос во всех суждениях «правилок», этих «судов чести» блатарей, составляющих необходимое, крайне важное условие этой подземной жизни.
Во время так называемого раскулачивания блатной мир расширился сильно. Его ряды умножились – за счет сыновей тех людей, которые были объявлены «кулаками». Расправа с «раскулаченными» умножила ряды блатного мира. Однако никогда и нигде никто из бывших «раскулаченных» не играл видной роли в преступном мире.
Они грабили лучше всех, участвовали в кутежах и гулянках громче всех, пели блатные песни крикливей всех, ругались матерно, превосходя всех блатарей в этой тонкой и важной науке сквернословия, в точности имитировали блатарей и все же были только имитаторами, только подражателями.
В сердцевину блатного мира эти люди допущены не были. Редкие одиночки, особенно отличившиеся – не своими «героическими подвигами» во время ограблений, но усвоением правил блатного поведения, участвовали иногда в «правилках» высших воровских кругов. Увы – они не знали, что сказать на этих правилках. При малейшем столкновении, а каждый блатарь – весьма истеричная особа, – чужакам напоминали их «чуждое» происхождение.
– Ты – порчак! А открываешь хавало! Какой ты вор? Ты волжский грузчик, а не вор! Ты – олень самый настоящий!
«Порчак», то есть «порченый фраер» – фраер, который уже перестал быть фраером, но еще не стал блатарем («Это еще не птица, но уже не четвероногое» – как говорил Жак Паганель у Жюля Верна). И «порчак» терпеливо сносит оскорбления. «Порчаки» не бывают, конечно, хранителями традиций воровского мира.
Для того чтобы быть «хорошим», настоящим вором, нужно вором родиться; только тем, кто с самых юных лет связан с ворами, и притом с «хорошими, известными ворами», кто прошел полностью многолетнюю науку тюрьмы, кражи и блатного воспитания, достается решать важные вопросы блатной жизни.
Каким ты видным грабителем ни будь, какая тебя ни сопровождает удача, ты всегда останешься чужаком-одиночкой, человеком второго сорта среди потомственных воров. Мало воровать, надо принадлежать к этому ордену, а это дается не только кражей, не только убийством. Вовсе не всякий «тяжеловес», вовсе не всякий убийца – только потому, что он – грабитель и убийца – занимает почетное место среди блатарей. Там есть свои блюстители чистоты нравов, и особо важные воровские секреты, касаемые выработки общих законов этого мира (которые, как и жизнь, меняются), выработки языка воров, «блатной фени», – дело только блатарской верхушки, состоящей из потомственных воров, хотя бы там были только карманники.
И даже к мнению мальчика-подростка (сына, брата какого-нибудь видного вора) блатной мир будет прислушиваться больше, чем к суждениям «порчаков» – пусть они будут хоть Ильями Муромцами в грабительском деле.
И «марьян» – женщин блатного мира – будут делить в зависимости от знатности хозяина… Их получат сначала обладатели «голубой крови», а в последнюю очередь – «порчаки».
Блатари немало заботятся о подготовке своей смены, о выращивании «достойных» продолжателей их дела.
Страшный мишурный плащ уголовной романтики ярким маскарадным блеском привлекает юношу, мальчика, чтобы его отравить своим ядом навсегда.
Этот фальшивый блеск стекляруса, выдающего себя за алмаз, повторен тысячей зеркал художественной литературы.
Можно сказать, что художественная литература вместо того, чтобы заклеймить уголовщину, сделала обратное: подготовила почву для расцвета ядовитых ростков в неопытной, неискушенной душе молодежи.
Юноша не в силах сразу разобраться, разглядеть истинное лицо уркаганов, – а потом бывает уже поздно, он оказывает содействие ворам, сблизившийся с ними любой, даже самой малой, близостью – уже заклеймен и обществом, а со своими новыми товарищами связан на жизнь и смерть.
Существенно и то, что в нем самом уже копится личная озлобленность, появляются личные счеты с государством и его представителями. Ему кажется, что его страсти, его личные интересы приходят в неразрешимый конфликт с обществом, с государством. Ему кажется, что он платит слишком дорого за свои «проступки», которые государство называет не проступками, а преступлениями.
Его манит и извечная тяга юности к «плащу и шпаге», к таинственной игре, а здесь «игра» не шуточная, а живая кровавая игра, по своей психологической напряженности не идущая ни в какое сравнение с постными «Учениками Иисуса» или «Тимуром и его командой». Творить зло гораздо увлекательней, чем творить добро. С застучавшим сердцем входя в это воровское подполье, мальчик рядом с собой видит тех людей, которых боятся его папа и мама. Он видит их кажущуюся независимость, ложную свободу. Хвастливое их вранье мальчик принимает за чистую монету. В блатарях он видит людей, которые бросают вызов обществу. Вместо нелегкого добывания трудовой копейки юноша видит «щедрость» вора, «шикарно» разбрасывающего ассигнации после удачного грабежа. Он видит, как пьет и гуляет вор, и эти картины разгула далеко не всегда отпугивают юношу. Он сравнивает скучную, повседневную, скромную работу отца и матери с «трудом» воровского мира, где надо быть, кажется, только смелым…
Мальчик не думает о том, сколько чужого труда и чужой человеческой крови награбил и тратит, не считая, этот его герой. Там есть всегда водка, «план», кокаин, и мальчику дают выпить, и восторг подражания охватывает его.
Среди своих сверстников, бывших товарищей, он замечает некоторое отчуждение, смешанное с боязнью, и по наивности своей детской принимает это отношение за уважение к себе.
А главное – он видит, что все боятся воров, боятся, что любой может зарезать, выколоть глаза…
В «шалман» является какой-нибудь Иван Корзубый из тюрьмы и тысячи рассказов приносит с собой – кого он видел, кто за что и на сколько осужден – все это опасно и пленительно.
Юноша видит, что люди живут, обходясь без того, что бывает постоянной заботой в семье.
Вот юноша пьян по-настоящему, вот он уже бьет проститутку – бабу он должен уметь бить! – это одна из традиций новой жизни.
Юноша мечтает об окончательной шлифовке, окончательном приобщении к ордену. Это – тюрьма, которой он приучен не бояться.
Старшие его берут «на дело» – на первых порах стоять где-нибудь «на вассере» (на страже). Вот уже и взрослые воры ему доверяют, а вот он ворует и сам, и сам «распоряжается».
Он быстро усваивает манеры, непередаваемой наглости усмешку, походку, выпускает брюки на сапоги особым напуском, надевает крест на шею, покупает шапку-кубанку на зиму, «капитанку» – летом.
В первую же свою тюремную отсидку он татуируется новыми друзьями – мастерами этого дела. Опознавательный знак его принадлежности к ордену блатарей, как каиново клеймо, навечно нанесен синей тушью на его тело. Много раз после будет он жалеть о наколках, много крови испортят они блатарю. Но все это будет после, много после.
Он давно уже овладел «блатной феней», воровским языком. Он бойко услуживает старшим. В поведении своем мальчик боится скорее недосолить, чем пересолить.
И дверь за дверью открывает блатной мир перед ним свои последние глубины.
Вот он уже принимает участие в кровавых «правилках», «судах чести», и его, как и всех остальных, заставляют «расписаться» на трупе удавленного по приговору блатного суда. Кто-то сует ему в руки нож, и он тычет ножом в еще теплый труп, доказывая свою полную солидарность с действиями своих учителей.
Вот он и сам убивает по приговору старших указанного ему «предателя», «суку».
Среди блатных вряд ли есть хоть один человек, который не был бы когда-либо убийцей.
Такова схема воспитания молодого блатаря из юноши чужого мира.
Проще воспитываются представители «голубой крови», потомственные блатари или те, что никакой жизни, кроме воровской, не знали и не собирались ее знать.
Не нужно думать, что эти люди, из которых и выходят идеологи и вожди блатного мира, эти принцы жульнической крови, воспитываются каким-то особенным, тепличным способом. Отнюдь нет. Их никто не оберегает от опасностей. Просто на их пути к вершинам или, вернее, к наиболее глубоким ямам блатного дна стоит меньше препятствий. Их путь проще, скорее, безоговорочней. Им раньше верят, раньше дают воровские поручения.
Но много лет юный блатарь, хотя бы его предками были самые влиятельные вельможи воровской среды, трется около взрослых бандитов, им боготворимых, бегает им за папиросами, подносит «огонька» прикурить, таскает «ксивёнки» – записки, всячески услуживает. Много лет проходит, пока его возьмут на кражу.
Вор – ворует, пьет, гуляет, развратничает, играет в карты, обманывает фраеров, не работает ни на воле, ни в заключении, кровавой расправой уничтожает ренегатов и участвует в «правилках», вырабатывающих важные вопросы подземной жизни.
Он хранит блатные тайны (их немало), помогает товарищам по ордену, вовлекает и воспитывает юношество и следит за сохранением в суровой чистоте воровского закона.
Кодекс несложен. Но за столетия он оброс тысячами традиций, святых обычаев, мелочное выполнение которых тщательно блюдется хранителями воровских заветов. Блатари – большие талмудисты. Для того чтобы обеспечить наилучшее выполнение воровских законов, время от времени устраивают великие, повсеместные подпольные собрания, где и выносятся решения, диктующие правила поведения применительно к новым условиям жизни, производятся (вернее, утверждаются) замены слов в вечно меняющемся воровском лексиконе, «блатной фене».
Все люди мира, по философии блатарей, делятся на две части. Одна часть – это «люди», «жулье», «преступный мир», «урки», «уркаганы», «блатари», «жуки-куки» и т. п.
Другая – фраера, то есть «вольные». Старинное слово фраер – одесского происхождения. В «блатной музыке» прошлого столетия много жаргонных еврейско-немецких слов.
Другие названия фраеров – «штымпы», «мужики», «олени», «асмодеи», «черти». Есть «порченые штымпы», близкие к блатарям, и «битые фраера» – знакомые с делами блатного мира, разгадавшие их хотя бы частично, опытные; «битый фраер» – это значит опытный, произносится это с уважением. Это – разные миры, и не только тюремная решетка разделяет их.
«Мне говорят, что я подлец. Хорошо, я – подлец. Я подлец, и мерзавец, и убийца. Но что из этого? Я не живу вашей жизнью, у меня жизнь своя, у нее другие законы, другие интересы, другая честность!» – так говорит блатарь.
Ложь, обман, провокация по отношению к фраеру, хотя бы к человеку, который спас блатаря от смерти, – все это не только в порядке вещей, но и особая доблесть блатного мира, его закон.
Хуже чем наивны призывы Шейнина к «доверию» преступному миру, доверию, за которое уже заплачено слишком большой кровью.
Лживость блатарей не имеет границ, ибо в отношении фраеров (а фраера – это весь мир, кроме блатарей) нет другого закона, кроме закона обмана – любым способом: лестью, клеветой, обещанием…
Фраер и создан для того, чтобы его обманывали; тот, который настороже, который имел уже печальный опыт общения с блатарями, называется «битым фраером» – особая группа «чертей».
Нет границ, нет пределов этим клятвам и обещаниям. Баснословное количество всяких и всяческих начальников, штатных и нештатных воспитателей, милиционеров, следователей ловилось на немудреную удочку «честного слова вора». Наверное, каждый из тех работников, в обязанности которых входит ежедневное общение с жульем, много раз попадался на эту приманку. Попадался и дважды, и трижды, потому что никак не мог понять, что мораль блатного мира – другая мораль, что так называемая готтентотская мораль с ее критерием непосредственной пользы – невиннейшая по сравнению с мрачной блатарской практикой.
Начальники («начальнички», как их зовут блатари) неизменно оказывались обманутыми, одураченными…
А тем временем в городах с непонятным упорством возобновляли насквозь фальшивую и вредную пьесу Погодина, и новые поколения «начальничков» проникались понятиями о «чести» Кости-капитана.
Вся воспитательная работа с ворами, на которую ухлопали миллионы государственных денег, все эти фантастические «перековки» и легенды Беломорканала, давно ставшие притчей во языцех и предметом досужих острот блатарей, вся воспитательная работа держалась на такой эфемерной штуке, как «честное слово вора».
– Подумайте, – говорит какой-нибудь специалист по блатному миру, «начитанник» Бабеля и Погодина, – ведь Костя-капитан не то что дал «честное слово» исправиться. Меня, старого воробья, на этой мякине не проведешь. Я не такой уж фраер, чтобы не понимать, что дать честное слово им ничего не стоит. Но ведь Костя-капитан дал «честное слово вора». Вора! Вот ведь в чем штука. Уж этого своего слова он не сдержать не может. Его «аристократическое» самолюбие этого не допустит. Он умрет от презрения к самому себе, нарушившему «честное слово вора».
Бедный, наивный начальник! Дать честное слово вора фраеру, обмануть его, а затем растоптать клятву и нарушить ее – это воровская доблесть, предмет хвастливых россказней где-нибудь на тюремных нарах.
Много побегов было облегчено, подготовлено благодаря вовремя данному «честному слову вора». Если бы каждый начальник знал (а знают это только начальники, умудренные многолетним опытом общения с «капитанами»), что такое клятва вора, и по достоинству ее оценил – крови, жестокостей было бы гораздо меньше.
Но, может быть, мы ошибаемся, когда пытаемся связать два этих разных мира – «фраеров» и «уркаганов»?
Может быть, законы чести, морали действуют в мире «жулья» по-своему и мы просто не вправе адресоваться в мир блатарей с нашими моральными мерками?
Может быть, «честное слово вора», данное не фраеру, а «вору в законе», – есть настоящее честное слово?
Это и есть тот романтический элемент, который волнует юношеское сердце, который как бы оправдывает, вносит дух некоей, хотя и своеобразной, «моральной чистоплотности» в воровской быт, в отношения людей внутри этого мира. Быть может, подлость есть понятие разное для мира фраеров и для блатного общества? Душевными движениями уркаганов управляет, дескать, свой закон. И только встав на их точку зрения, мы и поймем, и даже признаем де-факто специфичность воровской морали.
Так не прочь думать и некоторые блатари поумнее. Не прочь и в этом вопросе «запудрить мозги» простаков.
Любая кровавая подлость в отношении фраера оправдана и освящена законами блатного мира. Но в отношении к своим товарищам вор, казалось бы, должен быть честен. К этому зовут его блатные скрижали, и жестокая расплата ждет нарушителей «товарищества».
Здесь та же театральная рисовка и хвастливая ложь с первого до последнего слова. Достаточно посмотреть поведение законодателей блатных мод в трудных условиях, когда под руками мало фраерского материала, когда приходится вариться в собственном соку.
Вор покрупнее, «авторитетнее» (слово «авторитет» в большом ходу среди воров – «заимел авторитет» и т. п.), физически сильнее держится угнетением воров поменьше, которые таскают ему пищу, ухаживают за ним. И если приходится кому-то идти работать, то на работу посылаются свои же товарищи послабее, и теперь от них, этих своих товарищей, блатная верхушка требует того же, что требовала раньше от фраеров.
Грозная поговорка «умри ты сегодня, а я завтра» начинает повторяться все чаще и чаще во всей своей кровавой реальности. Увы, в блатарской поговорке нет никакого переносного смысла, никакой условности.
Голод заставляет блатаря отнимать и поедать порции своих менее «авторитетных» друзей, посылать их в экспедиции, имеющие очень мало общего с правильным выполнением воровских законов.
Везде рассылают грозные записки – «ксивы» с просьбами о помощи, и если есть возможность заработать кусок хлеба, а украсть нельзя – те, что помельче, идут работать, «пахать». Их посылают на работу так, как на убийство. За убийство расплачиваются вовсе не главари, главари только приговаривают к смерти. Убивают мелкие воры, под страхом собственной смерти. Убивают или выкалывают глаза (весьма распространенная «санкция» в отношении фраеров).
В трудном положении воры также доносят лагерным начальникам друг на друга. О доносах же на фраеров, на «Иван Иванычей», на «политиков» и говорить нечего. Эти доносы – путь к облегчению жизни блатаря, предмет его особой гордости.
Рыцарские плащи слетают, и остается подлость как таковая, которой проникнута философия блатаря. Логическим образом эта подлость в трудных условиях обращается на своих товарищей по ордену. В этом нет ничего удивительного. Подземное уголовное царство – мир, где целью жизни ставится жадное удовлетворение низменнейших страстей, где интересы – скотские, хуже скотских, ибо любой зверь испугался б тех поступков, на которые с легкостью идут блатари.
(«Самый страшный зверь – человек» – распространенная блатная присказка опять-таки в буквальности, в реальности.)
Представитель такого мира не может выказать духовной твердости в положении, угрожающем смертью или длительными физическими мучениями, он и не проявляет этой твердости.
Было бы большой ошибкой думать, что понятия «пить», «гулять», «развратничать» одинаковы с соответствующими понятиями фраерского мира. Увы! Все фраерское выглядит крайне целомудренно в сравнении с дикими сценами блатарского быта.
В больничную палату к блатарям – больным (симулянтам и аггравантам, конечно) добирается (то ли по вызову, то ли по собственному почину) какая-либо зататуированная проститутка или «городушница», и ночью (пригрозив дежурному санитару ножом) возле этой новоявленной святой Терезы собирается компания блатарей. Все, кто имеет «жульническую кровь», могут принять участие в этом «удовольствии». Задержанная, не смущаясь и не краснея, объясняет, что «пришла выручить ребят – ребята попросили».
Блатари все – педерасты. Возле каждого видного блатаря вьются в лагере молодые люди с набухшими мутными глазами: «Зойки», «Маньки», «Верки» – которых блатарь подкармливает и с которыми он спит.
В одном из лагерных отделений (где не было голодно) блатари приручили и развратили собаку-суку. Ее прикармливали, ласкали, потом спали с ней, как с женщиной, открыто, на глазах всего барака.
В возможность обыденности подобных случаев не хотят верить из-за их чудовищности. Но это – быт.
Был женский прииск, многолюдный, с тяжелой «каменной» работой, с голодом. Блатарю Любову удалось попасть туда на работу.
«Эх, славно пожил зиму, – вспоминал блатарь. – Там, ясное дело, все за хлеб, за паечку. И обычай, уговор такой был: отдаешь пайку ей в руки – ешь! Пока я с ней, должна она эту паечку съесть, а что не успеет – отбираю обратно. Вот я утром паечку получаю – и в снег ее! Заморожу пайку – много ли баба угрызет замороженного-то хлеба…»
Трудно, конечно, представить, что человеку может прийти в голову такое.
Но в блатаре и нет ничего человеческого.
В лагере дают на руки заключенным кое-какие деньги, какой-то остаток после оплаты «коммунальных услуг» в виде конвоя, брезентовых палаток на шестидесятиградусном морозе, тюрем, пересылок, обмундирования, питания. Остаток мизерен, но все же он – призрак денег. Масштабы смещены, и даже ничтожная «зарплата» – 20–30 рублей в месяц – вызывает интерес у заключенных. На 20–30 рублей можно купить хлеба, много хлеба – разве это не важная мечта, сильнейший «стимул» во время тяжелой многочасовой работы в забое, работы на морозе и в голоде и в холоде. Интересы людей сужены, но интересы не стали менее сильными, когда люди стали полулюдьми.
Заработную плату, получку, платят раз в месяц, и в этот день блатари обходят все фраерские бараки, заставляя отдавать деньги – в зависимости от совести «рэкетиров», или половину, или все. Если не отдают добровольно, то все отнимается насильно, с побоями – ломом, кайлом, лопатой.
На эти заработки охотников и без блатарей много. Часто бригады с хорошей продовольственной карточкой, бригады, которые лучше питаются, предупреждены бригадиром, что денег получать рабочие не будут, что деньги пойдут десятнику или нормировщику. А если не согласны, то и карточки будут плохие, тем самым арестанты обрекаются на голодную смерть.
Поборы «начальничков» – нормировщиков, бригадиров, смотрителей – повсеместное явление.
Грабежи, совершаемые блатарями, встречаются всюду. Рэкет узаконен и никого не удивляет.
В 1938 году, когда между начальством и блатарями существовал почти официальный «конкордат», когда воры были объявлены «друзьями народа», высокое начальство искало в блатарях орудие борьбы с «троцкистами», с «врагами народа». Проводились даже «политзанятия» с блатарями в КВЧ, где работники культуры разъясняли блатарям симпатии и надежды властей и просили у них помощи в деле уничтожения «троцкистов».
– Эти люди присланы сюда для уничтожения, а ваша задача – помочь нам в этом деле, – вот подлинные слова инспектора КВЧ прииска «Партизан» Шарова, сказанные им на таких «занятиях» зимой в начале 1938 года.
Блатари ответили полным согласием. Еще бы! Это спасало им жизнь, делало их «полезными» членами общества.
В лице «троцкистов» они встретили глубоко ненавидимую ими «интеллигенцию». Кроме того, в глазах блатарей это были «начальнички», попавшие в беду, начальники, которых ждала кровавая расплата.
Блатари при полном одобрении начальства приступили к избиениям «фашистов» – другой клички не было для пятьдесят восьмой статьи в 1938 году.
Люди покрупнее, вроде Эшбы, бывшего секретаря Северо-Кавказского крайкома партии, были арестованы и расстреляны на знаменитой «Серпантинке», а остальных добивали блатари, конвой, голод и холод. Велико участие блатарей в ликвидации «троцкистов» в 1938 году.
«Бывают же случаи, – скажут мне, – когда вор, если ему оказать поблажку, держит свое слово и – незримо – обеспечивает „порядок“ в лагере».
– Мне выгоднее, – говорит начальник, – чтоб пять-шесть воров не работало вовсе или работало где хотело, – зато остальное лагерное население, не обижаемое ворами, будет работать хорошо. Тем более что конвоя не хватает. Воры обещают не красть и следить за тем, чтобы все остальные заключенные работали. Правда, в части выполнения норм этими остальными гарантий воры не дают, но это уж дело десятое.
Случаи такой договоренности между ворами и местным начальством не так уж редки.
Начальник не стремится к точному выполнению правил лагерного режима, он облегчает свою задачу, и облегчает значительно. Такой начальник не понимает, что он уже пойман ворами «на крючок», что он уже «на крючке» у воров. Он уже отступил от закона, делая поблажку ворам из расчета ложного и преступного – потому что фраерское население лагеря обрекается начальником во власть воров. Из этого фраерского населения у начальника найдут защиту только бытовики, осужденные по служебным и бытовым преступлениям, то есть казнокрады, убийцы и взяточники. Осужденные же по пятьдесят восьмой статье защиты не найдут.
Эта первая поблажка ворам легко приводит начальников в более тесное общение с «преступным миром». Начальник берет взятку – «борзыми щенками» или деньгами – тут дело решается опытностью дающего, жадностью получающего. Воры – мастера давать взятку. Тем легче, щедрее это делается, что вручаемое – приобретено кражей, грабежом.
Дается тысячный костюм (блатари и носят, и хранят очень хорошие «вольные» вещи именно для взятки в нужных случаях), обувь какая-нибудь замечательная, золотые часы, значительная сумма денег…
Не берет начальник, «смажут» его жену, приложат всю энергию для того, чтобы «начальничек» только взял раз и два. Это – подарки. У «начальничка» ничего не попросят взамен. Ему будут давать и благодарить. Попросят позже – когда «начальничек» будет опутан воровскими сетями покрепче и будет бояться разоблачения перед высшим начальством. Такое разоблачение – угроза веская и легко осуществимая.
Честное же слово вора в том, что никто ничего не узнает, – это ведь клятва вора фраеру.
Кроме всего прочего, обещание не воровать – это обещание не воровать заметно, не грабить – и только. Не будет же начальник отпускать воров в воровские экспедиции (хотя и такие случаи бывали). Воровать воры будут все равно, ибо это их жизнь, их закон. Они могут пообещать начальнику не воровать у себя на прииске, не обкрадывать лагерную обслугу, не обкрадывать лагерные ларьки, охрану, но все это – лживо. Найдутся старшие, которые охотно разрешат своих товарищей от такого рода «присяги».
Если дано обещание не воровать – это значит, что рэкет будет сопровождаться более грозным запугиванием, вплоть до угроз убийством.
В тех лагерных отделениях заключенные живут хуже всего, бесправней всего, голоднее всего, меньше зарабатывают и хуже едят, где воры командуют нарядчиками, поварами, надзирателями и самими начальниками.
Примеру начальников следовал и лагерный конвой.
Не один год конвой, сопровождающий заключенных на работу, «отвечал» за выполнение плана. Эта ответственность была не вполне настоящей и деловой, а вроде ответственности профсоюзников. Однако, подчиняясь воинскому приказу, конвоиры требовали от заключенных работы. «Давай, давай» – стало привычным возгласом не только в устах бригадиров, смотрителей и десятников, но и конвоиров. Конвоиры, для которых это было лишней нагрузкой, кроме чисто охранных дел, не очень одобрительно встретили новые неоплачиваемые свои обязанности. Но приказ есть приказ, и в ход чаще пошел приклад, выбивая «проценты» из заключенных.
Вскоре – хочу думать, что эмпирически, – конвой нашел выход из положения, несколько затрудненного настойчивыми производственными приказами конвойного начальства.
Конвоиры выводили партию (в которой всегда были смешаны «политики» с ворами) на работу и сдавали эту работу на откуп ворам. Воры охотно разыгрывали роль добровольных бригадиров. Они избивали заключенных (с благословения и при поддержке конвоя), заставляя полуживых от голода стариков выполнять тяжелую работу в золотых забоях, палками выбивая из них «план», в который включалась и та часть задания, которая падала на самих воров.
Десятники в такие детали никогда не вмешивались, добиваясь лишь увеличения общей выработки любым путем.
Десятники почти всегда были подкуплены ворами. Это делалось в форме прямой взятки, вещевой или денежной, без всякой предварительной обработки. Десятник сам ждал взятки. Это был его постоянный и значительный дополнительный доход.
Иногда обработка десятника велась с помощью «игры на кубики», то есть игры в карты на кубометры выполненной работы.
Бригадир-вор садился играть с десятником и против выставленных «тряпок» – костюмов, свитеров, рубашек, брюк – требовал оплаты «кубиками» – кубометрами земли…
При выигрыше, а выигрыш был почти всегда за исключением тех случаев, когда требовалась «изящная» взятка, сделавшая бы честь какому-нибудь французскому маркизу за карточным столом Людовика XIV, – проигранные кубометры грунта, породы оплачивались настоящими нарядами, и бригада блатарей, не работая, получала высокие заработки. Десятник пограмотней пытался свести баланс, обсчитывая бригады «троцкистов».
Приписка – «продажа кубометров» была бедствием на прииске. Маркшейдерские замеры устанавливали истину и обнаруживали виновных… Таких десятников-жуликов только понижали в должности или переводили в другое место. И вслед за ними оставались трупы голодных людей, из которых пытались «выбить» проигранные десятником «кубики».
Растленный дух блатарей пронизывал всю колымскую жизнь.
Без отчетливого понимания сущности преступного мира нельзя понять лагеря. Блатари дают лицо местам заключения, тон всей жизни в них – начиная от самых высоких начальников и кончая полуголодными работягами золотого забоя.
Идеальный блатарь, «настоящий вор», блатной Каскарилья не грабит «частных лиц». Такова одна из «творимых легенд» блатного мира… Вор грабит только казенное – каптерку, кассу, магазин, в худшем случае «вольные» квартиры, а забирать последнее у арестанта, у заключенного – «хороший вор» не станет. Дескать, кража белья, насильственные «сменки» хорошей одежды и обуви на плохую, кража рукавиц, полушубков, шарфов (из казенного) и свитеров, пиджаков, брюк (из вольного) совершается «шпаной», «сявками», «кусочниками», крохоборами…
– Если бы у нас тут были настоящие воры, – вздыхает обыватель, – они не допустили бы грабежей, чинимых уголовной мелкотою.
Бедный фраер верит в Каскарилью. Он не хочет понять, что мелкоту посылают на кражи белья люди покрупнее, что добытые «лепеха» и «шкары» появляются у «авторитетных» воров не потому, что эти воры посильнее воруют брюки и пиджаки.
Фраер не знает, что чаще всего «лазят» те воришки, которым положено набить руку в своей специальности, что делить награбленное будут вовсе не они. При операции посложнее и взрослые примут участие в грабеже – путем ли уговора: отдай, дескать, зачем тебе надо? – или пресловутой «сменки», когда на фраера насильно напяливается ветошь, вещь, давно уже ставшая символом вещи, то есть годящаяся на «сдачу» при отчете. Оттого-то через день-два после выдачи нового обмундирования в лагере лучшим бригадам оказывается, что новые полушубки, бушлаты, шапки – у воров, хотя и не выдавались им. Иногда при «сменке» дают закурить или кусок хлеба – это если блатарь «порядочный» и не злой по натуре или боится, что его жертва «забазлает», то есть поднимет крик.
Отказ от «сменки» или «подарка» влечет за собой побои, а при упрямстве фраера и удар ножом. Но в большинстве случаев до ножа дело не доходит.
Эти «сменки» совсем не шутка в условиях многочасовой работы на пятидесятиградусном морозе, недосыпа, голода и цинги. Отдать валенки, полученные из дому, – значит поморозить ноги. В дырявых матерчатых бурках, которые предлагают в «сменку», долго не поработаешь на морозе.
В 1938 году поздней осенью получил я посылку из дома – мои старые авиационные бурки на пробковой подошве. Я побоялся вынести их с почты – здание окружала толпа блатарей, прыгавшая в белой полутьме вечера, ожидая жертв. Я продал бурки тут же десятнику Бойко за сто рублей – по колымским ценам бурки стоили тысячи две. Я бы мог добраться в бурках до барака – их украли бы в первую же ночь, стащили бы с ног. Воров привели бы в барак мои же соседи за папиросу, за корку хлеба, они «навели» бы грабителей немедля. Такими «наводчиками» был полон весь лагерь. А сто рублей, вырученные за бурки, – это сто килограммов хлеба – деньги сохранить гораздо легче, привязав их к телу и при покупках не выдавая себя.
Вот и ходят блатари в валенках, подвернутых по блатной моде, «чтоб не забивался снег», «достают» полушубки, и шарфы, и шапки-ушанки, да не просто ушанки, а стильные, блатарские, «форменные» кубаночки.
У крестьянского парня, у рабочего парня, у интеллигента голова идет кругом от неожиданностей. Парень видит, что воры и убийцы живут в лагере лучше всех, пользуются и относительной материальной обеспеченностью, и отличаются определенной твердостью взглядов и завидным разудалым, бесстрашным поведением.
С ворами считается начальство. Блатари – хозяева жизни и смерти в лагере. Они всегда сыты, умеют «достать», когда все остальные – голодны. Вор не работает, пьянствует, даже в лагере, а крестьянский парень вынужден «пахать». Воры его и заставляют «пахать» – так они ловко приспособились. У воров всегда табачок, лагерный парикмахер приходит стричь их «под бокс» на «дом», в барак, захватив лучший свой инструмент. Повар приносит им ежедневно из кухни украденные консервы и сладости. Для воров помельче с кухни отпускаются лучшие и вдесятеро увеличенные порции. Хлеборез им никогда не откажет в хлебе. Вся вольная одежда на плечах блатарей. На лучшем месте нар – у света, у печки – располагаются блатари. У них есть и ватные подстилки и ватные одеяла, а он – молодой колхозник – спит на разрубленных вдоль бревнах. Крестьянский парень начинает думать, что блатари и есть носители лагерной правды, что они единственная сила, и материальная и моральная, в лагере, кроме начальства, которое предпочитает в огромном большинстве случаев не ссориться с блатарями.
Молодой крестьянский парень начинает услуживать блатарям, подражать им в ругательствах, в поведении, мечтает оказать им помощь, озариться их огнем.
Недалек час, когда он, по указанию блатарей, сделает первую кражу в общий котел – и новый «порчак» готов.
Яд блатного мира невероятно страшен. Отравленность этим ядом – растление всего человеческого в человеке. Этим зловонным дыханием дышат все, кто соприкасается с этим миром. Какие тут нужны противогазы?
Я знал кандидата наук, вольнонаемного врача, рекомендовавшего своему коллеге особую внимательность по отношению к «больному»: «Ведь это – крупный вор!» Можно было подумать, что пациент, по крайней мере, отправил ракету на Луну, – таков был тон этой рекомендации. Он, этот врач, даже не ощущал всей оскорбительности для себя, для собственной личности подобного суждения.
Воры быстро нащупали «слабину» у Ивана Александровича (так звали кандидата наук). В отделении, которым он заведовал, всегда лежали на отдыхе совершенно здоровые люди. («Профессор – отец родной», – смеялись воры.)
Иван Александрович вел фальшивые истории болезни, не жалея ночного отдыха и труда, сочинял ежедневные записи, заказывал анализы и обследования…
Как-то мне довелось прочесть письмо, адресованное ему группой воров – с пересылки, где они просили положить в больницу своих соратников, нуждающихся, по их мнению, в отдыхе. И перечисленные в списке блатари постепенно были положены в больницу.
Иван Александрович не боялся блатарей. Он был старым колымчанином, видал виды, угрозами бы блатари ничего не добились. Но дружеское похлопывание по плечу, блатарские комплименты, которые Иван Александрович принимал за чистую монету, его слава среди блатного мира, слава, в сущности которой он не разбирался и не хотел разбираться, – вот что приобщило его к блатному миру. Иван Александрович, как и многие другие, был загипнотизирован всевластием блатарей, и его воля стала их волей.
Неизмерим, необозрим тот вред, который принесло обществу многолетнее цацканье с ворами, вреднейшим элементом общества, не перестающим отравлять своим зловонным дыханием нашу молодежь.
Возникшая из чисто умозрительных посылок теория «перековки» привела к десяткам и сотням тысяч лишних смертей в местах заключения, к многолетнему кошмару, который создали в лагерях люди, недостойные названия человека.
Блатной язык меняется время от времени. Смена словаря-шифра – не процесс совершенствования, а средство самосохранения. Блатному миру известно, что уголовный розыск изучает их язык. Человек, вошедший в «кодло» и вздумавший изъясняться «блатной музыкой» двадцатых годов, когда говорили «на стрёме», «на цинку», вызовет подозрение у блатарей в тридцатых годах, привыкших к выражениям «на вассере» и т. д.
Мы плохо и неверно разбираемся в разнице между ворами и хулиганами. Слов нет, обе эти социальные группы – антиобщественны, обе враждебны обществу. Но взвесить истинную опасность каждой группы, оценить ее по достоинству мы способны крайне редко. Бесспорно, что мы больше боимся хулигана, чем вора. В быту мы общаемся с ворами очень редко, всякий раз эти встречи происходят либо в отделении милиции, либо в уголовном розыске, где мы выступаем в роли потерпевших или свидетелей. Гораздо грознее хулиган – пьяное страшилище, «чубаровец», возникающий на бульваре, или в клубе, или в коридоре коммунальной квартиры. Традиционность русского молодечества – пьянки в «храмовые» праздники, пьяные драки, приставания к женщинам, грязная ругань – все это хорошо нам известно и кажется нам гораздо страшнее того таинственного воровского мира, о котором мы имеем – по вине художественной литературы – крайне смутное понятие. Подлинную цену хулиганов и воров знают только работники уголовного розыска; но из примера творчества Льва Шейнина можно видеть, что знание не всегда используется правильным образом.
Мы не знаем, что такое вор, что такое уркаган, что такое блатарь, вор-рецидивист. Укравшего белье с веревки на даче и напившегося тут же в станционном буфете мы считаем видным «скокарем».
Мы не догадываемся, что человек может воровать, не будучи вором, членом преступного мира. Мы не понимаем, что человек может убивать и воровать и не быть блатарем. Конечно, блатарь ворует. Он этим живет. Но не всякий вор – блатарь, и понять эту разницу категорически необходимо. Преступный мир существует рядом с чужими кражами, рядом с хулиганством.
Правда, для потерпевшего все равно, кто украл у него из квартиры серебряные ложки или костюм наваринского пламени с дымом – вор-блатарь, вор-профессионал, но не блатарь, или квартирный сосед, никогда кражами не занимавшийся. Пусть, дескать, в этом разбирается уголовный розыск.
Хулиганов мы боимся больше, чем воров. Ясно, что никакие «народные дружины» не справятся с ворами, о которых мы, к сожалению, имеем вовсе превратное понятие. Подчас думают, что где-то в глубоком подполье под чужими именами скрываются и живут таинственные блатари. Они грабят только магазины и кассы. Белья с веревки эти каскарильи не унесут, этим «благородным жуликам» обыватель рад даже помочь – он иногда прячет их от милиции – то ли из романтических побуждений, то ли «за боюсь» – из страха, что чаще.
Хулиган страшнее. Хулиган ежедневен, общедоступен, близок. Он страшен. Спасения от него и ищем мы в милиции и в народных дружинах.
Между тем хулиган, всякий хулиган стоит еще на грани человеческого. Вор-блатарь стоит вне человеческой морали.
Любой убийца, любой хулиган – ничто по сравнению с вором. Вор тоже убийца и хулиган плюс еще нечто такое, чему почти нет имени на человеческом языке.
Работники мест заключения или уголовного розыска не очень любят делиться своими важными воспоминаниями. У нас есть тысячи дешевых детективов, романов. У нас нет ни одной серьезной и добросовестной книги о преступном мире, написанной работником, чьей обязанностью была борьба с этим миром.
Это ведь постоянная социальная группа, которую правильней было бы назвать антисоциальной. Она вносит отраву в жизнь наших детей, она борется с нашим обществом и одерживает подчас успехи потому, что к ней относятся с доверием и наивностью, а она борется с обществом совсем другим оружием – оружием подлости, лжи, коварства, обмана – и живет, обманывая одного начальника за другим. Чем выше по чину начальник, тем легче его обмануть.
Сами блатари относятся к хулиганам резко отрицательно. «Да это не вор, это – просто хулиган», «это хулиганский поступок, недостойный вора» – такие фразы непередаваемой фонетики в ходу среди преступного мира. Эти примеры воровского ханжества встречаются на каждом шагу. Блатарь хочет отделить себя от хулиганов, поставить себя гораздо выше и настойчиво требует, чтобы обыватели различали воров и хулиганов.
В этом направлении ведется и воспитание молодого блатаря. Вор не должен быть хулиганом, образ «вора-джентльмена» – это и свидетельство прослушанных «романов», и официальный символ веры блатарей. Есть в этом образе «вора-джентльмена» и некая тоска души блатаря по недостижимому идеалу. Поэтому-то «изящество», «светскость» манер в большой цене среди воровского подполья. Именно оттуда в блатарский лексикон попали и закрепились там слова: «преступный мир», «вращался», «он с ним кушает» – все это звучит и не высокопарно, не иронически. Это – термины определенного значения, ходовые выражения языка.
В воровских «сурах» говорится, что вор не должен быть хулиганом.
- Скромно одетый, с букетом в петлице,
- В сером английском пальто,
- Ровно в семь тридцать покинул столицу,
- Даже не глянул в окно.
Это – классический идеал, классический портрет медвежатника-блатаря, «вора-джентльмена», Каскарильи из кинофильма «Процесс о трех миллионах».
Хулиганство – это слишком невинное, слишком целомудренное дело для вора. Вор развлекается по-другому. Убить кого-нибудь, распороть ему брюхо, выпустить кишки и кишками этими удавить другую жертву – вот это – по-воровски, и такие случаи были. Бригадиров в лагерях убивали немало, но перепилить шею живого человека поперечной двуручной пилой – на такую мрачную изобретательность мог быть способен только блатарский, не человеческий мозг.
Самое мерзкое хулиганство выглядит по сравнению с рядовым развлечением блатаря – невинной детской шуткой.
Блатари могут гулять, и пить, и хулиганить где-нибудь в своем «кодле», в «шалмане» – гулять без дебоша, показывая пределы своей удали только своим же товарищам и благоговеющим неофитам, чье приобщение к воровскому ордену – вопрос дней.
Хулиганство, случайное воровство – это периферия блатного мира, это та пограничная область, где общество встречается со своим антиподом.
Вербовка молодых или новых воров редко идет из хулиганской среды. Разве что хулиган бросает свои дебоши и, запятнанный тюрьмой, переходит в ряды блатного мира, где он большой роли в идеологии, в формировании законов этого мира никогда играть не будет.
Кадровые воры – это потомственные воры или те, кто с мальчиков прошел весь курс уголовной науки, бегал за водкой, за папиросами для старших, стоял на «страже», или на «вассере», лазал в форточку, чтоб отпереть дверь грабителям, укреплял свой дух в тюрьме, потом уже пошел на «дело» самостоятельно.
Блатной мир враждебен власти, и притом всякой власти. Это блатари, «мыслящие» блатари, понимают хорошо. Героическое время «староротских» и «каторжанчиков» отнюдь не представляется им овеянным славой. «Староротский» – это кличка арестанта из царских арестантских рот. «Каторжанчик» – это тот, кто был на царской каторге – на Сахалине, на Колесухе. На Колыме принято называть центральные губернии «материком», хотя Чукотка ведь не остров, а полуостров. Этот «материк» вошел и в литературу, и в газетный язык, и в деловую официальную переписку. Это слово-образ рождено тоже в блатном мире – морское сообщение, пароходная линия Владивосток – Магадан, высадка на пустынных скалах – была очень похожей на сахалинские картины прошлого. Так укрепилось название «материка» за Владивостоком, хотя островом Колыму никто никогда не называл.
Блатной мир – мир настоящего, реального настоящего. «Ворье» превосходно понимает, что какой-нибудь легендарный Горбачевский, попавший в песню: «Гром прогремел, что Горбачевский погорел», не больший герой, чем Ванька Чибис с соседнего прииска.
Никакая заграница не прельщает умудренных опытом блатарей, те воры, которые побывали там в войну, не хвалят заграницу, особенно Германию – из-за чрезвычайных строгостей наказания за кражи и убийства. Немного легче дышать ворью во Франции, но и там перековочные теории не имеют успеха и ворам приходится туго. Относительно благоприятными блатарям кажутся наши условия, где так много далеко идущего доверия и неистребимых многократных «перековок».
К числу «творимых легенд» блатного мира относится и похвальба блатарей – утверждение, что «хороший урка» избегает тюрьмы, проклинает ее. Что тюрьма лишь печальная неизбежность профессии вора. Это – тоже кокетство, рисовка. Это – лживо, как все, что исходит из уст блатного.
Скокарь Юзик (то есть поляк) Загорский, жеманясь и ломаясь, хвастливо говорил, что провел в тюрьме лишь восемь лет из двадцати воровского стажа. Юзик уверял, что не пил и не гулял после удачной добычи. Он, видите ли, посещал оперу, куда имел абонемент, и только тогда, когда деньги кончались, вновь брался за кражи. Все как в песне.
- Там, на концерте, в саду познакомился
- С чудом земной красоты.
- Деньги, как снег, очень быстро растаяли,
- Надо вернуться назад,
- Надо опять с головой окунуться
- В хмурый и злой Ленинград.
Но любитель оперного пения не мог припомнить ни одного названия оперы из тех, что он с таким увлечением слушал.
Юзик взял ноту явно не из той оперы – разговор этот не продолжался. Свои оперные вкусы Юзик почерпнул, конечно, из «романов», слышанных им многократно в тюремные вечера.
Да и насчет тюрьмы Юзик прихвастнул – повторил чью-то чужую фразу, какого-нибудь блатаря покрупнее.
Блатари говорят, что испытывают в момент кражи волнение особого рода, ту вибрацию нервов, которая роднит акт кражи с творческим актом, с вдохновением, испытывают своеобразное психологическое состояние нервного волнения и подъема, которое ни с чем нельзя сравнить по своей заманчивости, полноте, глубине и силе.
Говорят, что ворующий живет в этот момент неизмеримо более полной жизнью, чем картежник за зеленым столом, или, вернее, подушкой – традиционным ломберным столиком блатного мира.
«Лезешь в лепёху, – рассказывает один карманник, – а сердце стучит, стучит… тысячу раз умрешь и воскреснешь, пока вытащишь этот проклятый бумажник, в котором и денег-то, может быть, два рубля».
Бывают кражи вовсе безопасные, но «творческое» волнение, воровское «вдохновенье» все равно налицо. Ощущение риска, азарта, жизни.
Вору вовсе нет дела до того человека, которого вор обкрадывает. В лагере вор ворует подчас вовсе ненужные тряпки только для того, чтоб украсть, чтоб лишний раз испытать «высокую болезнь» кражи. «Зараженный» – говорят про таких блатари. Но деятелей «чистого искусства» кражи в лагере немного. Большинство предпочитает грабеж, а не кражу, наглый и откровенный грабеж, вырывая у жертвы на глазах всех пиджак, шарф, сахар, масло, табак – все, что можно съесть, и все, что может служить валютой в карточной игре.
Железнодорожный вор рассказывал о том особом волнении, с каким он вскрывает украденный «угол» (чемодан). «Замков мы не открываем, – говорил он, – крышкой о камень – и „угол“ вскрыт».
Это воровское «вдохновение» очень далеко от человеческой смелости. Смелость – не то слово. Наглость самой чистой воды, наглость беспредельная, которую могут остановить только выставленные жесткие барьеры.
Никакой психологической нагрузки в виде душевных переживаний деятельность вора не имеет.
Карты занимают очень большое место в жизни блатаря.
Не все блатные играют в карты запоем, как «больные», проигрывая в сражении последние брюки. Проиграться так – не считается позором.
Однако умеют играть в карты все блатари. Еще бы. Уменье играть в карты входит в «рыцарский кодекс» «человека» блатного мира. Не много азартных карточных игр, коими обязан владеть каждый блатарь и которым он учится с детства. Воровская молодежь тренируется постоянно – и в изготовлении карт, и в уменье поставить «транспорт» с кушем.
Между прочим, это карточное выражение, обозначающее увеличение ставки (с «кушем»), Чехов в своем «Острове Сахалине» записал как «транспорт скушан» (!) и выдал это за термин карточной игры среди уголовников. Так по всем изданиям «Острова Сахалина», включая и академические, кочует эта ошибка. Писатель недослышал весьма обыкновенную формулу карточной игры.
Блатной мир – косный мир. Сила традиций в нем очень сильна. Поэтому в этом мире удержались игры, которые давно исчезли из обыкновенной жизни. Статский советник Штосс из гоголевского «Портрета» в блатном мире до сих пор – реальность. Игра столетней давности «штосс» получила другое, лексически более подвижное название «стос». У Каверина в одном из рассказов беспризорники поют известный романс, меняя его по своему понятию и вкусу: «Черную розу, блему печали…»
В «стос» должен уметь играть каждый блатарь, загибать углы, как Герман или Чекалинский.
Второй игрой – первой по распространенности – является «бура» – так называется блатарями «тридцать одно». Схожая с «очком», бура осталась игрой блатного мира. В «очко» воры не играют между собой.
Третья, самая сложная, игра с записью – это «терц» – вариация игры «пятьсот одно». В эту игру играют мастера, вообще «старшие», аристократия блатного мира, те, что пограмотней.
Все карточные игры блатарей отличаются необыкновенно большим количеством правил. Эти правила нужно хорошо помнить, и тот, который лучше помнит их, выигрывает.
Карточная игра – всегда поединок. Блатари не играют компанией, они играют всегда один на один, разделенные традиционной подушкой.
Проигрался один – садится другой против победителя, и пока есть чем «отвечать» – карточное сражение продолжается.
По правилам, неписаным правилам, выигравший не имеет права прекратить игру, пока есть «ответ» – штаны, свитер, пиджак. Обычно определяется по согласию сторон цена «играемой» вещи – и вещь разыгрывается, как денежная ставка. Все расчеты надо держать в памяти и уметь себя защитить – не дать обсчитать, обмануть.
Обман в картах – доблесть. Противник должен заметить обман, разоблачить и тем самым выиграть «роббер».
Все блатные игроки – шулера, но это так и должно быть – умей разоблачить, поймать, доказать… С тем и садятся за игру, обманывая один другого, «исполняя» шулерские приемы под взаимным контролем.
Карточное сражение – если оно идет в безопасном месте – это нескончаемый поток взаимных оскорблений, матерных ругательств; под эту взаимную ругань идет игра. Старики блатари говорят, что в дни их молодости, в двадцатые годы, воры не ругали друг друга так грязно и похабно, как сейчас за карточной игрой. Седые «паханы» качают головами и шепчут: «О времена! О нравы!» Повадки блатарей портятся год от году.
Карты изготовляются в тюрьме, в лагере с быстротой сказочной – опыт многих поколений воров отработал механизм изготовления; самым рациональным и доступным способом изготовляются карты в тюрьме. Для этого нужен клейстер – то есть хлеб, пайка, которая всегда есть под рукой и которую можно изжевать для получения клейстера очень быстро. Нужна бумага – для этого годится и газета, и оберточная бумага, и брошюра, и книга. Нужен нож, – но в какой тюремной камере, в каком лагерном этапе не найдется ножа?
Самое главное – нужен химический карандаш для краски, – и вот почему блатные так бережно хранят грифель химического карандаша, уберегая его от всяких обысков. Этот обломок химического карандаша служит двойную службу. Осколки карандаша можно, очутясь в критическом положении, затолкать себе в глаза – и это заставляет фельдшера или врача направить заболевшего в больницу. Бывает, что больница – единственный выход из трудного, угрожающего положения, в котором оказался блатарь. Беда, если медицинская помощь запоздает. Немало блатарей ослепло от этой смелой операции. Но немало блатарей избежало опасности и спаслось в больнице. Это – запасная роль химического карандаша.
Молодые «начальнички» думают, что химический карандаш нужен для изготовления печатей, штампов, документов. Применение такого рода чрезвычайно редко, и уж конечно, если будут изготовлять документы, то им понадобится не только химический карандаш.
Главное же, для чего приобретаются и хранятся химические карандаши блатными, за что ценятся гораздо выше простых карандашей, – это использование их для окраски карт, для «печатания карт».
Сначала изготовляется «трафаретка». Это – не блатное слово, но на тюремном языке в большом ходу. На «трафаретке» вырезается узор масти – блатные карты не знают красного и черного, «руж» и «нуар». Все масти одного цвета. У валета – двойной узор – ведь в валете два очка по международной конвенции. У дамы – три соединенных вместе узора. У короля – четыре. Туз – соединение нескольких узоров в центре карты. Семерки, восьмерки, девятки, десятки изготовляются в обычной их конфигурации – как и на выпусках государственной карточной монополии.
Нажеванный хлеб протирается через тряпку, и превосходным клейстером склеиваются вдвое листы тонкой бумаги, потом просушиваются и разрезаются острым ножом на нужное количество карт. Химический карандаш закладывается в тряпочку, размачивается – и печатная машина готова. «Трафаретка» накладывается на карту и смазывается фиолетовой краской, оставляя нужный узор на лицевой стороне карты.
Если бумага толста, как в изданиях «Академии», то просто режут ее на части и «печатают» карты.
На изготовление колоды карт (вместе с просушкой) нужно часа два.
Таков наиболее рациональный способ изготовления игральных карт, способ, подсказанный вековым опытом. Рецепт пригоден при всех условиях и общедоступен.
При всех обысках, а также из посылок химические карандаши отбираются охраной самым заботливым образом. На сей счет есть строгий приказ.
Говорят, что воры проигрывают друг другу вольнонаемных девушек в карты – нечто похожее было в «Аристократах» Погодина. Думается, что это одна из «творимых легенд». Мне никогда не доводилось видеть сцен из лермонтовской «Казначейши».
Говорят, проигрывают пальто, когда оно еще на плечах фраера. И такого характера проигрышей мне встречать не приходилось, хотя ничего невероятного в этом нет. Думается все же, что тут был проигрыш «на представку» и нужно было отнять, украсть пальто или что-либо равноценное к сроку.
Бывает в игре такой момент, когда при переменном счастье фортуна склоняется на одну сторону к концу вторых или третьих суток игры. Проиграно все, и игра кончается. Горы свитеров, брюк, шарфов, подушек высятся за спиной выигравшего. А проигравший умоляет: «Дай отыграться, дай еще карту, дай в долг, я завтра „представлю“». И если сердце победителя великодушно, он соглашается, и игра продолжается, где партнер победителя отвечает «представкой». Он может выиграть, счастье может измениться, он может отыграть вещь за вещью все и воскреснуть и сам оказаться победителем… Но может и проиграть.
«На представку» играют один раз, и условленная сумма не меняется, и срок представления долга не откладывается.
Если вещь или деньги не будут представлены в срок – побежденный будет объявлен «заигранным», и ему одна дорога – или самоубийство, или побег из камеры, из лагеря, побег к черту на рога – он должен в срок заплатить карточный долг, долг чести!
Вот тут-то и являются чужие пальто, еще теплые теплом фраерского тела. Что делать! Воровская честь, а вернее, воровская жизнь – дороже, чем какое-то пальто фраера.
О низменнейших же потребностях, их качестве и размахе мы уже говорили. Эти потребности своеобразны и очень далеки от всего человеческого.
Существует еще одна точка зрения на поведение блатарей. Дескать, это – психически больные люди и, тем самым, вроде как невменяемы. Слов нет – блатари сплошь и рядом истерики и неврастеники. Пресловутый «дух» блатаря, способность «психануть» – говорит за расшатанность нервной системы. Блатари-сангвиники, флегматики чрезвычайно редки, хотя и встречаются. Знаменитый карманник Карлов по кличке «Подрядчик» (в тридцатых годах о нем писала «Правда», когда его изловили на Казанском вокзале) был полный, розовощекий, пузатый, жизнерадостный мужчина. Но это – исключение.
Есть ученые-медики, считающие всякое убийство – психозом.
Если блатари – психические больные, то их надо держать вечно в сумасшедшем доме.
Нам же кажется, что уголовный мир – это особый мир людей, переставших быть людьми.
Мир этот существовал всегда, существует он и сейчас, растлевая и отравляя своим дыханием нашу молодежь.
Вся воровская психология построена на том давнишнем, вековом наблюдении блатарей, что их жертва никогда не сделает, не может подумать сделать так, как с легким сердцем и спокойной душой ежедневно, ежечасно рад сделать вор. В этом его сила – в беспредельной наглости, в отсутствии всякой морали. Для блатаря нет ничего «слишком». Если вор по своему «закону» и не считает за честь и доблесть писать доносы на фраера, то он отнюдь не прочь в целях своей выгоды составить и дать начальству политическую характеристику на любого своего соседа-фраера. В 1938 году и позднее – до 1953 года известны буквально тысячи визитов воров к лагерному начальству с заявлениями, что они, истинные друзья народа, должны донести на «фашистов» и «контрреволюционеров». Такая деятельность носила массовый характер – предметом постоянной особой ненависти воров в лагере всегда была интеллигенция из заключенных – «Иваны Ивановичи».
Карманники составляли когда-то наиболее квалифицированную часть воровского мира. Мастера «чердачных» краж проходили даже нечто вроде обучения, овладевали техникой своего ремесла, гордились своей узкой специальностью. Они предпринимали длительные поездки, где с начала до конца «гастролей» они оставались верными своему уменью, не сбиваясь на всякие «скоки» или фармазонство. Небольшое наказание за карманную кражу, удобная добыча – чистые деньги – вот два обстоятельства, привлекавшие воров к карманным кражам. Уменье держаться в любом обществе, чтобы не выдать себя, тоже было одним из важных достоинств мастера карманных краж.
Увы, валютная политика свела «заработки» карманников к доходу мизерному по сравнению с риском, с ответственностью. «Доходней и прелестней» оказался вульгарный «скок» за бельем, развешанным на веревке, – это было подороже, чем содержимое любого бумажника, изловленного в автобусе или трамвае. Тысяч в кармане не найдешь, а любая «лепёха» при скидке на краденое окажется подороже денег, которые можно отыскать в большинстве бумажников.
Карманники переменили специальность и влились в ряды «домушников».
И все же «жульническая кровь» не синоним «голубой крови». «Жульническая кровь», «капля жульнической крови» может быть и у фраера, если он разделяет кое-какие блатные убеждения, помогает «людям», относится с сочувствием к воровскому закону.
«Капля жульнической крови» может быть даже у следователя, понимающего душу блатного мира и втайне сочувствующего этому миру. Даже (и не так редко) у лагерного начальника, делающего важные послабления блатным не за взятки и не под угрозой. «Капля жульнической крови» есть и у всех «сук» на свете – недаром же они были когда-то ворами. Кое в чем люди с каплей жульнической крови могут помочь вору, а это вор должен иметь в виду. «Жульническую кровь» имеют все «завязавшие», то есть покончившие с блатным миром, переставшие воровать, вернувшиеся к честному труду. Есть и такие, это не «суки», и ненависти к себе «завязавшие» вовсе не вызывают. При случае в трудную минуту они могут даже оказать помощь – скажется «жульническая кровь».
Наводчики, продавцы краденого, хозяева воровских притонов – наверняка люди с «жульнической кровью».
Все фраера, так или иначе оказавшие помощь вору, имеют, как говорят блатари, эту «каплю жульнической крови».
Это – блатная подлая, снисходительная похвала всем сочувствующим воровскому закону, всем, кого вор обманывает и с которыми расплачивается этой дешевой лестью.
1959
Женщина блатного мира
Аглаю Демидову привезли в больницу с фальшивыми документами. Не то что было подделано ее «личное дело», ее арестантский паспорт. Нет, с этой стороны было все в порядке – только у «личного дела» была новая желтая обложка – свидетельство того, что срок наказания Аглаи Демидовой был начат снова и недавно. Она приехала, называясь тем самым именем, под каким и два года назад ее привозили в больницу. Ничего не изменилось из ее «установочных данных», кроме срока. Двадцать пять лет, а два года назад папка ее личного дела была синего цвета и срок был – десять лет.
К нескольким двузначным цифрам, выставленным чернилами в графе «статья», добавилась еще одна цифра – трехзначная. Но все это было самое настоящее, неподдельное. Подделаны были ее медицинские документы – копия истории болезни, эпикриз, лабораторные анализы. Подделаны людьми, занимавшими вполне официальное положение и имевшими в своих руках и штампы, и печати, и свое доброе или недоброе – это все равно – имя. Много часов понадобилось начальнику санчасти прииска, чтобы выклеить фальшивую историю болезни, чтобы сочинить липовый медицинский документ с подлинным артистическим вдохновением.
Диагноз туберкулеза легких являлся как бы логическим следствием хитроумных ежедневных записей. Толстая пачка температурных листов с диаграммами типичных туберкулезных кривых, заполненные бланки всевозможных лабораторных анализов с угрожающими показателями. Такая работа для врача – подобна письменному экзамену, где по билету требуется описать туберкулезный процесс, развившийся в организме – до степени, когда срочная госпитализация больного – единственный выход.
Такую работу можно проделать и из спортивного чувства – суметь доказать центральной больнице, что и на прииске – не лыком шиты. Просто приятно вспомнить все по порядку, что ты учил когда-то в институте. Ты, конечно, никогда не думал, что свои знания тебе придется применить столь необычайным, «художественным» образом.
Самое главное – Демидова должна быть положена в больницу во что бы то ни стало. И больница не может, не вправе отказать в приеме такой больной, пусть у врачей явится хоть тысяча подозрений.
Подозрения возникли сразу же, и, пока вопрос о приеме Демидовой решался в местных «высших сферах», сама она сидела одна в огромной комнате приемного покоя больницы. Впрочем, «одна» она была лишь в «честертоновском» значении этого слова. Фельдшер и санитары приемного покоя шли, очевидно, не в счет. И также не в счет шли два конвоира Демидовой, не отходившие от нее ни на шаг. Третий конвоир с бумагами скитался где-то в канцелярских дебрях больницы.
Демидова не сняла даже шапки и только расстегнула ворот овчинного полушубка. Она неторопливо курила папиросу за папиросой, бросая окурки в деревянную плевательницу с опилками.
Она металась по приемному покою от венецианских зарешеченных окон к дверям, и, повторяя ее движения, за ней кидались ее конвоиры.
Когда вернулся дежурный врач вместе с третьим конвоиром, уже стемнело по-северному быстро, и пришлось зажечь свет.
– Не кладут? – спросила Демидова конвоира.
– Нет, не кладут, – хмуро сказал тот.
– Я знала, что не положат. Это все Крошка виновата. Запорола врачиху, а мне мстят.
– Никто тебе не мстит, – сказал врач.
– Я лучше знаю.
Демидова вышла впереди конвоиров, хлопнула выходная дверь, затрещал мотор грузовика.
Сейчас же отворилась неслышно внутренняя дверь, и в приемный покой вошел начальник больницы с целой свитой из офицеров спецчасти.
– А где она? Эта Демидова?
– Уже увезли, гражданин начальник.
– Жаль, жаль, что я ее не посмотрел. А все вы, Пётр Иванович, с вашими анекдотами… – И начальник со своими спутниками вышел из приемного покоя.
Начальнику хотелось взглянуть хоть одним глазком на знаменитую воровку Демидову – история ее и в самом деле не совсем обыкновенная.
Полгода назад воровку Аглаю Демидову, осужденную за убийство нарядчицы на 10 лет – Демидова полотенцем удушила слишком бойкую нарядчицу, – везли с суда на прииск. Конвоир был один, ибо в дороге ночевок не было – всего несколько часов езды на автомашине от поселка управления, где судили Демидову, до того прииска, где она работала. Пространство и время на Крайнем Севере – величины схожие. Часто пространство меряют временем – так делают кочевые якуты – от сопки до сопки шесть переходов. Все, живущие около главной артерии, шоссейной дороги, измеряют расстояние перегонами автомашины.
Конвоир Демидовой был из сверхсрочных молодых «стариков», давно привыкший к вольностям конвойной жизни, к ее особенностям, где конвоир – полный господин арестантских судеб. Не в первый раз сопровождал он бабу – всегда такая поездка сулила известные развлечения, какие не слишком часто выпадают на долю рядового стрелка на Севере.
В дорожной столовой все трое – конвоир, шофер и Демидова – пообедали. Конвоир для храбрости выпил спирту (на Севере водку пьет только очень высокое начальство) и повел Демидову в кусты. Тальник, лозняк или молодая осина были в изобилии вокруг любого таежного поселка.
В кустах конвоир положил автомат на землю и подступил к Демидовой. Демидова вырвалась, схватила автомат и двумя перекрестными очередями набила девять пуль в тело сластолюбивого конвоира. Забросив автомат в кусты, она вернулась к столовой и уехала на одной из проходящих мимо машин. Шофер поднял тревогу, труп конвоира и его автомат были найдены очень скоро, а сама Демидова задержана через двое суток в нескольких сотнях километров от места ее романа с конвоиром. Демидову снова судили, дали ей двадцать пять лет. Работать она не хотела и раньше, грабила своих соседей по бараку, и приисковое начальство решило любой ценой отделаться от блатарки. Была надежда, что после больницы ее не возвратят на прииск, а пошлют куда-либо в другое место. Демидова была магазинной и квартирной воровкой, «городушницей», по терминологии «уркачей».
Блатной мир знает два разряда женщин – собственно воровки, чьей профессией являются кражи, как и у мужчин-блатарей, и проститутки, подруги блатарей.
Первая группа значительно меньше численностью, чем вторая, и в кругу «уркачей», считающих женщину существом низшего порядка, пользуется некоторым уважением – вынужденным признанием ее заслуг и деловых качеств. Обычно сожительница какого-либо вора (слово «вор», «воровка» все время употребляется в смысле принадлежности к подземному ордену уркачей), воровка участвует нередко в разработках планов краж, в самих кражах. Но в мужских «судах чести» она участия не принимает. Такие правила продиктовала сама жизнь – в местах заключения мужчины и женщины разобщены, и это обстоятельство внесло некоторое различие в быт, привычки и правила того и другого пола. Женщины все же мягче, их «суды» не так кровавы, не так жестоки приговоры. Убийства, совершенные женщинами-блатарками, более редкие, чем на мужской половине блатного дома.
Вовсе исключено, что воровка может «жить» с каким-либо фраером.
Проститутки – вторая, большая группа женщин, связанная с блатным миром. Это – известная подруга вора, добывающая для него средства к жизни. Само собой, проститутки участвуют, когда надо, и в кражах, и в «наводках», и в «стрёме», и в укрывательстве и сбыте краденого, но полноправными членами преступного мира они вовсе не являются. Они – непременные участницы кутежей, но и мечтать не могут о «правилках».
Потомственный «урка» с детских лет учится презрению к женщине. «Теоретические», «педагогические» занятия чередуются с наглядными примерами старших. Существо низшее, женщина создана лишь затем, чтобы насытить животную страсть вора, быть мишенью его грубых шуток и предметом публичных побоев, когда блатарь «гуляет». Живая вещь, которую блатарь берет во временное пользование.
Послать свою подругу-проститутку в постель начальника, если это нужно для пользы дела, – обычный, всеми одобряемый «подход». Она и сама разделяет это мнение. Разговоры на эти темы всегда крайне циничны, предельно лаконичны и выразительны. Время дорого.
Воровская этика сводит на нет и ревность, и «черемуху». По освященному стариной обычаю, вору-вожаку, наиболее «авторитетному» в данной воровской компании, принадлежит выбор своей временной жены – лучшей проститутки.
И если вчера, до появления этого нового вожака, эта проститутка спала с другим вором, считалась его собственной вещью, которую он мог одолжить товарищам, то сегодня все эти права переходят к новому хозяину. Если завтра он будет арестован, проститутка снова вернется к прежнему своему дружку. А если и тот будет арестован – ей укажут, кто будет новым ее владельцем. Владельцем ее жизни и смерти, ее судьбы, ее денег, ее поступков, ее тела.
Где же тут жить такому чувству, как ревность?.. Ему просто нет места в этике блатарей.
Вор, говорят, человек и ничто человеческое ему не чуждо. Возможно, что бывает жаль уступить свою подругу, но закон есть закон, и блюстители «идейной» чистоты, блюстители чистоты блатных нравов (без всяких кавычек) укажут немедленно на ошибку возревновавшего вора. И он подчинится закону.
Бывают случаи, когда дикий нрав и истеричность, свойственная почти всем уркачам, толкает блатаря на защиту «своей бабы». Тогда этот вопрос уже становится суждением «правилок», и блатные «прокуроры» требуют наказания виновного, взывая к авторитету тысячелетних установлений.
Обычно же до ссоры дело не доходит, и проститутка покорно спит с новым ее хозяином.
Никакого дележа женщин, никакой любви «втроем» в блатном мире не существует.
В лагере мужчины и женщины разобщены. Однако в местах заключения есть больницы, пересылки, амбулатории, клубы, где мужчины и женщины все же видят и слышат друг друга.
Изобретательности же заключенных, их энергии в достижении поставленной цели можно поражаться. Удивительно – какое колоссальное количество энергии тратится в тюрьме, чтобы добыть кусочек мятой жести и превратить ее в нож – орудие убийства или самоубийства. Внимание надзирателей всегда слабее внимания заключенного – это мы знаем от Стендаля, который в «Пармской обители» говорит: «Тюремщик меньше думает о своих ключах, чем арестант о побеге».
В лагере огромна энергия блатаря, направленная на свидание с какой-нибудь проституткой.
Важно найти место, куда эта проститутка должна прийти, – а в том, что она придет, блатарь никогда не сомневается. Карающая рука настигнет виновную. И вот она переодевается в мужское платье, спит вне программы с надзирателем или нарядчиком, чтобы в назначенный час проскользнуть туда, где ее ждет вовсе ей незнакомый любовник. Любовь разыгрывается торопливо, как летнее цветение трав на Крайнем Севере. Проститутка уйдет назад в женскую зону, попадется на глаза надзирателям, ее сажают в карцер, приговаривают к месячному заключению в изоляторе, отправляют на штрафной прииск – все это она переносит безропотно и даже гордо, – она выполнила свой проституточий долг.
В большой северной больнице для заключенных был случай, когда к видному блатарю – больному хирургического отделения – сумели привести проститутку на целую ночь – на больничную койку, и там она спала по очереди со всеми восемью ворами, находившимися в то время в палате. Дежурному санитару из заключенных пригрозили ножом, дежурному вольнонаемному фельдшеру подарили костюм, сдернутый с кого-то в лагере, – хозяин его опознал, подал заявление, усилий скрыть это дело было приложено очень много.
Девушка эта была отнюдь не расстроена, не смущена, когда ее обнаружили утром в палате мужской больницы.
– Ребята просили выручить их, я и пришла, – спокойно объясняла она.
Нетрудно догадаться, что блатари и их подруги почти сплошь сифилитики, а о хронической гонорее даже в наш пенициллиновый век и говорить не приходится.
Известно классическое выражение «сифилис не позор, а несчастье». Здесь сифилис не только не позор, но считается счастьем, а не несчастьем заключенного – это еще один пример пресловутого «смещения масштабов».
Прежде всего, принудительное лечение венериков обязательно, и это знает каждый блатарь. Он знает, что «притормозится», что в глухое место со своим сифилисом он не попадет, а будет жить и лечиться в сравнительно благоустроенных поселках – там, где есть врачи-венерологи, специалисты. Все это настолько хорошо рассчитано и угадано, что венериками себя заявляют даже те блатари, которых бог миловал от четырех и трех крестов реакции Вассермана. И нетвердость отрицательного лабораторного ответа в этой реакции блатарям тоже отлично известна. Поддельные язвы, лживые жалобы – дело обычное наряду с истинными язвами и вескими жалобами.
Венерических больных, подлежащих лечению, собирают в особые зоны. Когда-то в таких зонах вовсе не работали, и это было самым подходящим «убежищем Монрепо» для блатарей. Позднее эти зоны устраивались на особых приисках или лесных командировках, где, кроме сальварсана и пайка питания, арестанты должны были работать по обычным нормам.
Но фактически никогда в таких зонах настоящего спроса работы не было, и жилось в этих зонах много легче, чем на обычном прииске.
Венерические мужские зоны были всегда местом, откуда в больницу поступали молодые жертвы блатарей – зараженные сифилисом через задний проход. Блатари почти сплошь педерасты – в отсутствие женщин они развращали и заражали мужчин под угрозой ножа чаще всего, реже за «тряпки» (одежду) или за хлеб.
Говоря о женщине в блатном мире, нельзя пройти мимо целой армии этих «Зоек», «Манек», «Дашек» и прочих существ мужского пола, окрещенных женскими именами. Поразительно то, что на эти женские имена носители их откликались самым нормальным образом, не видя в этом ничего позорного или оскорбительного для себя.
Кормиться за счет проститутки не считается зазорным для вора. Напротив, личное общение с вором проститутка должна ценить очень высоко.
Напротив, сутенерство – одна из «заманчивых» деталей профессии, весьма нравящаяся воровской молодежи.
- Скоро, скоро нас осудят,
- На Первомайский поведут,
- Девки штатные увидят,
- Передачу принесут, –
поется в тюремной песне «Штатные девки». Это и есть проститутки.
Но бывают случаи, когда чувство, заменяющее любовь, а также чувство самолюбия, чувство жалости к самой себе толкает женщину блатного мира на «незаконные» поступки.
Конечно, с воровки тут спроса больше, чем с проститутки. Воровка, живущая с надзирателем, совершает измену, по мнению блатных начетчиков. Ее могут избить, указывая на ее ошибку, а то и просто прирезать, как «суку».
Проститутке такой поступок не будет вменен в грех.
В этих конфликтах женщины с законом ее мира вопрос решается не всегда одинаково и зависит от личных качеств человека.
Тамара Цулукидзе, двадцатилетняя красавица воровка, бывшая подруга видного тбилисского уркача, сошлась в лагере с начальником культурно-воспитательной части Грачёвым – бравым тридцатилетним лейтенантом, красавцем холостяком.
У Грачёва была и еще любовница в лагере, полька Лещевская – одна из знаменитых «артисток» лагерного театра. Когда он сошелся с Тамарой, она не требовала бросить Лещевскую. Лещевская же ничего не имела против Тамары. Бравый Грачёв жил сразу с двумя «женами», склоняясь к мусульманскому обычаю. Будучи человеком опытным, он старался распределять свое внимание поровну между обеими, и это ему удавалось. Делилась не только любовь, но и ее материальные проявления – каждый съестной подарок готовился Грачёвым в двух экземплярах. С помадой, лентами и духами он поступал точно таким же образом – и Лещевская, и Цулукидзе получали в один и тот же день совершенно одинаковые ленты, одинаковые склянки с духами, одинаковые платочки.
Это выглядело весьма трогательно. Притом Грачёв был парень видный, чистоплотный. И Лещевская, и Цулукидзе (они жили в одном бараке) были в восторге от тактичности своего общего возлюбленного. Однако подругами они не стали, и когда внезапно Тамара была приглашена держать ответ перед больничными ворами – Лещевская втайне злорадствовала.
Однажды Тамара заболела – лежала в больнице, в женской палате. Ночью двери палаты отворились, и на порог шагнул, гремя костылями, посол уркачей. Блатной мир протягивал к Тамаре свою длинную руку.
Посол напомнил ей законы блатной собственности на женщину и предложил ей явиться в хирургическое отделение и выполнить «волю пославшего».
Здесь были, по словам посла, люди, знавшие того тблисского блатаря, чьей подругой считалась Тамара Цулукидзе. Сейчас его здесь заменяет Сенька Гундосый. В его объятия и должна незамедлительно проследовать Тамара.
Тамара схватила кухонный нож и бросилась на хромого блатаря. Его едва отбили санитары. Угрожая и матерно понося Тамару, посол удалился. Тамара на следующее же утро выписалась из больницы.
Попыток возвратить заблудшую дочь под блатные знамена было сделано немало, и всякий раз безуспешно. Тамару ударили ножом, но рана была пустяковой. Пришел конец срока наказания, и она вышла замуж за какого-то надзирателя – за человека с револьвером, а блатному миру она так и не досталась.
Синеглазая Настя Архарова, курганская машинистка, не была ни воровкой, ни проституткой и не по своей воле навеки связала свою судьбу с воровским миром.
Всю жизнь с юных лет Настю окружало подозрительное уважение, зловещее почтение таких людей, о которых Настя читала в детективных романах. Это уважение, замеченное Настей еще «на воле», существовало и в тюрьме, и в лагере – везде, где появлялись блатари.
Тут не было ничего таинственного – старший брат Насти был видным уральским «скокарем», и Настя с юных лет купалась в лучах его уголовной славы, его удачливой воровской судьбы. Незаметным образом Настя оказалась в кругу блатарей, их интересов и дел и не отказала помочь спрятать украденное. Первый трехмесячный срок укрепил и ожесточил ее, накрепко связал с блатным миром. Пока она была в своем городе, воры, боясь гнева брата, не решались пользоваться Настей как блатной собственностью. По «социальному» положению своему она стояла ближе к воровкам, проституткой же вовсе не была – и в качестве воровки отправилась в обычные дальние путешествия на казенный счет. Здесь уже не было брата, и в первом же городе, куда она попала после первого освобождения, ее сделал своей женой местный вожак-блатарь, попутно заразив ее гонореей. Его вскоре арестовали, и он спел Насте на прощанье воровскую песенку: «Тобой завладеет кореш мой». С «корешем» (то есть товарищем) Настя жила также недолго – того посадили в тюрьму, и на Настю предъявил права очередной владелец. Насте он был отвратителен физически – какой-то вечно слюнявый, больной каким-то лишаем. Она пробовала защититься именем брата – ей было указано, что и брат ее не вправе нарушать великие законы блатного мира. Ей пригрозили ножом, и она прекратила сопротивление.
В больнице Настя покорно являлась на любовные «вызовы», часто сидела в карцере и много плакала – не то слезы у нее были слишком близко, не то слишком страшила ее своя судьба, судьба двадцатидвухлетней девушки.
Востоков, пожилой врач больницы, растроганный Настиной судьбой, похожей, впрочем, на тысячи других таких же судеб, обещал ей помочь устроиться машинисткой в контору, если она изменит свою жизнь. «Это не в моей воле, – писала красивым почерком Настя, отвечая врачу. – Меня не спасти. А если вам хочется сделать мне что-нибудь хорошее, то купите мне чулки капроновые самого маленького размера. Готовая для вас на все Настя Архарова».
Воровка Сима Сосновская была татуирована с ног до головы. Удивительные, переплетающиеся между собой сексуальные сцены самого мудреного содержания весьма затейливыми линиями покрывали все ее тело. Только лицо, шея и руки до локтя были без наколок. Сима эта была известна в больнице своей дерзкой кражей – она сняла золотые часы с руки конвоира, который по дороге решил воспользоваться благосклонностью смазливой Симы. Характер у Симы был гораздо более мирный, чем у Аглаи Демидовой, а то лежать бы конвоиру в кустах до второго пришествия. Она смотрела на это как на забавное приключение и считала, что золотые часы – не слишком дорогая цена за ее любовь. Конвоир же чуть не сошел с ума и до последней минуты требовал вернуть часы и обыскивал Симу дважды без всякого успеха. Больница была недалеко, этап был многочисленный – на скандал в больнице конвоир не решался. Золотые часы остались у Симы. Вскоре часы были пропиты, и след их затерялся.
В моральном кодексе блатаря, как в Коране, декларировано презрение к женщине. Женщина – существо презренное, низшее, достойное побоев, недостойное жалости. Это относится в равной степени ко всем женщинам – любая представительница другого, не блатного мира презирается блатарем. Изнасилование «хором» – не такая редкая вещь на приисках Крайнего Севера. Начальники перевозят своих жен в сопровождении охраны; женщина одна не ходит и не ездит вовсе никуда. Маленькие дети охраняются подобным же образом: растление малолетних девочек – всегдашняя мечта любого блатаря. Эта мечта не всегда остается только мечтой.
В презрении к женщине блатарь воспитывается с самых юных лет. Проститутку-подругу он бьет настолько часто, что та перестает, говорят, чувствовать любовь во всей ее полноте, если почему-либо она не получит очередных побоев. Садистские наклонности воспитываются самой этикой блатного мира.
Никакого товарищеского, дружеского чувства к «бабе» блатарь не должен иметь. Не должен он иметь и жалости к предмету своих подземных увеселений. Никакой справедливости в отношении к женщине своего же мира быть не может – женский вопрос вынесен за ворота этической «зоны» блатарей.
Но есть одно-единственное исключение из этого мрачного правила. Есть одна-единственная женщина, которая не только ограждена от покушений на ее честь, но которая поставлена высоко на пьедестал. Женщина, которая поэтизирована блатным миром, женщина, которая стала предметом лирики блатарей, героиней уголовного фольклора многих поколений.
Эта женщина – мать вора.
Воображению блатаря рисуется злой и враждебный мир, окружающий его со всех сторон. И в этом мире, населенном его врагами, есть только одна светлая фигура, достойная чистой любви, и уважения, и поклонения. Это – мать.
Культ матери при злобном презрении к женщине вообще – вот этическая формула уголовщины в женском вопросе, высказанная с особой тюремной сентиментальностью. О тюремной сентиментальности написано много пустого. В действительности – это сентиментальность убийцы, поливающего грядку с розами кровью своих жертв. Сентиментальность человека, перевязывающего рану какой-нибудь птичке и способного через час эту птичку живую разорвать собственными руками, ибо зрелище смерти живого существа – лучшее зрелище для блатаря.
Надо знать истинное лицо авторов культа матери, культа, овеянного поэтической дымкой.
С той же самой безудержностью и театральностью, которая заставляет блатаря «расписываться» ножом на трупе убитого ренегата, или насиловать женщину публично среди бела дня, на глазах у всех, или растлевать трехлетнюю девочку, или заражать сифилисом мужчину «Зойку», – с той же самой экспрессией блатарь поэтизирует образ матери, обоготворяет ее, делает ее предметом тончайшей тюремной лирики – и обязывает всех выказывать ей всяческое заочное уважение.
На первый взгляд чувство вора к матери – как бы единственное человеческое, что сохранилось в его уродливых, искаженных чувствах. Блатарь – всегда якобы почтительный сын, всякие грубые разговоры о любой чужой матери пресекаются в блатном мире. Мать – некий высокий идеал – в то же время нечто совершенно реальное, что есть у каждого. Мать, которая все простит, которая всегда пожалеет.
«Чтобы жить могли, работала мамаша. А я тихонько начал воровать. Ты будешь вор, такой, как твой папаша, – твердила мне, роняя слезы, мать».
Так поется в одной из классических песен уголовщины «Судьба».
Понимая, что во всей бурной и короткой жизни вора только мать останется с ним до конца, вор щадит ее в своем цинизме.
Но и это единственное якобы светлое чувство лживо, как все движения души блатаря.
Прославление матери – камуфляж, восхваление ее – средство обмана и лишь в лучшем случае более или менее яркое выражение тюремной сентиментальности.
И в этом возвышенном, казалось бы, чувстве вор лжет с начала и до конца, как в каждом своем суждении. Никто из воров никогда не послал своей матери ни копейки денег, даже по-своему не помог ей, пропивая, прогуливая украденные тысячи рублей.
В этом чувстве к матери нет ничего, кроме притворства и театральной лживости.
Культ матери – это своеобразная дымовая завеса, прикрывающая неприглядный воровской мир.
Культ матери, не перенесенный на жену и на женщину вообще, – фальшь и ложь.
Отношение к женщине – лакмусовая бумажка всякой этики.
Заметим здесь же, что именно культ матери, сосуществующий с циничным презрением к женщине, сделал Есенина еще три десятилетия назад столь популярным автором в уголовном мире. Но об этом – в своем месте.
Воровке или подруге вора, женщине, прямым или косвенным образом вошедшей в преступный мир, запрещаются какие бы то ни было «романы» с фраерами. Изменницу, впрочем, в таких случаях не убивают, не «заделывают начисто». Нож – слишком благородное оружие, чтобы применять его к женщине, – для нее достаточно палки или кочерги.
Совсем другое дело, если речь идет о связи мужчины-вора с вольной женщиной. Это – честь и доблесть, предмет хвастливых рассказов одного и тайной зависти многих. Такие случаи не так уж редки. Однако вокруг них обычно воздвигаются такие горы сказок, что уловить истину очень трудно. Машинистка превращается в прокуроршу, курьерша – в директора предприятия, продавщица – в министра. Небывальщина оттесняет истину куда-то в глубь сцены, в темноту, и разобраться в спектакле немыслимо.
Не подлежит сомнению, что какая-то часть блатарей имеет семьи в своих родных городах, семьи, давно уже покинутые блатными мужьями. Жены их с малыми детьми сражаются с жизнью каждая на свой лад. Бывает, что мужья возвращаются из мест заключения к своим семьям, возвращаются обычно ненадолго. «Дух бродяжий» влечет их к новым странствиям, да и местный уголовный розыск способствует быстрейшему отъезду блатаря. А в семьях остаются дети, для которых отцовская профессия не кажется чем-то ужасным, а вызывает жалость и, более того, – желание пойти по отцовскому пути, как в песне «Судьба»:
- В ком сила есть с судьбою побороться,
- Веди борьбу до самого конца.
- Я очень слаб, но мне еще придется
- Продолжить путь умершего отца.
Потомственные воры – это и есть кадровое ядро преступного мира, его «вожди» и «идеологи».
От вопросов отцовства, воспитания детей блатарь неизбежно далек – эти вопросы вовсе исключены из блатного талмуда. Будущее дочерей (если они где-нибудь есть) представляется вору совершенно нормальным в карьере проститутки, подруги какого-либо знатного вора. Вообще никакого морального груза (даже в блатарской специфичности) на совести блатаря тут не лежит. То, что сыновья станут ворами, – тоже представляется вору совершенно естественным.
1959
Тюремная пайка
Одна из самых популярных и самых жестоких легенд блатного мира – это легенда о «тюремной пайке».
Наравне со сказкой о «воре-джентльмене», это – рекламная легенда, фасад блатной морали.
Содержание ее в том, что официальный тюремный паек, тюремная пайка в условиях заключения – «священна и неприкосновенна» и ни один вор не имеет права покушаться на этот казенный источник существования. Тот, кто это сделает, – проклят отныне и во веки веков. Безразлично, кто бы он ни был – заслуженный блатарь или последний «штылет батайский», юный фраер.
Тюремную пайку в виде, скажем, хлеба можно без опаски и заботы хранить в тумбочке, если в камере есть тумбочки, и под головой, если тумбочек и полок нет.
Воровать этот хлеб считается постыдным, немыслимым.
Изъятию у фраеров подлежат только передачи – вещевые или продуктовые – все равно, – это в запрещение не входит.
И хотя каждому ясно, что охрана тюремной пайки обеспечивается для заключенного самим режимом тюрьмы, а вовсе не милостью блатарей, все же мало кто сомневается в воровском благородстве.
Ведь администрация, рассуждают эти люди, не может спасти наши передачи от воровских рук. Значит, если бы не блатари…
Действительно, передачи администрация не спасает. Камерная этика требует, чтобы заключенный делился с товарищами своей посылкой. В качестве открытых и грозных претендентов на посылку и выступают блатари, как «товарищи» заключенного. Дальновидные и опытные фраера сразу жертвуют половиной передачи. Никто из воров не интересуется материальным положением арестованного фраера. Для них фраер в тюрьме или на воле – все равно – законная добыча, а его «передачи», его «вещи» – боевой трофей блатных.
Иногда передачи или носильные вещи выпрашиваются, – дескать, отдай, мы тебе пригодимся. И фраер, живущий на воле вдвое беднее вора в остроге, отдает последние крохи, которые собрала ему жена.
Как же! Закон тюремный! Зато его доброе имя сохранено, и сам Сенька Пуп обещал ему свое покровительство и даже дал закурить из той самой пачки папирос, что прислала в посылке жена.
Раздеть, ограбить фраера в тюрьме – первое и веселое дело блатарей. Это делают щенки, резвящаяся молодежь… Те, что постарше, лежат в лучшем углу камеры, у окна, и присматривают за операцией, готовые в любую минуту вмешаться при упорстве фраера.
Конечно, можно поднять крик, вызвать часовых, коменданта, но – что это даст? Чтобы тебя избили ночью? А впереди, в дороге, могут и зарезать. Бог уж с ней, с передачей.
– Зато, – похлопывая по плечу какого-нибудь «черта», говорит ему блатарь, икая от сытости, – зато твоя тюремная пайка цела. Ее, брат, ни-ни… никогда.
Молодому вору иногда непонятно, почему нельзя трогать тюремного хлеба, если владелец его наелся белых домашних булочек от передачи. Владелец булочек тоже этого не понимает. Тому и другому взрослые воры объясняют, что таков закон тюремной жизни.
И боже мой, если какой-нибудь наивный голодный крестьянин, которому в первые дни заключения в тюрьме не хватает еды, попросит у соседа-блатаря отломить кусочек от сохнущей на полке тюремной пайки. Какую пышную лекцию ему прочтет блатарь о святости тюремного пайка…
В тех тюрьмах, где передач мало и мало новых фраеров – понятие «тюремной пайки» ограничивается пайком хлеба, а приварок – супы, каши, винегреты, – как бы он ни был беден по ассортименту, исключается из неприкосновенности. Раздачей пищи всегда стараются руководить блатари. Это мудрое правило дорого стоит остальным обитателям камеры. Кроме пайка хлеба, им наливают юшку от супа, и порции второго блюда становятся почему-то маленькими. Несколько месяцев совместного проживания с хранителем тюремной пайки сказываются самым отрицательным образом на «упитанности» заключенного, выражаясь официальным термином.
Все это еще до лагеря, пока дело идет о режиме следственной тюрьмы.
В исправительно-трудовом лагере, на общих тяжелых работах, вопрос тюремной пайки становится вопросом жизни и смерти.
Здесь нет лишнего куска хлеба, здесь все голодны и на тяжелой работе.
Грабеж тюремного пайка приобретает здесь характер преступления, медленного убийства.