Читать онлайн Новеллы. Второй том бесплатно
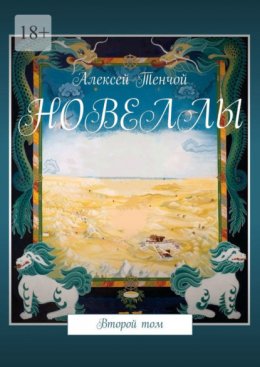
© Алексей Тенчой, 2021
ISBN 978-5-0053-2372-9 (т. 2)
ISBN 978-5-0053-2370-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
КОД РОДА
ЧАСТЬ I. ОЧКИ
«Я опять была сегодня самой красивой. И две сотни известных мужчин и женщин аплодировали, а я в дорогущей шубке шла по подиуму, и все были очарованы моей походкой, моей фигурой», – как заклинание, твердила Екатерина, пока лифт вез ее с первого этажа на пятый. Девушка, распахнув декорированные деревом решетчатые двери лифта, цокая каблуками по мраморным плиткам, подошла к квартире. Она, словно показывая кому-то невидимому дорогую сумочку, достала ключ, полюбовалась модным брелочком: две золотые буквы на коричневом фоне так радовали, что она поднесла брелок поближе к глазам.
Замок легко открылся, девушка вошла в квартиру. Сумочка небрежно брошена на банкетку, туда же полетел и модный черный пиджак, который недавно презентовал модельер, так ценивший ее работу. Для Екатерины снова настал тяжелый момент. Ее прекрасное настроение улетучивалось с каждым шагом, и вот она дошла до зеркала. В огромной поверхности она отражалась в полный рост. Екатерина сняла очки и разрыдалась. На нее глядела очень красивая девушка, но зрачок одного глаза закрывало бельмо. Очки незамедлительно полетели в дальний угол коридора и тихо стукнулись о дубовый паркет. Через пару минут девушка пришла в себя и, немного ссутулившись, словно неся тяжелый груз, сняла туфли и надела домашние тапочки, хотя так их назвать нельзя – босоножки были украшены феерическими перьями и стразами. Одна, в роскошной квартире, наполненной книгами и старинными вещами, фотоальбомами и куклами-марионетками, она чувствовала себя потерянной и несчастной. Тот образ, что она носила вне дома – красивой уверенной женщины, исчезал, когда она оказывалась перед зеркалом. Девушка обреченно села на кресло-качалку в коридоре у шкафа с книгами. Над ним висела марионетка, которую любила ее мать – уродливый арлекин с обезображенным лицом, в роскошном парчовом одеянии, расшитом стеклярусом. Екатерина дернула куклу за ногу – зазвенели бубенчики на ее шляпе, на ботиночках из сафьяновой кожи. Вспышка ненависти к себе потихоньку улетучивалась, и девушка задремала, покачиваясь в скрипучем кресле.
Ей снилось ненавистное зеркало. Екатерина рассматривала себя в нем, но зеркало стояло прямо на оживленной улице. Девушка оглянулась по сторонам и узнала улицу художников в родном городе. Все вокруг хотели нарисовать ее портрет, тянули за руки. И вдруг среди художников оказался тот самый арлекин-марионетка, которого она боялась с детства. Он тоже взял её за руку и сказал, что если ее нарисует Тимур, то бельмо пройдет. Екатерина вдруг ощутила ужас от его прикосновения, вырвала руку и побежала, но арлекин, звеня бубенчиками, начал преследовать. Звон нарастал, становясь невыносимым. Девушка решила спрятаться в зеркало и, почти войдя в него, вдруг испугалась, что не сможет вернуться обратно. Она схватилась за веточку засохшей розы, букет из которых оказался на этажерке рядом с зеркалом. Зазеркальный мир манил, она пересекла серебряную границу и сразу увидела своих родителей. Мама, которая умерла недавно, и отец, которого она совсем не помнила, стояли вместе, держась за руки. Они словно находились в той квартире, которую оставили дочери в наследство, и все там было как в реальной жизни. Мама рассмеялась и уселась в кресло-качалку, а папа подарил ей букет сухих роз и поставил на этажерку у зеркала. Вдруг мама обернулась к дочери и, внезапно вырастая в размерах, закричала:
– Ты наше проклятие, все женщины у нас в роду с меткой, ты напоминаешь о нашем грехе, ты сама грех.
Девушка в испуге бросилась к зеркалу, выйти обратно она не могла – держали руки матери, отца и еще чьи-то, но у неё была веточка, которая уходила на другую сторону зеркала.
Екатерина проснулась от собственного крика. Немного придя в себя, она поняла, что дремала в любимом мамином кресле и что в квартире она одна. Она разжала кулаки и увидела в ладони сухую веточку с розовым бутоном. Ее колючим стебельком она поранила палец, и капля крови испачкала дорогую белоснежную блузку. Стряхнув с себя остатки кошмара, Екатерина взяла с полки шкафа блокнот в кожаном переплете и тщательно записала свой сон со всеми подробностями. Особенно внимательно она отнеслась к словам арлекина про художника с именем Тимур. Она подчеркнула это имя и на полях поставила восклицательный знак.
Девушка росла в странной семье. Ее мать была поэтессой и немного актрисой. Дома устраивались поэтические вечера, повсюду в вазах без воды стояли розы и медленно засыхали. Она говорила, что срезанные цветы все равно мертвы, не нужно продлевать их агонию, а можно только любоваться скоротечной красотой. Екатерина хотела оставаться в доме единственным ребенком, ссорила маму с ее ухажерами, подглядывала за ними и ябедничала, третировала, как ей казалось, всех гостей. И не понимала, почему мама смеялась, если очередной ухажер рассказывал о выходках вредной девчонки.
Воспоминания о маме, такой красивой и независимой, были болезненными: она всегда сравнивала себя с ней и, учитывая бельмо на глазу, считала себя неудачницей и старалась перещеголять свою мать. Поэтому она стала манекенщицей, поэтому каждый раз рыдала перед зеркалом. И вдруг Екатерине пришла в голову прекрасная идея:
– Что ж, может арлекин и прав, ведь в доме столько маминых портретов, а моего ни одного. Пока я молодая и красивая, это надо запечатлеть! Пожалуй, так и сделаю! Профиль-то у меня как у средневековой принцессы!
Спать она легла в отличном настроении. Необходимо выспаться перед важным событием, которому она решила посвятить субботу.
Утром, а вставала Екатерина всегда рано, она начала собираться на прогулку по аллее художников. Нарочито небрежно, но тщательно, учитывая, что предстоит позировать. Легкое платье из переливающегося шелка подчеркивало ее точеную фигурку. Девушка повесила на шею длинную нитку жемчужных бус и надела очки со стеклами-хамелеонами.
Художника, который будет ее рисовать, девушка нашла сразу. Кто-то окликнул по имени молодого парня с пронзительным взглядом. Тимур оказался молодым мужчиной, и работы у него были особенными, обладали притягательной силой: на них хотелось смотреть, не отрывая глаз.
– Присаживайтесь! – предложил он Екатерине. – Я вижу, что вы присматриваетесь. Не стоит сомневаться, надо слушать свое сердце, а я вижу, что оно влюбилось в мои картины. Ваш портрет тоже будет прекрасен и ярок!
Екатерина улыбнулась в ответ, ей очень понравилось, как молодой человек непринужденно делает комплименты, и присела на стульчик.
– Понимаете… – смущенно начала она, сняв очки.
– Тс… – парень прижал палец к губам. И кисточка с акварелью принялась творить волшебство.
ДА НЕ ЛЕЧИЛ Я НИКОГО!
«Нужно срочно его найти. Нужно непременно найти его. А что будет, если не получится? Если он уехал и больше не лечит? То есть не рисует…? То есть не пишет…? Да что же это такое происходит?! Я с ума сошла? Возьми себя в руки, Катя!»
«…А если мне все же не удастся его найти? А если он не согласится взять подарок… Что тогда? Оно вернется?» – мысли перескакивали, налетая одна на другую и спотыкаясь, падали и снова путались.
«Жара невыносимая, сводит с ума», – продолжала беззвучный монолог Екатерина. Задумавшись, она даже не замечала, что идет по самому пеклу, ступая босоножками по раскаленному асфальту и утопая в нем каблучками.
Люди в летних шортах и майках, в рубашках с короткими рукавами, уставшие от беспощадной жары, сонно брели по теневой стороне улицы, стараясь ни одним краешком своего тела не попасть под палящие лучи солнца, которое находилось в зените. А вот и та улица, точно из волшебной сказки. «Может, место какое-нибудь заколдованное…» – продолжался круговорот обрывочных мыслей.
Художники расположились на складных стульях под широкими зонтами. Раскрытые этюдники, мольберты, расставленные для рекламы шаржи привлекали множество любопытствующих: и посмотреть, как на бумаге рождаются портреты, и себя показать. Улица, несмотря на жару, была многолюдна.
«Порисуем?» – предлагала надпись на майке одного из художников. «Запечатлею для вечности» – гласила другая. Однако желающих оплатить портрет было намного меньше, чем самих творцов.
Екатерина тихо вскрикнула. Вот он – красивый молодой человек спортивного телосложения, поджарый, сильно загорелый – это и понятно, он же изо дня в день находится на солнце. Красная майка и лицо, похожее на знаменитый портрет Че Гевары, дополняли образ. Он вальяжно развалился на раскладном деревянном стуле, в котором совсем недавно сидела Екатерина, позируя ему. Рядом на таком же стуле примостилась молодая девушка в короткой цветастой юбочке и белой обтягивающей майке.
– Все-таки, Маруська, в том, что мы вынуждены торчать столько времени на этой жаре, есть один большой плюс… – лукаво поглядывая на девушку, начал «Че Гевара». – Она обнажает в нас самую суть. Марина, у тебя обалденные ножки!
– Имей совесть! Ты бы хоть кольцо снял, – девушка отпихнула его руку с со своего колена и потянулась за сигаретами в маленькую сумочку.
– Оно тебе мешает? Сейчас его не будет, – «Че Гевара» избавился от кольца и сунул его в отсек мольберта, потом обнял девушку и, будто чувствуя, что теперь имеет на это право, поцеловал ее в шею.
«Слава Богу, он здесь!» – Екатерина немного успокоилась. Рядом с ним крутилась девушка —тоже, наверное, художница. «Они целуются. Так неудобно! Пусть сегодня всем будет так же хорошо, как и мне!». Она подошла к парочке и слегка покашляла, обращая на себя внимание:
– Извините, Тимур?
Парочка перестала целоваться. Тимур встал. В руках подошедшей женщины был его портрет. Точнее, ее портрет, который он на днях нарисовал здесь же, на площади. Обычно клиенты не возвращали его картины, у других такое случалось и выглядело неприятно, но он был уверен в своем мастерстве. Как говорится, с душой подходил к процессу творения.
– Вам не понравился портрет? – удивленно спросил он. – Я могу вернуть деньги! – Тимур вытащил несколько купюр.
– Да что вы, что вы! Господь с вами! – затараторила Екатерина. – Мне не нужны обратно мои деньги. Наоборот, я так восхищена вашими способностями, что пришла поблагодарить за ваш талант…
– Ну, что вы такое говорите!? Вы заплатили за мою работу, это и есть ваша благодарность, больше мне от вас ничего не надо, – ответил художник.
– Вы меня не так поняли, – попыталась объяснить Екатерина. – Я пришла сказать спасибо за то, что вы меня вылечили!
– Я? Вас? – Тимур несколько опешил. А Екатерина, преодолев смущение, заговорила еще быстрее:
– Да, вы! Вот посмотрите, такой я была, когда пришла к вам. Вы, наверное, меня помните, ведь не каждый же день к вам приходят женщины с таким дефектом на лице?
Екатерина достала из сумочки фотографию и протянула Тимуру.
– Видите мои глаза? Они разные. Видите?
На фото – Екатерина, та же самая, что сейчас стояла перед ним, с той лишь разницей, что ее левый глаз был покрыт бельмом.
– А такой вы меня нарисовали, – чуть успокоившись, продолжила Екатерина и развернула портрет, с которого, боязливо улыбаясь, смотрела интересная шатенка средних лет с большими серо-голубыми глазами. – Левый глаз ничем не отличается от правого.
– Да? – спросил Тимур, всё больше недоумевая.
– Да!
– Ну и что?
– Я ещё у вас спросила: «Почему нет белой плёнки на глазу?». А вы мне ответили: «Я вас так вижу».
– Ну и что? Разве вы остались недовольны портретом?
– Вы захотели меня видеть здоровой! Понимаете?! Вы запечатлели своё желание на картине, и оно исполнилось! Наяву! Посмотрите на меня, вы же не станете отрицать очевидное? – она говорила взволнованно, раскраснелась от нахлынувших эмоций, а на шее выступили капельки пота. Она ещё что-то хотела сказать, но Тимур перебил:
– Пожалуйста, успокойтесь. Да, действительно, этот портрет нарисовал я и теперь понимаю, что у вас загадочным образом исчез недуг. Возможно, вы лечились, и произошло стечение обстоятельств.
– Нет! – стояла на своем Екатерина, – я нигде не лечилась.
– Но я прошу вас понять, что я здесь ни при чем. Этому должно быть другое объяснение. Я не лекарь, никого не лечил и не собираюсь. Вы ошиблись.
Екатерина покачала головой и уже собралась объяснить, зачем пришла, как ее перебила Марина, подруга Тимура:
– Ну, хорошо, допустим, он вас каким-то чудом вылечил, а что вы теперь от него хотите?
Возле них стали собираться любопытные: им очень даже была интересна разворачивающаяся дискуссия.
– Девушка, я же вроде по-русски говорю, что хочу поблагодарить Тимура! – с жаром выпалила Екатерина и через маленькую паузу добавила: – Как должно, как следует в таких случаях! С этим не шутят – мне мама покойная рассказывала. Целителя обязательно нужно достойно отблагодарить, соразмерно вылеченному недугу! А то ведь и вернуться ненароком может все, или еще чего хуже случится.
– Да не лечил я никого! Что вы, в самом деле, наговариваете на меня всякую ерунду? – Тимур встал со стула, сложил его в чехол, перекинул мольберт через плечо и быстрым шагом пошел прочь.
Вслед за ним побежала художница. Они погрузили вещи на мотороллер, девушка села за руль. Тимур устроился сзади, обхватив ее за талию, и они уехали.
Растерянная Екатерина осталась стоять портретом в руках посреди толпы прохожих, некоторые подошли к ней и стали расспрашивать о подробностях. Они же и помогли раздобыть домашний адрес Тимура.
Ситуация, в которой оказалась Екатерина, сильно тревожила. Несколько дней она прожила без бельма на глазу и ощутила, насколько раньше находилась под давлением этого недуга и какие комплексы, несмотря на ее браваду, породил изъян.
Теперь сердце Екатерины терзал страх возвращения бельма. Даже одна мысль, что болезнь может вернуться, доводила до слез. Поэтому, превозмогая стыд и застенчивость, она заставила себя пойти в дом чужих людей, чтобы воззвать к их милосердию.
Тишину в небольшой только что отремонтированной квартире нарушил противно дребезжащий звонок. Это, пожалуй, единственное, что Элеонора Давыдовна не успела поменять. Полноватая, но все еще знойная женщина пятидесяти трёх лет с беспокойными глазами курила сигарету и одновременно чистила картошку.
– Кого это нечистый принес? – пробурчала она под нос и, кинув нож в кастрюлю, шаркая домашними тапками, подошла к двери и посмотрела в глазок.
Привлекательная девушка с картиной в руках. «Опять к Тимуру. Что-то он за баб взялся. На прошлой неделе дописывал дома портрет какой-то студентки, тем воскресеньем – подруга его подруги просила найти для нее время…. А Наташа? Все делает вид, что ничего не замечает. Ну, ничего, еще представится случай» – все это пронеслось в голове Элеоноры Давыдовны за секунды, пока она поворачивала ручку дверного замка.
Екатерина ждала и мысленно прокручивала встречу с родственниками Тимура – что она им скажет?
– Здравствуйте!
– Вы, наверное, к Тимуру? – Элеонора Давыдовна кивнула на картину.
– В каком-то смысле да. Но хотела бы поговорить и с вами, – неуверенно, но не без ноток настойчивости в голосе ответила девушка.
– Проходите, – Элеонора Давыдовна удивлённо распахнула незваной гостье дверь.
Екатерина сняла у порога туфли. Она, конечно, понимала, что Тимур находится в том возрасте, когда на него уже не может оказывать давление мать, но все равно шла к ней как к последней надежде: может быть, исходя из женской солидарности, она поймет ее тревоги, проникнется ими и сумеет убедить сына в необходимости помочь. Тем более плата, которую Екатерина хотела предложить за исцеление, была высокой – решить все возможные финансовые проблемы семьи Тимура.
– Хотите чаю? – спросила Элеонора Давыдовна, проявляя гостеприимство.
– Спасибо, было бы хорошо, – Екатерина обрадовалась, что женщина расположена к диалогу. – А вы мама Тимура?
– Тёща.
– А я подумала, мама, – как будто расстроившись, произнесла гостья.
– Если вам нужна его мама, я могу сказать, где она живет, только прошу вас, объясните мне, в чём дело? – хозяйка пошла на кухню. Вернулась она очень быстро, словно опасалась надолго оставлять незнакомку в комнате. Принесла чашку, наполненную чаем, и поставила ее на низкий столик у кресла, в котором сидела Екатерина.
Девушка взяла чашку, отпила глоток и беглым взглядом оценила обстановку: чисто, аккуратно, сразу видно – жилье после ремонта, пусть даже косметического. Все материалы, используемые для отделки, недорогие. Сама хозяйка также выглядела неухоженной, начиная от потрепанного махрового халата и заканчивая домашними тапочками, не выдерживающими с точки зрения Екатерины никакой критики.
– О чем вы хотели поговорить? – уточнила Элеонора.
– Сейчас я вам всё расскажу, – Екатерина сразу перешла к делу, для себя она уже поняла: тут деньгам будут рады.
– И? Вы меня интригуете, а я волнуюсь, как-никак это касается моей семьи.
– Нет никакой интриги, поймите меня правильно, как женщина.
Элеонора взяла стул и придвинулась к гостье, обратившись в слух.
– У меня уже много лет вот здесь, – Екатерина указала пальцем на левый глаз. – Была тонкая белая плёнка – бельмо. Из-за этого я и замуж не вышла до сих пор, и вынуждена носить очки. Работа у меня такая, что нужно быть красивой. Это бельмо портило мне всю карьеру.
– Я совсем ничего не понимаю, вы точно о Тимуре хотели поговорить? – напряглась теща.
– Да, – подтвердила Екатерина. – Наберитесь, пожалуйста, терпения. Недавно я познакомилась с вашим зятем. Пришла на площадь, где он работает, и рассказала всё, как вам сейчас. А он мне в ответ: «Профиль у вас неинтересный, лучше писать анфас». Я и опомниться не успела, как он нарисовал вот это, – Екатерина перевернула портрет лицом к Элеоноре. – Я ему говорю: «Уважаемый, так это же неправда. Я же не такая!» – и показала ему свой глаз. А он мне ответил: «Я вас такой вижу! Вы мне такой больше нравитесь!». Честно говоря, расстроилась я тогда немного. А на следующий день гляжу на себя в зеркало и вижу…
– Что?! – не выдержала Элеонора Давыдовна.
– Бельма-то у меня нет! – Екатерина допила чай, отодвинула кружку и продолжила: – С тех пор я излечилась от своего недуга. И излечил меня ваш зять, изначально изобразив на портрете здоровой!
Элеонора Давыдовна улыбнулась, налила гостье ещё чаю и придвинула вазочку с конфетами.
– У меня и жизнь-то после этого стала совсем другой! Я будто раньше и не жила никогда! Как заново родилась! Не ношу ненавистные очки! Появился жених, каждый день цветы носит, замуж зовёт. Раньше я об этом и мечтать не могла! Не смотрел на меня ни один. Или смотрел… как на прокаженную. Я и была прокаженной…
– Так это ж замечательно, – как-то без особенной радости отреагировала хозяйка.
– И теперь я хочу его отблагодарить! – расхрабрилась Екатерина.
Элеонора Давыдовна напряглась, слова о благодарности открывали для нее непонятную, но приятную перспективу.
Екатерина заметила меркантильность хозяйки: в ее глазах вспыхнул огонь интереса, взволнованно забегали искорки, и она словно что-то взвешивала в голове. Это давало Екатерине надежду, появилась спасательная соломинка, за которую она могла зацепиться.
– Я хочу подарить ему машину!
– Да что вы, барышня! – не поверив собственным ушам, воскликнула хозяйка, подумав, что у Екатерины не все дома, а посему стала с ней разговаривать как с больным, неадекватным человеком.
Элеонора знала цену вещей и понимала, сколько стоит машина. Даже от своих мужчин не видевшая подобных подарков, она не могла поверить, что за какое-то бельмо какая-то женщина, пусть даже и богатая, подарит ее зятю автомобиль! В ее понимании дело было нечистым, а посему промелькнула подозрительная догадка: никак эта шатенка присмотрела Тимура себе в альфонсы.
– Не выдумывайте, милочка, машина вам самой пригодится. А вылечил вас кто-то другой или что-то другое! Это я вам как врач говорю! Тимур здесь ни при чём. Да и машину-то водить он не умеет, – Элеонора Давыдовна, разнервничавшись, пошла к плите и снова поставила чайник на конфорку.
За окном слышался гул автострады, по которой днем и ночью, как только становилось тепло, счастливые отпускники ехали на море.
– Зато ваша дочь прекрасно мотороллер водит. А у меня, знаете, такая синяя «шестерочка».
– А где вы видели мою дочь? – еще больше утверждаясь в догадках, обернулась Элеонора.
– Там же, где и Тимура, на площади, они вместе сели на мотороллер и уехали…
«Так и знала…» – в глазах Элеоноры Давыдовны, давно подозревающей зятя в похождениях на сторону, мелькнула злоба.
Она вспомнила свои мысли перед тем, как открыла дверь этой случайной гостье. «Да и случайностей нет на свете. Кто-то мне об этом говорил?». Но, не подав виду, будто что-то не так, взяла себя в руки и принялась убеждать собеседницу в том, что такой дорогой подарок Тимуру ни к чему. «Сейчас разберусь с одной, а потом займемся другими», – решила обладавшая кое-какой житейской мудростью Элеонора Давыдовна.
В конце концов, Екатерина сдалась. Мало кто последние четверть века мог противостоять напору рыжеволосой и знойной мадам. «Давайте будем просто дружить! Позовите меня на показ мод!» – предложила она и, выпив с Екатериной еще по чашке зеленого чая, который так кстати оказался в комоде, обычно до отказа забитом кофе, выпроводила ее праздновать выздоровление домой.
«Ну, теперь мне точно нужен кофе, – подумала Элеонора, глядя на не дочищенную картошку, – хотя нет, сначала я серьезно хочу поговорить с Людмилой».
Людмила Анатольевна, мама Тимура, была женщиной умной, но слабохарактерной во всем, что касается сына. «Любовь глаза вам застит, – часто говорила ей сватья. – Только не нужна ему такая любовь-то ваша! Мужской руки ему не хватает! Он у вас все как маленький, за каждой юбкой бегает, точно спрятаться хочет!» Людмила Анатольевна при этих словах только опускала глаза и, не желая обсуждать сына, прекращала разговор. А что она могла сделать, когда самой не хватало этой самой мужской руки? Но она поклялась себе навсегда забыть все, что связало ее с его отцом и что произошло после, ни словом не обмолвиться об этом перед сыном и другими людьми, и свято хранила тайну много лет, а вместе с ней и свои страхи.
Элеонора Давыдовна решила лично все высказать матери Тимура. Благо, дом, где она жила, был в двух шагах, и вскоре Элеонора уже стучалась в дверь старенькой квартиры в хрущевке. Её отворили бледные руки с длинными музыкальными пальцами.
Людмиле когда-то предлагали место в городском оркестре. Но это было до ее замужества и до рождения сына. Она отказалась от карьеры музыканта и полностью посвятила себя семье. Аким, так звали ее мужа, увез молодую жену в деревню, где жили его мать с отцом. Людмила Анатольевна и сейчас обожала сыграть что-нибудь незатейливое на фортепьяно. Она все еще любила покойного мужа, даже несмотря на то, что прошло много лет со дня его смерти. Если она о чем-то и жалела, то лишь о том, что он ушел так рано.
– Люда, я прошу тебя вмешаться, Тимур снова взялся за старое, – с порога выпалила Элеонора.
– Я не понимаю, о чем ты говоришь?
– Сегодня ко мне приходила одна его клиентка, та еще штучка! Она говорила о каком-то целительстве, мол, он вылечил ее своей картиной, вроде как бельмо на глазу исчезло! Чепуха какая-то! Так вот, она призналась мне, что видела Тимура с девицей на мопеде и подумала, что это его жена. Я не стала ее разуверять, но предупреждаю тебя, Людмила, образумь его! Не то все расскажу Наташе, это я тебе обещаю! Хоть мне и не хочется, чтобы Наташеньке было больно, но мужиков она выбирать не умеет! Что правда, то правда. А я не такая тихая, как ты, и подвиги его молодости покрывать не собираюсь!
Людмила Анатольевна побледнела и взволнованно переспросила:
– Исчезло бельмо?
– Ну да. Но я, как врач, объяснила, что это невозможно! Не-воз-мож-но! – повторила Элеонора по слогам и направилась к двери, но обернулась. – В общем, теперь я не сомневаюсь в том, что твой сын гуляет, и у меня есть доказательства! И свидетель! Если ты не примешь меры, Людмила Анатольевна, и это не прекратится, я буду ставить вопрос о разводе! – закончила Элеонора Давыдовна уже на пороге. – Будьте здоровы!
ЧАСТЬ II. ХУДОЖНИК С РОДОСЛОВНОЙ
Прошло несколько месяцев. Жизнь шла своим чередом. В квартиру Элеоноры Давыдовны позвонила Екатерина. Ей ничего не надо было говорить, она просто сняла очки. Теперь её левый глаз был опять затянут бельмом.
Слезы хрустальными каплями текли из ее глаз. Элеоноре Давыдовне ничего не оставалось, как обнять несчастную и пригласить на чай.
Естественно, Екатерина снова просила помочь. Врачи ей отказали, да и помощи от них она не ждала. А теперь, когда у неё появился жених, она никак не могла показаться перед ним в таком виде. Екатерина просила, нет – умоляла, чтобы Тимур нарисовал её портрет снова.
– Он сейчас дома у матери, – пояснила Элеонора.
Екатерина взяла у Элеоноры адрес, и, не теряя времени, засобиралась. По пути ее догнала Элеонора, решив, что следует держать все под контролем.
Дверь открыл Тимур, он сразу узнал посетительницу.
– Пожалуйста! – взмолилась Екатерина. – Помогите мне, ваши картины имеют чудодейственную силу.
Тимур предложил гостье и теще пройти.
– Вам придется заплатить мне как за новый портрет, – сказал Тимур и направился к мольберту.
– Тимур не может! Не может этого сделать! – вдруг закричала появившаяся в комнате Людмила Анатольевна, закрыла лицо руками и разразилась еще большими рыданиями, чем Екатерина.
– Мама, что с тобой? – Тимур схватил ее за плечи. – Почему ты не хочешь, чтобы я выполнил ее просьбу?
– Неважно, я тебя прошу этого не делать, – Людмила вытерла слёзы.
В разговор встряла наблюдавшая со стороны Элеонора Давыдовна.
– Я тебя, Люда, не понимаю: деньги в дом идут, а ты от них отбрыкиваешься, а, между прочим, у твоего сына есть семья, которую содержать надо.
Тимур обратился к матери:
– Что ты со мной как с маленьким, давай покончим с этим – я нарисую ее еще раз, и ты мне все наконец расскажешь.
Тимур обнял мать и ласково погладил ее по голове. Он очень ее любил и знал, вернее, с помощью какого-то шестого чувства догадывался, что переживания матери на протяжении всех этих лет связаны со смертью отца. Но о чем мать так волнуется и почему не рассказывает об отце – этого он не понимал. При каждой попытке разузнать хоть что-то мать меняла тему разговора или убегала по внезапно появившимся срочным делам. Еще подростком Тимур понял, что просто так тайну не выведать и прекратил попытки. Людмила Анатольевна молча кивнула и вышла на кухню. Через пару часов портрет был готов. И вдруг, когда Тимур повернул потрет, чтобы показать его владелице, на виду у всей семьи бельмо с глаза Екатерины стало исчезать.
– Не может этого быть! – схватилась за сердце Элеонора. – Это не-воз-мож-но… Люда, доставай из серванта коньяк и принеси нам рюмки! У меня приступ сейчас будет!
Екатерина, держа портрет в руках, придирчиво рассматривала себя в зеркале. Вдруг в гостиной раздался грохот. Элеонора Давыдовна закричала.
– Что случилось? – вбежала Людмила Анатольевна с четырьмя рюмками и бутылкой коньяка, которая тут же выпала из рук. Коньяк растекся среди осколков по полу, намочив выгоревшие на солнце волосы Тимура, который лежал без сознания.
– Вызывай «скорую»! – закричала Элеонора, но Людмила Анатольевна возразила:
– «Скорая» не поможет. Вызывайте такси, надо везти его к деду, – и тихо добавила: – Это у него родовое.
Такси остановилось у небольшой, но крепкой изгороди, ворота которой были распахнуты, будто кто-то ждал гостей. Из глубины сада, в котором скрывался белый одноэтажный дом, спешил пожилой мужчина в светлой одежде, опираясь на трость.
– Помогите, дедушка Аким! Тимур упал без памяти, а пока мы ехали, покрылся сыпью, от которой тогда умер его отец! – взволнованно кинулась Людмила к свекру.
– С возвращением, Людмила. Так должно было случиться. Хоть ты и назвала его не родовым именем и не рассказывала о его способностях, все равно род наш сильный, и предначертанного не изменишь, вот и благодари, что жив еще твой сын.
Тимура отнесли в самую дальнюю комнату в доме, больше похожую на келью затворника. Кроме кушетки, маленького столика да окошка под потолком, там ничего не было. Элеонору с Екатериной, которые сопровождали Тимура, попросили уехать домой. Сам же дед не отходил от Тимура несколько дней. Оставшаяся присматривать за сыном Людмила Анатольевна приносила еду прямо в комнату. Что дед там делал, она не видела. А он не любил посвящать кого ни попадя в свои дела. На третий день Тимур очнулся. Через неделю сыпь сошла, он смог самостоятельно есть, вставать и выходить в сад.
– Ну ладно, дед, – обратился Тимур к старику. – Расскажи, что за болезнь такая со мной приключилась и что скрывает моя мать?
Тимура все это время его мучило любопытство. Молодой сильный организм быстро поправлялся, но дед Аким не спешил раскрыть внуку причину болезни.
Прошла еще неделя, и к деду пришла женщина с ребенком. Тимур рисовал в саду и случайно услышал их разговор.
– Перестань бегать за ним, – говорил дед. – Займись сыном, а не то и себе, и ему жизнь испортишь. Посмотри, мальчуган у тебя какой умный, а глаза у него посмотри какие – редко когда такие глаза встретишь – и в прошлое смотрят, и в настоящее, и в будущее. Не болен он у тебя. Ты больна, Люда. Болезнь твоя в голове. Оставь мужиков, займись ребенком, и все наладится. Три недели будь дома, не звони никому, не ходи в гости, будь с сыном, кушай простую пищу, не пей вина, проси помощи у заступников, потом приходи.
– Что с ней, дед? – Тимур подошел с недописанной картиной, когда силуэт женщины с малышом в руках почти скрылся в полуденном зное и дорожной пыли. – Чем болен ее ребенок?
– Да не болен он. И она не больна.
– Что происходит? Почему она просит тебя помочь? Почему ты отказал?
– Погоди-погоди… вопросы-то мне на голову сыпать, – дед развернулся и, опираясь на изогнутую трость, направился к дому.
– Дед! – Тимур был настроен решительно. – Ну хватит, мне уезжать пора, я у тебя две недели без дела маюсь, ты меня к себе не подпускаешь, боком ходишь, сторонишься…
– Я готовлю тебя.
– Готовишь к чему?
– К тому, чем тебе предстоит заниматься.
– Дед!
– Дар у тебя исцелять людей. А если взялся за человека, будь готов разделить с ним его грехи.
– Какие грехи, дед!? Да и не исцелял я никого! Я просто рисовал ее! Ну, без бельма – ну и что?! Это просьба заказчика!
– Нет, ты не просто рисовал женщину, не притворяйся глупым ничего не понимающим мальчишкой. Ты во время рисования усилием воли пытался воздействовать на белую плёнку на глазу! Так?
Тимур кивнул.
– Ну, хорошо, я очень хотел, чтобы она излечилась, словно ее желание почувствовал. Хотел помочь. Хоть на картине.
– А теперь слушай меня внимательно: ты не излечил пациентку, ты просто направил болезнь в другое русло. Поэтому, собственно, болезнь и вернулась, и снова вернётся. Ты не мог излечить её, не зная причин. А причины болезни лежат в душе человека. Если заглянешь туда, увидишь поступки, которые совершал человек. Сделал что-то дурное, согрешил – душа начинает страдать, а потом уже страдает и тело.
Дед доходчиво пытался объяснить внуку то, что с ним происходит.
– Понимаешь, художники – это особый тип людей. Им дано видеть глубинные чувства человека, вытаскивать их через изображение на поверхность. Через портрет художник может не только излечить, но и искалечить человека, либо дать ему жизненную подсказку, предостеречь от воздействия чего-либо.
– Как это? – удивился Тимур.
– А вот так! То, что художник увидит в человеческой сущности, вытянет это из него и запечатлеет на полотне, это не случайность, не совпадение, а отражение человеческой души. Некоторые художники могут увидеть и нарисовать то, что обычный человек и не заметит, иногда даже будущее.
Дед внимательно посмотрел на внука:
– Ты понимаешь, о чем я говорю?
– Не верю я в эти сказки! – Тимур пожал плечами.
– Понятно, – разочарованно вздохнул дед. – Знакомая у меня была. Красивая такая, вся при своем баба. Захотела она себе заказать портрет маслом. Несколько лет писал с нее картину один художник, восторгался ее красотой, а в итоге получилась женщина, словно карлица, ручки маленькие, жадненькие, прижимает крепко к груди.
– И что дальше с ней стало? – спросил Тимур.
Дед обрадовался, наконец-то увидев огонек интереса в глазах внука.
– Как подменили бабу, жадная стала до невозможности, такая меркантильность в ней развилась, что весь свой круг общения растеряла и обросла совершенно новыми знакомыми, такими же, как и сама она, бездушными, черствыми людьми.
– Так это просто совпадение, – отмахнулся Тимур. – Весь мир кишит жадными и бездушными, и совсем не обязательно, что их кто-то когда-то нарисовал.
– Не обязательно, – согласился дед. – Но подсказки, которые идут в руки человеку, слушать надо, анализировать и задумываться над ними.
Тимур пожал плечами.
– А на это что скажешь? – продолжил старик образовательную речь. – Тоже, кстати, с работой художника связано: нарисовал один мой знакомый женщину, красивый портрет получился, прямо ангел на полотне, но вот сережки, что были в ее ушах, он запечатлел не в виде камушка с золотой оправой, а в образе впившегося в ухо паучка.
Тимур обратился в слух, потому что сам, будучи портретистом, иногда неосознанно, следуя порыву души, пририсовывал к готовому рисунку какие-либо детали. Например, мог нарисовать в ладони у человека яблоко или цепочку на шее.
– Ну, так это же нормально, дополнять образ вспомогательными элементами! Нас этому учили в «художке», ничего особенного в этом нет!
Дед прищурился.
– Так ты не дослушал историю, когда поймешь ее, может, станешь просматривать жизненную ситуацию человека, предвидеть развитие событий его жизни и будешь осторожнее себя вести в подборе символа, который можешь налепить ему, как клеймо.
– Ну… – задумался Тимур. – Давай, рассказывай дальше.
– Женщина спросила художника: «А почему вы в виде паучка мои сережки нарисовали?» Он ответил, что так их увидел. Портрет смотрелся замечательно, и женщина не стала возражать. Только через несколько лет она сумела понять видение портретиста. Когда она перестала носить серьги, в которых была во время позирования, у нее ни с того ни с сего умер муж.
– И при чем тут серьги? – растеряно спросил Тимур.
– А при том, что проанализировав ситуацию, женщина поняла, что в образе паука художник запечатлел ее мужа, который жил, паразитируя на ее жизненных ресурсах. Понял?
Тимур переваривал информацию: сомнения, что все это фантазии пожилого человека, исчезали, и возникала уверенность – факты из его жизни и творчества подтверждали дедовы слова.
– Но в моем случае тогда что произошло? – спросил он. – Я нарисовал женщину здоровой, что я сделал не так?
– А ты дал возможность прочувствовать ее физическому телу жизнь без изъяна, для того чтобы она сумела понять, по какой причине получила данный недуг и благодаря чему может избавиться от него. Ведь для того чтобы излечить от бельма по-настоящему, надо сначала выяснить, из-за чего страдает её душа. Что такое она совершила? Свои деяния, неугодные окружающим, неугодные жизни, она должна вспомнить, проанализировать, постыдиться за них, попросить прощения, раскаяться. И только тогда она может надеяться на телесное выздоровление. А ты вмешался в ситуацию, и она не покаялась, не осознала ужаса содеянного, и поэтому именно ты наказан, потому что каждый человек должен сам нести ответственность за свои прегрешения. Наказания, посланные свыше, могут быть разными, в зависимости от тяжести преступления, совершенного этим человеком против другого живого существа.
– Дед, а от чего умер отец? – Тимур схватил старика за руку. Тот взглянул на него и начал рассказ, направляясь к лавочке в центре сада:
– Он погиб. Покрылся такой же вот сыпью, как у тебя, и упал замертво после того, как отработал с человеком. Не выдержал, сил не хватило. Людмила видела это. У нее на глазах все произошло. А после того, как похоронили твоего отца, она взяла тебя, маленького, пять лет тебе было всего, и уехала в город. Сказала, что ни в жизни, ни одним словом перед тобой или кем-либо еще не обмолвится о том, что произошло. Не хочу, мол, потерять единственного сына. Только «хочу – не хочу» не работает здесь, внучек. У тебя дар. Много веков это у нас из поколения в поколение передается. Ты не мог его избежать. И не скрыться тебе от него. Придется научиться жить и лечить людей.
Старый Аким присел на деревянную лавочку, где до этого рисовал Тимур, и замолчал.
– Почему ты не помог отцу?
– Я не успел. Аким торопился, хотел с вами поскорее уехать отдыхать. Взял на себя слишком много, не соблюдал правила. Не очищал себя должным образом. Твоя мать – как вулкан, ей невозможно было ничего объяснить. Она никого не слушала. Лет через семь после этого мы с ней впервые поговорили. Я просил ее привозить тебя, хоть изредка, но она отказалась. Тогда я просто стал ждать. Я знал, что жизнь сама приведет тебя. Но я не думал, что дар именно так даст о себе знать.
Тимур задумался. Где-то далеко за холмом находилось море. Его шум не был слышен, но влажный солоноватый запах, который ни с чем не спутать, присутствовал в горячем летнем зное. На лбу у Тимура выступил пот.
– Иди, ляг, я говорил, что ты не полностью оправился от болезни, – дед Аким встал и проводил внука в свою келью. Несмотря на жару, там было свежо и прохладно. Дед уложил Тимура на низенькую кушетку и прикрыл пледом. – Закрой глаза и постарайся не думать сейчас об этом.
– Скажи только, дед, за что всё-таки я получил наказание?
– Представь себе, что ты пришёл в дом, где в углу стоит провинившийся ребёнок. Ты подходишь к нему и, даже не спросив, за что его поставили в угол, снимаешь с него наказание. Он рад, веселится, но до тех пор, пока не появятся родители. Они накажут тебя, а его снова поставят в угол. Понятно? Так вот и Всевышний тебя покарал за то, что ты снял Его наказание… – спокойно объяснил Аким и уже у двери добавил: – Тебе придется найти эту женщину и объяснить, что болезнь вернётся. Не надо ждать, когда она снова появится у тебя в доме с бельмом на глазу и претензиями…
* * *
Очередь у квартиры Тимура растянулась почти на два этажа. Это были люди, желающие получить волшебный портрет. Ожидающие шушукались, сплетничали и всячески пытались выяснить, к чему готовиться во время встречи с белым магом-живописцем, как окрестили Тимура в городе.
– Говорят, он ей бельмо с глаза убрал… – было слышно где-то в центре очереди.
– Да что вы? Тогда, вероятно, он сможет вывести мою бородавку под мышкой. Мешает, зараза, что ни побриться, ни помыться не дает, да и руку высоко не поднимешь – каждую секунду помнишь о ней! – жаловалась женщина в шляпе.
– А вы знаете, что сначала бельмо пропало, а потом вернулось, а потом снова пропало? – вмешалась в разговор третья. – Так что, может, он и не так хорош, как о нем говорят. Я вот пришла сначала на него глянуть. Сегодня никакой портрет заказывать не буду, присмотрюсь. Моя болячка посерьезнее вашей бородавки будет. Не хочу рисковать!
– Что значит посерьезнее? – возмутилась женщина в шляпе. – Посерьезнее – идите к врачу, а не к художнику! Может, он вас вежливости научит! – фыркнула она.
– Да никакой он не художник! Колдун он! Я слышала, отец его колдуном был и от колдовства же своего и умер! – заявила дама с серьезной болячкой.
По очереди прокатилась волна охов, и несколько человек ушли. Оставшиеся же продолжали рассказывать друг другу о своих бедах, которые белый маг-живописец, по их мнению, мог легко прогнать одним движением своей кисти…
В это время Тимур, Людмила и Элеонора держали семейный совет на кухне. Наташа уехала на пару недель на море отдохнуть. Пожалуй, она одна из всех ясно понимала, что как было, уже не будет, а как будет – сейчас никто не разберется. Поэтому единственное, что она могла сделать – это совсем не мешать мужу ни своей «помощью», ни даже присутствием.
С тех пор как Тимур вернулся от деда Акима, его жизнь кардинально изменилась. Заказы на новые портреты посыпались со всех сторон. Тимур заканчивал одну картину, выходил покурить на лестничную клетку, а там его уже поджидал следующий заказ. В каждом магазине продавцы рассказывали покупателям про необычного художника с Центральной площади, а покупатели несли этот рассказ по своим домам, их домашние – по домам своих друзей и так далее.
Рассказы обрастали новыми подробностями. На городскую площадь, где Тимур все еще продолжал собирать заказы на обычные портреты, потянулись толпы людей. Многим вообще не нужны были ни исцеление, ни картины. Они хотели своими глазами увидеть парня, который словно холодным душем окатил этот высохший от летнего зноя городок.
Тимур устал. С одной стороны, ему надоела шумиха вокруг него – даже дома преследовали больные и здоровые люди, хотя здоровыми их трудно было назвать… «Ну какой разумный человек попрется к незнакомому художнику за волшебной картиной?» – говорила Элеонора Давыдовна, в очередной раз объясняя просящему принять его в десять вечера, чтобы приходил утром.
– Ты же не «скорая помощь», чтобы по ночам лечить их! – эта фраза уже предназначалась Тимуру, который периодически забывал о том, что ему иногда нужно есть и спать.
Желание испытать свои способности разъедало его изнутри и вместе с накопившейся усталостью наваливалось то внезапным раздражением, то непробиваемой апатией, то невероятной работоспособностью, после чего художник-целитель мог упасть на кровать и не просыпаться сутки, а то и больше. Наконец, Элеонора Давыдовна и Людмила Анатольевна решили, что так дальше продолжаться не может.
– Что тебе говорил дед перед отъездом? – спросила Тимура мать, которой он ничего не рассказывал с тех пор, как с ним произошел тот обморок. – Он должен был сказать что-то такое, что помогло бы тебе сейчас, наверняка ты забыл или не придал его словам значения. Вспомни, сынок! Иначе ты опять заболеешь! Прошу тебя!
Тимур сидел за столом, сжав руками лохматую голову. Он давно не стриг волосы и теперь оброс так, что был похож на взрослого домовенка. Мягкие и в то же время очень мужские черты лица делали его обворожительным, даже когда он был в неухоженном виде. Это играло немалую роль в его растущей популярности. Тем не менее, образу не хватало чего-то, что убрало бы наносное мальчишеское.
– Надо было, Людмила, раньше его к деду Акиму отвезти, может, сейчас бы он не сидел тут весь в сомнениях, прячась от толпы заказчиков, – угрюмо проворчала Элеонора.
– Что сделано, то сделано, Элеонора Давыдовна, чего уж теперь меня попрекать, – отрезала Людмила и снова повернулась к сыну: – Сыночек, что сказал тебе дед?
– Да много чего рассказал…. Про отца сказал, про наказание, про дар! Мне надо к деду! Точно! Я поеду к деду, пусть он меня научит, что я должен делать с ними! Как он различает: кому какой прием применить, как вообще принимает их, что делает. Может, мне их и вовсе рисовать не надо.
Тимур схватил на всякий случай сумку с красками, накинул легкую кофту и побежал к двери. Но вспомнив об очереди, поджидавшей его за дверью, вернулся в комнату. Подошел к окну, прикинул расстояние до росшей под окном березы и прыгнул, ловко схватившись за ближайшую ветку руками, потом повис на ней и спрыгнул на землю. «Все хорошие люди живут на втором этаже», – улыбнулся Тимур, вспомнив, как они с друзьями шутили в детстве, и, довольный собой, быстрым шагом направился к шоссе ловить машину…
– Болезнь – это результат греховности, грешного поведения, – методично объяснял Тимуру старый Аким, глядя на солнце.
Они сидели на той самой лавочке в центре сада, где в прошлый раз Тимуру стало плохо от неожиданно свалившейся правды о его таланте. Вперед аллейкой уходили высокие туи, позади, словно зонтик от солнца, свисали ветви старой яблони.
– Дед, я к тебе за советом приехал, а ты мне лекцию про человеческие пороки читаешь! – Тимур нетерпеливо поерзал.
– Да ты без этого знания ни одной линии своей кистью не проведешь! – обычно спокойный, Аким не сердился, но упрямое невежество внука расстраивало. – Если бы твоя мать тогда не забрала тебя, ты бы сейчас не задавал мне вопросов. Но что было, то было. Таков и мой крест.
– Дед, что мне делать с ними? С чего начинать? – Тимур умоляюще посмотрел на старика, предприняв очередную попытку выманить спасительный магический рецепт.
– Да не с ними делать надо! С собой делай, тогда с ними само собой происходить будет. Слушай меня и запомни: первой идет нравственность твоя, а твои мысли затуманены не пойми чем, оттого поступки не честны, да и не чисты. Ты сейчас ни о теле своем не заботишься, – дед кивнул в сторону пачки сигарет, выглядывавшей из кармана брюк внука. – Ни о душе. Вот, куришь, алкоголь пьешь. Ты же женат, а уняться не желаешь, ни одной юбки не пропускаешь. И силы расходуешь, и жизнь свою сокращаешь. А коли нет сил на собственное здоровье, разве ты сможешь другого человека здоровым сделать?
Тимур молчал. Где-то в глубине души он понимал, что ведет себя нелепо. Но все это казалось неважным. Он никогда особенно не задумывался о чувствах Наташи или Марины, да и в своих собственных не стремился разобраться. Он не испытывал ни к одной из них ни особенной привязанности, ни душевной близости. И вместе с тем остро желал почувствовать это. Но будто кто-то за него поставил на всех его желаниях крест.
– Твой отец старался излечить человека, очень много грешившего. Он знал, что это ему не по силам, но не смог победить свое желание. Упрямство. Коварная штука – гордыня. Знаешь, как займет трон в твоей голове, так не слезет с него, до последнего. Нужно быть очень внимательным, чтобы не перепутать истинные возможности с собственной навязчивой идеей.
– Дед, но ведь есть какие-то приемы. Особые приемы, я имею в виду, – Тимур так выделил слово «особые», что старик невольно улыбнулся.
– Я не колдун, мальчик. А магия – она от слова «могу», «мочь» происходит. «Могу» совладать с собой. В ладу с собой жить. А ты можешь?
Тимур задумался. Курить он бросал раз пять, если не больше. С Наташей хотел расстаться, да не смог, потому, что квартира тёщи большая и комфортная, не хотелось возвращаться в убогую мамину хрущевку. Да и искать, усилия прикладывать не особенно желал.
Дед посмотрел на Тимура так, что у него по телу побежали мурашки. Дедовы мохнатые белые брови почти закрывали глаза, но взгляд прожигал насквозь. Казалось, он все мысли человека наперед знал. «Зачем он задает мне вопросы? – думал Тимур. – Ведь я чувствую, как он копается в моих извилинах, а может, и в самой душе…»
В этот момент на туевой аллее показалась женщина с подносом в руках, на котором стоял графин с буровато-красной жидкостью и двумя чашками. Тимур вопросительно посмотрел на деда. В прошлый раз он был так занят собой, что и не заметил, что дед живет не один. О нем с теплом и великим добродушием заботилась пожилая, но для своего возраста очень симпатичная женщина с привлекательными чертами лица. Невозможно было даже предположить, сколько ей лет. Она шла легко и естественно; ничего, кроме простоты и материнской заботы не было ни в ее взгляде, ни в жестах. Впрочем, седина во вьющихся волосах и проникновенно-мудрые глаза заставили Тимура предположить, что она была ненамного моложе деда.
– Аким Наумович, выпейте с внуком бруснично-травяного отвара – и жажду утолите, и отдохнете, – она ласково посмотрела на старика, подала мужчинам по кружке и наполнила их питьем.
– Благодарствую, Любушка. Как там наш совёнок? Спал у него жар?
– Сейчас уже меньше, вот только успокоился и уснул.
– Какой совёнок? Дед, ты что, ветеринаром заделался? – Тимур удивленно смотрел то на деда, то на чудесную женщину.
– Да нет, – засмеялась женщина. – Вчера ночью мальчонку принесли, бесноватого, весь горел, бредил, ваш дедушка почти до утра с ним занимался, мы его совенком в шутку и назвали, сейчас ему уже лучше, так ведь, Аким Наумович?
– Так, так, Любушка, можно сказать, самое опасное состояние позади, но поработать с ним еще придется. Познакомься, Тимур, это Любовь Григорьевна, моя верная помощница и хранительница этого небольшого очага. Без нее мне пришлось бы очень трудно.
– Ну что вы, Аким Наумович, работать у вас – большая милость для меня. Вы, наверное, не знаете, Тимур, что ваш дедушка самый уважаемый человек на тысячу километров вокруг. Все его знают. На самом деле, нет такого второго человека на всей земле. И нет человека, которому он не смог бы помочь.
– Ну, хватит, Люба, полно меня нахваливать. Каждый сам себе спаситель. Пора мне теперь паренька нашего проверить, скоро он просыпаться будет. А ты, внучек, сделай все же то, о чем я тебя еще давеча просил. Найди ту женщину да про бельмо ей поясни, что не ушла ее болезнь. Иначе так и будешь с очередями своими маяться.
ЧАСТЬ III. ЗОВ КРОВИ
Екатерина встретила Тимура в длинном шелковом халате кремового цвета с изящным кружевом на рукавах.
– Проходите, – удивленно впустила она запыхавшегося художника. – Чай или кофе?
– Ни то, ни другое, – уверенно ответил Тимур. – Мне нужно с вами срочно поговорить.
Екатерина усадила Тимура в гостиной, и он начал рассказывать. С того самого обморока, когда он рисовал ее во второй раз, и дальше, и дальше, будто сам себя уверял в том, что все произошедшее случилось именно с ним, и это совсем не шутка. Или не сон, не наваждение. И даже не глупые выдумки… Какие только эпитеты не придумали люди за последние несколько месяцев к этому отрезку его жизни…
– В общем, оно опять вернется, – закончил он, проговорив без остановки около часа.
– А кто же меня вылечит по-настоящему? – удрученно, но деловито спросила Екатерина. Тимур пожал плечами:
– Дед говорит, что вы должны вспомнить те свои деяния, которые были неугодны окружающим, но, вы, пренебрегая интересами других людей, делали нечто противоправное. И только тогда, когда вы раскаетесь в своих поступках, исцеление станет возможным, а иначе болезнь будет возвращаться каждый раз по-новому.
– Отвезите меня к вашему деду, – Екатерина встала и, словно ответ был уже получен, принялась собираться.
В это время в дверь позвонили.
– Володя? Ты почему так рано? – Екатерина слегка растерялась, но быстро взяв себя в руки, представила Тимура будущему мужу.
– Володя, это тот самый художник, который нарисовал мой портрет, помнишь, я тебе о нем рассказывала?
– Конечно, помню. Но что этот художник делает у тебя рано утром? И почему ты перед ним в халате? Зачем он пришел?
– Володя, успокойся, я тебе все объясню. Его дед, понимаешь, известный целитель, я хочу поехать к нему в имение, показаться.
– Ты чем-то больна? Что происходит?
– Нет. В целом, я здорова. Но есть кое-какая гадость, о которой ты не знаешь. Я и сама толком не до конца понимаю, что со мною происходит, в общем, мне надо разобраться.
– Хорошо. Ты собираешься? Я поеду с тобой, а он пусть подождет у подъезда, – Владимир брезгливо кивнул в сторону Тимура, никак не ожидавшего оказаться в центре «любовного треугольника».
Тимур взял свою сумку с красками и вышел во двор. Он поймал машину, и через пятнадцать минут они втроем мчались по скоростному шоссе в ту сторону, откуда дул влажный соленый ветер – в сторону моря.
Столько событий произошло в жизни Тимура за последнее время, что он совершенно запутался в числах и днях недели. Еще в начале лета он планировал смотаться пару раз на побережье с Мариной, потом купить горные велосипеды и отдохнуть в приморских горах на турбазе с Наташей – его всегда прельщали седые вершины, окружавшие их небольшой городок. И вот все это исчезло. Вся его прежняя жизнь стремительно катилась куда-то вниз, может быть даже с одной из этих вершин, намереваясь разбиться вдребезги. Неделю назад он порвал отношения с Мариной. Вчера вечером ушел и от жены Наташи. Стены детской спаленки в маминой малогабаритной двухкомнатной квартире приняли его с присущими лишь родным людям добром, радостью, принятием и поддержкой. И вместе с тем от них веяло такой тоской и безысходностью, что к утру Тимур готов был завыть, лишь бы все это как-то изменилось. Но как оно должно измениться – он пока не знал.
Даже в жару у деда Акима в тени деревьев было прохладно. Посаженные давным-давно его праотцами деревья – Аким говорил «в стародавние времена» – будто знали, до кого легонько дотронуться своей веточкой, с кого жар смахнуть, кого уколоть, а иных и отхлестать хорошенько. «Все во благо вам», – частенько смеялся Аким, если такое случалось. И смех его был таким добрым, что вряд ли кому-нибудь могло прийти в голову обидеться. А если обида все же заходила в сердце, и человек становился ворчливым и раздражительным, не в силах с ней совладать, Аким говорил: «Э нет, мой милый, так тебе с миром не сладить, ложись-ка ты на землю, буду ногами топтать обиду твою капризную да ворчливую, она барышня плаксивая, быстро слезами из тела вытечет». И прежде чем человек успевал опомниться, он уже лежал на земле лицом вниз, а старый Аким ходил по нему ногами в определенной последовательности, и дольше всего на груди задерживался – лопатки разминал. Одни кашлем в это время заходились, у других жуткий зуд, першение в горле начиналось, третьи плакали, но не от боли – такое чувство освобождения на них снисходило, что слезы сдержать становилось невозможным. И каждый после этого вставал, как заново рожденный – улыбчивый да сговорчивый, поучения получить готовый и исцеление принять.
Такси, из которого вышли трое, остановилось невдалеке от Акимовой усадьбы и тотчас уехало. Тимур, Екатерина и Владимир подошли к калитке. Дед Аким стоял к ним спиной у молодой рябины, поглаживая ее ветви, и еле слышно нашептывал что-то себе под нос. Все трое вошли в сад, не решаясь позвать старого целителя.
– Зачем приехали? – обернулся Аким.
– Я хочу остаться здоровой! – выпалила Екатерина.
– Чтобы остаться здоровой, не надо становиться больной, – Аким с улыбкой посмотрел Екатерине прямо в глаза, но она отвела взгляд.
– Чем честнее ты сможешь быть сама с собой, тем быстрее поймешь, как исцелиться, – продолжил, немного помолчав, старик.
– К-как мне это сделать? – Екатерина не понимала, почему это происходит, и говорила, уставившись в землю.
– Разве глаз у тебя такой был с рождения? – строго спросил Аким, затем повернулся к ним спиной, что-то прошептал рябине и двинулся вглубь сада. Остальные последовали за ним.
– Нет, – Екатерина смотрела под ноги, словно боялась упасть.
– Когда он изменился?
– В двадцать лет.
– После каких событий это произошло?
Екатерина остановилась и подняла голову.
– Вспомни, что такого неугодного Богу ты совершила, когда тебе было двадцать лет?
Такая смелая и решительная перед поездкой, Екатерина превратилась в смущенную пристыженную девочку. Она раскраснелась, будто на какое-то время вернулась на двадцать три года назад. Она что-то вспомнила, взгляд сделался тусклым. Событие мелькнуло, отразившись в глазах печальным блеском, и исчезло в темной воронке прошлого.
– Ты согрешила, от твоего греха душа твоя страдает, болеет. Результат этих страданий – бельмо. Хочешь, чтобы оно исчезло – покайся, постыдись того, что ты сделала…
Екатерина закрыла лицо руками и расплакалась, опустившись на траву.
– Катя! Катюша! Что случилось? Почему ты плачешь? Я ничего не понимаю! Что, черт побери, происходит? – подбежал Володя. – У тебя что-то с глазом?
Она кивнула и тихо произнесла:
– У меня бельмо появиться может.
– Появится, так появится. Найдем хорошую клинику в Москве, поедем и сделаем все, что нужно! Причем тут этот старик?
– А если дорогая операция? – Екатерина подала одну руку Володе, другой отерла слезы и встала с земли.
– Значит, дорогая операция. У нас есть что продать, есть чем заработать, не хватит – так займем у знакомых. Сейчас за деньги можно решить любую проблему, – Владимир обнял Екатерину за плечи и повел ее назад. – Дорогая, ты понимаешь, что беспокоишься из-за того, что вообще может не случиться! Мало ли что взбрело в голову одному старику! А вдруг он сумасшедший?! – добавил он возмущенно, когда они подошли к калитке.
Тимур остался наедине с дедом. Они встретились взглядами.
– Ну, ты даёшь, дед! Зачем доводить ее до слез?
– Ступай сейчас, – только и сказал старый Аким, вернувшись к своей рябине.
Прошло несколько месяцев. Осенние листопады в небольшом южном городе сменились пронизывающими холодными ветрами. Екатерина простыла и мучилась от не проходящего насморка, да еще это бельмо. Сама мысль о нем была для Екатерины болезненна, не зря говорят, «словно бельмо на глазу», но… бельмо действительно вернулось на прежнее место, как и предсказывал старый целитель.
– Ну, дед, – только и произнес Владимир, когда перед ним предстала заплаканная Екатерина в свадебном платье. Бельмо появилось в тот самый момент, когда они решили пройтись по магазинам и выбрать невесте наряд к предстоящему торжеству. – Собирайся сейчас же! Через два дня вылетаем в Москву, остановимся у моих друзей и проконсультируемся сразу с несколькими специалистами в этой области, – Владимир много лет отдал собственному бизнесу и очень ценил деловой и прагматичный подход во всем.
– А как же наша свадьба? – Екатерина не могла сдержать слез, она так долго этого ждала, и вот снова ее мечтам не суждено сбыться.
– Вылечим тебя, приедем обратно домой и поженимся. Ничего страшного в том, что по состоянию здоровья мы перенесем дату регистрации.
– Я знала, что надо было отдать ему тогда «Жигули», – ноющим, капризным тоном подростка протянула Екатерина.
Она злилась! В первую очередь на себя, конечно. Потом на Тимура – за то, что тот вообще подарил ей надежду на исцеление и на другую, такую желанную для нее жизнь. На его деда, который говорил то слишком прямо, то совсем уж загадками, и так и не смог просто объяснить, как исцелиться. И на Владимира Екатерина тоже злилась. Она не ожидала, что он так легко перенесет их свадьбу, к которой она готовилась последние месяцы и о которой мечтала больше двадцати лет непрерывного одиночества. Екатерина злилась на его расчетливость и очень боялась, что будущий жених везет ее на операцию, потому что с бельмом она ему будет не нужна. В этом она была абсолютно уверена. Даже себе с бельмом на глазу она была не нужна. Она это слишком хорошо знала, потому что других чувств к себе не испытывала с того самого момента, когда в двадцать лет белая пленка впервые покрыла ее глаз.
Тем не менее, операция в Москве прошла удачно. Доктора давали самые благоприятные прогнозы. Деньги на операцию нашли, продав те самые «Жигули», которые не получилось подарить Тимуру. Влюбленная пара вернулась домой и, наконец, сыграла свадьбу.
Белое платье, которое Екатерине так хотелось поскорее надеть, сразу после церемонии бракосочетания повесили в шкаф, а потом задвинули вешалкой с итальянским пиджаком Владимира. Он клялся, что будет иногда его надевать на деловые переговоры, подписания контрактов и сделки, может, еще на важные церемонии и встречи с высокопоставленными гостями, куда он, конечно же, будет брать и жену. Однако вскоре бельмо появилось на другом глазу Екатерины.
– Сделаем еще одну операцию – успокаивал ее Владимир. – Деньги-то у нас остались.
– Это не поможет, – в одно мгновение Екатерина осознала тяжесть совершенного когда-то проступка, и у нее будто не осталось никакой надежды ни на жизнь, ни тем более на призрачное счастье. – Володя, я не сказала тогда, побоялась, что бросишь меня. Старик был прав. Я ведь вспомнила то, о чем он говорил. Даже не вспомнила, а ясно-ясно увидела. Там была рябина, я посмотрела на нее и словно картинку своего прошлого увидела. Знаешь, это наказание за мой грех, – она безвольно опустилась на искусно отреставрированный столетний стул из красного дерева и смахнула накатившуюся слезу, затем немного помолчала и, как будто с болью подбирая слова, решившись, произнесла:
– Я отчима в дом престарелых отправила и продала его квартиру. Мне было восемнадцать. Мама умерла в тот год, и отчим был старше ее нее на двадцать лет. Он заболел – его разбил паралич, а я не могла ухаживать за ним. Деньги, правда, отдала на его проживание, но и себе часть оставила. Тогда у меня и появилось бельмо. Прости меня, Володя! – Екатерина отвела взгляд в сторону, посмотрела в окно, которое покрывали скатывающиеся вниз реки дождя, и снова заплакала, да так отчаянно, словно выливала через свои слезы всю горечь, за многие годы скопившуюся в душе.
Тимур и старый Аким второй час ходили взад-вперед по туевой аллее родового имения. Весна окутывала цветочно-травяными ароматами, и в дом идти в такую прекрасную погоду совсем не хотелось. Раз в месяц Тимур приезжал к деду, чтобы провести у него неделю. За это время старик успевал «заглянуть» в голову внука и, основательно там покопавшись, расставить все по местам. Они много разговаривали о природе вещей, об изначальном источнике бытия. И об истине. И хотя Тимур понимал лишь малую толику того, о чем говорил старик, а запоминал еще меньше, суть глубокой человеческой мудрости, которой был пропитан каждый сантиметр пустоты в дедовом доме, словно материнская ласковая рука гладила по голове каждого зашедшего туда доброго молодца – и незаметно облагораживала.
В общении с людьми Тимур невольно начинал различать, где человек хитрил, обращаясь к нему, где недоговаривал, где его вдруг прошибала искренность, и что за намерение крылось подчас за самыми благими человеческими желаниями. Но что двигало им самим, почему его собственные реакции на поведение людей так разнились, он понять не мог. «Других поначалу видеть проще, – пояснял дед Аким. – Себя будешь замечать в самый последний момент, ум твой изворотлив, от юности горделив и не готов еще уступить чистому виденью. Будь терпелив и гибок, как ивовый прутик – он тонок, прочен и долговечен. Иначе только сильное потрясение тебя спасет».
Тимур примчался к деду накануне. По вечерам старик долго читал. Тимур не знал языка, на котором были написаны книги деда, а тот говорил, что пока не время его учить. Он вообще не говорил о том, что не пригодилось бы человеку именно в данный момент. Потому вечерами они почти не видели друг друга, а утром дед брал внука с собой на ежедневную аскезу.
С рассветом они выходили в горы, поднимались к ближайшей реке, петляя километров пять по узкой извивающейся тропе, окунались в воду, если это можно так назвать – речушка была быстрой и холодной – и дед погружался в чтение молитв в тени растущего рядом бука. Тимур же устраивался неподалеку, ложился на траву, закидывал руки за голову, и мерные гортанные звуки молитв деда уносили его в такие глубины, о которых он и подумать не мог. Иногда там не оказывалось ничего, кроме блаженства, а иногда и само блаженство растворялось, словно таяло в этих звуках. Он приходил в себя, когда старик, улыбаясь, расталкивал его, как маленького. Это было похоже на то, как мама темными зимними утрами пыталась добудиться его в школу. Тимур хотел спросить, что это за состояние, и что делает в это время дед, но более насущные вопросы перебивали своей важностью, и он все откладывал и откладывал на потом.
Вскоре они спускались к нехитрому, но неизменно вкусному завтраку, который готовила Любовь Григорьевна. Тимур рассказывал студенческие истории, которых за время обучения скопилось много, обсуждал городские новости, много шутил и веселил иногда приходивших на завтрак гостей из соседней деревни. И после этого, наконец, можно было расспросить деда обо всем, что терзало неделями, а отпускало лишь в те мгновения, когда Тимур был у горного бука, либо после таких вот долгих разговоров вдвоем, как сейчас на туевой аллее.
– Дед, есть еще один пациент. Я думал забыть, но она не дает покоя. Ко мне неделю назад девочку привели. Милая такая, но не разговаривает, – все мускулы в теле Тимура напряглись, так он не хотел выдать истинных чувств, но ему не удалось это сделать, и он продолжил: – Ей лет пять, красота ее детская, но жгучая, даже обжигающая. Глазами вперилась в меня, я аж укол в груди почувствовал. Есть в ней что-то такое, от чего меня в дрожь бросило. Я не смог ее рисовать, боюсь, даже по памяти не получится. Только вижу ее образ, и в груди начинает колоть, словно иглу в сердце вонзают.
– Хм. Это хорошо. Твоя чувствительность повышается. А что ее родители? – нахмурившись, спросил дед.
– Мать умерла, когда девочке три года исполнилось, погибла при странных обстоятельствах, отца нет, ее воспитывают отчим и бабушка, мать матери, у той такие же глаза-стрелы, видно внучка от нее взгляд взяла.
– Что они от тебя хотят?
– Предлагают двухкомнатную квартиру мне в городе купить, если нарисую девочку с другими глазами и смогу вылечить ее безмолвие, – потупив взор, договорил Тимур.
Дед остановился и задумчиво посмотрел на внука. Казалось, его взгляд дотянется до бездонной пропасти тех глаз, что были напротив. Он будто и не на Тимура вовсе смотрел, а скользил по внутренней стороне его затылка, читая его мысли, как книгу.
– Ты согласился?
– Я взял паузу, чтобы подумать.
– Ну, думай-думай пока, перед твоим отъездом поговорим об этом, – дед Аким резко развернулся и пошел в сторону дома.
Неделя в имении пролетела стремительно, как и всегда, безмятежно, но насыщенно. Дни здесь никогда не бывали пустыми, бездельными. У всех распределены обязанности по хозяйству, которые исполняли с серьезным спокойствием и внимательностью.
Старый Аким давно не брал новых пациентов и почти все свое время старался посвящать внуку. После того разговора в аллее они не обмолвились ни словом о девочке, по работе с которой Тимуру предстояло дать ответ ее родным. Но это совсем не значило, что они не вспоминали о ней.
Каждый по-своему обдумывал происходящее: старик – услышанное, Тимур же пытался разобраться во внутренних ощущениях. Последние ночи ему снились тревожные сны с кошмарными видениями, которые никак не запоминались, но о чем-то сигналили, словно предостерегали его. Просыпаясь, он ощупывал и осматривал живот, ему казалось, что на нем образовалась огромная рана, которая начинает кровоточить. Это чувство было таким ярким, что Тимур не сразу верил своим глазам, которые упрямо доказывали, что с его животом все в порядке. Он не хотел беспокоить деда, поэтому, чем ближе был день отъезда, тем мрачнее и неразговорчивей он становился. Старик же, напротив, вел себя как ни в чем не бывало, на его лице внезапно поселилась легкость, и даже глубокие складки, перечертившие лоб морщинами в тот день, когда у него на руках умер сын Аким, как будто слегка разгладились.
– Дед, я возьмусь за эту девочку. У меня такое чувство, что я должен что-то сделать. Я пока не знаю, как, и поможет ли это ей, но я хочу попробовать, – внутреннее чутье говорило Тимуру, что дед скажет об опасности этого мероприятия, станет его отговаривать, приведет кучу доводов, но он был настроен решительно.
– Я знал, мой мальчик, что твое любопытство возьмет верх над чувством самосохранения и вековой мудростью, и ты не сможешь ему противостоять. Но именно любопытство ведет к развитию, хоть иногда и нежеланными для некоторых из нас путями.
– Дед, я не понимаю, давай сегодня без загадок!
– Знай, что каждый человек, обратившийся к тебе за помощью, помогает, прежде всего, тебе самому. К нему нельзя относиться иначе. И если ты испытываешь хоть каплю страха или неуверенности в том, что делаешь для него, отложи это и посмотри своему страху в лицо. Страх будет убегать и рисовать тебе скверное будущее, будет искать малейшую пылинку в твоей душе, чтобы, зацепившись за нее, обдать тебя еще большей грязью. Он будет находить самое слабое или самое напряженное место на твоих струнах и присылать того, кто непременно сможет их порвать… Ты можешь защитить себя лишь одним способом – ежедневной, ежечасной, ежесекундной уборкой и проверкой всех своих струн. Пока у тебя не останется ни струн, ни потайных углов, где может скопиться мусор.
– Дед, ну я же просил тебя! – Тимур устало вздохнул и посмотрел в небо, где прямо над их головами огромные кучевые облака, гонимые поднимающимся ветром, наслаивались друг на друга, толкались, бурлили в водовороте, образуя не то огромные горы, не то высокие волны.
– Сегодня будет штормить, – сказал старик и медленно, опираясь на ивовую изогнутую трость, побрел к выходу из сада. – Тебе нужно успеть добраться до дома, по дороге пройдет ураган, пойдем я тебя провожу до ворот.
Тимур, как всегда, обнял деда и сел в машину. В этот раз он сам был за рулем: машину ему все-таки подарили благодарные пациенты. Права тоже сделали по-дружески, хотя он и сам хорошо знал правила дорожного движения и мог спокойно сдать любой экзамен. Тимур быстро обрастал связями и теперь отправился в новый район, где жил один на съемной квартире. Ураган прошел стороной. Тимур легко добрался до дома и лег размышлять. Утром его ждал завтрак у матери, а после – встреча с отчимом той немой девочки со странными глазами. Он вроде бы все обдумал, но нечто, в чем он не мог до конца разобраться, не давало Тимуру покоя.
Людмила Анатольевна все реже виделась с сыном. Она была рада, что может хоть что-то сделать для него, и почти каждое утро в ожидании самого дорогого гостя готовила его любимую кашу и кофе. Они успевали перекинуться парой слов, но никаких серьезных тем не затрагивали. Почти всегда Тимур был поглощен размышлениями о людях, которые к нему приходят.
Она видела, что он совсем перестал рисовать по собственному желанию – только на заказ. С одной стороны, она была рада, что сын становился более самостоятельным, а с другой – материнское сердце подсказывало, что прежде чем он научится тому, о чем говорит дед, переломает все в своей жизни. Чувствуя себя виноватой в том, что увезла маленького Тимура в город и лишила возможности видеться с дедом, теперь Людмила пустила все на самотек, отстранилась и решила больше не вмешиваться в жизнь сына. Единственное, как ей казалось, что она может сделать полезного, это совладать со своим беспокойством за него. Но все равно материнское сердце не находило себе места, время от времени ей виделся умирающий муж. Мысль о том, что в любой момент это может случиться с ее сыном, разрывала сердце на куски. Она искала утешение в одиночестве и молитвах. И иногда навещала в имении старого Акима, привозя ему вести о Тимуре и помогая Любови Григорьевне по хозяйству, а увозила успокоение и напутствия старика о том, как справляться с собой.
Прошел почти месяц с того момента, как Тимур виделся с дедом. Снова наступила жара, которая не спадала даже ночью. Старый Аким почти не выходил из кельи, где всегда царили прохлада и уединение. Видно, что он к чему-то серьезно готовился, но к чему – он никому не говорил. Тимур все не приезжал. Любовь Григорьевна как-то раз спросила:
– Аким Наумович, ждать ли сегодня нашего любимого ученика? Столько жизни приезжает с ним в ваш дом, столько веселья и любознательности! Вот молодость! Я уже успела соскучиться…
Но дед Аким только мотнул головой:
– Нет, Любушка, не сегодня еще.
И вот однажды утром он попросил Любовь Григорьевну собрать сумку с чистыми вещами, травами и микстурами, которые готовил для своих пациентов.
– Вы поедете к кому-то? – поинтересовалась Любушка. Старик давно никуда не выезжал, и она немного удивилась его просьбе.
– Пусть так, пусть так, – ответил Аким и снова закрылся в келье.
Вечером у его дома остановилась машина. Из нее выбежала Людмила Анатольевна, резко рванула калитку и бросилась к двери. Аким уже ждал ее.
– Ты знал! – закричала Людмила. – Ты знал, что это случится, и снова ничего не сделал! Почему ты не остановил его? Почему не запретил?! – ее лицо пылало, но словно холодной водой ее окатил голос старика:
– Людмила, он жив, но в глубоком обмороке, у меня все готово, поехали.
Аким поспешно, чуть прихрамывая без трости, которую оставил в келье, направился к машине. Ничего не понимая, растрепанная Людмила побежала за ним.
– Он позвонил мне, задыхаясь, я успела только разобрать «дед», «каждые два поколения» и «нужно исцелять род», а когда приехала, он уже лежал на кровати без сознания с красной сыпью по всему телу. У него в руках была зажата картина, еще не просохшая. Портрет маленькой девочки с неестественно голубыми глазами, как будто их взяли у другого человека… – сбивчиво тараторила Людмила.
– Почему ты сразу не привезла его ко мне?
– Я подумала, что мой сын мертв! – Людмила заплакала, как будто это произошло на самом деле.
– Так ты и не справилась со своим страхом. А ведь материнский страх – самый опасный – старый Аким покачал головой. – Мне помощь твоя сейчас нужна будет, а не бабьи причитания, возьми себя в руки, Людмила. Жив он, жив твой сын!
Тимур лежал бледный, его красивое лицо было сплошь усеяно ярко-красными пятнами – волдырями, похожими на ожоги. Они сползали на шею и дальше, под рубашкой, рассеивались по груди и животу. Тело походило на одну большую рану, которая вдруг начала прорывать волдыри и кровоточить. Людмила открывала и подавала старику нужные бутылочки с разноцветными жидкостями и делала примочки из трав, чтобы снять жар – постепенно Тимур приходил в сознание, но горел и бредил.
Он не узнавали ни мать, ни деда.
Всю ночь Аким провел без сна у постели внука, что-то бормотал, водил над ним руками, складывая пальцами странные фигуры, иногда щелкал, хлопал в ладоши и снова бормотал, пристально глядя на Тимура. Наутро внук открыл глаза, сыпь стала бледнее, и дед попросил Людмилу побыть с Тимуром, чтобы самому немного отдохнуть.
– Мама? Мама, где дед Аким? – спросил парень, едва очнувшись.
– Он отдыхает, сынок. Он провел с тобой всю ночь. Мне казалось, стены гудят, будто не один дед читал молитвы, а тысячи голосов вместе с ним. Ооо, дорогой мой мальчик, как же я испугалась! – Людмила взяла сына за руку и погладила его по голове.
Тимур выглядел очень изможденным, он похудел, щеки впали, а лицо осунулось. Мать еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться, но помня вчерашнее предостережение старого Акима насчет причитаний, все же взяла себя в руки.
– Людмила, не вываливай на сына все свои переживания прямо сейчас, – вошел в спальню дед, на этот раз он сильно хромал и с трудом дышал. – Позже расскажешь ему.
– Дед! Прости меня, я сам не знаю, как это получилось и что на меня нашло. Только я начал рисовать, кисточка стала делать мазки помимо моей воли, будто рукой кто-то водил, ммм… голова… – Тимур скривился от боли и потрогал рукой макушку. – Голова болит, как будто ее раскололи ровно посередине. Что это, дед? – Тимур попытался приподняться с подушки, но не смог.
– Ты потратил очень много энергии, – ответил Аким. Садясь в кресло рядом с кроватью Тимура, он положил грубую старческую ладонь на его руку. – Такой запас, который обычный человек, не обладающий даром целительства, может израсходовать за четыре-пять воплощений. Ты, мой мальчик, был при смерти, но теперь постепенно восстановишься, – всегда здоровый Аким вдруг закашлялся и начал бить себя кулаками в грудь, точно хотел достучаться до кого-то через запертую дверь. – Тебе нельзя вставать минимум несколько дней, – продолжил он, когда кашель немного отпустил.
– Дед, я не знал, что в их семье такие девочки рождаются через каждые два поколения, ее бабка ничего не сказала мне о своей немой матери. – Тимур еще с трудом говорил и остановился, чтобы отдышаться. Он все время порывался приподняться в кровати и сесть, чтобы поговорить с дедом лицом к лицу, но возникающая в голове резь возвращала его на место.
– Как ты теперь об этом узнал?
– Когда я почти закончил портрет, у меня вдруг потемнело в глазах, я услышал оглушительный звон и сквозь него голос, который произнес… Подожди, сейчас… по-моему, так: «Освобождение даруя, своей свободою рискуешь. Одни не могут ноши взять, другим – нельзя ее терять». Дед, той ночью я видел много крови – крови, которая текла через рты этих женщин, как будто они убивали словами. Когда я писал портрет девочки, то пытался придать ее глазам доброту и любовь, но когда мне казалось, что я закончил, вдруг почувствовал, как силы покинули меня в один миг. Потом в бреду я слышал этой ночью – кто-то говорил, что пока их глаза не согреют любовь и забота – о ком-то, кто в них действительно нуждается, – они не смогут ни разговаривать, ни освободиться от своего наказания. Мне жаль, что я не узнал всего этого до того, как начал рисовать. И еще мне очень хотелось нормально жить, дед! Подарить матери квартиру, ни в чем не нуждаться, – Тимур снова скорчился от боли, сжал кулаки и отвернулся к стене, чтобы дед не видел, как из его глаз потекли слезы.
Старый Аким молчал. Казалось, он смотрел сквозь стену, рядом с которой стояла кровать Тимура.
– Де-е-ед, – позвал Тимур. – Дед, куда ты смотришь? – преодолевая головную боль, внук попытался придвинуться и заглянуть Акиму в глаза. – Дед? Ты видишь меня?
– Кровь – это жизненная сила, – все с тем же застывшим взглядом произнес старик. – Кто отбирает жизненную силу у других людей, должен быть готов к тому, что когда-нибудь лишится ее сам.
– Дед, почему ты не смотришь на меня? – Тимур не на шутку разволновался, он провел рукой перед глазами старика, но тот даже не моргнул.
– Дед, ты… о-ослеп???
– Я потерял много сил, мальчик, – спокойно ответил тот. – Но что надо, я увижу. Я сделал все, что мог для тебя, но мой организм уже не молод, в восемьдесят лет он не восстанавливает запасы жизни, как в тридцать, – Аким грустно улыбнулся. – Хотя я ждал этого и готовился. Там, в моей сумке с лекарствами и травами, когда поправишься, найдешь письмо и адрес, куда тебе нужно будет отправиться. Это письмо моему хорошему другу, и, если он сочтет это возможным, ты станешь его учеником и проведешь у него столько времени, сколько он скажет. Возможно, больше нам не удастся с тобою поговорить. Благословляю тебя, мой мальчик, и желаю удачи во всем, – старик замолчал, а потом с облегчением вздохнул.
– Дед, не надо сейчас! – запротестовал Тимур. – Мы тебя вылечим, я нарисую! Прямо сейчас, встану и нарисую, только скажи, что ты согласен! Дед! Я все осознал! Я больше не повторю этих ошибок! Я столько раз хотел расспросить тебя обо всем, но что-то не давало! Дед, я был дураком! Прости, дед! Ведь еще можно все исправить! – Тимур не мог оторвать голову от подушки и метался на кровати, как зверь в западне.
– Сейчас мне надо прилечь, – все так же спокойно и рассудительно продолжал старый Аким, – Ты теперь будешь поправляться, но пообещай мне, что сделаешь так, как я сказал. Это мое последнее желание.
– Конечно, дед, – внук взял его за руку, и слезы градом покатились из глаз. Старик этого уже не видел, а Тимур не желал, чтобы тот слышал, что он все еще не может совладать с собой.
– Я поеду теперь, твоя мать отвезет меня в имение. Прощай, дорогой мой, – старый Аким собрал последние силы, чтобы встать, и вышел из комнаты.
Через три дня дед Аким покинул мир. Любушка говорила, что почти все время он пролежал в горячке. Лишь изредка Аким Наумович приходил в себя, тогда ему предлагали вызвать врачей, но старик запрещал это делать. Он твердо и совершенно здраво говорил: «Это мое время. Не смейте вмешиваться». И снова впадал в забытье. Один Бог знал, что он на самом деле чувствовал, в каких мирах витала его душа, и что за опыт получал он, пока тело лежало в бреду… в старом родовом имении среди южных гор неподалеку от приморского городка.
Тимур порывался, но не смог приехать еще раз проститься с дедом. Мать не пускала его, да он бы и не добрался, так как был еще слаб и потрясен произошедшим. Температура скакала то вверх, то вниз, но мало-помалу нормализовалась. И через неделю он смог встать на ноги.
Деда кремировали, как он и завещал. Поправившись, Тимур взял урну с его прахом и повез в горы, чтобы прикопать ее под старым буком у берега реки, где дед Аким еще совсем недавно складывал из странных гортанных звуков причудливые мелодии, похожие на шаманские напевы.
Теплым августом лето катилось к концу. Вечерело, но до сумерек было еще далеко. Тимур пришел к берегу реки, снял кроссовки, вошел в проточную воду по щиколотку и долго смотрел, как быстрая, чистая каменистая река омывает его пальцы, каждый изгиб его ступней, и катится дальше, чтобы где-то разбиться о большие валуны. А потом вода, собираясь в протоку, потечет дальше, чтобы вынырнуть где-то ключом, и дальше, чтобы слиться с другой такой же бурной холодной рекой, и в сдвоенном русле стать более сильной и могучей.
Тимур вышел из воды, обулся и вынул из сумки письмо деда, которое тот написал своему другу. Он больше не носил инструменты художника – кисти он сломал и сжег у деда в печи. При жизни старик частенько говаривал, что если человеку нужно обновление, то он должен хорошенько, с глазу на глаз, поговорить с огнём. И Тимур говорил с ним несколько дней подряд, кидал в его прожорливую пасть все, что считал пережитком прошлой жизни, очищая голову от скверных мыслей, словно сжигал их тоже. Тимур не знал, как это делать правильно, поэтому просто говорил обо всем, что приходило на ум, высказывался, отдавая это жадным языкам пламени.
Словно лучшему другу, Тимур рассказал печному огню всю свою жизнь: о чем сожалел, чего бы хотел избежать, что исправить, где ошибался и что не хотел бы повторить. Вспомнил даже, как в три года утащил без разрешения отца блинчик со стола, когда все готовились к семейному завтраку, а потом, оправдываясь, свалил на кота…
Огонь поедал все тревоги и печали Тимура, внимательно слушал его, словно понимая все, о чем говорит собеседник, и гудел, выл в топке, рвался наружу, высовывая алые языки, и вместе с ним плакал.
Тимур не сдерживал слез: смерть деда словно ударила его в грудь и пробудила ото сна, в котором он пребывал. «Был человек, и нет его», – с трудом доходило до сознания и никак не укладывались в голове понятие смысла человеческой жизни, состояние души, которая покидает тело, бросая его в одно роковое мгновение в прожорливую печь крематория, где пылает адское пламя.
Только теперь Тимур осознал, какой большой объем знаний дед приобрел за свою сложную жизнь и унес их с собой. Но также Тимур ощущал всем своим сознанием, что будто бы дед рядом, по тайному родовому каналу связи контактирует с ним, продолжает делиться опытом, наставляет его, ведет дальше по дороге жизни. Дед Аким будет впредь оберегать своего внука, словно тот навсегда остался для него маленьким, озорным и непослушным мальчиком.
На конверте был адрес далекой горной страны на востоке, фотографии из которой он видел только в старых книгах в те редкие мгновения, когда дед Аким допускал его до своей библиотеки. Тимур поднял глаза и еще раз посмотрел на реку, и в облике его явственно проступили черты зрелого мужчины. Светлые кудри, ранее делавшие лицо смазливым, теперь лишь оттеняли его, контрастом подчеркивая силу волевых потоков проявившегося характера.
Он положил конверт с письмом обратно в сумку и направился к шоссе.
ДРУГ ОТЦА
ГЛАВА 1. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
Пожилой монах сидел перед величественной статуей Будды. Через открытые створки окон храма дул ветер. Перед статуей стояло множество масляных светильников, свет от которых причудливо играл, освещая статую. Временами замысловатая игра света и тени создавала видимость, что статуя живая и вот-вот, Будда встанет и сойдет с пьедестала. Мысли монаха были далеко от мирской суеты. Он научился за многолетние годы медитаций контактировать с Буддой напрямую и мог днями не двигаться, и даже не вкушать пищу. Конечно, для такой практики нужны были особые условия уединения, но, дацан посещало очень мало людей, что способствовало сосредоточению.
Вдруг тишину нарушил чуть слышный мелодичный звук. Лама встал и направился к группе молодых монахов, которые строили мандалу из песка.
Мраморная крошка ярких расцветок была насыпана в небольшие миски, которые стояли на низких подставках. Монахи аккуратно засыпали крошку в медные трубочки. Высыпая тонкими струйками песок, они создавали мандалу, а медные трубочки мелодично звенели в их руках. Монахи-художники только начали работать, им предстояло хорошо потрудиться над рисунком еще несколько дней. Они должны были успеть насыпать мандалу к празднику. Лама внимательно посмотрел на начатый узор, проверил линии и цвета, и, удовлетворенный, довольно кивнул, – все было верно.
Не торопясь, Лама проследовал к выходу, по каменной дорожке дошел до ворот и вышел за них.
Ранним утром было холодно, но, несмотря на это, старый, закаленный не только духовными, но и телесными практиками монах, шёл в традиционном монашеском одеянии, и руки у него, как предписывалось, были голыми. Однако он не ускорил темп ходьбы, а продолжал так же размеренно идти к автобусной остановке. Со стороны могло показаться, что монах не чувствует холода, но, это утверждение было бы не правдой. Пожилой лама владел техникой дыхания, которая не давала ему замерзнуть даже в лютые холода.
Автобусная остановка представляла собой деревянную, сколоченную добрым человеком скамейку, рядом с которой стояла металлическая стойка с табличкой с расписанием движения автобуса. Над остановкой, создавая тень в жаркий день, а в ненастный прикрывая от непогод, склонилось дерево, – казалось, оно сухое, но цепкий взгляд монаха остановился на единственном ростке нежно-зеленого цвета, пробившегося сквозь старую огрубевшую кору.
Ламе не пришлось долго ждать – старый рейсовый автобус подъехал очень быстро, и он неспешно зашел в салон. Автобус был пустой, и монах сел у окна, из которого был виден молодой побег на дереве. Он смотрел на нежный росток и немного покачивал головой, удивляясь живучести старого дерева.
Несколько часов в пути, автобус трясся по степи, и, доехал до Читы. Монах вышел у вокзала, в кассе купил билет на поезд. Вокруг жизнь шла своим чередом. На маленьком стихийном рынке бабушки торговали пирожками, капустой, яблоками. Бродили без дела молодые люди. Кричали зазывалы в местные магазины.
Пожилой монах поднялся по ступенькам на железнодорожную платформу, битком заполненную людьми, ожидавшими поезд. Основная масса стоявших на платформе – местные жители с корзинами, сумками, котомками. Почти все они были одеты весьма скромно, по-спортивному. Когда монах проходил мимо людей, они улыбались ему, кланялись, некоторые не стеснялись подходили к нему, чтобы испросить для себя благословения.
Лама направился в середину перрона, где людей было значительно меньше. Там стояла группа туристов с рюкзаками, одетых очень хорошо и ярко. Они резко выделялись на фоне остальных пассажиров на перроне. Туристы повернули головы и проводили удивленными взглядами монаха.
– Мастер кунг-фу панда, – съязвил один из молодых людей.
– Леш, прояви уважение. Он буддийский монах, – осадила его девушка с рюкзаком.
Издалека послышался шум прибывающего к станции поезда и длинный сигнальный гудок. Люди столпились у края платформы. Они вели себя так, будто не успеют попасть внутрь вагона, толкались локтями, наступали друг другу на ноги. Подъехал поезд, двери распахнулись. Люди стали проталкиваться в вагоны. Монах спокойно дождался, когда людская толпа загрузится в поезд, и только тогда, зашёл в вагон. Двери закрылись. Поезд, медленно отъезжая от станции и набирая ход, поехал в Улан-Удэ.
***
Утро в городе, для многих начиналось с обычной сутолоки в общественном транспорте. Среди ожидающих автобус стоял средних лет мужчина с темными волосами, одетый в джинсы, мятую футболку, короткую кожаную куртку. Его черные кроссовки знавали лучшие времена. Владимир Голяков – так звали зевающего, с небритой несколько дней щетиной мужчину, который опять проспал и опоздал на работу.
Вдали показался долгожданный автобус, и люди оживились. Все стали ближе подходить к краю тротуара, чтобы иметь возможность впереди всех заскочить в раскрывшиеся дверцы. Автобус подъехал почти полный. Двери открылись, и люди, не дожидаясь, пока выйдут приехавшие, начали проталкиваться внутрь. Владимир попал в поток людей, который внес его в салон автобуса. Там была толкучка, пассажиры утрамбовались плотно друг к другу, – ни повернуться, ни вздохнуть, ни выдохнуть. Автобус кое-как сомкнул дверные створки и тронулся с места, Владимир уткнулся в капюшон чьей-то куртки. Он пытался отвернуться, но ничего не получалось. Лишь через какое-то время, после нескольких резких остановок автобуса, салон автобуса слегка освободился, и мужчина смог отвернуться от чужого капюшона.
Вот и нужная остановка – Владимир начал проталкиваясь сквозь толпу, пробираться к выходу. Вновь попав в поток людей, он вышел из салона. На часах, установленных рядом с остановкой, стрелки показывали 11.59. Он быстрым шагом перешел через дорогу и на ходу достал телефон. Набрал «сын». Ему не ответили. Голяков, не сбавляя шаг, повернул за угол дома и еще раз набрал телефонный номер. На этот раз его вызов скинули.
Вдруг телефон сам зазвенел требовательно и громко, такая мелодия была у него поставлена только на одного человека. На экране высветилась надпись «Босс». Владимир поднес телефон к уху. Из трубки донесся крик, но шум улицы заглушал даже громкий голос шефа. Были понятны отдельные слова «… немедленно… жду…. с докладом». И связь оборвалась.
Владимир ускорил шаг. К нему, шатаясь, подошел бомж: «Подайте, сколько сможете». Голяков протянул ему мелочь, которую не потратил на утреннюю газету. «Бог не забудет твою доброту. Благослови тебя Господь!» – произнес повеселевший бездомный.
– Да, да, – мужчина быстро пошел своей дорогой, не слушая благодарности от бомжа.
Голяков вошел в здание полиции, пробежал по длинному коридору, пожимая руки встреченным коллегам. В приемной шефа его встретила секретарь шефа Елена Владимировна.
– Снова опаздываем, Голяков, – серые глаза посмотрели на него с укоризной, и, будто оценивая.
Голякову неприятен был взгляд этой женщины, да и сама она раздражала его своей напыщенностью, хотя сама из себя ничего не представляла, но, будучи секретарем начальника, свой нос задирала довольно высоко, поглядывая на всех свысока.
– И вам доброго дня, – не реагируя на укор, поздоровался Владимир.
– Вас искал Зимин, – строго, сказала женщина, выполняя свои должностные обязанности, ее голос прозвучал так, что Владимир почувствовал себя в ее присутствии маленьким провинившимся мальчиком.
– В курсе. – Натянув на лицо улыбку, растянул он широко губы. – У вас как дела? – Голяков решил быть вежливым.
– Нормально. Жить можно. Сегодня был звонок сверху. Созвали совещание, – проинформировала секретарь.
– И что? – спросил Владимир.
– Главный на всех орал, он не доволен, что дела не раскрываются, особенно про ювелирку, – женщина опять кинула укоризненный взгляд на него и, словно беззвучным укором, говоря «ай-я-яй», покачала головой.
– Понятно, – Владимир тяжело вздохнул. – Зимин у себя?
– А где ему еще быть?
– Спасибо.
Дверь приемной была открыта, и их разговор внезапно прервали крики, доносившиеся из коридора. Голяков быстро среагировав, выглянул из приемной. Первое, что он увидел – это неподвижно лежащего у стены молоденького конвоира, из его носа текла кровь. Потом Владимир разглядел парня, который держал лезвие у горла второго конвоира.
Голяков пробормотал себе под нос: «Вот понабрали»
Парень с лезвием начал истошно орать:
– Бросить всем оружие на пол, выпустите меня!
Владимир медленно пошел по коридору к преступнику, показывая поднятые пустые руки. В это время на крики из всех дверей стали выглядывать сотрудники полиции. Голяков остановился в метре от преступника:
– Спокойно, – произнес Владимир, обращаясь к захватчику.
Тот не теряя бдительности, мимолетно глянул на Владимира.
– Опустите оружие! Быстро! А то я не отвечаю за его жизнь, – дрожащим от напряжения голосом прокричал парень.
– Посмотри на меня! – мягким голосом сказал Голяков.
Их взгляды встретились.
– Я сказал бросить оружие! Я убью его! Богом клянусь! – молодой преступник начал терять терпение.
– Тихо, тихо, не надо так кричать, успокойся. Тебя как зовут? – решил отвлечь его внимание Владимир.
– Тебе зачем? – спросил парень.
– Мне нужно к тебе обращаться по имени, чтобы говорить с тобой, – вкрадчивым голосом сказал Голяков.
– Меня – Коля. Коля звать меня! – прокричал преступник.
Полицейские, которые были в коридоре, начали подходить ближе. Преступник вновь заорал: «Не двигаться! Отойдите подальше, иначе, я перережу ему глотку. Ясно?». – Он плотнее прижал лезвие к шее того, кого удерживал, и тот захрипел.
– Коля, Коля! Давай все решим, поговори со мной, – Голяков маленькими шагами подходил к преступнику.
– Я хочу выйти отсюда, вы должны выполнить мою просьбу! – как-то не уверенно и по-детски сказал парень.
– Коль, и что дальше? Как ты себе это представляешь? Пойми, у тебя есть всего два варианта: Первый – очень простой. Ты убираешь лезвие от горла сотрудника полиции. Отпускаешь его, и мы, забываем этот эпизод, и ведём тебя дальше, туда, где тебе самое место.
– Не, не, не! Да ты шутишь! – испуганно закачал головой молодой преступник.
– Коль, давай посмотрим, какие еще у тебя есть варианты: Ты в здании полиции, все двери уже перекрыты. Вокруг тебя полицейские, которые ждут твоей ошибки, чтобы потом твои мозги валялись на полу. Я же не такой, – сказал Владимир, глядя преступнику в глаза, и ты можешь со мною поговорить.
– Я не верю тебе! Вы все одинаковые, – злобно сказал Коля.
В коридор за спиной преступника вбежало несколько полицейских, что отвлекло Колю, и он обернулся. Голяков быстро подскочил и ловко бросился на него, подставил свою руку под лезвие бритвы, чтобы перекрыть горло конвоира. Второй рукой Голяков нажал на шее Коли две точки, и тот упал без сознания. Подбежали полицейские с наручниками, надели их на преступника. Через некоторое время Коля пришел в себя и его увели.
Голяков стоял в коридоре и смотрел вслед уводящим Колю полицейским. Кулаки его разжались; он ощутил боль от пореза, увидел, что кровь течёт из раны на ладонь, и вновь сжал эту руку в кулак. Он несколько отрешенно наблюдал за тем, как кровь из его сжатого кулака капает на пол, как полицейские хлопочут вокруг конвоира, лежащего на полу, как тот приходит в себя и в шоковом состоянии хлопает глазами.
«С вами все хорошо?», – Елена Владимировна протягивала Голякову бинт.
– Жить можно, – успокоил ее мужчина.
Секретарь шефа, увидев смелость и решительность, с которой Голяков бросился спасать конвоира, вдруг стала относиться к Владимиру с материнской заботой. Она сбегала к себе в кабинет, вскрыла аптечку и принесла Владимиру бинт и перекись. Перевязала ему руку – ловко и плотно перетянула ладонь бинтом, завязав вокруг запястья дурацкий бантик.
– Ловко вы! – Похвалил перевязку Голяков, и благодарно улыбнулся ей.
В коридор вышел начальник отделения полиции Зимин. Он пропустил всю сцену и увидел только Голякова, рядом с которым стояла его секретарша.
Зимин резко окликнул Владимира: «Голяков, ко мне в кабинет, живо!» – развернулся и быстро вошел в свой кабинет.
«Спасибо вам большое, Елена Владимировна!» – поблагодарил Голяков оказавшую ему первую помощь женщину.
– Будьте здоровы, – улыбнулась она в ответ.
Голяков прошел в приемную, приподнял раненную руку к двери, чтобы постучать, но, передумал, и без стука вошел в кабинет начальника отделения.
***
Через огромные окна в кабинет проникал яркий солнечный свет так, что лучи попадали как раз в глаза входящему. Владимиру пришлось прищуриться. Когда он привык к яркому свету, то в очередной раз отметил, что его начальник весьма неплохо устроился. Просторный кабинет был обшит дубовыми панелями, у стены стоял солидный кожаный диван, а напротив огромного дубового стола висел большой телевизор. Над вместительным кожаным креслом в строгой золоченой рамке – портрет президента России, а вокруг него – фотографии помельче, других важных политических персон. В дубовых шкафах за стеклом виднелись памятные подарки, кубки, флаги.
Начальник отделения был такой же основательный, как его кабинет, – холеный, коренастый, плотного телосложения жгучий брюнет с пронзительными карими глазами в идеально выглаженном шерстяном темно-синем костюме, белоснежной рубашке, и красном галстуке, который он только что снял и аккуратно сложил на стол. Теперь Зимин перебирал папки на столе.
Голяков сел на один из стульев за столом для совещаний и выжидающе уставился на начальника. Несколько минут прошло в напряженной тишине. Тут Владимир не выдержал и спросил: «Вызывали?»
– Что у тебя с рукой? – нахмурил брови Зимин.
– Да царапина, – отмахнулся Голяков.
– Скажи мне, у тебя все в порядке? – тон шефа не предвещал ничего хорошего.
– Вроде как да, – пожал плечами Владимир.
– Тогда ответь, чем занята твоя голова? Почему раскрываемость преступлений падает? За прошедший месяц пять нераскрытых дел! Я терплю тебя пока. Потому что помню, что ты был лучшим следователем. Мы с твоим отцом были лучшими друзьями, земля ему пухом. Почему задержка с раскрытием дела ювелирки? – Зимин смотрел на Голякова с нетерпеливым ожиданием.
– Нет зацепок, – коротко ответил Владимир.
– Так, – Зимин указал на стол, на котором лежали папки, – видишь дела? Вот они все без зацепок. Что случилось? Ты был лучшим в отделе, а теперь, что, нюх совсем потерял?
– Понял. – Владимир подошел и взял со стола начальника папки приготовленные для него. Пойду? – Владимир устало вздохнул.
– Погоди! Каждый чего-то хочет, а вот работать не хочет никто. Понимаешь, майор, работать! – Зимин нарочито громко выделил слово «работать». – И еще, – добавил он, – привёл бы ты себя в порядок. Уже неделю вижу тебя небритым, да еще с похмелья на работе.
– Понял, исправлюсь, – пообещал Голяков, понимая, что замечание ему сделано по существу. Неприятно конечно ему было, когда его, взрослого мужика, как юнца носом в недочеты тычут. Да, действительно, он с этим вполне мог согласиться, внешний вид не очень, но, он и сам это видит, что-то подкосило его, словно вышибло из колеи.
– Что бы сказал твой отец. Ладно. – Начальник обреченно махнул рукой. – У меня это дело с кражей ювелирки знаешь где? – Зимин постучал себя ребром ладони поперек горла и, стукнул кулаком по столешнице. Шумно отодвинув стул, встал из-за стола и нервно прошелся по кабинету.
Владимир, глядя на Зимина, отметил, что в его ботинках, как в черном зеркале отражались блики от ламп дневного света, так они были начищены. «Как у кота яйца», – подумал он и быстро спрятал ноги в грязных кроссовках под стол, пока его и за это не пропесочили.
Наливая себе воду из графина, Зимин произнес:
– Другое время сейчас, майор, другое. Раньше воры хоть по понятиям жили, а теперь полно ублюдков, психопатов. Каждый день пачками пропадают люди, и никто не знает – куда.
Зимин подошёл к окну и стал наблюдать, как сникшего, повязанного наручниками Колю сажают в автозак.
– Люди стали злее. Им теперь все равно, что сделать, кого убить. Такое ощущение, что это стало так легко. Мир изменился.
Зимин грузно опустился в кресло. Оно продавилось под весом тело и издало неприятный звук.
Владимир улыбнулся, лукаво исподлобья посмотрел на шефа, «с таким троном только подчиненных и принимать», но вслух, согласился с шефом:
– Мир стал жестоким, и люди ожесточились. Но не все, – справедливости ради добавил он.
– Да, ты прав. Прошу тебя, ты же хитрый лис, раскрой ты дело по ювелирке!
– Я пошел? – Спросил Владимир.
– Все, свободен! – Зимин углубился в бумаги.
– Товарищ полковник, сделаю все возможное, – Владимир повернулся к выходу.
– Да, да. Делай. Да поскорее.
Голяков вышел из приемной и стремительно направился по коридору к своему кабинету. Вслед за ним вышла Елена Владимировна: «Голяков! Володя!»
Голяков остановился и, сбавив шаг, пошел обратно, на ходу поглаживая свою забинтованную руку – было больно, рана горела и саднила.
– Да, Елена Владимировна, – сказал Голяков, гадая, что же от него хотят.
– Звонили с кладбища от сторожа, – тихо сообщила секретарь Зимина.
– С какого кладбища? – не понял Владимир.
– Сторож сказал, что у могилы твоего отца уже два дня подряд сидит какой-то дед. Он говорит, что этот дед вообще никак не реагирует на него. Не сказал ни слова, – продолжила секретарь шефа.
– Странно, – пожав плечами, удивился Голяков, – чего ему надо? Придётся поехать, – вздохнул он.
– Поезжай, я тебя прикрою, – пообещала Елена Владимировна.
Голяков поблагодарил женщину и направился к выходу.
***
На улице у подъезда курили коллеги Владимира. Шумно обсуждали события дня, футбол, политику, погоду. Голяков подошёл к своему другу.
– Слушай, Сань, есть служебная тачка на ходу? Очень нужно.
– Пойди у дежурного ключ возьми, номер 13. Машина вот, – Саша указал на стоящую у ворот машину.
Голяков побежал за ключом. Сел в машину, завёл ее и, сделав резкий поворот, выехал за ворота. Он быстро проехал по центру города, свернул на шоссе, объехал кладбище и остановился у въезда. Затем вышел из машины и огляделся вокруг: над кладбищем собирались черные дождевые тучи. Где-то далеко слышались раскаты грома. Площадка перед кладбищем была пуста. Ни автобусов с похоронными процессиями, ни бабушек, продающих цветы, ни нищих – никого в этот день тут не было. Голяков зашел в ворота, подошел к будке сторожа.
– Как жизнь? – поинтересовался сотрудник полиции.
– Да все потихоньку, Владимир Семёнович, – прищурившись, ответил сторож.
– Что случилось? Вы мне на работу звонили?
– Да, звонил. Старик какой-то странный у могилы вашего отца, – обеспокоенно сказал сторож.
– Спасибо вам. Пойду, посмотрю.
Голяков шел по аллеям кладбища. У большинства людей в таких местах рождаются мысли о жизни, о смерти, а Владимир думал о работе. Машинально он оглядывал плиты с надписями. Какие-то слова было уже не разобрать, а какие-то были видны вполне отчетливо. На ходу ему удавалось прочесть некоторые из них.
Голяков дошёл до могилы отца и увидел на скамейке пожилого человека в одежде бордового цвета. Владимир наморщил лоб, вспоминая, где он раньше видел такую одежду.
– Добрый день вам, дедушка, – вежливо поздоровался Голяков.
Ответа не последовало. Он подошёл ближе.
– С вами все в порядке? – Владимир сделал вторую попытку начать разговор.
– Порядок. Да, порядок может быть разным, – немого задумавшись, загадочно промолвил старик.
– Вы ждёте кого-то? – спросил недоумевающий Голяков.
– Тот, кого я ждал, уже пришёл, – многозначительно проговорил незнакомец и посмотрел на Владимира.
Владимир озадаченно посмотрел на старика. Все происходящее напоминало ему театральную постановку. Только в этой постановке сценой выступала могила его отца, зрителей не было, а в роли актера, находящегося на авансцене, был он сам. Резко дул ветер. Не любил Голяков загадок там, где он их не ждал. Он сдержал в себе волну раздражения, и решил продолжить разговор с необычным человеком.
– Что вы тут делаете, дедушка? – спросил мужчина.
– Друга навестить пришёл, – спокойно ответил чудной старик.
– Я сын покойного, у могилы которого вы стоите, – сказал сбитый с толку Владимир.
– Я вижу. Вы похожи на вашего отца, – сказал человек в бордовой одежде, сохраняя бесстрастное выражение лица.
– Вы знали моего отца? – немного взволнованно поинтересовался Голяков.
– Он был мне другом. В тяжелое время мы познакомились! Вот теперь сына друга увидел, – голос незнакомца немного дрогнул.
– Рад знакомству. А что вы тут делаете столько дней у его могилы? – удивленно спросил Владимир.
– Я ждал, – странный посетитель кладбища задумчиво посмотрел на небо.
Голяков подошел к скамейке и сел рядом с собеседником. Достал пачку сигарет и закурил. Старик задержал взгляд на пачке, и Владимир заметил это. Немного смутившись от его взгляда, Голяков потушил сигарету, бросил ее на землю и втоптал в зелень, затем убрал и всю пачку в карман.
– Давно я не приходил сюда, – с сожалением в голосе сказал Голяков.
– Тяжело вздыхаешь, Владимир Семёнович. На душе у тебя неспокойно, – мягко сказал старик.
Голяков посмотрел на него. Странный человек продолжил:
– Меня зовут Жамсо, и я обязан жизнью твоему отцу.
– Он был хорошим человеком. Помогал, кому мог, – сказал Владимир, вспоминая отца.
– Я здесь, чтоб поговорить с тобой, Владимир Се…
– Можно просто Владимир, договорились? – перебил старика Голяков и протянул ему руку в знак приветствия. Они пожали руки, Жамсо заметил повязку на другой руке полицейского.
– Поговорить о чем? – спросил заинтригованный мужчина.
– Я хочу тебе напомнить, или рассказать, кем был твой отец. В свое время, он спас меня от смерти. Было трудное время, но твой отец изменил ход событий, изменил карму всех своих близких, – Жамсо прикрыл глаза, уйдя в воспоминания.
– Хорошо, дед, рассказывай. Времени у меня много, – сказал Владимир, пытаясь устроиться поудобнее на узкой деревянной скамье.
– Времени много не бывает. Твой отец рисковал своей жизнью, чтобы спасти меня и еще девятнадцать моих друзей. В ГУЛАГе приказали расстрелять всех монахов, а твой отец отважился спасти нас. Он указал путь для побега и прикрывал нас, пока мы не спаслись, – рассказывал старик.
Владимир, наконец, вспомнил, где он видел такую одежду. Его осенило, что подобное бордовое одеяние носят буддийские монахи. И тут он с некоторым смущением в голосе оттого, что не знал, как обращаться к ламе, произнес: «У меня есть хорошая идея. Давайте поедем ко мне. Выпьем чаю, и вы расскажете мне свою историю. А то, сами видите, скоро дождь начнётся»
Как только Голяков сказал это, то вспомнил, что дома у него сын, с которым он в ссоре.
– Я поеду к тебе, когда в доме твоём будет тепло, светло и уютно, – пообещал Жамсо, – и помирись со своим сыном для начала.
– Подождите. Вы знаете про Славу? – очень удивился Владимир.
– Монахи многое знают, мальчик мой. А теперь отвези меня на станцию, чтобы я успел на поезд, – попросил Лама.
– Но откуда вы знаете про сына? – не унимался Голяков.
– Я общаюсь с твоими предками. Они все про тебя знают: и хорошее, и плохое. Больше нет времени ждать, если мы не хотим намокнуть, – Жамсо поднялся со скамейки и направился к выходу.
Капля с неба упала на Голякова.
– Идем. Машина там, – сказал Владимир, указывая головой в сторону служебного автомобиля.
Быстрым шагом они направились к выходу. Там их ждал сторож. Владимир прошёл мимо, на ходу поблагодарив бдительного работника и пожав ему руку.
Как только новые знакомые подошли к машине и монах сел в открытую Владимиром дверь, начался сильный дождь. Голяков промок до нитки за пару секунд, пока бежал вокруг машины, а на монахе не было ни капли воды.
Владимир завел машину и поехал. Ливень хлестал так, что дворники машины с трудом справлялись с потоком воды. Всю дорогу до вокзала монах молчал, а Голяков время от времени с любопытством поглядывал на него. Как только они подъехали к станции, дождь прекратился. Монах, не дожидаясь Голякова, быстро вышел из машины. Владимир заглушил двигатель и быстро пошел за монахом, догнал его. На ходу они договорили:
– Я чувствую, что у тебя на работе проблемы, – задумчиво произнес Жамсо.
– Да ничего страшного. Справлюсь. Вы куда дальше? – Владимир не хотел обсуждать рабочие будни.
– В дацан. А то, что ты ищешь, найдешь под белым камнем, что на дне реки. В том месте у речки изгиб и над утёсом дерево растёт, – сказал монах.
– Что? Что я ищу? Откуда вы это знаете? – в который раз удивился Владимир.
– Монахи многое знают, – повторил Жамсо, – надеюсь, ты найдёшь в себе силы исправить свою карму. Возможно, мы больше не увидимся. Удачи тебе, сын Голякова. Не провожай меня дальше.
Жамсо пожал Владимиру руку, повернулся и вошел в здание вокзала. Владимир еще несколько секунд стоял и смотрел ему вслед.
***
Внезапно опять начался дождь. Голяков, как мог быстро, побежал к машине и, тихо ругаясь, весь мокрый до нитки уже второй раз за этот странный день, сел в салон автомобиля.
Дождь барабанил по стеклу, а Владимир, сидя за рулем, прокручивал в голове слова монаха: «Под белым камнем… В том месте у речки изгиб, и над утёсом дерево растёт». Внезапно Голяков ясно, как в кино, вспомнил место, где они схватили подозреваемого по делу о ювелирке. Парк. Набережная, возле берега ходят отдыхающие люди, по тротуару бежит подозреваемый. Голяков догоняет, и арестовывает его. Тот не особо сопротивляется, но все время задержания, поглядывает в одну сторону. Владимир мысленно задал ему вопрос: «Куда же ты смотришь?»
Голяков остановил машину и начал вспоминать. Как фильм по кадрам, он прокручивал сцену задержания. Голяков будто увидел в какую сторону смотрел преступник, там было дерево на берегу реки. Изгиб. Белый камень. Владимир пробормотал: «Не может быть…»
Будто очнувшись, Голяков быстро завел машину. Ногу на педаль газа. Руль в сторону. Владимир быстро доехал до парка. Дождь стих, блестели и переливались мокрые асфальтовые дорожки, в парке после ливня было безлюдно и тихо. Владимир выбежал из машины, пронесся до реки и остановился на том месте, где задерживали преступника. Повернул голову в ту сторону, куда смотрел преступник, увидел дерево. Стремительно бросился туда и остановился у самого ствола, не веря своей удаче. Возле дерева под обрывом лежал белый камень. Голяков спустился к нему, с усилием сдвинул в сторону валун и увидел прикопанный в землю бидон. «Ай да монах. Ну, монах… Ну дед!» – восхищенно прошептал он. Владимир вызвал наряд. Минут через десять приехали полицейские, понятые. Оформили находку, осмотрели камень, опечатали бидон, который оказался полон золотых украшений. Когда все документы были оформлены и подписаны, Голяков попрощался с коллегами.
Времени было уже почти восемь вечера. Владимир набрал номер начальника отделения, доложил ему о находке. Получил поздравления. Потом он поговорил с приятелем, который одолжил ему служебную машину – договорился, что вернет ее завтра. Теперь можно было ехать домой.
ГЛАВА 2. НОВАЯ ЖИЗНЬ
Усталый Владимир доехал до своего дома. Фары машины издалека осветили стены дома, спугнули пару дворовых котов, которые разбежались в разные стороны. Служебную машину он оставил у подъезда. Возле лавочки у входа шумели подростки. Играли в карты.
– Чем занимаемся? – Голяков подошел к ребятам.
– Отдыхаем, Владимир Семёнович, – парни вежливо подвинулись.
– Моего видели? – поинтересовался мужчина.
– Его видели с Максом, – сказал один из парней.
– Макс, а кто такой Макс? Давай, и на меня раскинь, – Голяков присел поиграть с пацанами в карты и заодно разузнать про Макса.
– Да есть один тут. Местный авторитет во дворе, – продолжил молодой человек.
– Авторитет, говоришь? А чем он занимается? – спросил Владимир.
– Да ничем. Вообще ничего не делает. А деньги есть, чтоб тусить, – пожал плечами подросток.
– Тогда откуда выводы, что он местный авторитет? – не понял Голяков.
– Да он ведёт себя так. Не работает, а деньги есть, – хором повторили парни.
– Шерлоки Холмсы прям. Я выиграл, – сказал Владимир, вставая. – Где живёт, говорите?
Самый общительный парень поднялся с лавочки и указал на окно пятого этажа. Из подъезда вышла женщина в фартуке и прокричала подросткам: «Сколько я вас могу ждать? А ну, быстро домой! Кушать и уроки. Паршивцы. Вы что не слышали, когда я кричала с балкона?» Ребята понуро побрели в подъезд. Ещё долго доносился оттуда глухой женский голос, отчитывавший подростков.
Голяков задумчиво посмотрел на окно, которое показали ему ребята. Свет там не горел, очевидно, дома никого не было. Он попытался достать сигареты из кармана. Напомнила о себе рука. Опять стала болеть от неловкого движения. Бинт на ней уже был серым.
Владимир отбросил сигарету и зашел в подъезд, добежал до своей квартиры и достал из кармана куртки ключ, открыл дверь. Он, будто с усилием, сделал шаг в квартиру, снял с себя промокшую куртку и повесил ее на крючок в прихожей. Разулся, носки тоже снял, и, оставляя на полу мокрые следы, прошёл в комнату. В доме тишина. Включил свет. Лампочка осветила комнату, и Владимир сразу же пожалел, что не остался в темноте.
Неубранная грязная постель. Настенные часы в пыли. Они громко тикали, только их и было слышно во всем доме. Пыльно, серо, мрачно. Владимир проследовал в кухню, включил свет там и опять поморщился: Мусор, немытая посуда, грязная залитая супом, плита, запах. Он вернулся в комнату. На журнальном столике валялось много бумажек, стояла открытая банка пива. Голяков взболтал её. Внутри ещё что-то было. Выпил и тут же скривился: «Гадость!»
Владимир в тишине услышал, как открывается дверной замок. Он поставил банку на стол, вышел в коридор и увидел Славу.
– Здорово, пап, – поприветствовал Владимира сын.
– Привет, – сказал Голяков – старший.
Слава, обутый, зашёл на кухню, выпил из-под крана воды.
– Слав, тебе ничего… – начал было Владимир, ткнув пальцем на не снятую обувь сына.
– Забей, батя. Тут и так свинарник, – сын махнул рукой.
– Слав, кто такой Макс? – приступил к расспросам отец.
– Друг, – коротко ответил подросток.
Он допил воду и поставил стакан в раковину. Повернувшись к отцу, сказал тихо, но твердо:
– Ты лучше на себя посмотри. Меня не учи.
Потом он пошёл к двери, но Голяков – старший остановил сына, схватив за его за руку.
– Отпусти, – холодно сказал Слава.
– Погоди. Я хочу пого…
– Не нужно мне тут соплей. Надо было думать, когда маме изменял, – Слава направился к выходу. Стоя у двери, обернулся и сказал:
– Когда исправишь свою жизнь, тогда будешь иметь право лезть в мою, а сейчас, ты мне не авторитет.
Сын вышел из квартиры, крепко хлопнув входной дверью.
Владимир дошел до журнального столика в комнате, со злостью швырнул в стену пустую банку из-под пива. Резко дёрнул больную руку, с силой сжал раненную ладонь в кулак. Поплёлся в ванную. Размотал грязный бинт, включил воду и, морщась от боли, подставил руку с присохшим бинтом под струю. Второй рукой порылся в шкафчике, который висел на стене. Вынул из него йод и новый бинт. Попробовал оторвать прилипшую к ране марлевую повязку – получилось. Стиснув зубы, залил рану йодом и, как мог, забинтовал чистым бинтом. Посмотрел на своё отражение в зеркале. Покачал головой. Боль в руке стала понемногу утихать.
Внезапно Владимир вспомнил про монаха. Вернулся в прихожую. На гвозде висел ключ от комнаты, в которой хранились вещи жены. Голяков открыл дверь, пошарил в шкафу, отодвинул и вынул несколько коробок. И нашел ту, что искал – коробку с надписью: «АРХИВ Г.В.» – документы отца. Владимир взял коробку под мышку и прошел в свою комнату. Он сел на кресло, скинул одним движением все с журнального столика и поставил на него коробку.
Внутри было много бумаг и старых фотографий. Отец тщательно разложил все документы по папкам, подписал все подробно. Владимир знал, что такая коробка есть, но ни разу не посмотрел, что в ней. Теперь он с удивлением рассматривал папки, подписанные рукой отца. Часть его жизни можно было восстановить, читая эти документы.
Голяков перекладывая бумаги с записями, открыл очередную папку. Обнаружил внутри нее фотографии отца, на которых он был вместе с Жамсо. На одной из них отец был даже в одеянии монаха. Внутри этой папки, в самом конце, Владимир нашёл рисунки. Это были его собственные рисунки, нарисованные им в далеком детстве. Не выдержав, он опустил голову на руки. Плечи его задрожали, и слезы потекли по небритым щекам майора.
***
Громко звенел будильник в мобильном телефоне. Владимир, морщась, открыл глаза и схватился руками за голову. Зажмурился от ярко светящего в глаза солнца. Оказывается, он уснул в кресле. Коробка с документами отца стояла тут же. Голяков положил все бумаги, папки и фотографии на место и встал с кресла. От яркого солнца или от сна сидя в кресле у него болела голова.
Владимир нашел в шкафу относительно чистую рубашку, снял грязную, надел новую и, не застегивая на ней пуговицы, прошел на кухню. Глядя на часы в мобильном телефоне, Владимир поставил чайник. Включил радио. Передавали гороскоп и погоду. Сделал кофе и бутерброды, часть из которых положил в холодильник. Написал записку сыну: «Еда внутри» и наклеил ее на дверцу. Перевязал руку бинтом. Побрился быстро машинкой, оставив лёгкую щетину. Причесал волосы. Застегнул рубашку. Заглянул в комнату сына. Тот спал на кровати одетый и обутый. Голяков – старший, тихо, чтобы не разбудить, разул Славу и накрыл его одеялом.
Владимир взглянул на часы – он почти опаздывал. Очень быстро обулся, промчался по лестнице вниз и выбежал из подъезда, хлопнув входной дверью.
Недалеко от подъезда Голяков встретил соседа по лестничной клетке. Шмырко недолюбливал Владимира и его семью, всегда за спиной говорил о них гадости, а Владимир вежливо терпел и не отвечал – мол, сосед все-таки. Шмырко был небольшого роста, коренастый, жилистый, с неприятным лошадиным лицом. Владимир не хотел общаться с вредным соседом, чтобы не портить себе утро скандалом, и, кивнув соседу, постарался пробежать мимо. Но Шмырко остановил его:
– Владимир Семёнович, можно вас на секундочку?
– Нет времени, Шмырко, говори быстрее, – с досадой произнес Владимир.
– У нас было собрание на днях, мы хотим собрать деньги на ремонт крыши, – неспешно сказал сосед.
– Когда нужны деньги? – Владимир, как всегда, четко формулировал вопрос.
– Были нужны еще вчера, – с явным осуждением произнес Шмырко.
– Извини, не знал. Спешу. Пока, – Владимир постарался завершить разговор.
Голяков уже заворачивал за угол, когда услышал, как Шмырко пробормотал себе под нос: «Хам, как и его сын»
Владимир разозлился и резко повернулся к неприятному соседу. Пара шагов, и они оказались лицом к лицу. Владимир обеими руками схватил Шмырко за ворот куртки, потряс его и спросил: «Шмырко, я не расслышал. Что ты там мне сказал в спину?» Шмырко испуганно залепетал: «Я… я…»
– Послушай теперь меня внимательно. Ты лучше за собой присмотри. Не лезь ты к нам. Это уже не первый раз, когда ты достаёшь моего сына, – Голяков не скрывал своего раздражения.
Шмырко, как только его отпустил Владимир, отошёл на безопасное расстояние и издалека крикнул: «Вы мне не угрожайте! А то и я могу. Он сын своего отца, такой же пьяница без цели» Владимир, презрительно глядя на кричащего Шмырко, произнес:
– Я больше повторять не буду. Присмотри за собой, потом учи жизни других.
Владимир уже вышел со двора и не слышал, как Шмырко кричал ему вслед:
– Я буду жаловаться! Слышите? Жалобу напишу.
Голяков сел в служебную машину и поехал на работу.
***
Утро было свежим, день обещал быть приятным – ни жарким, ни холодным.
Прошло несколько минут как Голяков пришел на работу, он успел насыпать в чашку растворимый кофе и залить его водой, и вот зазвонил мобильный телефон. Владимир ответил, и дежурный сообщил ему об ограблении в магазине на улице Бабушкина, дом 7.
– Вызов принял. Выезжаю, – ответил Владимир.
По указанному адресу около магазина уже собрались его коллеги. Голяков подошел к своему другу Дмитрию. Пожали руки.
– Наслышан. Молодец, – коротко похвалил друга Дмитрий. – У нас тут убийство и кража драгоценностей.
Дмитрий с Голяковым вошли в магазин, по дороге обсуждая случившееся:
– Все бы ничего. Но смерть очень странная. То ли убийство, то ли самоубийство. Непонятно. Вот, сам глянь, – сказал Дмитрий, указывая на место преступления.
Голяков взял перчатки у друга и осмотрел помещение, где было совершено убийство.
– У нас вообще ничего нет. Ни отпечатков, ни каких-либо следов борьбы, – Дмитрий продолжал вводить коллегу в курс дела.
Голяков ходил и осматривал все вокруг.
– Помещение было закрыто изнутри. Никто не выходил и не входил, – с недоумением сказал Дмитрий.
– Дим, нам инсценировали смерть. Грабитель или грабители могли просто взять то, что хотели, и уйти. Но им или ему надоело быть в тени. Этим убийством он заявил о себе, – вслух рассуждал Владимир.
– То есть нас специально хотят запутать. А зачем? – удивился Дима.
– Вот зачем, зачем? Думаю, мы скоро об этом узнаем. Тот, кто сделал это, захочет, чтобы все узнали о его действиях.
Голяков снял перчатки и вышел на улицу. Они остановились около магазина и продолжили разговор. Через минуту к ним подбежала девушка-стажёр и протянула планшет: «Вот, посмотрите. Это произошло сегодня утром»
На планшете была запись выпуска новостей о том, что какой-то неизвестный просто так раскидал драгоценности на улице и скрылся. Никто его не видел. И никто не знает, как он выглядит. Корреспондент продолжил: «Вот, что говорят свидетели: «Это просто чудо! Спасибо ему большое!» – «Просто чудак ненормальный, наверное, крыша поехала. Но все равно спасибо» – «Я могу сказать одно: Робин Гуду – ура!».
У Зимина закончилось совещание. Все толпой выходили из кабинета. Шеф попросил задержаться Владимира и Дмитрия.
– Итак, господа следователи. У нас появился Робин Гуд. Народный мститель, ё-моё. Вам необходимо его быстро найти, – потребовал начальник отделения.
– Мы ищем, – заверили его напарники.
– Плохо, плохо ищите, – недовольно покачал головой Зимин, – вон, уже скоро весь город с ума сойдёт от такого беспредела. Мне уже позвонили сверху и сказали, что я тут ничем не занимаюсь, если у меня такое происходит. И ладно, если бы Робин Гуд ещё продал эти украшения, так он их просто раскидывает по улицам.
– Мы опросили свидетелей, но никто ничего не знает. Ничего не видели. И записей в ювелирке нет, – мрачно сказал Дмитрий.
– Да что же это творится? Где запись? – удивился Зимин.
– Её просто нет. Там камеры муляжные. Чтоб страх наводить, и всё, – пояснил боссу Владимир.
– Да ты что? Вот до чего докатились. Люди уже не боятся ничего. – задумчиво произнес Зимин. – Мне нужно, чтоб вы раскрыли это дело. Не интересует, как и что, но что бы раскрыли. Свободны, – начальник грузно опустился в свое кресло.
Голяков с Дмитрием вышли в коридор, и тут Дмитрий что-то вспомнил:
– Я пойду проверю кое-что. Может, будет зацепка.
– Я буду в кабинете, – сказал Владимир.
– Хорошо. Я быстро, – пообещал Дмитрий и побежал в сторону архива.
Голяков постоял немного в коридоре. Обратил внимание на ходивших туда-сюда офицеров. Зашел в свой кабинет. Присел на стул. Достал из шкафчика маленькую бутылку водки. Передумал и поставил её обратно. В шкафчике лежал теннисный мячик. Владимир начал кидать мяч в стенку и ловить… Так он успокоился и, кидая уже машинально, стал анализировать картину происходившего в инсценировке убийства. Написал на бумаге: «Зачем?», «Мотив», «Как?». Внезапно его мысли с убийства перескочили на мысли о монахе. И то, откуда он мог знать о спрятанном под белым камнем бидоне.
Владимир включил компьютер, загрузил поисковую систему Google, набрал в поисковике «буддийский храм».
Подумал еще немного и уточнил запрос: «Агинский храм». Нашёл следующее: «Агинский дацан. Из Улан-Удэ до Читы на поезде, а дальше на автобусах до самого храма». Голяков подумал немного и решил, что ему надо срочно ехать туда. Нашел на столе кусок чистой бумаги. Написал на нем: «Срочно уехал. Звони на трубку», нацепил листок на кнопку, вышел из кабинета, запер дверь на ключ, приколол записку на дверь.
***
Владимир сел на поезд по служебному удостоверению в плацкартный вагон, где всегда есть зарезервированные места, предназначенные для полиции. Расположившись на нижней полке, он сразу же уснул. Под монотонный стук колесных пар, ему снился необычный сон, в котором, он словно живого увидел своего отца. На фоне солнечных лучей, озаривших Дацан, куда теперь Владимир держал свой путь, отец, стоял рядом с Жамсо, и, словно благословляя сына на верный путь, улыбался ему. Они были оба в монашеской одежде, и от них исходило такое сильное сияние, что и Владимир попал под свет этих лучей, и будто набрался от них силы. Так, зарядившись во сне сил, он доехал до Читы, и спустя несколько часов добрался на автобусе до Агинского дацана. Оказалось, ехать до него всего половину дня. Удивительно, но по телефону никто его не искал все это время. Всю дорогу, трясясь в простом рейсовом автобусе, Владимир думал о сне. Он понимал, что о именно таком состоянии души ему говорил Жамсо. Владимира удивлял лишь один факт: «Почему информацию необходимую для расследования преступления, которое находилось в его ведомстве, отец послал ему через Жамсо, а не напрямую обратился с нему сам?». Этот вопрос не давал ему покоя, как бы было хорошо, если бы отец не ходил окольными путями, а напрямую взял да помог своему сыну. Многие «почему» крутились в голове, и Владимир опять уснул. Во сне к нему на встречу шел отец, и он сам сделал шаг к нему навстречу, вдруг обо что-то запнулся и упал. Владимир выругался, поднялся и посмотрел себе под ноги, со злостью пнул в сторону пустую бутылку, и, хотел пойти дальше, но, ни дороги, ни отца уже не было.
Владимир проснулся в тот момент, когда двери автобуса отворились, и водитель, обернувшись в салон, крикнул.
– Молодой человек! – Это ваша остановка!
Голяков спрыгнул из автобуса на землю и прошел в дацан, обдумывая сон. Ответ сна был банально прост, Владимир запнулся об пустую бутылку, и, дорога родовой нити, по которой он мог дотянуться до отца, – прервалась.
– Надо завязывать пить! – Сам себе вслух сказал Голяков. В таких раздумьях, он не заметил, как подошел к дверям дацана.
– Время бежит! – Снова вслух удивился он, – прямо не заметил, как добрался, словно и часа пути не прошло!
Навстречу ему вышел монах Жамсо. Владимир, было, улыбнулся знакомому отца и протянул руку, но осекся под строгим взглядом монаха.
Жамсо строго сказал:
– Входи.
Голяков поклонился в ответ и зашёл. Не проронив ни слова, они шли по территории дацана. Видно было, что монах чем-то озабочен. Он привел Голякова в кедровую рощу, где они присели на скамейку.
Лама заговорил, глядя на храм:
– Я ошибся, когда рассказал тебе там, на станции, про белый камень. Нам запрещено выходить в мир и тем более запрещено вмешиваться в мирские дела. У нас иное предназначение. Помочь больше я тебе ничем не смогу, ты сам должен найти на все ответы.
– Я хотел поговорить с вами об отце, – сказал Владимир.
– Твой отец снится мне. Он просит помочь тебе, – произнес Жамсо.
– Вы с ним общаетесь? – удивленно спросил Голяков.
– Когда-то я обещал твоему отцу присмотреть за тобой, поэтому он ко мне во сне и приходит. В новолуние приходил и просил навестить тебя. Вот почему я просидел на кладбище два дня, прежде чем тебя оповестили. Снился он мне и вчера, снова просил помочь тебе, – рассказал монах.
– Не переживайте за меня. Я со всем справлюсь. Но вы сказали, что говорите с моим отцом. Как? – поинтересовался Владимир.
– Он приходит ко мне, когда я медитирую, или во сне. И просит, что бы я помог тебе. Но он не понимает, что этим я могу изменить твою судьбу и будущее всех твоих наследников, – вздохнул Жамсо.
– Я не понимаю, как это происходит. Отец же умер? – недоумевал Голяков, – хотя, пока я ехал к вам, мне тоже снился отец, но он мне ничего не сказал. Да и я никогда вообще не уделял внимания снам, и, если честно, всегда считал суеверием, бабкиными сказками.
Монах внимательно посмотрел в глаза Владимира. Мужчине стало неловко от этого пронизывающего насквозь взгляда, он почувствовал, что монах может узреть причину, по которой отец не захотел с ним говорить.
– Мир, в котором я живу, отличается от твоего, мальчик мой. Я вижу, что у тебя сейчас нелёгкий период в жизни. Но дорогу осилит только идущий, если он не боится сделать шаг. Я верю, что ты сам найдёшь выход. Вижу, ты уже понемногу начал это делать, – глаза старого монаха светились добротой и мудростью, – ты все правильно делаешь. Начинаешь с себя. Наведешь у себя в голове порядок, разложишь все по полочкам, и все встанет на свои места, – заверил Жамсо.
– Но как возможно то, что вы знаете, где лежали те драгоценности? Я не понимаю, – Владимиру не давал покоя этот вопрос.
– Я живу не по тем правилам, по которым живёшь ты. Тебе пора идти, у меня есть ещё дела, – Жамсо приподнялся и поправил одеяние.
– Но я ничего не узнал. Как отец говорит с вами? – настаивал Голяков.
– Когда будешь готов, я тебя научу. Но не сейчас, – сказал Жамсо с теплотой в голосе.
– Как не готов? Почему? – Голяков соскочил со скамейки.
– У тебя беспокойный ум, – мягко сказал монах.
– Но я просто хотел больше узнать о своем отце, – растерянно пробормотал Владимир.
– Ты про работу приехал спрашивать, – возразил мудрый монах, – тебя любопытство одолело. Эмоции. Твой отец мне спас жизнь, и я не буду нарушать закон кармы, чтоб разрушить жизнь его сына. Объясню, почему: помогая тебе, я ухудшаю твою карму. А это неправильно. Я пытался втолковать это твоему отцу, но он не понял. Придет время и поговоришь с ним сам, – настойчиво сказал Жамсо.