Читать онлайн Живая вещь бесплатно
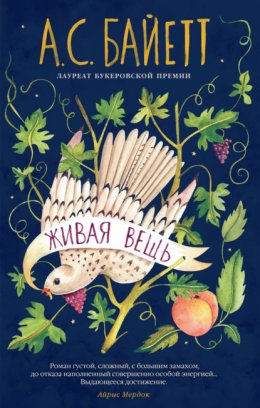
A. S. Byatt
STILL LIFE
Copyright © 1985 by A. S. Byatt
All rights reserved
Перевод с английского Дмитрия Псурцева, Дарьи Устиновой
Оформление обложки Виктории Манацковой
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
Серия «Большой роман»
© Д. В. Псурцев, Д. О. Устинова, перевод, 2022
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство ИНОСТРАНКА®
* * *
Нечасто приходится видеть, чтобы британский писатель осмелился продолжить с того места, на котором остановилась Вирджиния Вулф, и госпожа Байетт с её «Живой вещью» – отрадное исключение.
New York Times
Антония Байетт английская достопримечательность, как Тэтчер, Тауэр и файф-о-клок.
TimeOut
«Живая вещь» – невероятное и притом непрерывное удовольствие.
Анита Брукнер (автор «Отеля „У озера“», лауреат Букеровской премии)
Роман густой, сложный, с большим замахом, до отказа наполненный совершенно особой энергией… Выдающееся достижение.
Айрис Мердок
Байетт препарирует своих персонажей решительной рукой, но бережно: как добрый хирург – скальпелем.
Тони Моррисон (лауреат Нобелевской премии по литературе)
Байетт не умеет писать скупо. «Квартет Фредерики» – богатейшее полотно, где каждый найдёт что пожелает: подлинный драматизм, пёстрые капризы истории, идеи, над которыми стоит поломать голову… Едкий юмор, крепкий сюжет, персонажи, которым сочувствуешь, и, конечно, великолепный язык.
The Times
В её историях дышит тайна, живёт страсть, пульсирует древняя магия.
Marie Claire
Интеллект и кругозор Байетт поражают.
Times Literary Supplement
Только у Байетт обсуждение сложных философских вопросов может звучать так человечно, тепло и жизненно важно.
Scotsman
Роман дискурсивный и аналитичный и в то же время – полный удивительных наблюдений и языковых красот, а в основе всего – поразительная внимательность к вещам и людям.
London Review of Books
Антония Байетт – один из лучших наших писателей, умеющих насытить и ум и душу.
Daily Telegraph
Байетт принадлежит к редким сегодня авторам, для которых мир идей не менее важен, чем мир страстей человеческих… Байетт населяет свои книги думающими людьми.
The New York Times Book Review
В лучших книгах Байетт груз интеллектуальных вопросов кажется почти невесомым благодаря изящно закрученному сюжету и сложным, неоднозначным, бесконечно близким читателю персонажам.
The Baltimore Sun
Один из героев «Живой вещи» замечает, что «Фрейд… наделяет функциями света – Эрос». Так и сама Байетт, подобно Эросу («он же свет»), «вдыхает жизнь в застывший, неорганический мир» и побуждает нас влюбляться в язык снова и снова.
The Independent
Перед вами – портрет Англии второй половины XX века. Причём один из самых точных. Немногим из ныне живущих удаётся так щедро наполнить роман жизнью.
The Boston Globe
Байетт – Мэри Поппинс эпохи постмодерна. Чего только нет в её волшебном саквояже! Пёстрые россыпи идей: от Шекспира до Дарвина, от святого Августина до Фрейда и Виттгенштейна. Яркие, живые характеры. И конечно, головокружительная смесь тем, загадок и языковых уловок.
Elle
Байетт, как никто, умеет высветить эпоху до мельчайших деталей. Мастерски используя всё богатство английского языка, она являет нам надежды и сомнения, поражения и победы героев, которые надолго запомнятся читателю.
Denver Post
«Квартет Фредерики» – современный эпос сродни искусно сотканному, богатому ковру. Герои Байетт задают главные вопросы своего времени. Их голоса звучат искренне, порой сбиваясь, порой достигая удивительной красоты.
Entertainment Weekly
Байетт – несравненная рассказчица. Она сама знает, о чём и как говорить, а нам остаётся лишь, затаив дыхание, следить за хитросплетениями судеб в её романах.
Newsday
Литература для Байетт – удовольствие чувственное. Её бунтари, чудаки и монстры абсолютно достоверны.
Town & Country
От богатства повествования подчас захватывает дух. Байетт – это безупречный интеллект, беспощадная наблюдательность, чёткие и правдивые портреты героев.
Orlando Sentinel
Мало кто сравнится с Байетт в мудрой зоркости к жизни.
Hartford Courant
Герои Байетт останутся с вами ещё долго после того, как вы перевернёте последнюю страницу.
New York Times
Чтение русских писателей многое сообщает о том, что такое роман. Русская классика поражает, и если ты читаешь её в молодости, кажется, что тебе ничего похожего не написать. Вот почему нельзя её не читать – она открывает иные горизонты… Я пишу ради языка и ещё – ради сюжета.
А. С. Байетт
Слова благодарности
Появлению этой книги способствовала стипендия Художественного совета, за которую я весьма благодарна. Я также признательна Монике Диккенс за одну подсказку по поводу сюжета, о которой она знает. Роман не мог бы осуществиться без подспорья Лондонской библиотеки и Дугласа Мэттьюза, её библиотекаря. Помощь и поощрение со стороны моих издателей, «Чатто энд Уиндус», превосходили пределы договорных отношений и простой вежливости. Благодарю Уилла Вона и Джона Хауса за разговоры со мной о живописи; Джеки Браун – за точное печатание рукописи с невероятной скоростью; Майкла Уортона – за некоторые полезные французские выражения, но в ещё большей степени – за эстетическое понимание и общую поддержку.
Признательна издательству «Теймз энд Хадсон лимитед» за разрешение цитировать «Полное собрание писем Винсента Ван Гога».
Посвящается Дженни Флауэрдью
4 мая 1936 г. – 11 октября 1978 г.
Talis, inquiens, mihi videtur, rex, vita hominum praesens in terris, ad conparationem eius, quod nobis incertum est, temporis, quale cum te residente ad caenam cum ducibus ac ministris tuis tempore brumali… adveniens unus passerum domum citissime pervolaverit; qui cum per unum ostium ingrediens, mox per aliud exierit… Mox de hieme in hiemem regrediens, tuis oculis elabitur.
Bede. Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum
«Таковою, – сказал он, – о Король, представляется мне нынешняя жизнь людей на земле, в сравнении с тем временем, которое нам неведомо: как если бы, в пору пирования твоего с приближёнными и советниками зимним вечером, влетел вдруг проворно в залу единственный воробей, попав в одну дверь и в другую вскоре вылетев. Так же, из зимы переходя обратно в зиму, из глаз теряется»[1].
О вещах слова шлют нам ясное, обыденное представление, наподобие тех картинок, что развешены на стенах классной комнаты, чтобы дать детям пример того, что́ есть верстак, птица, муравейник, – чтобы воспринимались сходственно и вещи, относящиеся к одному понятию.
М. Пруст. По направлению к Свану
…я пытался отыскать красоту там, где прежде и не думал найти, – в вещах самых обыденных, в глубине жизни «натюрмортов».
М. Пруст. Под сенью девушек в цвету
Вещества мёртвые, – говорил Кювье, – доставляются в тела живые и, занявши там некое место, совершают действие сообразно природе тех сочетаний, в какие вступили, покуда однажды не приходит им срок выбраться из этих сочетаний и вернуться под власть законов натуры мёртвой.
Ж. Кювье, цит. Мишелем Фуко. Слова и вещи
Пролог
Выставка постимпрессионистов.
Королевская академия художеств.
Лондон, 1980
В «Книге друзей Королевской академии» он, согласно заведённым здесь правилам, сделал запись своим изящным почерком: «Александр Уэддерберн, 22 января 1980 г.».
Когда договаривались о походе на выставку, она – как всегда, не терпящим возражений тоном – промолвила: «Меня не дожидайтесь, ступайте прямиком в Зал III, где и устроено это собрание чудес». И вот уже он, известный общественник и тоже своего рода художник, послушно, будто мальчик, сам немного своей послушливости удивляясь, проходит насквозь Зал I («Французская живопись 1880–1890»), затем, также не задерживаясь, – Зал II («Британская живопись 1880–1900») и вступает в Зал III. За окнами свинцово-серое утро; стены в этом зале тоже серые, но серые бледно; не слышны пока под лепными сводами голоса посетителей… зато лампы ярко светят, ликующе отдаются от красок на полотнах… и фраза о «чудесах» начинает казаться едва ли не правдивой.
По одной длинной стене, в ряд, – холсты Ван Гога, среди них написанный в Арле «Сад поэтов», одна из четырёх картин под таким названием, живьём раньше видеть не доводилось, но узнал по маленьким фото, вспомнил по истовым рассказам в письмах самого художника. Присел на банкетку и вгляделся. Парковая дорожка раздваивается и, словно тихо кипя на первом плане от белёсо-золотистого зноя, обтекает островок с большой пихтой, чьи зелёно-чёрно-синие лапы нацелены вниз, но стремятся ввысь и в стороны, так что кажется, взмыла бы пихта всем своим раздольным шатром, когда бы не мешала ей рама. Чинно, рука об руку, вступают под густой, чутко нависший хвойный полог – двое. На заднем плане – другой зелёный островок, весь в кровавых пятнах цветков герани…
Александра не беспокоило, появится ли Фредерика вовремя. Она утратила привычку опаздывать, жизнь её научила обращаться с временем точно и уж наверняка считаться с чужими минутами. Сам же он, в свои шестьдесят два года, полагал, хотя и без полной уверенности, что уже слишком стар и степенен, чтоб она, или кто-нибудь ещё, могла вывести его из душевного равновесия. Она где-то должна быть на подходе, так он думал, с теплотой. В стародавние времена в его жизни господствовал круговорот, слишком явное повторение событий, отношений, и во всё это ей совершенно невозможно было встроиться. Надоедой, угрозой, пыткой – вот кем она была в те поры для него; а теперь стала почти родственной душой. И сама предложила сходить вместе посмотреть Ван Гога, учреждая – намеренно, хитроумно, эстетски! – совсем новый мотив отношений. Его пьеса «Соломенный стул» первый раз поставлена в 1957 году; но не хочется отчего-то теперь вспоминать эту пьесу слишком пристально, как, впрочем, и любые свои старые произведения. Он воззрился на другой, безмятежный, но страстный сад: из круговых жёлтых мазков вылеплено небо, пастозна изумрудная зелень травы на первом плане, яростно и густо воздеты сине-зелёные перья древесных крон на среднем, кое-где прокинулись и повисли в листве тонкие, резкие закорючки чёрных теней и с болезненной ясностью проступают потёки и брызги оранжево-красного на стволе плакучей ивы, на макушке чуть отдалённого левого дерева… Подобрать язык, передающий одержимость Ван Гога материальным, но как бы дивно подсвеченным изнутри миром, – оказалось чрезвычайно трудно. Ограничиться внешней, привычному сознанию доступной драмой? Вот, мол, ссорятся, мечут стрелы гнева и раздражения друг в друга два великих художника в жёлтом общежительском доме в Арле, между тем как далёкий незаменимый брат Тео шлёт Винсенту свою любовь – и тюбики краски; вот забрезжило отрезанное ухо и отправилось к проститутке в бордель; и страх, страх в душе перед больницей для умалишённых… Ограничиться только всем этим – было б ложью!.. Поначалу Александр думал, что возможно написать обыденным, точным стихом, без использования переносных значений: чтобы жёлтый соломенный стул был бы самой вещью, то есть просто соломенным стулом, золотистое круглое яблоко – просто яблоком, а подсолнух – подсолнухом. До сих пор ему иногда удавалось увидеть эти чуткие мазки – просто мазками, в обнажающей оптике, так что невольно спадала прочь более мудрёная, метафорическая мысль об этом саде, не мерещились в чёрным прописанных закоулках листвы – будущие чёрные крылья, от изображений гераней отмывалось пошловатое их сравнение с пятнами крови. Но, увы, подобное словесное предприятие оказалось невозможным. Ведь, во-первых, мешает сам язык. В имени подсолнуха лежит, калачиком свернулась метафора: подсолнух не только повёрнут к солнцу, но и подобен солнцу, источнику света.
Во-вторых, мешает представление Ван Гога о вещах. Соломенный стул, помимо того, что он – мазки и краски, и помимо своей соломенности как таковой, – входит ещё и в набор из двенадцати таких стульев, приобретённый Ван Гогом для артели вольных художников, которой предстояло населить Жёлтый дом, чьим белым стенам предстояло озариться подсолнухами, наподобие того, как окна готических соборов озарены переплётчатым светом витражей. Здесь не только метафора, но и – культурный мотив, имманентность религии, веры и храма. Всякая вещь непременно связана с другими вещами. Так и «Сад поэтов», изначально предназначенный к украшению спальни «поэта Гогена», собою являет нечто большее.
Арль, 1888 г.
Некоторое время назад я прочёл статью о Данте, Петрарке, Боккаччо и Боттичелли. Боже мой, какое же сильное впечатление произвели на меня письма этих людей. И Петрарка жил совсем неподалёку отсюда, в Авиньоне, и я вижу те же кипарисы и олеандры…
Есть, и весьма немало, древнегреческого по духу в этом забавном краю Тартарена и Домье[2], где здешний добрый народ имеет особенный выговор, ну ты знаешь какой. Здесь есть своя Венера Арльская наряду с Венерой Лесбосской, и, несмотря ни на что, легко можно ощутить во всём этом некую вечную младость…[3]
Не правда ли, что в этом саду чувствуется какой-то странный, необычный стиль, позволяющий вообразить здесь поэтов Возрождения, как они выступают среди этих кустов по траве, покрытой цветами?..[4]
Что есть вечная младость? – спросил себя Александр. Сочиняя свою пьесу, он ощущал усталость от мира. А Ван Гог спустя два года после этого письма, в июле 1890 года, несуразно выстрелил себе в пах и умер медленной смертью, в возрасте тридцати семи лет. В 1954 году Александр, как всегда бродя мыслью вокруг дат, прочёл выпущенное к столетию художника собрание писем. Самому ему вскоре тоже должно было исполниться тридцать семь; когда же была поставлена пьеса, он уже благополучно миновал этот возраст, «пережил» Ван Гога; точно так же, как в 1940-е годы миновал возраст Джона Китса и почувствовал, пусть и кратко, свою силу, оттого что выжил, вознёсся над временем. Вот ведь чушь: вечная младость Прованса… Сразу вспомнились ему жаркие и блестящие, точно намасленные, автомобильные дороги этого края. Нет уж, лучше видеть вознесённые навсегда над временем оливковые деревья и поля пшеницы на холстах Винсента…
Между тем она начала подниматься вверх по ступеням палладианской[5] мраморной лестницы. Какой-то знакомый художник подлетел, поцелуем клюнул в щёку; помахал рукой на ходу журналист. Бойко, чуть ли не вприпрыжку, в сопровождении некой мелкой особы в большеватой куртке зеленохвойного цвета, напоминавшей палатку, сбежал по ступеням Джон Хаус, организатор выставки. Он также чмокнул Фредерику в щёку и представил их друг дружке, неразборчиво промямлив: «Коллега мнм…», «Фредерика… – замялся, добавил находчиво: – Простите, не знаю, под какой вы выступаете фамилией, нынче женщины многолики, как Протей». Фредерика даже не стала пытаться уточнить имя дамы, ибо утратила давно интерес к побочным людям, от которых ни жарко ни холодно. Лишь предположила (ошибочно), что она тоже историк искусств, раз «коллега». «Коллега» рассеянно-внимательно скользнула взглядом по Фредерике. Джон Хаус принялся рассказывать, какой это был труд, из многих стран собрать и развесить полотна, приходилось бороться то с внезапной пустотой (Иаков – с ангелом?), то со светом, который бьёт слишком ярко, портит впечатление. Фредерика сосредоточенно слушала. Затем отдрейфовала к книге посетителей, записалась: Фредерика Поттер, Форум критиков, Радио 3. Выговорила себе бесплатный каталог. После чего непоспешно направилась в сторону того зала, где её должен ждать Александр…
Пожилая посетительница, вооружённая аудиогидом, возбуждённо дёргала подругу за рукав: «Эй, смотри-ка, эту картину написал сам Уинстон Черчилль[6], называется… – Тщательно, по слогам: – Кап-д’Ан-тиб. Да, так и называется».
Фредерика изумлённо-проворно метнула взгляд сбоку: Claude Monet. Au Cap d’Antibes par vent de mistral[7]. Вихрь синих и розовых тонов, бесформенные тугие формы воды и ветра. Сразу вспомнился прустовский вымышленный художник Эльстир – «не писать вещи такими, какими их знаешь». Писать свет и воздух между глазом и предметами.
«Вот я и говорю, моя дорогая, что Уинстона Черчилля… – (Вторая старушка между тем кое-как освободила от цепких пальцев рукав.) – Черчилля не годится ставить в один ряд с этим… как его…» – переводя нервно взгляд с Фредерики на крупную подпись художника в левом нижнем углу.
Сияло и танцевало море, заключённое в раму. В каталоге Джон Хаус приводил слова Моне о том, как написанный вокруг стогов свет окутывает их словно вуалью. Цитировался и Малларме: «Я полагаю, что следует… действовать лишь намёком. Назвать предмет – значит уничтожить на три четверти наслаждение стихами, которое заключается в счастье постепенного угадывания предмета. Внушить мысль о нём исподволь – вот мечта»[8]. Нельзя сказать, чтобы Фредерике подобная философия была по нраву; она предпочитала называть вещи своими именами. Но потупилась всё же на миг перед зыбким, нежным, но тщательно выделанным ослепительно-красочным руном; розово-голубые завихрения ветра над морем, призматического покроя облачные нимбы вкруг таинственных чертогов… Накорябала какие-то слова, заметки на полях каталога…
Дэниел приобрёл билет и – с неведомой целью – каталог напрокат. Пришёл он сюда, кажется, затем, чтобы обсудить с Фредерикой некое дело. При этом он догадывался, что она хочет одарить его встречей с искусством. Под мышкой у него была сложенная газета с сегодняшним главным заголовком: «Мирная мать найдена мёртвой». С годами он всё острее чувствовал свою беззащитность перед плохими новостями, от них прямо-таки саднило на душе, хотя давно пора бы закалиться. Он смотрел на полотна – и не мог их взять в толк. Вот край пшеничного поля с маками, которое почему-то сразу напоминает маленькие или большие, выцветшие почти до призрачности, репродукции картины Ван Гога «Жатва», украшающие бесчисленные коридоры и приёмные покои больниц, директорские кабинеты школ. Эти изобильные поля, так же как и геометрические зелёно-коричневые кустарники Поля Сезанна, наблюдал он не в одном фойе учреждений для душевнобольных. Ну не странно ли, учитывая, что сам Ван Гог скончался в безумии и отчаянии в подобной же обстановке? В полях этих нет безмятежности; напротив, в них лихорадочное возбуждение. Терпение Дэниела с нервнобольными за последние годы изрядно поистощилось. Будучи на четырнадцать лет моложе Александра, Дэниел, однако, тоже привык думать о себе как о пережившем своё время человеке, которого жизнь обветрила и потрепала.
Александр заметил приближение Фредерики. Чуть поодаль стайка старших школьниц прилежно заполняла какую-то рукописную, размноженную на ксероксе анкету, где отвечать полагалось не многими словами; Александр, закоренелый знаток моды, немедленно сравнил наряды девушек с нарядом Фредерики и сделал интересное наблюдение. Мода теперешних юных созданий – неумелое подражание пятидесятым годам, годам юности Фредерики; ну а Фредерика даёт им остроумный и тонкий ответ, отсылая к оригиналу и вместе с тем прибавляя ещё что-то, весьма изысканное. На ней чопорно-традиционный костюм – жакет из тонкой шерстяной ткани, неброской, с приглушённым геометрическим узором, в тёмно-зелёных и не вполне обычных коричнево-соломенных тонах, перехваченный поясом в талии – по-прежнему чрезвычайно тонкой, – отчего возникает эффект фижмы; юбка же – длинная и прямая, до колена. У блузки – в меру лихой, но гофрированный воротник. На голове – маленькая бархатная шляпка, из тех, к которым можно прикреплять вуалетку (впрочем, вуалетки нет). Бледные рыжие волосы собраны на затылке пучком-восьмёркой, наподобие шиньона, сразу вспоминаются обитательницы парижских кафе на утончённых рисунках Тулуз-Лотрека. Да, пятидесятые плюс постимпрессионизм – тут же соединилось в сознании Александра. Фредерика подошла и поцеловала его. Он высказал свою мысль о юных модницах. Она с готовностью подхватила:
– О да. Посмотреть только на их юбки-карандаш, свитеры «летучая мышь», лодочки на сверхкаблуках, таких чтоб специально ходить вот так, цокая и оттопыривая стройные попки… Ну и тонны яркой, красной помады. Кстати, я ведь помню, был момент, когда я думала – всё, конец вообще помаде, прощай мечта о губном экспрессионизме. Прощайте платья из тафты… Все мы, девы, тогда в Кембридже разом перешли на сатин. Помнишь такое событие?
– Ну ещё бы.
– А эклектичные шестидесятые? Помнишь, приходим в Национальную портретную галерею, а публика как только не разодета, от индийских пиджаков-шервани до мундиров с эполетами и ливрей. А нынешние девушки… они истово и неловко подражают какому-то одному образцу и становятся одинаковыми. И я не могу отделаться от мысли, что образец – я. Ну разве это не возмутительно?
– Подражание – это оскорбление вашего величества! А ты? Почему ты заново пришла к моде пятидесятых?
– Ну, это же моя природная стихия. В пятидесятых я как рыба в воде. Сороковые – тут я пас, все эти подкладные плечики, крепдешин, будь он неладен, причёски под пажа – это, кстати, была чистой воды эдиповщина. В общем, сороковые, конец сороковых, – это родительский гардеробчик, из него я рвалась на волю. А теперь вот настали мои лучшие годы.
– Истинно так.
– И денежки у меня завелись.
– В наше новоаскетичное время ты роскошествуешь?
– В наше аскетичное время я уже большая и могу распоряжаться суммами.
Оба заметили, что к ним шагает Дэниел.
– Дэниел, по-моему, вообще не меняется, – сказал Александр.
– Вот уж кому не мешало бы… – отозвалась Фредерика.
Дэниел и впрямь нисколько не изменился. На нём были такие же чёрные вещи, в которых он проходил все шестидесятые и семидесятые: мешковатые вельветовые брюки, толстый свитер, рабочая куртка. Как и у многих других власатых мужчин, волосы у него немного поредели на макушке, там, где раньше были гуще и жёстче всего; зато имелась крепкая, аспидно-чёрная борода; телом он был не то чтобы слишком обширен, но очень плотен, увесист. В окружении картинной галереи кто-то мог принять его за художника. Он приветствовал Фредерику и Александра взмахом сложенной газеты и посетовал на холодный день. Фредерика поцеловала его в щёку, подумав, что одет он как человек, от которого не должно приятно пахнуть, но нет – от Дэниела пахло чисто, хорошо: старинным одеколоном и ещё как будто хлебной корочкой из тостера. В гладко причёсанных избура-чёрных волосах кое-где пробилась, мерцала серебристо проседь.
– Есть разговор… – начал Дэниел.
– Прежде ты посмотришь картины. Отвлечёшься от дел хоть немного.
– Я только и делаю, что отвлекаюсь. Был на службе в Королевском колледже в Кембридже, слушал рождественские песнопения.
– Молодец. – Фредерика взглянула на него лукаво. – Ну а теперь займёмся картинами.
Перед ними был гогеновский «Мужчина с топором».
– Кстати, вот, прошу любить и жаловать, – обратилась Фредерика к Александру, мельком считывая пояснения с таблички. – Андрогин. Так утверждает Джон Хаус. Нет, сам Поль Гоген вроде это сказал. А твоё мнение?
Александр поизучал декоративное золотистое тело, повторяющее мотив с фриза Парфенона. Тёмно-синяя набедренная повязка, плоские груди. Пурпурное море с плоским, накидным узором кораллов. Цвета богатые и непривычные, но почему-то совсем не трогает. Фредерике он сказал, что предпочитает у этого живописца не столь явные, более замаскированные андрогинные формы, лишь внушающие смутную мысль об андрогинности. И привлёк её внимание к другой картине Гогена, под названием «Натюрморт. Именины Глоанек. 1888». Неодушевлённые предметы – в том числе две крупные спелые груши, тугой пучок цветов – как бы плывут по красно-оранжевой поверхности столика с тёмной эллиптической каймой. Картина подписана именем Мадлен Бернар, Гоген всерьёз ухаживал за этой юной особой (стал рассказывать Фредерике Александр), и Гоген воображал Мадлен, в соответствии с модой того времени, как женщину, обладающую желанным и недостижимым андрогинным совершенством, безмерно чувственную и глубоко самодостаточную. Фредерика, заглянув в каталог, сообщила, что растительная часть натюрморта, скорее всего, являет собой шутливый иносказательный портрет Мадлен: груши – это её груди, а пучок цветов в бумажном «чепце» – её волосы.
– Но возможно ведь и другое толкование, – сразу оживился Александр. – Груши – сами по себе андрогинны, с таким же успехом это и мужская часть.
– Да и волосы растут не обязательно на голове, – громко заявила Фредерика, шокируя нескольких посетителей и ещё у нескольких вызывая улыбку. – Однако тебя посещают очень свежие, оригинальные образы, почему бы это?
– Сказывается возраст, – мирно, хотя и несколько лицемерно, отозвался Александр.
К ним – словно к экскурсии – уже начала понемногу примагничиваться публика.
Они переместились к «Сборщикам олив» Ван Гога. Душа Дэниела, однако, странствовала далеко. Он представлял, как некогда, в часовне Королевского колледжа, золотая груда рыжих волос, более золотых, чем рыжелисые волосы Фредерики, понемногу освобождаясь от стеснявших её заколок, медленно ложилась на воротник белой блузки. И веснушки, множество чудесных, сплошных веснушчатых пятен, тёплые пятна на упрямых скулах, на лбу… Взвиваются в холодную высь бесполые голоса: «Народился Божий Сын… Ирод, гневом обуян…»[9] Голоса, словно играя, обпевают смерть невинных детей, сопрано и дискант гоняются по лесенке нот друг за дружкой; а она склоняет голову, не смеет попадать в эти ноты…
Оливы написаны были, когда Винсент находился в психиатрическом отделении монастырской больницы в Сен-Реми, в 1889 году.
Что же до меня, то признаюсь Вам по-дружески: перед подобной натурой я чувствую себя бессильным, мой северный мозг охвачен в этих мирных краях кошмаром, что надо быть лучшим, чтобы справиться с задачей. Конечно, я не хотел вовсе отказываться от дела, не сделав ни малейшей попытки, но она ограничилась лишь двумя вещами – кипарисами да оливами, – пусть другие, более сильные и умелые, чем я, истолкуют их символический язык…
Видите ли, мне на ум приходит ещё один вопрос. Что за люди в настоящее время живут в этих оливковых, апельсиновых, лимонных садах?[10]
Фредерика с Александром завели беседу о натуральном супернатурализме[11]. А Дэниел смотрел на жёлто-розовое небо, корявые стволы, серебристо-зелёную листву, землю, смётанную из ритмичных мазков жёлтой охры, розового, и бледно-голубого, и коричнево-красного… Оливы, согласилась Фредерика с Александром, не могли не быть связаны – для Ван Гога, пасторского сына, проповедника без духовного сана! – с мыслью о Масличной горе, о Гефсиманском саде. Тогда как кипарисы, хоть и всякий раз по-разному, символизируют смерть. Дэниел спросил, больше из вежливости, поддержать разговор: а в чём, собственно, было сумасшествие Ван Гога, это не просто одержимость? Не исключено, отвечал Александр, что это была форма эпилепсии, усугублённая возмущениями атмосферного электричества в пору, когда в Провансе дует мистраль или стоит зной. Но можно, впрочем, дать и фрейдистское объяснение, продолжал Александр: Винсент терзался виной по отношению к брату, первенцу, который умер, не прожив и дня, и чьё имя ему досталось. Винсент родился, как известно, 30 марта 1853 года. А брат – тоже Винсент и тоже Ван Гог – 30 марта 1852 года. Винсент бежал от семьи, от своего мёртвого альтер эго, от неопределённости личностного самоопределения. «Надеюсь, что ты не „Ван Гог“, – писал он брату Теодорусу, Тео. – Я всегда смотрел на тебя как на „Тео“. Я ведь и сам, в сущности, не „Ван Гог“»[12]. Дэниел сказал, что не видит в оливах той боли, которая там присутствует (по мнению Фредерики). Александр, словно лекцию читая, объяснил, что Винсент возражал против отвлечённо-обобщённых изображений Христа в Гефсиманском саду Эмилем Бернаром и другими глашатаями символизма, свою попытку в подобном роде уничтожил и в трактовке темы предпочёл обойтись одними оливами. Есть ещё одно страшное полотно, созданное в Сен-Реми, продолжал Александр, спалённое молнией дерево, чёрные контуры ствола, так называемая «чёрно-красная гамма», «нуар-руж»… Дэниел ответил: да, но почему этими, с позволения сказать, садами теперь украшают стены психиатрических клиник, разве можно ими кого-то развеселить или утешить?..
Деревья стояли под своими розово-зелёными нимбами: то была всего лишь краска, затвердевшие её мазки, но мазками, взмахами кисти руководили лёгкие, скачкообразные движенья обоих глаз при внимательном разглядывании души предметов…
Эмилю Бернару, Сен-Реми, 26 ноября 1889 г.
Вот описание холста, который в эту минуту передо мной. Вид парка при лечебнице, где я нахожусь: справа – невзрачного тона терраса и боковая стена дома, несколько кустов полуотцветших роз, а слева – участок парка, красная охра, земля, выжженная солнцем и устланная опавшими сосновыми иглами. Эта парковая кромка засажена большими соснами, их стволы и сучья – красная охра, а кроны – зелёные, с редкой чёрной примесью-грустинкой. Эти высокие деревья выделяются на вечернем небе, жёлтом его фоне с фиолетовыми бороздами, но повыше желтизна переходит в розовую зелень. Дальний план загорожен стенкой, тоже красно-охристой, и поверх виднеется одна только макушка холма, фиолетового и жёлто-охристого. Ближняя к нам сосна имеет исполинский главный ствол, который, однако же, спалило молнией, и его пришлось отпилить. Впрочем, оставшийся боковой сук вздымается довольно высоко, ниспадая тёмной зеленохвойной лавиной. Этот угрюмый великан – подобно побеждённому гордецу – даёт перекличку, если продолжить сравнение с живыми существами, с бледной улыбкой последней розы на увядающем перед ним кусте…
Как ты понимаешь, это сочетание красной охры, зелени с грустной примесью серого, и чёрной обводки контуров само по себе вызывает ощущение той тоски, от которой часто страдают некоторые из моих здешних товарищей по несчастью, тоску эту называют «красным зрением»…[13]
Я пишу [об этом] затем, чтоб тебе напомнить: можно найти способ создать впечатление той самой мучительной тоски и без прямой оглядки на исторический Гефсиманский сад…
Дэниел задумался между тем о погибшей Энн Магуайр, которая, как и супруга голландского пастора Анна ваг Гог, назвала своего нового ребёнка, с которым связывала новую надежду, именем ребёнка умершего. (Впрочем, в случае Ван Гога имена Теодорус, Винсент, Винсент, Теодорус появлялись вновь и вновь из поколения в поколение, составляя культурную параллель к некоторым повторяющимся чертам семейной физиономии – массивному лбу, ярко-голубым глазам, выпирающим скулам, хрящеватому носу.) На кладбище при церкви в его последнем приходе ему попалась одна старинная английская семья, которая в 70-е годы XIX века трижды пыталась назвать сына Уолтером Корнелиусом Бриттаном и схоронила трёх сыновей под этим сложным именем – в возрасте пяти лет, трёх лет и одного месяца, – а в промежутках ещё и трёх дочерей, но уже с разными именами – Дженет, Мариан, Ева.
…В августе 1976 года автомобиль, за рулём которого находился боевик Ирландской республиканской армии, к этому мгновению, скорее всего, уже убитый английскими солдатами, вылетел на тротуар и задавил трёх детей миссис Магуайр – Джоанну восьми лет, Джона двух лет, Эндрю шести недель от роду, – в живых остался лишь семилетний Марк. Как всегда в подобных случаях, множество людей были буквально сражены количеством жертв в одной семье, равно как и бессмысленностью смерти! Сестра миссис Магуайр вместе с подругой основали фонд под названием «Мирные люди», о смелой первоначальной деятельности и грустном конце которого здесь говорить не стоит. Энн Магуайр перебралась в Новую Зеландию, где родила ещё одну Джоанну, однако вскоре, не выдержав пересадки на новую почву, вернулась в Англию. Хотя в газетах её полюбили называть «Мирной матерью», в работе фонда она фактически не участвовала. Она подала иск на денежную компенсацию в связи с гибелью детей и своими страданиями, редко высказывалась публично, первую предложенную ей сумму компенсации назвала «мизерной». В день слушаний по повторному иску Энн Магуайр была найдена мёртвой. Дэниел восстановил для себя суть происшедшего из сообщений по радио: «раны на горле… следов преступления не обнаружено» – да из газет, каждая давала свою версию орудия самоубийства: «большие садовые ножницы», «нож для разделки мяса», «электрический нож для разделки мяса, найден поблизости». Мотивы покойной, заключил следователь-коронер, «представляются не вполне ясными». Дэниелу, которого жизнь давно сделала знатоком злых ударов судьбы, подумалось, что неясного здесь не так уж много.
Он не стал молиться за Энн Магуайр. Не был он благостным священником.
Лишь яростно – но, увы, бессильно – воздел метафорический кулак, погрозил вражескому злому полю и продолжил работу, свою работу.
Вслед за Фредерикой и Александром он прошёл в сумеречный отдел выставки, где располагались Нижние земли, Нидерланды. Здесь подымались и одновременно спускались по холодновато-серой лестнице монахини в крылатых чепцах[14]. Пасмурно сиял Лорьерграхт, канал Лавров, в Амстердаме. «Вечер» Пита Мондриана[15] был облачно-мрачноват. Эти полотна пришлись Дэниелу по душе. У него были «северные мозги», как и у Винсента (хотя Дэниел не знал об этой мысли Винсента), – именно поэтому и биологически и духовно он отзывался на тона чёрные, коричневато-серые, вообще различные серые, на смутную белизну, проступающую во мраке. «…Одна из самых прекрасных вещей, что удались художникам в нашем веке, – это темнота, которая всё же является светом»[16], – писал Винсент из Голландии. Про работы Меллери, автора монахинь, в каталоге было сказано: «Они создают свет, который является в некотором роде отрицанием нашего непосредственного зрительного восприятия вещей; это скорее внутренний свет сознания, души». К такому языку Дэниел был привычен – если не каждодневная, то еженедельная словесная пища. Он прекрасно знал, что такое свет, сквозящий из темноты, и давно научился – по причинам, совершенно отличным от Александра, во всём ищущего точности понятий, – не доверять языку переносных смыслов. Он никогда не основывал своих проповедей на метафоре, не проводил отвлечённых аналогий; учил исключительно на жизненных примерах, живых поступках. Но тёмные эти голландские полотна ему понравились, с этими художниками он, если так можно выразиться, на одной длине волны.
Дэниел наконец отошёл в сторонку с Фредерикой.
– Ты сказала, у тебя есть новости об Уильяме.
– Да, получила от него открытку.
– Откуда на сей раз?
– Из Кении. Направляется, кажется, в Уганду, где голод.
– Хипповские штучки, – чуть поморщился Дэниел.
– Хочет кому-то помочь, принести пользу.
– Какая… может быть польза-то?.. От человека без медицинской… вообще без подготовки… Лишний рот в голодной стране. Что за нелепая причуда.
– Мне кажется, он порой помогает людям по-своему. Ты судишь его слишком строго.
– Он тоже меня судит. Судить других – это у нас семейная черта.
– Да уж.
– Однажды, – сказал Дэниел, – я был в больнице Чаринг-Кросс. У дочери одной моей прихожанки случилась передозировка, чаще всего их откачивают, дело прямо на конвейер поставлено, но эта девочка умерла, печень не выдержала… И вот, значит, иду я по этому бесконечному коридору, думаю, что же теперь с матерью-то делать… а мать винит во всём себя – и, кстати, не без оснований, – такая, знаешь, ведьма, из тех, что незаметно пьют энергию, в данном случае от этого только хуже… Иду я, а рядом со мной санитары толкают тележку с телом покойной девушки, лицо у неё закрыто простынёй, как положено… санитары в таких мягких музейных тапочках, шапочки у них вроде купальных… я чуть в сторону отступил, они какую-то дверь открывают… и вдруг один из них поворачивается ко мне, и что ты думаешь – на меня из-под этой дурацкой шапочки смотрит моё собственное изображение! В первый миг я даже глазам не поверил. А у него все волосы подпиханы под шапочку-то… с волосами он не очень на меня похож, а тут – полное портретное. «Добрый день, – говорит. – Ну что, ты, как обычно, у отца на побегушках?» Я его спрашиваю: «Ты-то здесь какими судьбами? Где был всё это время?» – «Скитался по земле и обошёл её всю»[17], – отвечает он мне. И начинает завозить тележку туда, в помещение. Я за ним, а мать покойной уже начинает вопить и стенать. Уильям мне и говорит: «Ну, я, пожалуй, пойду, это уже по твоей части». – «А что ты вообще делать собираешься?» – «Наверно, ещё по земле поскитаюсь». С тех пор я Уильяма и не видел…
В нескончаемом прохладном молчании монахини подымались по ступеням.
– Писание цитирует себе на потребу… – вздохнул Дэниел.
– А мне показалось, остроумно, – не согласилась Фредерика.
– А в открытке не было… про возвращение?
– Нет.
Иногда ей хотелось, чтобы Уильям ей вообще не писал, раз уж с Дэниелом связи не поддерживает. Но может быть, эти открытки или письма-каракули на тетрадных листках – и есть послания Дэниелу? С другой стороны, возражала она себе, никогда не следует пренебрегать очевидным толкованием в пользу чего-то подразумеваемого – эти чёртовы письма и открытки предназначены ей, Фредерике!
– Такие вот дела… – сказала Фредерика.
– Ладно, справимся, – сказал Дэниел. – Ну, я потопал. Ещё увидимся.
– Ты не посмотрел картины.
– Не то настроение.
– Мы собирались выпить кофе в «Фортнуме и Мейсоне»…[18]
– Сейчас нет, но всё равно спасибо.
1
Предродовое: декабрь 1953
(I)
Над входом в краснокирпичный корпус, золотыми буквами на лаково-лиловой вывеске: «Гинекология и акушерство». Внутри арки знак перста, первый из многих последующих, указует на большую табличку. «Предродовое отделение – первое направо». Под сводами арки темно.
Подъехав, она пристегнула велосипед цепью к высоким перилам. Она была на шестом месяце. Под тяжестью корзинки переднее крыло аж немного прогнулось. Из корзинки она достала верёвочную сумку, в которой был бумажный пакет с вязаньем, завёрнутая в пергаментную бумагу бутылка с лимонадом и две тяжёлые книги. Толкнула дверь и оказалась внутри.
Пол в центральном фойе выложен красновато-бурой плиткой, стены – чуть ли не до потолка – тоже в кафеле, цвета запёкшейся крови; окна же находятся гораздо выше глаза. Старшая медсестра, в ярчайше-синем медицинском халате и высоченном, точно башня, белом плоёном чепце, важно восседала за конторским столом. К ней стояла очередь из женщин. Двенадцать, тут же сосчитала Стефани. Взглянула на часы: ровно 10:30. Кажется, сегодня быстро не отделаешься. Она угнездила верёвочную сумку между ног на полу, достала книгу, подняла страницу к тусклому свету…
В распашную двустворчатую дверь вошла четырнадцатая женщина и, словом не обмолвившись с тринадцатью, обратилась напрямую к сестре:
– Моя фамилия Оуэн. Миссис Фрэнсис Оуэн. Мне назначено.
– Всем остальным тоже, – отвечала сестра.
– На десять тридцать, к доктору Каммингсу!
– Всем остальным тоже.
– А я вообще на десять пятнадцать, – послышался из очереди робкий голос, а может, и не один.
– Но ведь…
– Пожалуйста, встаньте в очередь, ждите спокойно.
– Я… – начала было миссис Оуэн, но сама уже пристроилась за Стефани.
Опустив книгу, Стефани принялась шёпотом объяснять:
– Люди записываются оптом. Некоторые сёстры не особенно толковые, всё перепутают, сложат в кучу записки, и последние у них оказываются первыми. Тут нужно тонко рассчитать, что́ выгоднее – явиться совсем рано или уже под конец. Лучше всего опередить всех. Попасть на девять тридцать. Правда, доктора тоже часто опаздывают.
– Я в первый раз.
– Ну, значит, быстро не получится, сестра станет всё подробно записывать в вашу карточку. А очередь мимо вас…
– Сколько же это займёт?
– Лучше не рассчитывать на определённое время.
– Понимаете, у меня…
Стефани читала Уильяма Вордсворта. Какое-то время назад она решила, что в этих очередях прочтёт все его стихи, медленно и вдумчиво. Но было три загвоздки: книга очень тяжёлая; на каждом этапе обследования всё меньше на тебе одежды, к поэзии не располагает; да и сосредоточиться всё труднее, болят ноги, беременная усталь не даёт понимать, заканчивать мысль, свою ли, Вордсворта ли, миссис ли Фрэнсис Оуэн. Которая пока что примолкла.
- Мой дух оделся странным сном…[19]
Книга легко открывалась на этом месте.
- И, страхов вовсе чужд людских…
Слова не столь уж необычные, лишь составлены вместе необычным образом. Но как узнаём мы эту необычность?.. Потихоньку перекантовывая верёвочную сумку своими удобными, без каблука, туфлями, она постепенно, в свой черёд, дошаркала до сестры. Та извлекла из левой стопки папку с надписью «Ортон, Стефани Джейн, ПДР 13.04.54» и переложила в другую, правую от себя стопку, после чего Стефани обрела возможность – ещё на полчаса – расположиться поблизости на стуле, трубчато-каркасно-металлическом, с коричневым брезентовым сиденьем.
- Её я видел существом
- Вне обращенья лет земных.
Ну да, конечно, вне. Стефани посмотрела на женщин. Шляпки, платки, громоздкие куртки и пальто, ноги с варикозными венами, сумки, корзинки, бутылочки…
- И, страхов вовсе чужд людских…
Прежде сердце у неё радостно подпрыгнуло бы от одного ритма этой строчки. Но теперь оно само бьётся не слишком ритмично, порою вяло. Внутри у неё, никому больше неведомый, порхает другой сердечный ритм, похоже, в унисон. Она погружалась в дремоту с открытыми глазами, уставленными в скудные оконца. «Погрязла в биологии… – произнесла она про себя, фраза показалась ей удачной, и она ещё раз повторила: – Именно, погрязла в биологии». Это не было жалобой. Биология – интересная штука. Ни за что бы раньше Стефани не подумала, что биологическое сжирает так много времени и внимания. Медленно повела глазами по строкам:
- Движенье, силу, зренье, слух
- Утратив, сделалась она…
Ну, движенья и силы в ней, напротив, заметно прибавилось, правда не её собственных… Её выкликнули по фамилии. Она тут же вышла в коридор с деятельной поспешностью, словно не знала прекрасно, что её просто пересаживают на другой стул, в следующую очередь, и что срочность этих окликов мало связана с чьим-либо – во всяком случае, с её собственным – приближением к минутам осмотра.
Сзади раздался голос миссис Оуэн:
– У меня ужасно разболелась спина…
– Это всё от стояния и от этих стульев, – отозвалась Стефани. – Хуже бы придумать стулья, да некуда…
В собственном голосе ей вдруг услышалась типичная нотка, с какой говорят жёны священников, выдавая очередную порцию бодрого, слегка фальшивого участия. Лучше бы так никогда не говорить! В церкви целый сонм неискренних голосов. Беседовать Стефани не хотелось. Очереди в предродовом отделении стали единственным прибежищем её частной жизни (если не считать ребёнка внутри, который шевелится, выгибается).
– Может быть, кого-нибудь позвать из персонала? – спросила Стефани.
– Нет-нет, не надо, – поспешно сказала миссис Оуэн, успевшая усвоить, что врачей с сёстрами нельзя донимать напрасно. – Ничего страшного.
Стефани вновь подняла к глазам тяжёлую книгу.
Собственно предродовое отделение – куда вход был через красный зев арки и узкую шейку фойе – было, как и всё родовое крыло, частью военного госпиталя, пристроенного к основному зданию наспех в начале Второй мировой, в расчёте на множество так сюда и не явившихся раненых солдат. Отделение имело временные внутренние перегородки и располагалось на одном первом этаже; по двум его длинным сторонам симметрично, как ножки буквы «Н», шли два коридора, переходы были с уклоном и выкрашены в ярко-голубой, но какой-то безотрадный цвет. Стефани и миссис Оуэн, не выпуская из рук своих медицинских карточек, а также бутылок с водой, вязанья, Вордсворта, повернули сначала налево, потом направо и там были встречены толстой медсестрой. Она поместила их бутылки на поднос, где уже стояли баночки джема в целлофановых рюшечках, флаконы с какими-то лекарствами, бутылка джина и плошка с кетчупом. Их провели затем в кабинки с горе-шторками, где полагалось полностью раздеться и облачиться в чистый банный халат. Халат, доставшийся Стефани, был жизнерадостно-пляжного вида, в оранжево-голубую полоску, напоминая расцветкой не то пижаму, не то палубный шезлонг. В длину доходил ей лишь до половины бедра, никак не желал сходиться на выпирающем животе, подпояска отсутствовала. К подобному бесправию Стефани привыкла, хоть и не до конца с ним смирилась. Вновь вооружилась Вордсвортом и верёвочной сумкой. Тем временем по соседству сурово отчитывали миссис Оуэн: зачем, мол, повернула налево и направо, а не направо и налево; коли она в первый раз, то ей не сюда, а в гематологию! Говорили с ней так, словно она из тех, кто не вникает, отворачивается от собеседника, – ребёнок-неслух, недееспособная старуха?
– У меня очень болит спина, – говорила миссис Оуэн. – Просто невмо…
Медленно, но верно её увлекли в гематологию.
В одном из углов этого выгороженного помещения находились весы, к которым выстроилась новая длинная очередь. И всего два стула на всех этих женщин – а их никак не меньше дюжины, причём на большинстве ни корсета, ни бандажа (одни казённые халаты).
На весовой площадке стояла женщина настолько огромная, с таким непомерным множеством свисающих и выступающих жировых холмиков, складок, что невозможно понять, где же у неё плод, высоко или низко, – живота не разглядеть. Медсёстры суетились вокруг, перекладывали грузики на коромысле весов, она же, как свойственно некоторым толстушкам, похохатывала. У неё был диабет, медикам впору забеспокоиться. Сёстрам импонировала её отвага да и сама серьёзность положения. Да, среди обилия всей этой плоти, различной плоти, Вордсворт воспринимался по-другому.
- Движенье, силу, зренье, слух
- Утратив, сделалась она…
Вордсворт был «человек, говорящий с людьми». Так он сам определил себя, своё звание поэта. Нужно будет докопаться до некоторых вещей, до технической их сути, понять, что это вообще за речь такая, поэзия, почему и как работает ритм, как подбираются существительные, как располагаются относительно друг друга. Только тогда и сможешь объяснить, отчего это под силу ему, Вордсворту, облекать мысль в слова с такой окончательностью, что ничьими другими словами её лучше не выразить, что в каждом слове живёт простая истина. Моё образование не успело ещё толком начаться… – так думала Стефани.
Воротилась миссис Оуэн: бледное, совершенно бескровное лицо над аккуратно запахнутым коротеньким халатом… И почему-то у неё по внутренней стороне ноги стекала струйка крови.
– Что это у вас, миссис Оуэн? – тут же спросила Стефани.
Миссис Оуэн склонилась – нелепо качнув высокой, тщательно уложенной причёской – к своей нагой худобе.
– Как неловко, какой ужас… Я их спрашивала… – затараторила она, – спрашивала, нет ли беды… у меня небольшое кровотечение… болит спина… но с медсестрой поговорить не получилось… кровотечение, правда, совсем малюсенькое…
Она сделала преуменьшительный, извиняющийся жест – и вдруг, коротко вскрикнув, повалилась навзничь. Из-под халата, словно каким-то толчком, разом вышло изрядное количество крови, растеклось по чистому кафелю пола.
– Сёстры, на помощь! – воззвала Стефани.
Почти мгновенно: слитный шум множества резиновых подошв по кафелю, тележка, груда полотенец, марлевых тампонов. Из матово-стеклянной клетушки за весами – доктор. Белую как мел, недвижную миссис Оуэн увезли на тележке за перегородку. Приглушённый гомон других беременных. Ещё ряд ног прошуршал по кафелю. Стефани между тем повели прочь и, совлёкши халат, усадили на высокое жёсткое сиденье под ажурным трикотажным одеяльцем. Но даже и здесь, знала Стефани, ожидание может быть долгим. Она осторожно оперла Вордсворта о твёрдый край живота.
- Движенье, силу, зренье, слух
- Утратив, сделалась она
- Камням, дубам причастна, в круг
- Земной диурны включена.
Описать всё земное, всё, что за сутки обращается вокруг земной оси, с помощью двух существительных, какую же надо иметь власть над словом. И как слитно они поданы ритмически, с ударением на созвучных окончаниях – камня́м, дуба́м. Вещь, названная отдельно, становится частью целого. Среди простых слов – одно затейливое, латинское, диурна.
Появился молодой врач. Пощупал её твёрдые, неподатливые бока своими сильными, но чуткими пальцами. Приткнув стетоскоп к чреву, послушал. В глаза Стефани не смотрел, по обыкновению этих врачей.
– Ну-с, миссис Ортон, как у нас дела?
Ответить она не сумела. Слёзы бежали из глаз ручьём.
– В ночной моче сахарок. Вы уверены, что взяли анализ с утра натощак? Миссис Ортон, да что такое с вами?
– Наша чёртова… английская… вежливость. Часами… часами… мы стоим… без бандажа… в холодном помещении на сквозняке. Эта женщина… эта… миссис Оуэн. Она потеряла ребёнка… я знаю… потому… потому что ей не позволили рассказать!.. Я сама не позволила… Здесь все такие…
– Прекратите истерику. Это плохо для ребёнка. Для вашего ребёнка.
Стефани продолжала всхлипывать.
– Всё равно почти наверняка она бы его потеряла, – сказал врач таким тоном, словно отдавал ей очко в некой игре.
– Но не таким же глупым образом.
Этот слегка необычный речевой оборот заставил его впервые, кажется, заинтересоваться. Он выпрямился, уставился в лицо. Во всё ещё всхлипывающее лицо.
– Почему это вас так особенно расстроило?
– Я её не слушала! Никто её не слушал. Мы только учили её стоять в очереди как паинька.
– В таком состоянии у любого человека должно хватить элементарной сообразительности нарушить очередь.
– Очень сомневаюсь. Очередь здесь главный закон. Как только ты сюда вошла, изволь занять за кем-то. Потом стоишь – часами, на ногах, без бандажа! Потому что многие записываются про запас, а стульев на всех беременных – две штуки. Заболит всё на свете. Здесь становишься другой. Я сама ей велела стоять, не думать. Врачей нельзя беспокоить, у них мало времени.
При упоминании времени он машинально взглянул на часы. Верно, в обрез. Стефани у него не впервые, один раз точно была. Смутно: блондинка, умеренно-округлые формы, настроение спокойное, жалоб нет… с книгой почему-то не расстаётся даже на приёме, кладёт себе на живот – в этом как будто есть что-то странное, неподобающее; хотя что здесь такого?..
– Ваш ребёнок, – сказал он, – чувствует себя прекрасно. Сердцебиение хорошее, отчётливое. Положение правильное. Всё идёт отлично. Избытка веса у вас нет, чувствуете себя хорошо. Перестаньте плакать. Это вам ни к чему. Беременность у некоторых мам ведёт к повышению тревожности. Для блага ребёнка лучше быть поспокойнее. Учтите, пожалуйста. Послушайте… если вы расстроены, поговорите с нашим соцработником, она опытный…
– Не хочу я ни с кем разговаривать. Я сама почти… соцработница. Без оплаты. У меня муж священник. Я просто пыталась немного отдохнуть. Читать Вордсворта, забыть про эту идиотскую очередь.
– Ну хорошо. Спускайте, пожалуйста, ноги…
Стефани подумала, не извиниться ли? Нет, не стану. Она не испытывала к нему злости; нетрудно вообразить, как это непросто для него: одна, вторая, третья, четвёртая… все одинаковые, все разные, какая-нибудь порой да и разрыдается, от страха, скуки, боли, отчаяния, унижения… Как он вообще может всё это принимать на себя, с частотой в десять минут, неисцелимое? Совсем молодой человек. Может докторски заглянуть ей зеркальцем во влагалище, но встречаясь глазами с её глазами – краснеет. И однако ж, она не стала просить прощения за свою вспышку, за слёзы. Мог, по крайней мере, несмотря на личную неприступность, обещать разобраться с недостаточным количеством стульев…
Тут она его, впрочем, сильно недооценила. Стулья он признал частью своей ответственности. В её следующий визит было шесть дополнительных стульев.
(II)
На открытом воздухе она снова, пускай и частично, почувствовала себя собой. По-деловому проворно, без апатии и уже без слезливости, взобралась на велосипед. Спину держа подчёркнуто прямо. Плоду или ребёночку велосипед, кажется, был по нраву; как только начинала жать на педали, дитя переставало ёрзать внутри, делалось – чувствовала она – вполне счастливо. Дороги вокруг Блесфорда, как и в стародавние времена, представляли собой деревенские просёлки, с глубокими канавами и нагими терновыми изгородями по бокам; и только-только стали появляться редкие самостоятельные домишки в один этаж, с их небольшими земельными участками, на концах совсем уж тоненьких капилляров-дорожек, отходивших от просёлка. Она вспомнила свою езду здесь же летом, как цвели по обочинам своими зонтиками бу́тени и пахло нагретой солнцем листвой, но собственного своего лёгкого телесного движения не припомнить. Придёт в упадок стройность девы, пишет доктор Спок, словно завзятый поэт. И конечно, Спок прав.
Стефани притормозила, чтоб разминуться со встречным ездоком, это был её собственный муж Дэниел, чёрный и увесистый, чуть лязгающий на ходу, оттого что цепь у него тёрлась о щиток. Они мирно покатили бок о бок, оба увесистые, сноровисто крутя педали.
– Как там дела?
– Нормально. Просто дольше обычного. А у тебя как день сложился?
Дэниел совершал обряд на похоронах.
– Не слишком весело. Старушки-товарки из дома престарелых. Дочка с тремя или четырьмя детками паровозиком. Сначала крематорий. Потом грусть-печаль, заупокойная молитва. Старые птички в кружок на пятачке зелёной травы на задворках, который им на пару часов выделили… посерёдке табличка, вроде садовой, воткнута в землю – «миссис Эдна Моррисон». Хризантемы рядками разложены. Того и гляди ветер унесёт этих старушенций. Но они собой довольны, пока ещё на своих ногах, в вечность не отчалили. Слава Богу, что потом не было чаепития. Дому престарелых откуда ж деньги взять. А дочке только поскорее с детьми убраться домой, в Сандерлэнд.
– У нас сегодня в очереди одна потеряла ребёнка. В отделении. Прямо на полу. Никто и охнуть не успел.
Вообще-то, она не собиралась сообщать Дэниелу о происшествии. Дэниел гораздо больше неё подвержен мыслям о гинекологических и биологических ужасах близящихся родов. Велосипед его, немного вильнув, снова пошёл ровно.
– Значит, это часто… бывает?
– Нет, конечно. Но у меня тяжёлое чувство. Она мне пыталась рассказать, как ей плохо, а я читала книжку…
Дэниел мрачно сдвинул свои густые чёрные брови.
Когда они вошли в свой маленький дом, он был пуст. Ощущение непривычное. Стефани поставила чайник, развела огонь. Дэниел нарезал хлеб для тостов, достал масло, мёд, чашки. Обхватил большими руками её толстое тело:
– Я тебя люблю.
– Знаю.
Они уселись рядом на коврике перед камином. Огонь разгорелся; Дэниел прислонил тостерную вилку к каминной решётке, и запах жареного хлеба начал мешаться со смутным запахом краски (крепко поселившимся в доме вследствие попыток сделать его более обжитым).
– А где же Маркус? – спросил Дэниел.
– В больнице, в своей очереди. Ездит на автобусе.
– Раз в неделю по полчаса у психиатра – никому ещё не было пользы от такого «лечения». Я так считаю. А что ему в самом деле надо, я бы, конечно, сказал…
– Дэниел, – Стефани положила руку на колено мужа, – не заводись, пожалуйста. Давай будем лучше с тобой пить чай.
– Ты не подумай, я не жалуюсь.
– Конечно нет.
Маркус Поттер, младший брат Стефани, жил вместе с ними, и его отъезда пока не предвиделось. Летом 1953 года у Маркуса случился нервный срыв, или кризис, который был вызван (по одной версии) или усугублён (по другой, более основательной) его странными отношениями с Лукасом Симмонсом, учителем биологии в школе Блесфорд-Райд (где преподавал отец Маркуса и Фредерики). В этом деле имелась некая религиозная подоплёка, вернее, блажь, а ещё – возможно – склонение к гомосексуальным отношениям. Решено было, что Маркус прервёт на один год занятия в школе, чтоб психологически восстановиться, и что ему не следует оставаться под одной крышей с отцом, человеком капризного нрава, к нему Маркус испытывает чрезвычайный, необъяснимый ужас. Никто, однако ж, не определил, чем Маркусу заполнять досуг. В результате он, судя по всему, ничего или почти ничего не делал, говорил по минимуму и всё с большей неохотой покидал дом и даже спальню. Не определили, и сколь долго пребывать ему на жительстве у сестры. Дэниел, по природе своей любивший деятельно искать и находить решения, изо всех сил старался сдержать свой порыв – хорошенько встряхнуть Маркуса, разъяснить ему губительность этой апатии. Время от времени в Дэниеле пробуждалась по отношению к Маркусу ярость, которую приходилось подавлять. Хватит того, что отец мальчика, Билл Поттер, отличается необузданностью характера.
Тут же Стефани увидела в окошко, как Маркус – словно призванный их разговорами и мыслями – возвращается домой. Испытывая какие-то странные, непонятные трудности. Шагнув было в садовую калитку, он тут же запятился, словно оттолкнуло его неведомым полем, встретило злым порывом ветра, который, впрочем, никак не отразился на ветвях деревьев и вечнозелёных кустарников в садиках перед соседними домами. Свои тонкие длинные руки он несёт перед собой чуть впереди, скрещёнными, как будто от чего-то себя оберегает. Голова, с тускло-соломенными волосами, в круглых очках, понурена. Вот он медленно, то ли пришаркивая ногами, то ли приплясывая, два шага вперёд, один шаг назад, протащился чуть ли не по самой кромке мощёной дорожки. Стефани захотелось защитить его; словно что-то угрожающее висело в воздухе. Дэниел заметил, как тень заботы легла на её лицо.
Какое-то время за дверью слышалось неясное звяканье – Маркус сражался с ключом. Дэниел легко победил желание встать и открыть дверь. Повернул вместо этого тосты. Маркус явился из-за двери, тревожный, насторожённый, точно слепой на мгновение пристывая пальцами к кромкам, поверхностям на пути через гостиную. Сюда-то, в гостиную, и вела входная дверь, но он почему-то оказался в замешательстве, увидев здесь сестру и её мужа.
– Чаю с тостом, Маркус, – предложила Стефани уже знакомым для себя тоном, которым недавно разговаривала с миссис Оуэн.
К этому тону, ей самой довольно неприятному, она тем не менее прибегала всё чаще. Разговоры с Маркусом становились односложными, что мало помогало успеху общения.
– Нет, – ответил Маркус блёкло и совсем уж только губами прошевелил: – Спасибо.
И начал медленно «красться» (так Дэниел называл в мыслях его походку) к ступеням лестницы, ведущей наверх, в его спальню.
Гостиная – тусклая, с маленькими окнами – была наполовину лишь обставлена и покрашена тоже наполовину. Кресла, маленький обеденный стол, старинный, хорошего красного дерева письменный стол Стефани – стояли на не покрытых ковром половицах, здесь и там забрызганных краской. Перед камином лежал большой ковёр, вязанный крючком из разноцветных тряпиц, в других частях комнаты была ещё парочка циновок из кокосового волокна. Стены оклеены обоями с узором крупных голубых роз в окружении сизоватых, с серебристыми прожилками листьев. Примерно половина стен была частично прогрунтована белой краской. У Дэниела не хватало времени – да, честно говоря, и воли – довести покраску стен до конца. Он давно приучил себя не замечать обстановки, в которой находится. Стефани попробовала красить самолично, но от паров краски её начинало тошнить, да и ребёнку, полагала она, это, наверное, вредно. Дэниелу, зоркому к вещам глубинным, истинным, невдомёк было, как раздражает Стефани неоконченность и неопрятность этого жилища. В том, что́ в жизни главное и не главное, она бы с ним большей частью согласилась, но этот хаос её попросту угнетал.
Перед тем как начать подниматься по лестнице, Маркус зыбко оглянулся назад. Потом, уже не таким бочком, пошёл вверх по ступеням; вскоре они услышали, как открылась и затворилась дверь спальни. И больше ни звука. Дэниел снял тост с вилки.
Верхняя тишина словно поселилась и внизу. Стефани смотрела на Дэниела, ей хотелось защитить его от Маркуса.
– Давай поговорим друг с другом, – сказала она. – Какие у тебя ещё были сегодня дела?
Ну, Поттеры, ну говорильщики, подумал Дэниел. Даже мирная Стефани. Слова помогают им справиться с жизнью. А его «дела» лучше оставить как они есть, не подкрашивать ни брюзжаньем, ни шуткой, не превращать в трепещущий рассказ. Уже описанные похороны. Потом двое пьяных бродяг. Очередное длинное внушение викария о том, что не следует вмешиваться в семейные раздоры прихожан. Он посмотрел на свою жену, золотисто-бледную, сложившую руки на животе. И молвил только:
– Хлеб.
И протянул ей в меру поджаренный, тёплый, пахучий, в золотистом масле, намазанный мерцающим мёдом – ломтик.
Погрязла в биологии, снова подумала она, вслушиваясь чутко, нет ли наверху шагов, стонов, вслушиваясь в мягкое шевеление у себя в животе, облизывая пальчики от масла. Фраза хорошая, всё объясняет, но Дэниелу лучше её не скажу…
Напрягая ухо к звукам наверху, Стефани услыхала другой звук, снаружи, – резкий тормоз велосипедных шин по гравию. То была Фредерика. Вбежала, нет – влетела она, рухнув картинно на колени перед камином, рядом с сестрой. Вскричала: «Смотри!»
В руках у неё – два светло-коричневых бумажных свитка, уклеенных белыми полосками.
ПРЕДЛАГАЕМ СТИПЕНДИЮ МЕНЬШИНСТВ[20] ТЧК НЬЮНЭМ ТЧК ДИРЕКТОР ТЧК
ПРЕДЛАГАЕМ СТИПЕНДИЮ СОМЕРВИЛЛ ТЧК ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЧК ДИРЕКТОР ТЧК
– Ну вот видишь, – сказала Стефани. – Всё у тебя получилось.
В 1948 году она получила такие же телеграммы, почти слово в слово. Что она тогда почувствовала?.. Почувствовала, что с души спало, хотя бы ненадолго, бремя отцовских неумолимых ожиданий?.. Какой тяжкой была эта ноша, она поняла, лишь когда ноша исчезла. Настоящая же радость появилась потом, а гордость и довольство собой пришли ещё позднее, накануне отъезда из родительского дома… Стефани протянула телеграммы Дэниелу.
– Значит, это удача? – спросил Дэниел, не вполне разумея значимость той или иной стипендии. – Вроде бы чин чином предлагают.
– Выиграла, ура, я выиграла! – ликующе завопила Фредерика. – В Оксфорде я вообще устный держала, одна перед всеми преподавателями в парадных облачениях и мантиях на меху! Я стояла у доски, шуровала мелом, объясняла про английские и латинские слова у Мильтона. Ни разу в жизни не говорила я так много, они меня слушали, увлечённо слушали! Про что я там только не ввернула – про «Британика», про «Разбитое сердце», про «Генриха Восьмого» и «Зимнюю сказку»…[21] про женские окончания строк. И они говорят, продолжайте, продолжайте, очень интересно… и я выдала им про речь Сатаны к Еве в райском саду…[22] я сама была как в раю… славный, упоительный миг!
Стефани кивала, слушая этот отчёт; Дэниел за нею наблюдал. Какие-то события её прошлой жизни известны ему лишь как факт, без настоящих подробностей. Однажды она тоже получила такие же телеграммы; но вот кричала ли в таком же непритворном восторге про славный, упоительный миг, он не знал, тут у него закрадывалось сомнение. Учительствовать, скорее всего, она продолжит, это сродни его пасторскому порыву – заботиться, помогать, – в этом она с ним едина. В их домике раньше нередко гостями бывали неприкаянные школьники, которым нужно доброе наставление, человеческое тепло. Раньше – до того, как здесь поселился Маркус и распугал их всех своим невидящим, но таким упорным взглядом. Дэниел ждал теперь, что Стефани вспомнит про свой устный экзамен в Оксфорде, заполнит ему белое пятно, но Стефани молчала. Зато Фредерика, словно отзываясь на его мысли, сообщила:
– Они все тебя вспомнили, Стеф. Преподаватели в Ньюнэме спросили, чем ты сейчас занимаешься. И в Сомервилле тоже тебя помнят. В Ньюнэме одна тётка сказала, что всегда надеялась, что ты вернёшься за докторской степенью. Ну, я ей, конечно, объяснила, ты вся в домашних заботах, ждёшь ребёнка, и всё такое прочее. А она – да, мол, сейчас очень многие хорошие студентки выбирают в жизни этот путь…
– А тебе ведь тоже дорога в Ньюнэм… – определила Стефани.
– Да. Несмотря на чудесный устный в Оксфорде. Как ты догадалась?
– Что ж здесь трудного. Такова воля батюшки.
– Вообще-то, я могла взбунтоваться.
– Могла. Но у тебя скорее кембриджская голова. Высокие моральные принципы врощены в тебя с детства. Так что прощай оксфордское краснобайство, филологические разговорчики.
– Они сказали, что ждут меня в Оксфорде через три года – писать докторскую диссертацию. Представляешь? Спросили, про кого я хотела бы написать. Я говорю, про Джона Форда. Это был мучительный момент. Они как заржут, до самого конца собеседования не могли остановиться. Кстати, до сих пор не пойму, что здесь смешного. Ну да не суть. Я сдала, сдала вступительные! Стипендия у меня в кармане!
– Мы это уже поняли, – сказал Дэниел.
– Ладно, не буду вам надоедать. Я не нарочно, просто не могу остановиться… Я заговорила всех девушек за утренним кофе, битых полчаса толковала им про китайскую вазу из «Квартетов» Элиота, как она постоянно движется в своей неподвижности. Это было ужасно забавно: вижу, что они думают, когда же ты, чёрт побери, заткнёшься?! Но ничего не могу с собой поделать. Прости меня, Дэниел. Мне нужно выпустить пар. До меня только сейчас доходит, постепенно. Получается, я могу теперь ехать на все четыре стороны? Подальше от дома, от них? Свобода!
– Как они там вообще? – спросила Стефани.
– Плоховато. Всё никак не могут оправиться после Маркуса, после всей этой истории. Это как будто разрушило их представление о себе как о хороших родителях. Хороших, несмотря ни на что. И образ дома, Дома с большой буквы, у них в голове поломался. Отец часами сидит без дела, что-то себе под нос бормочет, а мать тоже ушла в себя – не начинает первая разговор, ни о чём таком не спрашивает… казалось бы, я у них осталась последний ребёнок, им впору волноваться, у меня экзамены и всё такое… может, они и беспокоятся, но выражают это как-то странно. Отец как будто себя нарочно взвинтил по поводу экзаменов – завалил мне весь стол всякими вторичными источниками… ну не готова я пока читать всякую литературную критику, нет у меня на неё времени… думаю, почти уверена, что он не душит своих умненьких мальчиков в школе этими статьями да книжками. Моя подготовка – это моя собственная подготовка, мои мысли – мои мысли, пусть бы оставил меня в покое!.. Как пришли все эти телеграммы, я побежала вниз, открыла дверь почтальону и сразу показала их матери. Она начала было за здравие: «Как чудесно, моя дорогая, у тебя сегодня праздник». А потом вдруг давай рыдать и заперлась у себя в комнате. Не очень-то празднично. Но теперь я ведь могу уехать? Могу, да?
Повисло молчание.
– А как там Маркус?
Дэниел и Стефани молча, разом показали на потолок.
– Ему там пришла куча писем. Вернее, три штуки. От того человека. Отец разрезает их на тонкие полоски – опасной бритвой, я сама видела, – а потом сжигает. Он звонил в больницу, орал по телефону как припадочный… наверное, во всех окрестных домах было слышно: «Сделайте так, чтобы тот человек никогда не слал больше писем!» Я уже думаю, может быть, таинственному психиатру в больнице поработать заодно и с ним?..
– А мама как?
– Я же говорю, из комнаты редко выходит. Правда, поручила мне узнать у вас по поводу Рождества, как встречать будем?
– Могла бы сама зайти поговорить, – заметил Дэниел.
– Разучилась она наносить нам визиты, – сказала Стефани.
В первое время после помещения – для покоя ли, для спокойного ли течения болезни? – Маркуса в семью дочери Уинифред заглядывала постоянно; Билл не приходил, отчасти потому, что «Маркуса не велели беспокоить», отчасти же оттого, что ему глубоко претили – Дэниел, англиканская церковь, христианство, обступившие Стефани стеной, заточившие в плен её талант. Его либерально-атеистическое отношение ко всем этим вещам окрасилось в тона, больше напоминавшие религиозный фанатизм семнадцатого века, чем терпимость агностика. В некотором смысле Стефани была для него потеряна так же, как и Маркус.
Уинифред в свои визиты сиживала в этой гостиной на софе, рядом с Маркусом, который старался отодвинуться от матери подальше, и, словно пародийно исполняя обет неведомого религиозного послушания, подражала его коротким ответам и долгим молчаниям, в результате чего и сама усвоила подобную манеру общения. «Нет ему от меня пользы», – сказала она дочери в конце концов. «Кто это определил?» – спросила Стефани. «Я», – отвечала Уинифред.
Уинифред в чём-то походила на Маркуса. Или Маркус походил на неё. Дух поражения успешно сообщается, передаётся от одного человека к другому. В отличие от эйфории, подумала Стефани, глядя на Фредерику. Странно, что упоением, торжеством – не заразишь. Когда-нибудь Фредерика это поймёт; пока же она всё никак не налюбуется на свои телеграммы, разглаживает, складывает.
– К Рождеству ведь ещё приедет моя мама, – сказал Дэниел воодушевлённо, с некоторым напором. – Отпразднуем в лучшем виде.
2
Дела домашние
Начала, концы, фазы, сроки… Моя личная жизнь, думала Стефани, в этой фазе перестанет быть интимной; ей не приходило в голову, что интимность, быть может, покинула её навсегда. Её знание о мире, интеллектуальное и биологическое, знание молодой женщины с молодым телом, сопряжено было с циклами – менструальными, семейными, учебными; со сроками смены плоти и крови; с временем обрядов и экзаменов. Беременность была одним из жизненных отрезков, который имеет начало и конец, но сам составлен из частей.
В декабре подошло к концу её учительство в Блесфордской женской школе. На последнем актовом собрании (где Фредерика, как некогда и сама Стефани, получила Приз попечителей за отличные успехи в учёбе) Стефани вручили памятные подарки от коллег и учениц. Выйдя с мрачновато-серьёзным видом к сцене, Фредерика стала обладательницей двух солидных оксфордских справочников, по английской и по классической литературе. Подарки Стефани отличались многообразием и полезностью: электрическая заварная машинка с будильником, набор огнеупорных стеклянных лотков «Пайрекс» с подогревом, а также вручную изготовленный, от седьмого и восьмого классов, комплект приданого для новорождённого (крошечные вышитые фланелевые ночные сорочки, вязанные крючком поярковые распашонки, вязаные чепчики и ботиночки, миленькие пушистые одеялки, игрушечная овечка с чёрными стежками глаз и слегка изогнутой шеей, свисающая на алой ленте). Директриса произнесла длинную и совершенно правдивую речь о том, как школе будет не хватать Стефани, и коротенькую речь о выдающемся и прекрасном будущем Фредерики. Затем все хором запели гимн «Господи, благослови нас…». У Стефани слёзы навернулись на глаза, не от любви к школе, а от осознания завершения некоего жизненного этапа.
Выводя в последний раз (официально!) велосипед со школьного двора, она увидела идущую впереди – обходящую до сих пор не заделанную воронку от бомбы – изрядно навьюченную Фредерику. Кроме портфеля, у младшей сестры какой-то большой свёрток, два мешочка с обувью, бумажный пакет с ручками.
– Эй, не хочешь загрузить что-нибудь ко мне на борт? – окликнула её Стефани.
Фредерика, подпрыгнув от неожиданности, поворотилась. Волосы Фредерики уже разметались по плечам вольно и запретно, хотя кое-где и хранили следы тугих школьных лент.
– Не стоит тебе ездить на велике. Наделаешь ещё беды себе и своему потомству.
– Чушь. Мы очень степенны и прекрасно умеем держать равновесие. Давай-ка сюда пакет.
Некоторое время шли рядом молча.
– А ты вообще куда, Фредерика?
– В Ним. Это такой город.
– Что-что?
– Директриса нашла для меня местечко. «Французская семья ищет помощницу по хозяйству, благовоспитанную английскую девушку-гувернантку к своим дочерям». Так что после Рождества только вы меня и видели. Хорошо, что надо будет говорить по-французски. Хорошо, что можно улизнуть отсюда. Насчёт дочек пока не знаю.
– Я, собственно, спрашивала, куда ты направляешься сейчас.
– Да так, хочу исполнить один обряд. Тебе он может прийтись не по нраву. Но если хочешь, можешь поучаствовать. Если, конечно, не свалишься с велика.
– Что за обряд?
– Вроде искупительной жертвы. В жертву будут принесены некие атрибуты. – Фредерика распахнула свой непромокаемый плащ: на ней был чёрный в облипку свитер, длинный, подпоясанный широким эластичным поясом, и длинная серая юбка-карандаш. – Атрибуты отправятся на дно Блесфордского канала. Ты пойдёшь со мной?
– Что ты хочешь выбросить?
– Я же говорю, атрибуты. Женской школы. Блузку, галстук, берет, юбку, длинные носки, спортивную форму. Жалко, плащ нельзя. Он у меня единственный. Для надёжности я утяжелила свёрток…
– И чем же? – подозрительно спросила Стефани, опасаясь за судьбу двух оксфордских справочников по литературе.
– Камнями, идиотка. Книжки топить я никогда б не стала. Как ты могла подумать.
– Топить тёплую хорошую одежду… это ужасно небережливо. Какая-нибудь бедная девочка…
– Я же говорила, не хочешь – не участвуй. Особенно если ты уже с головы до пят превратилась в жёнушку священника. Как можно добровольно взять на себя эту роль, я вообще не понимаю. Вот скажи, Стеф, тебе нужна была эта уродливая электрическая заварная машинка, ты о ней мечтала? Неужто ты и правда хочешь спасти этот ужасный школьный наряд, символ косности и убожества? Чтоб Дэниел отдал какой-нибудь бродяжке? Даже и слушать противно. Пойдём, поможешь. Это делается один раз.
В Блесфордском канале не было ровным счётом ничего примечательного. Он изрядно подзарос тиной и с каждым годом зарастал пуще. В тёмных водах его жили странные растения, которые поводили тонкими длинными чёрными листами, точно щупальцами из сажи. На поверхности кое-где цвела тускловатая ряска. Берега, сложенные из шатких, щербатых кирпичей, во многих местах осыпались в воду. Случалось, в этом канале тонул какой-нибудь маленький мальчик. Сёстры взошли на узкий мост, в окрестностях которого также не имелось ничего занятного, если не считать газового резервуара да замусоленного рекламного щита табачных изделий «Кэпстан». Стефани прислонила велосипед к парапету. Фредерика взгромоздила бумажный куль на перила.
– Обряд простой. Никаких высоких слов, никаких особых ритуальных танцев. Я взрослая женщина. Но я хочу, чтоб хотя бы одна живая душа услышала, что всё это – вся эта гимназическая фанаберия с самого начала и до самого конца была для меня обузой, и ничем, кроме обузы! Я ни капли не жалею, что покидаю эту гимназию, и никогда – слышите, никогда! – не переступлю больше её порога, не будь я Фредерика Поттер! Никогда больше я не буду жить коллективной жизнью. Не буду принадлежать к никакой артели. Только самой себе! Ты мне пособишь?..
Стефани подумала про славное, мягонькое и, в общем-то, так тщательно изготовленное приданое для младенца. Вспомнила Фелисити Уэллс, заместительницу директрисы, горячую поклонницу стихов Джорджа Герберта[23] и англокатоличества[24], как она всю жизнь посвятила тому, чтобы искушать девочек этого мокрого и грязного городка вещами прекрасными и высокими. Подумала о Джоне Китсе, который жил в лондонском районе Хэмпстед, а скончался в Риме, читают же его и в Кембридже, и здесь, в Блесфордской женской школе. Подумала о почерневшем красном кирпиче школьного здания, о меловой пыли, о металлических рундучках с обувью, о высоких холщовых сапожках на шнуровке, для игры в девичий хоккей на траве, заляпанных грязью, о запахе всего того, чем пахнет девичий класс…
– Эх, ладно, давай.
– Вот и отлично. Раз-два-три, готово. За борт!
Свёрток тяжело плюхнулся в воду, вздохнул – и ушёл ко дну, оставив за собой густую, словно склеенную, цепочку ленивых пузырьков.
– Что ещё положено делать во время этой службы? – чуть богохульственно осведомилась Стефани.
– Ничего. Я же тебе сказала. Это просто мой личный поступок, и значит он только то, что значит. А теперь… ты не могла бы меня угостить чаем… если я зайду сейчас к вам в гости? Ну пожалуйста. Что-то мне домой пока не хочется, хочется не очень.
Наконец приехала мать Дэниела. Её уже и не ждали – так долго, в течение многих месяцев, откладывала она свой приезд.
Из муниципальной квартиры, в своё время выбранной Дэниелом в качестве жилья, они переехали в этот частично отремонтированный, маленький и простенький двухэтажный коттедж, затем чтобы она тоже смогла с ними разместиться (как только вполне оправится от падения и перелома шейки бедра). Третью маленькую спальню они отремонтировали и подготовили для неё прежде своей собственной, наклеили обои с узором в виде веточек, а обстановку Дэниел доставил из покинутого дома в Шеффилде – и пузатое кресло, и туалетный столик со стеклянной крышкой, и настольную лампу с бахромой, и атласное покрывало… Навестив мать в больнице, Дэниел сделался насупленно-молчалив, Стефани, конечно, заметила это, но спрашивать ни о чём не стала. Дэниел в конце концов обмолвился, что, скорее всего, привёз не самые правильные вещи из старой обстановки, разве что туалетный столик хорош, сам по себе довольно уникальный. Пятьдесят процентов вероятности, что мать объявит: слишком много всего для маленькой комнатки, человеку негде дышать. Впрочем, такие речи слыхивал он и прежде.
В день приезда свекрови Стефани поднялась наверх и поставила на туалетный столик цветы – цикламен в горшочке, почти коричневый в своей тёмно-красной лиловости, и ещё букет астр – фиолетовых, вишнёво-розовых, розовых, как губа раковины, – в хрустальной вазе (ваза была некогда подарена им на свадьбу). Храбрые, изящные цветы. Когда Дэниел уже отправился на станцию встречать мать, Стефани вдруг вспомнила, что лампа вроде бы довольно неприятно мигает. Ещё раз проверила – да, так и есть. Спустилась вниз за отвёрткой и запасным предохранителем. Отметила, что подъёмы по лестнице стали для неё утомительны. Согнулась над лампой, меняя плавкий предохранитель, а в это время ручка или ножка, твёрденькая, толкнулась под кожей пониже рёбер. Послышались звуки у входа, она хотела вскочить и поспешить вниз, но не смогла из-за этих внутренних буйств. А ведь собиралась открыть дверь, встретить приветливо.
Голос свекрови проник под своды гостиной, негромкий, унывный, но бесперебойный и на удивление хорошо разносившийся:
– …ещё раз когда-нибудь куда-нибудь поехала на поезде Британских железных дорог. Прежде пусть вынесут меня отсюда вперёд ногами…
Стефани сошла вниз. Миссис Ортон уже расположилась, расстегнув пальто, в кресле Дэниела, как горка пухлых подушек. Её одежда, лицо, руки, полные ноги в глянцевитых чулках составляли множество разных оттенков того цвета, который Фредерика позже научилась от неё называть «грустненько-лиловеньким», этот цвет не напоминал – но почему-то диким образом напоминал! – невинные яркие астры и цикламен, а в воображении Стефани он ассоциировался с кровоизлияниями на теле. На миссис Ортон была литая овальная фетровая шляпа, с подчёркнуто лихим заломом на макушке. Из-под этой шляпы выбивались многочисленные овечьи кудельки, серо-стальные, с сиреневатым отливом, который, возможно, происходил от близкого соседства с изобилием сверкающего искусственного, в лиловых цветочных узорах, шёлка её наряда. Стефани, задев ребёнком о ручку кресла, склонилась и поцеловала круглый, как яблочко, и оттого какой-то отдельный, алый румянец щеки.
– Может быть, выпьете чаю с дороги?
– Спасибо, душечка, не надо. Я как раз вот рассказывала нашему Дэниелу, каким пакостным чаем – словно и не чаем вовсе – нынче на железной дороге пытаются людей потчевать. Не полез он в меня, ну никак. Так что от чая покуда воздержусь. Надеюсь, ты не вздумала никакую такую еду особенную для меня готовить, я ведь теперь и не ем почитай что ничего, после больницы-то, какой может быть аппетит после еды-то тамошней: не тощая добрая говядина у них, а всё субпродукт, жирные куски подсердечника, салаты с половинкой яйца, а яйца-то старые, двухнедельные, ещё положат на край тарелки листок-другой салата отдельно да варёной свёклы ломтик – такое не только что сварить в желудке не под силу, но и проглотить! А что, у нас многие и не прикасались к их еде-то. На завтрак, бывало, дадут яйцо, редко когда оно свежее, чаще прямо от какой-то курицы подземной адовой, не яйцо, а вонь в скорлупке, но разве ж уговоришь сестру-хозяйку понюхать да другое взамен принести? Даже не знаю, что бы я и делала, когда б не старушка на соседней кровати, у ней дочка в Йорке на шоколадном производстве работает, и у них там тоже брак всякий приключается. Ну так вот, она чего сама не осилит съесть-то… а она, странное дело, хоть на шоколаде служит на этом, не любит всякую такую сладость, ей солёненького хочется, за арахисными орешками солёными то и дело бегает в лавку «Смит»… и носит она шоколадные отходы к матери в больницу, целые такие пакеты. Ну, мать-то старушка её тоже не очень могла шоколады есть, у неё и так было высокое сахарное содержание, мне вот и перепадало, от этих шоколадных щедрот. Да, хорошо мне жилось, до самой её, старушки, можно сказать, кончины, а кончина её две недели как произошла… И ведь когда Дэниел меня проведать-то явился в колоратке своей, в собачьем ошейнике, то все и подумали, что я тоже скоро концы отдам… в больнице ошейник собачий просто так к тебе не жалует, кроме как для соборования…
Через полчаса, избавившись наконец от пальто и шляпы, сложив значительную часть привезённых вещей стопкой у кровати Стефани (в её собственную спальню они никак не помещались), она сказала:
– А нельзя ли, душечка, у вас где-то попить хорошего чайку?
Лишь через некоторое время Стефани осознала: миссис Ортон всегда отказывается от любого угощения в тот момент, когда оно предложено. Почему она это делала – из превратного ли представления о воспитанности, из строптивости ли, – Стефани так толком и не поняла.
Когда спустя пару часов явился к ужину Маркус, свекровь по-прежнему беседовала – со Стефани, которая то входила на кухню, то выходила (готовя мясо, подливку, овощи, накрывая на стол), и с сыном, который время от времени осторожно перемещал свой вес на кухонном стуле и всё более мрачнел, наморщивал лоб. За всё это время она не сказала ни слова ни о Дэниеле, ни о Стефани, ни о будущем их ребёнке; её разговор был – таковым, в общем-то, останется он и впредь – исключительно, до забвения самой себя, описательным. Стефани узнала страшно много: о железнодорожной поездке, о стоянке в Дарлингтоне, о распорядке Шеффилдской городской больницы, о двух или трёх больничных подругах, дорогих миссис Ортон до пристального умопомрачения, и ещё о полудюжине более отдалённых знакомых, описанных схематично, несколькими штрихами. Что же представляет собой сама миссис Ортон, понять оказалось крайне сложно. На Стефани навалилась страшная усталость…
Всего-то разок-другой – день выпал не слишком тяжёлый – попятившись-откачнувшись от им же самим открываемой двери, Маркус, по обыкновению, проворно вступил в гостиную. И застыл в дверях, перед огромным и несомненным фактом присутствия матери Дэниела.
– А этот молодой человек кто таков будет? – осведомилась она.
– Мой брат Маркус. Он живёт с нами, – объяснила Стефани.
Маркус воззрился на миссис Ортон с идиотическим видом.
– Это мать Дэниела, Маркус. Она теперь тоже будет с нами жить.
Ни Маркус, ни миссис Ортон не говорили друг другу ни слова. Дэниел подумал: кажется, ни один из них до этого мгновения не удосужился осознать, что теперь они под одной крышей (хотя и той и другому всё было заранее тщательным образом объяснено). Стефани поставила на стол еду: ростбиф, йоркширский пудинг, жареный картофель, цветную капусту. Хорошее мясо оказалось страшно дорогим. (Стефани и Дэниел старались питаться по средствам: сельдь, говяжьи голяшки, ньокки, пирог с луком.) Миссис Ортон, туго втиснувшись в кресло Дэниела, пытливо наблюдала за каждым движением невестки. Маркус причудливо скрутил руки. Миссис Ортон наконец удостоила его вниманием:
– Молодой человек, не суетись.
Он поспешно сунул руки в карманы и, склонив голову, окольно пробрался к своему месту за столом.
Дэниел стал нарезать ростбиф, звенящим голосом выражая восторг от столь редкого мяса. Миссис Ортон не сказала ничего. От своих кусочков она отреза́ла боковую коричневую кромку и поедала, на краю тарелки росла горка красных, израненных говяжьих серединок. Жевала равномерно и громко. Маркус поперхнулся и отодвинул почти не тронутое блюдо. Миссис Ортон принялась рассказывать Стефани, как в их-то время пекли такие правильные большие йоркширские пирожки, коричневые, и подавали отдельно, не жалея к ним подливы, чтоб мяса-то есть поменьше, мясо – оно дорогое, в те дни приходилось скряжничать… Не отказалась ещё от одной порции мяса и ещё от одной, только попросила сына отрезать ей от краешков, мол, от кровяного-то ростбифа у неё всегда тошнота и рвота, у всех ведь вкусы разные или нет? Тут же выговорила Маркусу:
– Гляжу, ничегошеньки ты не ешь, дружок такой-сякой. И вид у тебя болезный, подкрепиться б не мешало. – Она громко засмеялась. – Ну-ка, жуй да глотай.
Маркус, побледнев, уставился в тарелку.
– Я смотрю, какой-то он у вас неразговорчивый. Мы вот в детстве не знали фокусничать, перед нами поставят, мы носа не отворачиваем. А чем ты вообще, молодой человек, в жизни занимаешься?
Маркус молча потыкал вилкой в скатерть. Стефани объяснила свекрови, что брат был серьёзно болен, а теперь выздоравливает. (Собственно, всё это сообщено было ещё в Шеффилде Дэниелом.) Тут миссис Ортон вдруг проявила к Маркусу невиданный интерес, которого ни Дэниел, ни Стефани не удостоились, сразу же задала ему несколько резких вопросов: в чём же болезнь и как его лечат? Маркус не отвечал. Миссис Ортон начала высказывать разные предположения, почему тот молчит, и всё более возбуждённо обсуждать его нездоровье с Дэниелом и Стефани, как будто самого Маркуса рядом и не было. Дэниел подумал: в каком-то смысле это и есть состояние, к которому, возможно, стремится Маркус, – присутствовать и одновременно отсутствовать, быть вроде вещи, непринимаемой в расчёт. В последующие дни миссис Ортон довела свойский разговор о Маркусе (при Маркусе) до неприличного, бесцеремонного совершенства.
Поздним вечером, по пути в спальню, Стефани споткнулась о цикламен, выставленный на лестничную площадку. Тяжело рухнула, разом замызгав ночную рубашку землёй, глиняными чешуйками горшка, тёмными потёками воды из-под разлетевшихся астр. Дэниел так и застал её – на четвереньках, по лицу текут слёзы. За дверями комнат все замерли, слушают чутко?.. Дэниел, недолго думая, обхватил её рукой за огромную талию, молча поставил на ноги и потянул в спальню. Стефани упиралась – гневно и немо указывая на воду, грязь, лепестки на линолеумном полу. Дрожала, плакала беззвучно.
– Ну, милая, ну не надо… – приговаривал он, а сам уже искал у неё в комоде чистую ночную рубашку.
– Ты перепутаешь все мои вещи!
– Ладно тебе. Когда я вообще лазил в твои вещи.
Он осторожно потащил её испятнанную рубашку вверх, через покорные плечи, через голову, и на мгновение она осталась нагой: налитые груди, странно приподнятый пупок; руки же и ноги – хрупкие и невещественные по отношению к весомой середине. Дэниел тихонько погладил её по спине и одел в новую рубашку, она продолжала плакать. Хрипло прошептал:
– Ложись в постель. Милая, ну пожалуйста!..
– Мне нужно там прибраться. Я же просто хотела встретить её цветами, порадовать. Даже оттенки правильно подобрала, чтоб сочетались…
– Послушай… – сказал он. – Это не то, что ты подумала. Ей понравилось! Но понимаешь, она считает, что цветы выделяют углекислый газ – вообще-то, так оно и есть, – поэтому, мол, на ночь их нужно выставлять. Она всегда так делает. С тех пор, как в больнице, когда папа умирал, нянечки цветы из палаты на ночь выкатывали. Цветочные подставки на колёсиках. Она это переняла.
– Ну зачем же так далеко выставила, прямо под ноги? – спросила Стефани с детской обидой.
– Она не нарочно. Устала, спина у неё плохо гнётся. Все мы устали, каждый по-своему. Ты ложись, а я там приберусь.
Стефани легла, накрылась одеялом. Прислушалась. Заметает в совок… прошёл по коридору на цыпочках к задней двери, вышел… Наверняка прикапывает клубень цикламена. Исправный, аккуратный Дэниел… Вот тихонько поднимается обратно по лестнице на второй этаж, тихо звякнул блюдцем из-под цикламена о хрустальную вазу… Когда он наконец тоже улёгся в постель, они прильнули друг к другу, чистые, холодные, прильнули молча, ведь даже эти тихие копошения будут услышаны. Мышцы её медленно, понемногу расслабились, и ребёнок тут же начал выгибаться и сновать как дельфинчик. День и ночь он различает, но активнее почему-то ночью… Дэниел, при всём неистовом обожании тела жены, даже и брюхатого, не был мужчиной, который способен проникнуться любопытством к невидимой пока маленькой жизни. Чем сильнее вертелся ребёнок, тем дальше отодвигался Дэниел. Даже в постели нельзя быть только вдвоём… А вот Вордсворт, подумала она, уже погружаясь в сон, а вот Вордсворт… ещё одна неоконченная, лишь чреватая чем-то фраза… Ей снилось, как ещё не один раз будет сниться, будто ребёночек выбрался на свет прежде времени, как зародыш кенгуру, и, беленький, слепенький, маленький, карабкается вверх по колышущимся складкам лилового жабо миссис Ортон, а та всё говорит, говорит, шевелит своими брыжами, так что того и гляди в какой-нибудь складке зародыш завязнет, нечаянно задохнётся…
Маркус посматривал на психиатра, психиатр посматривал на Маркуса. Фамилия психиатра была Ройс, он был, как время от времени вспоминалось Маркусу, среднего роста, с волосами умеренно-коричневого цвета и с умеренно-высоким тенористым голосом (впрочем, раздавался этот голос нечасто). Иногда он виделся Маркусу в очках, а иногда с голым, без очков, лицом. Его кабинет, располагавшийся в ряду множества таких же одинаковых в больнице общего профиля в Калверли, был в умеренно-коричневых и умеренно-серых тонах, с зеленоватыми стенами. Там стояла коричневая кожистая кушетка, два стула, тоже кожистых, на металлическом каркасе, дубовый стол. Ещё был шкаф для документов и шкаф-гардероб, оба металлические, серо-голубого военно-морского цвета. На стене над столом – репродукция картины Мунка «Крик». На другой стене – потрёпанный календарь с цветными репродукциями великих полотен, в этом месяце выставлявший яблоки Сезанна на клетчатой скатерти. На окошке – жалюзи, чаще всего опущенные, но со светом сквозь ребра пластинок. Жалюзи загораживали вид на трубы водопровода, пожарный выход, кусок чёрного от сажи кирпичного дворового колодца… Маркус не лежал на кушетке. Он сидел на стуле напротив стола, но взгляд его редко касался психиатра, гораздо чаще, с наклоном головы, уходил по касательной, ловя в жалюзийном окне расслоённый тонко угол здания, весь причудливо-полосатый узор отражённого света.
Он не верил, что психиатр Ройс способен ему «помочь». Не верил, возможно, потому, что «помощь» он определял для себя как некоторое исправление чего-то, что пошло неправильно, как восстановление более раннего, хорошего или «нормального» состояния, – а вот в том, что такое состояние когда-либо существовало или вообще достижимо, он склонен был сомневаться. Люди время от времени называли нормальными какие-то из своих поступков и привязанностей – опыт же подсказывал ему, что говоримое людьми об этих вещах мало соответствует вещам реальным. Билл Поттер, его отец, бывало, рассказывал об отношениях отцов и сыновей, сестёр и братьев, мальчиков и девочек, а потом начинал в запальчивости городить определения, которые не соответствовали рассказанному. «Хороший товарищ», «добрый малый», «талантливый парнишка» – все эти понятия, применяемые к его одноклассникам, тоже выглядели до нелепости приблизительными. Нормальность представлялась Маркусу наподобие сложной, из многих частей, головоломки; кое-как срастив части головоломки, можно начертить на кальке её отражение, график, с пиками и скруглениями, но если попробовать наложить этот идеальный график на подлинные скопления точек жизненного сумбура, то идеальный график едет, плывёт, получается такая головоломка, что её уже не решить. Привлекательность Лукаса Симмонса заключалась в том, что тот сумел создать крепкую, несомненную, неодолимую, счастливую видимость «нормальности» – отличный товарищ, добрый малый, надёжный вожатый, талантливый человек, это впечатление подкреплялось всем его обликом, от спортивных брюк и спортивного пиджака до улыбающегося лица. «Нормальным» же он сумел представиться потому, что на самом деле был ненормальным, был безумным посторонним, но зато желал нормальности, ухватив сверхзрением её истинную идеальную суть.
Маркус не рискнул бы высказать что-нибудь из этих мыслей психиатру Ройсу. Он этого не делал отчасти по скрытности, отчасти же оттого, что, будучи наделён своей особой толикой поттеровского самомнения, полагал, что Ройс попросту не сумеет оценить всей значимости его размышлений. Но была и третья причина: как предполагал Маркус, психиатра Ройса больше всего интересовали вопросы пола. Судя по некоторым признакам, психиатр вознамерился выяснить, «является» ли он (Маркус) гомосексуалистом. Это Маркусу и самому было любопытно; но, хотя он вспоминал единственный откровенно сексуальный момент своих отношений с Лукасом с дрожью и отвращением, он совершенно не хотел пускаться с психиатром в разговоры об этом. Он имел глубокое, чётко осознанное и сформулированное желание остаться вообще вне половых влечений, но выскажи он это Ройсу, тот, скорее всего, не поверит. Всякого рода предположения психиатра он вежливо отвергал, паузы становились всё длиннее, по маленькому кабинету шла как бы долгая и тихая рябь тишины, по мере того как камень слов погружался всё глубже и глубже в тину. Психиатр Ройс обращался к нему так, словно был он меньше своих лет – простым, совсем не башковитым пареньком. Это облегчало ему задачу казаться младше, проще, бездумнее. Он подумал, что они с психиатром Ройсом изрядно уже наскучили друг другу. Но между ними словно существует какой-то тайный сговор, сидеть, разговаривать по инерции.
На этой неделе психиатр Ройс попытался выяснить (на самом деле его подтолкнуло к этому письмо Билла, аргументированное и весьма обеспокоенное), не подумывает ли Маркус о возвращении домой, и если уж вспомнить о доме, то какие у него мысли. Маркус ответил, что возвращаться не хотел бы, хотя, конечно, придётся, наверное, когда-нибудь. А почему не хотел бы? – спросил психиатр Ройс. Маркус ответил: не знаю, пугает мысль об этом, там будешь как в ловушке, там страшно шумно, ну просто вот не хотел бы. А что именно тебе там не нравится? – спросил Ройс, Маркус сказал потерянно: всё, всё не нравится, особенно шум, но, вообще-то, всё.
В действительности же при слове «дом» в голове у него – покуда они обменивались этими вымученными фразами – возник образ, который он ни за что бы не рискнул описать психиатру Ройсу.
Маркусу представился некий дом или даже конкретный, наподобие тех, что ребёнок рисует в детском саду: четыре оконца, труба, дверь, садовая дорожка, цветы, как будто вышитые петельками, на квадратных клумбах, только этот дом к тому же был трёхмерный, чем-то напоминал лёгонькую картонную коробку, и в нём сидело, едва помещалось что-то очень большое и очень живое, покрытое тёмно-рыжей шубой, так что в каждое оконце начинал выползать наружу этот мех, отчего оконца выпучивались и трещали; вот на одном из подоконников мелькнул коготь, вот где-то в глубине мышца взбугрилась под рыжей шкурой. И это непонятное существо, обитавшее в доме, в центре собственной слепой борьбы, рычало и ярилось само на себя.
Разговор на несколько мгновений замер: слишком тяжело, неравно отвесилась вниз качель, на которой был Маркус, охваченный страхом перед гневом Билла. Он всегда в гневе, сказал наконец Маркус. Ты всегда этого и боялся? – осведомился психиатр. Да, да, ответил Маркус. Расскажи мне, как ты боялся в детстве, когда был маленький, попросил Ройс.
– Однажды я увидел медведя, – сказал Маркус беззащитно, и вправду вспомнив.
– Какого медведя?
– Ненастоящего. Я сидел за софой, играл с молоковозом, у меня была такая машинка. Меня стали старшие звать, я вылез и вдруг вижу: между мной и мамой огромный медведь сидит, ну знаете, как они обычно сидят, такой высокий, башкой достаёт до люстры. Он мне показался совершенно настоящим. То есть я был уверен, что он настоящий. И я не мог по ковру прийти к маме. Подошли, взяли меня на руки, отругали как следует…
– А с чем у тебя медведи ассоциируются?
– С «Тремя медведями», конечно же. Мне всегда рассказывали эту сказку.
Психиатр Ройс оживился:
– Какие же чувства были у тебя по поводу этой сказки?
– Ну… вообще-то, я плохо помню.
– Было ли тебе страшно?
– Вы имеете в виду, когда медведи стали рваться в погоню, кричать из окошек и девочка бежала в страхе и ужасе? Да, конечно, мне было страшно.
Трудная это сказка. В ней слишком много требуется для всех сочувствия. Ребёнок потерялся в лесу, заглядывает в окошки домика, стучится в дверь, кое-как пролезает внутрь, потому что хочет найти там что-нибудь подходящее для себя – пригодную еду, пригодный стул, пригодную постель. Прежде всего следует посочувствовать медведям. Они аккуратно накрыли на стол, поставили себе тёплый завтрак, а ребёнок без спроса повозил ложкой в трёх тарелках, нахально посидел на трёх стульях, а потом дерзко смял три медвежьи постели. Но ведь ребёнок – маленькая девочка, бледненькая, измождённая, с лучами бледно-золотых волос, такой он обычно её представлял – тоже нуждается в сочувствии. Она хоть и хитрая привереда, и сломала стульчик маленького медведя, но когда они все начинают кричать, гневаться на неё и она из тёплого гневного нутра медвежьего домика должна выскользнуть обратно в холод, наружу…
– А стульчик маленького медведя эта девочка разломала на части… Мне было очень жалко.
– Жалко кого? Девочку или маленького медведя?
– Не знаю. Наверное, обоих. Маленького медведя, ведь это был его стульчик. И девочку жалко, когда они все стали на неё гневаться, кричать… – В тоне Маркуса сквозило отвращение к дальнейшим расспросам на эту тему.
Психиатр Ройс спросил, какие мысли приходят Маркусу в голову, когда тот думает о доме. Нынешние мысли Маркуса не были яркими и подробными. В своё время и он, и Стефани брали верх над другими в «шпионской игре»: на поднос клали разные вещицы, смотрели, убирали, а дальше нужно было вспоминать, что здесь лежало. Но если Стефани побеждала благодаря памяти на сами предметы со всеми их мельчайшими свойствами (обозначала их у себя в голове какими-то особыми словами и словечками), то он вызывал вещицы из памяти с помощью воображаемой карты их точного пространственного расположения относительно друг друга. Дом для него в детстве был сетью отношений, линий, пролёгших между стульями, продолговатыми фигурами окон, вереницей ступеней на треугольничках, прилепленных к боковинам лестницы; тогда как Стефани помнила каждый пропущенный стежок на обмётке скатерти, каждую щербинку на эмалированных кувшинах, каждое сточенное место на столовых мясных ножах. Сейчас Маркус не убеждён был в постоянстве мест, вещей, да и людей. Например, туалет в больнице Калверли ни разу не показался ему конкретным, тем же самым, в который он заходил неделю назад, месяц назад, год назад, а всегда представлялся некоторым туалетом вообще. Точно так же он не сознавал, что ест знакомой ложкой со знакомой тарелки. Он не догадывался о том, что к нему на остановку может прийти знакомый автобус, со знакомой крупной штопкой на кресле. Маршрутные линии автобусов образовывали в его сознании подобие карты, по которой один за другим шли неиссякаемо новые автобусы. Всё носило отпечаток новизны. А вот родительский дом для Маркуса до сих пор являлся местом пребывания странных, опасных в своём постоянстве предметов, являвшихся продолжением людей: пепельница и трубка Билла, резиновые перчатки матери, его собственная кровать в спальне, с моделькой истребителя «спитфайр» на полочке… Ничего этого психиатру Ройсу он не поведал, лишь сказал вяленько, что, кажется, немного скучает по своей спальне. Психиатру захотелось взять его за плечи и встряхнуть хорошенько, но, увы, профессионалу так делать не годилось. Позёвывая, Ройс спросил Маркуса, какие у него вообще сегодня планы, взглянул на часы…
Этой ночью, в доме у Стефани, Маркусу приснилось, будто он вернулся домой и Билл в честь его возвращения нарезает ножом мясное блюдо. Мясо было цилиндрическим и кровавым, с неснятой мохнатою кожей. Да и подушечки имелись с когтями на одном из его концов… Одной из расплат за разговоры, а вернее, за упрямую неразговорчивость на приёмах у психиатра Ройса были сны, последующие странные сны. Итак, они сидят за столом, у матери на голове шляпа, напоминающая шлем. Отец нарезает кровавую лапу, никакой другой пищи не предлагая. Нарезает, а эта лапа, по всему судя, ещё живая и болезненно сокращается.
Психиатр Ройс – получи он доступ к этой благодатной метафоре, вступи он в её кущи, опознай он её корни, уходившие в фольклор, в детскую культуру, в бред, в сновидения, – может быть, сумел бы, или не сумел бы, понять о Маркусе что-то, чего ещё не понял. И тогда ему, может быть, удалось бы, или б не удалось, предложить, исходя из своего понимания, Маркусу помощь или совет. Маркус же только отметил про себя, что в этот сон замешались медведи. Поразмыслив, он пришёл к выводу: нет в этом сне ничего, чего бы уже он не знал; право, не стоит докладывать психиатру. Медведи – воображаемые, разве в них суть дела?
3
Рождество
В прежние годы семья Поттеров, ядерная её часть, имела обыкновение справлять британский семейный рождественский обряд в некой его ослабленной и бесцельной форме. Сосредоточиваться на вещах, которые мрачновато воспел Диккенс, – определённых обильных кушаньях и напитках, желанных и нежелательных подарках, собрании друзей и родственников – у них недоставало духу. Не существовало и большой родни, с которой бы они общались постоянно; конечно, были родственники-Поттеры, разбросанно обитавшие по Северному Йоркширу, но с тех пор, как родители Билла, закоренелые конгрегационалисты[25], изгнали его за безбожие, связь с теми Поттерами прервалась. Уинифред была единственным ребёнком у своих родителей, те давно умерли. Таким образом, Билл и Уинифред не унаследовали, а сами создали домашних божков – смирных, почти бесплотных. Скромность празднования была связана – если рассуждать в диккенсовской традиции – с неопределённостью правил хорошего тона в условиях сословного роста. У них имелись представления о том, как приличествует устраивать рождественский стол, хотя как интеллектуалы они презирали то, чего сами были не чужды как едоки. Отец Дэниела, машинист паровоза, при жизни своей на Рождество напивался, вначале в пивной, а потом ещё и дома; за это время в нём друг друга сменяли – задор, веселье, дремливость и, наконец, грусть-тоска. Билл Поттер выпивал стаканчик хереса и разливал по бокалам шампанское. Соседи не наведывались к ним на огонёк, и они не посещали соседей. К праздничному вождению в пьяном виде они были непричастны, даже более чем обычно замыкались на это время в своём мирке, благо что все магазины были закрыты, единственным занятием оставалось «весёлое времяпрепровождение», да ещё – как часто отмечала Фредерика – бесконечное мытьё посуды.
В еде они были воздержанны; за время войны научились довольствоваться простым, использовать все остатки, а что-то и по нескольку раз. Уинифред не обладала выраженным эстетическим чувством. Подобно тому как она не умела наряжаться (лишь порой осенял её смутный страх, что какое-нибудь платье или шляпка, которые она готовится надеть, возможно, безвкусны), так и не было у неё понятия о том, как, в каком стиле можно украсить дом, или хотя бы стол, на Рождество. Незадачу с гардеробом она решала с помощью неукоснительной непритязательности и похожим образом – хотя и с гораздо меньшим успехом – подходила к рождественским затеям. Когда дети были малы, в доме делали бумажные цепочки, а также нанизывали на бечеву нарядные картонные крышечки от молочных бутылок и всем этим увешивали зеркала. (Длины их никогда не хватало, чтоб эффектно подвесить под потолком поперёк комнаты.) И ставилась искусственная ёлочка, под которую дети клали в сочельник украшенные носки для подарков. Ни Билл, ни Уинифред не могли себя заставить солгать детям о происхождении этих даров. И дело здесь было даже не в принципиальной правдивости, а в том, что жил в супругах внутренний запрет на выдумку, фантазию. Рассказывать какие-то байки – это казалось им признаком легкомыслия. Фредерика, чья вера в рождественское волшебство оказалась разрушенной в самом раннем возрасте, отыгралась на одноклассницах, безжалостно лишив и их подобной веры. Впрочем, ни счастья, ни дружбы ей это не прибавило.
В семье не пели на Рождество, так как не умели петь. Не играли в игры, отчасти от незнания игр, отчасти же потому, что все пятеро если и были в чём-то едины, так это во мнении о костях, картах, шарадах как о пустой трате времени. Вскоре после раскрытия подарков они начинали скучать, поглядывали искоса друг на друга и ждали, когда же каникулы закончатся и можно будет вернуться к напряжённым трудам и занятиям, каждому к своим собственным.
Для Стефани этот год отличался от прежних. Церковь, которую она помогла украсить остролистом, омелой, вечной зеленью… Приходские рождественские вечера… И теперь у неё две семьи. Поразмыслив, она попросила мать доставить остальных Поттеров – Билла и Фредерику – на рождественский ужин в коттедж. Благодаря этому семейному сбору, говорила она, создастся, может быть, новый мостик между Маркусом и родителями. Уинифред выразила по этому поводу сомнение; казалось, она уже не уповала, что жизнью можно управлять и даже направлять события в нужную сторону. Стефани также поговорила – в резковатом для себя тоне – с Маркусом: мол, визит родителей – дело решённое, она рассчитывает на его помощь, на доброе поведение. И в нём как будто бы что-то отозвалось, и, к её радостному, облегчённому удивлению, он вдруг стал, впервые за полгода, участвовать в семейном событии – в приготовлениях к празднику.
Ей хотелось придать дому праздничный вид, в основном ради Дэниела. Она потратила деньги – лишнего! – на можжевеловые веночки, но главное – купила на блесфордском рынке большую настоящую ёлку. Доставили ёлку упелёнатой в рафию, сквозь которую покусывались тёмненькие иголки. Развернув осторожно этот конический кокон, Стефани разгладила и расправила колючие стержни веток, потом, не жалея времени и сил, пристроила дерево в ведро с землёй, для равновесия добавив гири от кухонных весов. Ёлка стояла, дыша отдельной густохвойной жизнью: сине-зелёная, угрюмая, смолистая, лесная. Миссис Ортон, все дни сиднем сидевшая в тесном кресле Дэниела, воззрилась на Стефани, предостерегла, как бы та не причинила себе вреда, – но помощи не предложила. Маркус бледной тенью просквозил мимо, лишь соизволил – по просьбе Стефани – ровно подержать ствол, покуда Стефани возилась, трамбовала землю, обвязывала страховочной бельевой верёвкой ствол и ветви. Впрочем, заметил тонкоголосо, что запах хвои в доме приятен. Миссис Ортон возразила, что одно беспокойство от этих иголок, «потом их век не вывезешь».
Стефани воображалась эта ёлка увешанной золотыми и серебряными плодами, с ярко горящими свечками. Имея простую поттеровскую натуру, ей хотелось, чтобы и плоды были простые, а не покрытые аляповатым узором глазури, не расписанные по трафарету цветочками пуансеттии, символа Рождества. Из игрушек в Блесфорде можно было найти лишь гномов и гномистого же обличья Дедов Морозов да уродливые «под старину» фонарики в виде рождественской звезды. В один прекрасный день ей захотелось попробовать прошить картонные пробки от молочных бутылок золотой и серебряной канителью и, хитро сплетя и разбросив нити, получить лучистые созвездия. Маркус немало поразил её, сказав: почему, мол, тогда не из проволоки? – и ещё сильнее поразил, тут же изготовив из серебристой и золотистой проволоки целую серию звёзд, шестиугольников, каких-то наполовину полых, вдавленных звёздных шаров, сложных многогранников, – абстрактные эти звёздо-плоды ярко сверкали, вплетая нити света в тёмное хвоистое тканьё.
Она предпочитала Рождество всем другим христианским праздникам, оттого что за ним стояло волшебное предание, славящее рождение, обиходное чудо. Билл, сколько она себя помнила, всегда был привержен антипроповеди. Словно какой-нибудь Давид Штраус или Эрнест Ренан, он истово указывал детям на неосуществимость непорочного зачатия, на хрупкость доказательств того, что вообще были – пастухи, звезда, хлев; можно подумать, что доказуемая историческая истина являлась свободой, которой он желал для своих чад. Возможно, его правда, его свобода были бы, могли бы стать желанней, будь его ораторский стиль менее устрашающ, сух, предлагай он взамен голосов, астральных и ангельских, какие-то свои краски, свет, теплоту…
Вдруг возникла незадача: Дэниел не велел ей приходить в больницу, где он должен был предстать перед детским отделением в образе Деда Мороза.
– Но я хочу на тебя полюбоваться.
– Не там же.
– Ты стесняешься?
– Моя работа – не для стеснительных. Просто… понимаешь, я думаю, что…
Он не сказал, что думает: ей впору бояться этой больницы. Как он сам боится.
Она, однако, пришла.
Чем дальше от входа в отделение располагалась кровать, тем хуже дела того или иного пациента; в тихом тупиковом конце, с глаз подальше, были так называемые «боксы». Сразу при входе стояла искусственная ёлка из белого гигиеничного материала. Всех детей, которых только можно отпустить на праздник домой, отпустили. Самых тяжёлых на каталках отвезли во временно освободившиеся палаты, где днями раньше находились дети по поводу простых переломов и удаления миндалин. Стефани часто бывала в этом отделении; с постоянными его обитателями знакома.
Два мальчика-подростка, Нил и Саймон, с мышечной дистрофией, без надежды когда-либо обрести подвижность: лежат бок о бок, слегка раскинув ручки-прутики по чистым простыням, обтянутые умненькие лица с открытыми ртами – подвздёрнуты под странным углом среди подушек. Тринадцатилетняя Роза страдает анорексией (вес тридцать два килограмма): беззащитные глаза закрыты от мира, который она не хочет знать, белые ручки сложены как у монахини, под остреньким подбородком, нет, даже, кажется, на груди. Гарри, выбритый, с раздувшимся черепом, тяжёлыми выкаченными глазами, имеет вид суровый и ужасный, в костях его цветёт смерть. В нижнем подвижном ярусе здешнего населения – переполох, бегут трусцой, заплетающимися ножками, кто-то в больничных халатиках, словно гномы из «Белоснежки», кто-то в собственном праздничном наряде. Чарли, восьми лет, с раком тазобедренного сустава, лихо катит, примостясь полулёжа на шасси детской коляски, гребя руками-ластами: оливковое огромное лицо – у них у всех слишком большие лица – мимолётно, чуть ли не пренебрежительно ухмыльнулось, в тот момент как умело объехал он ноги Стефани (появлению его предшествовало лёгкое зловоние, и следом за ним тоже повис запах гнили, с примесью хлорки). Вот на деревянных колодках, пристёгнутых к культяпкам бёдер, проковылял безногий Майк, чья единственная сморщенная рука длинным конусом сходит на нет. Вот Мэри в прелестном розовом платье, из которого торчат жёлтые ручки-клешни и голова с лицом, сотворённым пластическими хирургами из присаженных лоскутков кожи, оттенками от желтовато-пергаментного до виноградно-лилового. У Мэри нет ресниц, бровей, губ, волос, лишь развевается над левым ухом одна белокурая прядь, свежевымытая. Мэри больше раза падала в открытый огонь, возможно не без чьей-то злой помощи. Мэри никогда никто не навещал в больнице. Отправляясь же изредка домой, она вскоре поступала обратно с новым шрамом от падения или с мокнущим лоскутком кожи.
Стефани подхватила Мэри на руки – девочке это нравилось – и, усадив на бедро, путешествовала с ней от кровати к кровати. Между Мэри и не рождённым пока ребёнком – защитная оболочка из растянутых мышц, эластичный, герметично запечатанный бочонок с околоплодной жидкостью, в которой покоится, нежится, поворачивается дитя, поводит ещё не вполне сформировавшейся ручкой или ножкой…
За распашными дверями – младенцы после операции по исправлению заячьей губы или же крошечные создания, которым – из-за какого-то сбоя в работе клеток, ДНК, – во время вынашивания не досталось пищевода, или заднего прохода, или раздельных пальчиков, так что теперь это всё восполняют им доктора-мастера. В инкубаторе лежит младенчик, нагой, золотисто-коричневый, совершенно прекрасный, если не считать того, что обе ножки, сломанные в процессе родов, у него на вытяжке, под колпаком из органического стекла нашлось место для шкивного механизма с грузиками…
Граммофон затрещал, загремел и выдал гимн: «В хлеву под звездою Младенец лежал…» Медсёстры с теми немногочисленными мамами, кому удалось вырваться сюда в канун Рождества, запели неровно и громко. Стефани пела со всеми. Мэри мычала, Чарли, визгливо что-то ворча, пронёсся мимо на своих низких колёсах. Граммофон ещё раз громко засвиристел и заиграл Чайковского. Младшие девочки из Блесфордской балетной школы мисс Мэрилин исполнили «Вальс снежных хлопьев», затем младшие мальчики, меньшим составом, – танец тающих снеговиков, и таяли они, надо сказать, очень убедительно. Из граммофона исторгся «Рудольф, красноносый олень»[26]. Зазвенели незримые колокольцы. Ребята, кто бы это мог быть?! – с волнением спросила старшая медсестра. Появился Дэниел на больничной каталке, задрапированной под сани с помощью ярко-красных одеял и нескольких бумажных серебристых скатёрок-дорожек. Каталку влекли санитары, наряженные белыми медведями. Набежали балетные, раздавать пациентам подарки: брали у Деда Мороза, передавали медсёстрам, а те уж – своим подопечным.
Что-то не так с этим Дедом Морозом, подумала его жена. Доктор-гинеколог, которому обычно доверяли эту роль и этот костюм, был постройнее Дэниела. Чёрное пасторское одеяние проглядывало, то в одном месте, то в другом, сквозь раздавшийся красный наряд, словно чёрные уголья сквозь пламя камина. Свой белый собачий ошейник-колоратку Дэниел припрятал, но утрачивал постепенно и клочья белых лохматых бровей, накладных усов, бороды – предательски проступала неуёмная, пружинистая, чёрно-синяя щетина на щеках, подбородке. Он бродил неуклюже по отделению, спрашивая, все ль довольны, всем ли весело, и лишь изредка получая ответ. Сам же был нехорош и невесел. Пытался приветствовать одного-другого ребёнка, из тех, что поздоровее, но дети лишь отшатывались с криком, в испуге. Он тогда и сам отступал от них в сторону безропотно, словно не ждал иного. От жены он держался в стороне.
Большинство игрушек, розданных балетными детьми больничным детям, были плюшевые – розовые, синие, белые – кролики, утки, мишки. Ни один ребёнок, по наблюдениям Стефани, не полюбит случайную плюшевую игрушку, в которую не вложено жизни, особинки. Лучше бы дарили (но не дарят же!), думала Стефани, разные штуки для творчества – металлические конструкторы, пластилин, – даже пусть их легко потерять или ими испачкать больничные простыни. Вот одна в надувной белой пачке снежинка, отвернув прочь лицо, попыталась вручить Стефани, для Мэри, мохнатого медвежонка. Мэри же, уткнувшись лицом в живот Стефани, замычала. Тут же рядом возник Дэниел, в дед-морозовских сапогах, красной шубе, несуразный, но источавший чёрную ярость:
– Оставь этого ребёнка. Себе сделаешь худо.
– Почему? Ей так нравится.
– Мне не нравится.
Он ужасно осклабился на Мэри через свой покосившийся белый кудлатый намордник. Та мгновенно съёжилась, заскулила.
– Вот ведь… – сказал Дэниел. – Пойдём отсюда, Стеф. Наш долг исполнен.
– Да что с тобой такое сегодня?
У него не хватило духу сказать, но он знал прекрасно, в чём дело: ему было бы лучше, сподручнее обойтись здесь без Стефани. Видя, как бесформенная Мэри оседлала беременную Стефани, точно гоблин, он желал, чтобы Стефани с его ребёнком удалились отсюда как можно скорее, чтобы им не стать уязвимой мишенью для непредсказуемых, разрушительных деяний природы. Однако Стефани как ни в чём не бывало, спокойная и здоровая, молвила, что останется ещё ненадолго, поговорить с миссис Мэриотт.
Миссис Мэриотт была средоточьем беды и уныния. Дни и ночи она проводила в боксе, подле кроватки сына. Это был чудесный бледненький мальчик, родившийся с аномалией печени и некоторым повреждением почек. С этим пробовали бороться хирургически, теперь – с помощью особой диеты. Большую часть времени ребёнок находился в глубоком сне. Мать, от природы и так не слишком спокойная, сновала по тесному боксу, переставляя с места на место детскую присыпку, кувшин с водой, перекладывая подгузники. За четыре недели она похудела на двадцать пять килограммов. Увидев Дэниела в его красных доспехах, роняющего белый пух, она тут же затараторила, что боится потерять маленького Стивена, что страшнее всего надежда, лучше вовсе не надеяться, тогда будет легче; ну а что ещё делать, сидя здесь, продолжала она, как не надеяться, хоть и чувствуешь полную свою беспомощность?.. Дэниел не знал, как на это ответить, не мог собраться с мыслями: сорвал с себя глупую бороду, начал фразу о покорности Божьей воле, но слова застряли в горле. Он понимал, что излучает неверные вещи – волнение, раздражение, ярость, упадок духа, – вскоре миссис Мэриотт начала безнадёжно, лицом зарывшись в гору чистых муслиновых пелёнок, рыдать. Дэниел увидел, что его жена направляется сюда, чтоб утешить безутешную, и замахал руками, и увёл Стефани прочь, оставляя позади плачущую миссис Мэриотт и даже не облегчая свою совесть рассуждением о том, что плакать – для неё благо; разве можно знать об этом наверняка, разве может кто-то влезть в душу другого человека?..
Позже была семейная служба в храме Святого Варфоломея. В неё входило традиционное рождественское представление, которого Стефани ждала, кажется, с радостным нетерпением. Она увлечённо помогала шить костюмы: для Марии изготовила отличное длинное платье из васильковой тафты с небольшим шлейфом, для чего ловко распорола по швам своё кембриджское бальное платье. Наиболее яркие части платья – пояс и орнаменты – пошли на украшение одеяний трёх волхвов, один из которых имел на голове тюрбан со страусовыми перьями, сделанный из переливчато-синего шёлкового палантина, который был на ней вместе с платьем в день майского бала.
Заиграл орган. Дети вошли в храм полумаршем-полувприскочку, не слишком уверенно попадая в ногу. Один мальчик и одна девочка, постарше, лет двенадцати, стояли за аналоем (девочка сутулилась от смущения) и читали попеременно коротенькие, напоминавшие сказку отрывки из Матфея и Луки. Три волхва с Востока, шедшая перед ними звезда (Матфей), ясли, бык, осёл, пастухи, поющие ангелы (Лука)… Дети-актёры с серьёзным видом, хотя и скованно, совершали мимическое представление этих событий. Белокурая, с лицом «датчанки»[27] Мария восседала торжественно на ступенях алтаря с Иосифом, который был меньше её ростом, облачён в полосатый банный халат и тюрбан из полотенца, примотанный к голове толстой шерстяной пряжей. Делать ему было особенно нечего, он и сам это знал, лишь взмётывал над веснушчатым лицом время от времени руки, поправляя свой убор. Крошечный хозяин гостиницы подымал плоские недосформированные ладошки, чтобы показать, что в гостинице нет мест. Раздавался – в этом году, как и в любом другом, – оживлённый щебет совсем маленьких гостей и глуховатых бабушек, словно множество скворцов разом уселось на телеграфные провода; неотложные, бесцельные реплики: вон она, наша Джанет! посмотрите только на Рона, какой радостный, важный, забавный, чудесный…
«И родила Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице»[28].
Эта самая существенная часть представления была неловкой из года в год. Вот и сейчас Мария, спиною к скамьям зрителей, попою кверху, покопавшись в старинной деревянной колыбели миссис Элленби, извлекла оттуда свою самую лучшую и большую куклу – целлулоидную, улыбающуюся, с выпяченными губками, с твёрдыми глазами на едином металлическом стержне, которые со щелчком открывались и закрывались, открывались и закрывались, оттого что девочка Мария как-то неуверенно то подымала, то наклоняла куклу-младенца, наконец показала её лицо на миг всем прихожанам и, с какой-то виноватостью, вновь поспешно затолкала в колыбель. Благодаря постоянному, неменяющемуся изгибу целлулоидных конечностей спеленать эту куклу было невозможно, пришлось закутать в чью-то симпатичную крестильную шаль. Овечки, коровы и ослики, в бумажных масках этих животных, привалили гурьбой и встали на колени, придерживая свои уши и рожки. Явились трое миниатюрных волхвов, неся масляную лампу из меди и стекла, высокую серебряную сахарницу с носиком, китайскую лакированную сигаретницу миссис Элленби, и отдали поклон, и, словно немного поколебавшись, преклонили колена. Между тем в нефе собрались гурьбой маленькие пастухи. В проходе возник белокурый мальчик-хорист, чей чистенький голосок ещё только начинал ломаться, в одеянии из простыни, с хитроумно пристроенным нимбом, в сопровождении весьма немногочисленного сонма других ангелов. И на земле мир, в человеках благоволение![29] Родители детей были тронуты – сами не слишком умея разобраться в своём порыве. Тронуты были тем, как их собственная плоть и кровь разыгрывает действо рождения и родительства – с той же смесью неловкости, неведения, серьёзности и подражания, какой отмечены такие же неизбежные игры настоящих матерей и отцов. Сильно трогает душу детскость самих Марии и Иосифа, а не целлулоидный пупс, который всегда словно лишний в этом странном стечении чувств. Родители взволнованы, потому что детство их чад – быстротечно, на глазах исчезает. Ещё, может быть, подсознательно, темно взволнованы они тем, что закон смены плоти и крови таит личную угрозу для них самих. Эти маленькие создания – будущее и играют сейчас свою будущую жизнь. Исчезает не только детство: мужчины и женщины, передав свои гены, также делаются избыточны. Наблюдать за игрою этих актёров – означает мимоходом оказаться меж двух времён, между двух ролей. Мария взглядывает с заботой на куклу, и мать смотрит, с заботой, волнением, на детское тело Марии, на нежное её личико. А время бежит.
На амвоне появился Ирод – как всегда, самый лучший актёр, – притопнул ножкой, тряхнул деспотически локоном и, поправив бумажную корону, отрядил через алтарную часть храма своё символическое воинство. Избиение младенцев совершилось за сценой. Большой мальчик стал читать с аналоя про слёзы Рахили: Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет[30].
В прошлые годы Стефани радовалась этой сказочной бывальщине; в этом же году, из-за собственной тяжести, из-за страха настоящих родов, – радости не получилось.
В приходском флигеле устроено было прекрасное чаепитие с «рождественским поленом», покрытым глазурью, – миссис Элленби проявила себя кондитерской мастерицей. Подобно добрым детям, которые сами не получают подарков, зато дарят другим, они красиво упаковали множество пожертвованных (подержанных) машинок и паровозиков, мягких игрушек – для отправки в благотворительную организацию «Доктор Барнардо». Дэниел стал рассказывать собравшимся: давным-давно, в эту же пору, Бог так возлюбил мир, что послал своего единственного Сына, чтобы дать миру жизнь; этот Сын рождён был как человек, чтобы Бог мог прожить жизнь людей и люди через Сына Божия могли бы к Богу приблизиться. Следовательно, жизнь Бога и жизнь людей – едины, заключил Дэниел[31]. Стефани подумала, что, наверное, сумела бы объяснить всё это лучше, не потому, что верила хотя бы чуточку, а просто благодаря педагогическим способностям.
Что же делает мир столь живым?.. Сам ли Дэниел, с беспокойством его и нетерпением? Ломкая ли нотка в голосе мальчика-ангела? Её собственный грузный живой живот. Тёмные деревья. Чарли, Гарри, Мэри. Тот, кто агнца сотворил, не тебя ли в мир пустил?[32] – спросило её тёмное подсознание, и на миг ей никто и ничто стало в мире не мило. Потом, улыбаясь как положено, она стала разливать молоко по чашкам, угощать всех шоколадными глазированными конфетками йоркской фабрики, разноцветными, похожими на волшебные бобы.
Настроение враждебной отчуждённости продолжилось в ней и на протяжении всенощной, несмотря на присутствие старых друзей, мисс Уэллс и четы Тоунов. Миссис Тоун пела громко и отчётливо те йоркширские гимны, которые так по сердцу йоркширцам. Здешние жители воспевают Мессию не упоённо и страстно-витиевато, как валлийцы, а трезво, зычно и увесисто, выделяя ритмические доли. Люди и пришли в храм отчасти ради пения. Они исполнили мрачноватый гимн «Приди, приди, Эммануил». Потом уже свои, старинные местные – «Проснитесь во Христе» и «Придите, возрадуйтесь». Их пение соединяло в себе трезвую мощь и благоприличие с абсолютной самозабвенностью – этот музыкальный шум всегда повергал Стефани в смятение, ей мерещилось в нём коллективное подавление личности, а также опасная неизрасходованная энергия. Они стояли в храме тёмными рядами, неподвижные, при шляпах. Как же отвратительны англичане, уже не впервые подумалось Стефани. Преобладали физиономии средних лет, одутловатые, нездорово-бледные, с сизоватым, пеплистым оттенком. Эти лица не говорили о здоровом физическом труде на свежем воздухе. Это были трудные лица, запечатанные застарелой терпеливостью, осторожностью, подозрительностью. Но при этом не выражавшие страдания. Лица людей, которых больше всего на свете заботило, что другие думают об их поведении, собственности, общественном положении и что они сами думают о поведении, собственности, общественном положении – других. По сравнению со своими родителями они были куда менее уверены во всех этих вещах. Они представляли собой поколение, которому пришлось расхрабриться, а теперь оно не знает, как вновь успокоиться, присмиреть. Знакомые воинственные строки мелькнули в голове у Стефани: «Зрите, христиане: по земле святой – мадианитяне хищною толпой»[33]. Одежда этих людей – неизящна, неказиста, славит лишь добротность и прочность ткани, это броня какая-то; скучная, бордовая, зелёная толпа оттенков, с редкими всплесками ярко-синего. Стефани подумала о призыве Д. Г. Лоуренса мужчинам носить обтягивающие яркие брюки, наподобие лосин[34]: большинство здешних бесформенных персон в таком наряде явно бы проиграло. Куда уж им сидеть под красивыми итальянскими деревьями среди красивых итальянских крестьян (как сиживал Лоуренс) или дерзко поносить английских шахтёров и добропорядочных матрон. Уместнее вспомнить страницы «Мельницы на Флоссе»[35], этого беспощадного очерка английской религиозности, помещающего истинный центр религиозного чувства в лары и пенаты, в густое средоточие вещей и общественных сущностей: кто ты таков, в каких отношениях состоишь с людьми и вещами, с узорчатой дамастной тканью, с рельефным фарфором; по какой одёжке как тебе протягивать ножки; какую коллекцию шляпок собирать, не для ношенья, а для поклонения. Всё это имело – в понимании Джордж Элиот – мало или скорее ничего общего с теми заветами, которые Христос оставил своим последователям, и уж, разумеется, – совершенно ничего общего с Вочеловечением, которое восславлялось в храме сейчас, вот в эту минуту. Прихожане затянули «Народился Божий Сын…», меж тем как Дэниел у задрапированного белым алтаря, накрытого любовно вышитой белой алтарной скатертью, вместе с мистером Элленби стоял над хлебом и вином. Джордж Элиот, подумала Стефани, умела ненавидеть. Элиот долго и умно всматривалась в ненавидимое, ей любопытно было в точности познать его сущность, она умела, притом в необходимой степени, отстраниться, чтобы вообразить предмет ненависти изнутри и снаружи, и эти два разных образа питали особое знание, которое было не чем иным, как любовью. Джордж Элиот любила шляпки и рельефный фарфор, ибо знала их отменно, и положить их чернилами на бумагу – не значило ли обрести над ними власть, нежно и щедро распорядиться их смыслом? Стефани попыталась соотнести эту свою новую занятную мысль – о вещественной подкладке религиозной добродетели тётушек Додсон из романа Элиот! – с поучениями матери Дэниела о том, как готовить рождественский пудинг, – но ничего из подобной попытки у неё не получилось…
Стефани надеялась, что семейный рождественский ужин сумеет каким-то образом восстановить, хотя бы отчасти, хрупкую ткань приличий и воспитанного поведения, повреждённую вспышками отца и всей сложной историей с братом. Миссис Ортон, каким бы странным это ни казалось, являлась той наблюдательницей, чьё присутствие, возможно, придаст членам семьи вежливости, помешает вспыхнуть отцовской ярости прилюдно.
В прежние времена рассчитывать на подобное было нельзя: Билл, словно получая от этого удовольствие, нарушал обычные ожидания окружающих, вспыливал по поводу и без повода – обожал «поднимать бучу», как сказала бы миссис Ортон. Стефани с содроганием вспомнила его эскапады в день свадьбы. Однако «тираны», повергающие своими выходками окружающих в ужас, сами немало страшатся и смущаются тех, кто от жестокости или отчаяния, вольно или невольно способны сильнее их накалить обстановку. Маркус, сам того не желая, привёл Билла в смятение – причинил ему боль, судя по всему превосходящую действие любых проказ самого Билла. Сколько Стефани могла понять сама, а также из рассказов Фредерики, Билл, по крайней мере на какое-то время, изрядно скис. И всё же она не могла представить, что из простого и очевидного расположения к ней Билл захочет укротить свои порывы. Одно она знала наверняка: ему вообще не по душе Дэниел, её замужество.
Она задалась целью принять гостей по хорошему разряду. Приготовила к индейке камберлендский соус в плошечках, полупрозрачный, ярко-красный, с чудесными тонкими золотистыми полосками шкурки апельсина и лимона. Не пожалев времени, очистила отваренные каштаны и равномерно поместила среди традиционной брюссельской капусты. Натёрла на тёрке заранее запасённый чёрствый хлеб, перемешала со специями и добавила бульон, приготовив таким образом начинку для индейки. Устроила на блюдцах небольшие холмики орехов, изюма, мандаринов. Разложила на столе яркие алые салфетки. Разожгла добрый дровяной огонь в камине. Винные бокалы на столе были из хрусталя. Хрусталь Стефани не любила: она принадлежала к поколению, открывшему простую, гладкую, функциональную посуду, финскую, или фирмы «Дартингтон». Но полоски света чудесно играли на резных хрустальных цветах и славно, ярко объединялись в одно зыбкое, подвижное целое с круглыми мандаринами на блюдцах, расставленных двумя треугольниками, с крестом, выложенным из оранжевых полосок апельсиновой кожи, с серебристыми-золотистыми многогранниками Маркуса на ёлке, с самим зыблющимся светом пламени в очаге.
Как только они пришли, она поняла, что Билл не собирается «поднимать бучу». Она открыла им дверь, раскрасневшаяся, запыхавшаяся от работы с индейкой, которую она начинила и теперь зашивала крупными стежками; мясницкий фартук с трудом прикрывал её раздувшееся квакерски-серое платье. Билл стоял на пороге между Уинифред и Фредерикой и казался настолько незначительнее своих высоких спутниц, что Стефани даже почудилось, будто он уменьшился в размерах. В руках у него было несколько свёртков и коробка с бутылками. «Мой вклад!» – проговорил он тревожно и взволнованно, обращаясь к дочери, а та всё никак не могла дотянуться, чтобы чмокнуть его в щёку, – мешали свёртки у него в руках и собственный её живот. Когда она попыталась взять у него подарки, он тут же призвал, с оттенком былой властной раздражительности, Фредерику: «Ну-ка, помогай живо!» Поттеры втиснулись в дверь и мужественно ждали встречи с Маркусом, но увидали мать Дэниела, всем телом и всеми одеждами глубоко угнездившуюся в кресле; складки подбородка у неё смыкались со складками шеи. Маркуса пока не было. Гости уселись на стулья, довольно тесным полукружком, как того требовало изящество маленького пространства. Стефани предложила всем хереса. Раздался голос:
– Вы уж меня простите, что я не встаю. По правде сказать, мне и не подняться без помощи. Я как утром засяду в это кресло, так и застряну в нём, покуда кто-нибудь руку не подаст, не выдернет меня, значит. А им это, судя по всему, трудно, правда, милочка?
– Ну почему же, мне вполне по силам! – слишком даже жизнерадостно отозвалась Стефани.
– Как поживаете, миссис Поттер? Держитесь, несмотря на невзгоды? Я всегда говорю, главное ведь в нашем возрасте – здоровье сохранить…
Уинифред ответила, что дела у неё неплохо, и осмотрела Стефани, сидевшую рядом с дверью на кухню. Стефани, кажется, выглядит не слишком хорошо. Всё тело раздалось вширь. Блеск сошёл с её рыжевато-белокурых волос, лицо заострилось, щёки, впрочем, слишком сильно румянятся. Вокруг островатого носа залегли резкие чёрточки, глаза обвело тёмно-синей тенью. Губы совсем бескровны.
– Как дела?.. – осторожно спросила она у дочери.
– О, лучше некуда, – отвечала миссис Ортон. – Нынешние-то молодые хоть куда. Вот помню, когда я носила Дэна, я целыми днями не могла подняться с постели, щиколки у меня раздуло да ещё приступы головокружения, знаете ли. Это были не шуточки. А она, я смотрю, гоняет на велосипеде как оглашенная. Ты не сделала б себе беды, я ей говорю, а она разве ж меня слушает? Не было ещё дня, чтоб она куда-нибудь за тридевять земель на нём, на велосипеде этом, не отправилась. О прошлой неделе раз было дело, нам пришлось самим себе обед сооружать. Нам – это мне да вот вашему молодчику, парень-то он умный, всё видит, всё слышит, только сказать не умеет… сидит там у себя наверху в опочивальне… Я давай его кричать, звать, чтоб вызволил меня из кресла. А то б нам так и сидеть без крошки и без маковой росинки с рассвета и до заката. Ну, он спустился да и сделал гренки по-валлийски с сыром, пришлось его, конечно, поупрашивать… Вообще, должна я вам заметить, не так он непутёв, как кажется…
Несколько времени Поттеры не могли вымолвить ни слова. К счастью, в этот момент, продолжая напевать под нос, явился с утренней службы Дэниел и спас положение. Он тут же по-пасторски оглушительно поздравил всех с Рождеством и прошёлся по гостиной, так что в ней сразу сделалось тесно. Дэниел отметил мгновенно, что Маркуса нет, и отправился за ним наверх. И вот уже бледный подросток стоял на нижней ступеньке лестницы. Билл поднялся со стула (не обращая внимания на громкий шёпот миссис Ортон: «Ни за что, сударь, не вставайте!»), сделал пару шагов навстречу сыну и церемонно протянул руку. Маркус, с некоторой неуклюжестью, но, впрочем, добросовестно, подержал руку Билла в своей руке, затем поворотился к матери и, подойдя, без жара коснулся щекой её щеки. В голове у Стефани мелькнул образ огромной прорехи, в парусине или другом подобном материале, зашиваемой поспешно, крупными, неловкими, заметными стежками, но зашиваемой. Дальше полагалось вручать друг другу подарки, что она и предложила.
Подарки оказались на удивление однообразны. Маркус получил несколько безымянных рубашек и носков. Дэниел – тоже некие предметы одежды, часть которых он сможет носить, а часть нет, – носки, шарф, галстук, причём всё это было не чёрного цвета, а как будто нарочно предназначенное к тому, чтобы распотешить. Стефани достались различные кухонные штуки и постельное бельё, ни единой книжки; а вот Фредерике – книжки сплошь, включая талончик от миссис Ортон на получение книжки в магазине. Биллу подарили книги, табак, от Маркуса ему был книжный талон с изображением «Переписи в Вифлееме» Брейгеля, Билл несколько раз талон перевернул, словно на обороте ожидал увидеть какие-то особые слова, но там было лишь дежурное, по пунктиру аккуратно написанное «Счастливого Рождества! Маркус». Стефани удалилась на кухню, готовиться к подаче на стол главного блюда. Дэниел умело, хотя и слишком явно, перевёл воспоминание миссис Ортон о том, как она некогда запекала на Рождество свиную корейку, в воспоминания всех собравшихся о прежних праздниках. Повспоминали о том, как довольствовались малым на рождественском столе во время войны. Поговорили о недавно возникших индюшачьих фермах. Билл попросил у хозяев штопор и открыл принесённые им бутылки бужоле. Одна бессмысленная фраза за другой растворялись в воздухе, но каким-то чудом удерживали праздничный сход вместе.
На кухне в это время Стефани сражалась с индейкой, которая источала жир и скользко ворочалась на блюде. Лицо Стефани от жары и от усилий покрылось бисеринками пота. Но более всего она страдала от своего воображения, от непомерного груза его точности. Во всех членах семьи, собравшихся в гостиной, у каждого из них, в душе жила своя форма ярости, раздражения на предписанные нормы поведения. В первую очередь это, конечно, относилось к Биллу. Если уж медики вынесли заключение о том, что отец неблагоприятно воздействует на психику сына, то при их встрече после перерыва неминуемо должна присутствовать неловкость, трёпка нервов. С другой стороны, существует ведь и бесконечная английская способность сглаживать тяжёлые события, не видеть дурного, притворяться, что всё ладно. Нельзя сказать, чтобы Билл в последнее время совсем не выказывал умения не замечать неприятную правду, особенно в части, касавшейся Маркуса.
Была ещё и Уинифред, которая долгое время пыталась передать сыну собственный опыт пассивного сопротивления вспышкам Билла, но в итоге лишь – как, наверное, ей теперь самой кажется! – предала его маньяку-мужеложцу, религиозному соблазнителю. Однажды она призналась Стефани (а Стефани она доверяла, хотя в принципе неохотно делала дочерей конфидентками), что чувствует страшное физическое отвращение, вплоть до наваждения, к Лукасу Симмонсу и к тому, что он мог делать с её сыном, – что́ именно, не уточняла. «Это тошнотворно, тошнотворно! – сказала она, содрогнувшись. – Меня вырвало, по-настоящему». Стефани могла только догадываться, не распространяется ли это отвращение также и на самого Маркуса. Маркус целые области мира считал для себя неприкасаемыми; Уинифред с трудом заставляла себя соприкоснуться с определёнными вещами.
Что касается Фредерики, Стефани чувствовала: Фредерика относится ко всему происходящему терпимо, но с некоторым сторонним нахальством, зная, что скоро уедет…
Миссис Ортон желала, чтоб её замечали, желала понравиться, но достигала противоположной цели…
И наконец, был Дэниел, который недоволен, может быть, даже сердит, а вот почему, Стефани невдомёк. Слышно, как он по-священнически бодрячествует, выставляя в глупом виде и себя, и свой сан. Это верный знак того, что на душе у него неладно…
В себе же Стефани чувствовала ту особенную ярость, какую испытывает всякая хозяйка, когда еда готова, а гостей за стол никак не засадить. И вместе она чувствовала в себе раздражительность, плаксивость; кажется, никому до неё по-настоящему нет дела. Она внесла в гостиную брюссельскую капусту, отварные картофелины и улыбалась, улыбалась во все стороны, как положено.
И начался праздничный ужин. Рты сделались заняты едой, а не разговорами. Дэниел резал ломтиками пухлую индюшачью грудь, вытаскивал жилы из отрезанных ног, добывал для всех начинку длинной ложкой. Маркус вызвал небольшой переполох, отказавшись от мяса. Он ничего не сказал, лишь посмотрел, и стало ясно: от вида мяса его воротит. Мягкая Стефани на миг страшно рассердилась, оттого что небрегут её вкусной подливкой, работой по зашиванию индейки, всеми поварскими стараниями. Миссис Ортон сочла за долг выговорить Маркусу (наблюдая, как тот без аппетита ковыряет маленькую кучку брюссельских кочанчиков и каштанов): «Не оттого ли ты, дружочек, такой худой да болезный, что в еде очень уж переборлив?» Фредерика пришла на выручку, заявив: «А что, каштаны – отличный источник белка» – и наложила себе ещё одну порцию.
Гости разгорячились, раскраснелись, лица рассиялись, залоснились… Когда миссис Ортон предложила всем послушать по телевизору рождественское обращение её величества, единственный протест, на который оказался способен Билл, был достать из принесённого «погребка» и откупорить бутылочку бренди. После чего Билл свернул сигаретку из подарочного табака, откинулся на спинку стула и открыл одну из подаренных ему книг, время от времени, впрочем, украдкой поглядывая на сына. Который присутствовал, сидел на своём стуле, но с закрытыми глазами на лишённом всякого выражения лице… Ладно, подумала Стефани позднее, это не больше и не меньше того, на что можно было рассчитывать: уместная и разумная встреча близких людей, которые, возможно, не стали бы встречаться охотно, по доброй воле. Тем не менее от первого бокала хереса до мгновенного голубого пламени, облизнувшего пудинг, вечер прошёл – по её меркам – вполне цивилизованно. Вели себя хорошо.
Дэниел не был доволен, не был счастлив. Стефани не могла понять этого его несчастья: как ни преуспела она в улавливании его отношения к церковным старостам, рубашечным перламутровым пуговицам, яростным вспышкам Билла, ленивому природному снобизму четы Элленби, она не способна была понять, как он воспринимает эмоционально в тот или иной момент её саму или себя вместе с ней. С обидой, даже какой-то заносчивостью она думала, что он не в состоянии вообразить всю её физическую битву с индейкой, её гнев – и стыд от собственного гнева – на Маркуса, с его вегетарианской причудой. Однако в действительности Дэниел как раз-то и представлял всё это вполне живо и, конечно, почувствовал её радость и облегчение оттого, что разговоры о том о сём, а после и застолье шли своим чередом. Он знал не понаслышке, как преуспели англичане в искусстве «не разговаривать друг с другом». У него в приходе была не одна супружеская пара, взявшая за правило годами общаться между собой записками или через соседей. Но помимо таких супругов, были ведь ещё единоутробные братья или сёстры, родители и дети, которые заморозили своё словесное общение навсегда, кто из страха или мести, а кто от безнадёжности или просто из мелкого закостенелого упрямства. Он знал, каково это для Маркуса – оставаться в гостиной, терпя на протяжении трёх часов кряду дежурнейшие, ни капли не занятные рассуждения отца.
Но Дэниел не был радостен. Он думал о том, как желал заполучить Стефани. Заполучить её одну, а не целый её дом. И право ж, не стоило дарить ей сегодня эту прекрасную, эту дивную ночную рубашку, кремовую, с изящными сборками: он видел, какой завистливый взгляд бросила она на книжки Фредерики; понял он теперь и то, что лишь наполовину почувствовал давеча – при сцене любования телеграммами: в Стефани живёт ощущение утраты, поражения. А он и сам невесть какой победитель: один в своём мрачном стоянии, один в своей работе в безымянных домах и гостиных.
Он ещё раз оценил всех присутствующих, включая себя. Три разные группы людей. Бледные, словно готовые иссякнуть из глаз, из памяти Поттеры: Уинифред, Стефани, Маркус. Огненные Поттеры: Билл с Фредерикой; нынче их переговорила мать самого Дэниела, но им по плечу бесконечно метать эгоцентричные речи-стрелы – параболы, сравнения. И наконец, он сам и его мать, увесистые создания из плоти и крови. Мать, разумеется, ужасная, зловредная надоеда. И обжора. Все сегодня видели, как она метёт всё подряд со стола, и бледные, никаковские птички-Поттеры, и огненно-речистые Поттеры, и отдельный в деле еды, щепетильный Маркус, который теребит, ломает вилкой зелёные шарики, чтоб их отвергнуть. А его, Дэниела, ребёнок, который ещё только должен родиться, уже отягощён грузом всех этих людей. Если не суждено ему родиться больничной Мэри, то уж суждено наверняка, генетически, походить на миссис Ортон, или на Маркуса, или на эту ужасную Фредерику. Ведь он плоть от их плоти, кровь от их крови.
Насторожённо, почти суеверно смотрел он на матерей за столом. Собственная его мать, в приторном настроении, плела какую-то небывальщину про его детство (а в действительности только и было, что он день за днём, как проголодается, без лишних слов наворачивал сардины вилкой из консервной банки, а она спала с утра до вечера). Уинифред, истончившаяся, расточившаяся от самоуничтожения своей жизни, от многолетнего подчинения своего «я» этим прожорливым бледным или огненным сущностям. Стефани, двойная, сама в себе заключённая, как яйцо, настолько ненарушимая, что ни Чарли не устрашит её, ни Мэри не поколеблет её спокойной уверенности… Что же получится из этого ребёнка, его ребёнка, мальчика или девочки? Он вдруг почувствовал, что матери, вообще все члены семьи – таят угрозу (как раньше, в больнице, ощущал угрозу от больничных детей).
Он шепнул Стефани расслабиться, посидеть спокойно, а сам отправился на кухню, поразмыслить в одиночестве, а заодно с пользой – помыть посуду. Однако одному пришлось быть недолго, на помощь явилась Фредерика. Вот уж кого ему меньше всего хотелось видеть, тем более что и быстрое вытирание тарелок не относилось к её способностям. Получив в руки полотенце, Фредерика первым делом обмахнулась им от жары. Потом сказала:
– Ну что, вроде нормально прошло?
– Ага.
– Тут всё же попрохладнее, хоть какой-то воздух есть. Не могу находиться среди засыпающей публики.
Ему и самому, если честно, надоело сидеть за столом, клевать носом. Хотя, сказал он уже вслух, воздуха что в гостиной, что в кухне мало, с самого рассвета печёт плита. Протянул Фредерике чистую мокрую тарелку.
– Правильно, мне надо тренироваться. Я ведь уезжаю через неделю-другую. Буду помощницей. Во французской семье. Ну и заодно gouvernante. Зато смогу parler Français.
– Что ж, неплохо.
– Я думала, правильно ли мне оставить маму одну. Она в угнетённом состоянии. Но она не видит во мне пользы. Все невзгоды поверяет Стефани. Я сбоку припёка. Может, оно и к лучшему. Пора мне отсюда двигать, верно?
– Очень может быть.
– Ты меня не очень-то жалуешь. До меня это только недавно дошло. Я всё решала, нравишься ли ты мне. Поняла, что да. Но вижу, что без взаимности.
Дэниел вручил ей ещё одну тарелку и ответил:
– Не в моих правилах много раздумывать, что нравится, а что нет.
– Знаю. Но раздумывать и не обязательно. Оно ведь само проявляется. Я надеюсь, что тебе понравлюсь, постепенно. Мы же теперь, можно сказать, родственники на всю оставшуюся жизнь… Эх, лучше не надо каждый раз устраивать это семейное Рождество. Я мечтаю проводить время с людьми, которых сама выберу. А ты не боишься потерпеть поражение?
– Чего-чего?
– Ну… я смотрю… ты прёшь вперёд как бульдозер – как я. Ты не боишься, что на самом деле ты из другой категории людей… людей, которые останавливаются, оглядываются и страдают?
– Все так делают.
– Нет. Некоторые люди не знают поражения. А некоторые – пораженцы. Посмотри на людей за столом. Ты – не такой.
– Разве? – переспросил Дэниел, передавая очередную тарелку, и тут же пожалел о вырвавшемся слове.
– Выходит, Дэниел, ты тоже чувствуешь, как тебя… пригнетает?
– Ничего такого особенного. Это неизбежно. И сладить с этим нетрудно. Ты просто молодая, излишне драматично воспринимаешь.
– Тоже мне мудрец, сколько тебе самому лет-то?
Дэниел засмеялся. Ему было двадцать четыре.
– И знаешь ещё что, лучше убери Маркуса из своего дома, – прибавила Фредерика, лязгнув пучком вилок и ложек.
– Зачем, он же никому не мешает.
– Ты уверен? Мне так не показалось. Он поглощает энергию. Как автомобильный амортизатор… ну или как там его… антивещество.
С этим Дэниел в душе был согласен, поэтому вынужденно промолчал. Фредерика изучающе смотрела, как Дэниел отскребает, отмывает противни. Его торс и живот нависают над раковиной, рукава рубашки закатаны, виднеются чёрные волосатые руки; густая грива чёрных волос от усилий взъерошилась. Большой мужчина на маленькой кухне, в невыгодном ракурсе, вид полусзади. Жаль, так и не подружились. А впрочем, не столь важно. Её сердце уже полно предвкушением будущего, это какое-то яркое, бескрайнее, залитое солнцем пространство, которое она пролетает, рассекает проворно трассами своих собственных, сияющих дорог. Отныне в жизни Фредерики Поттер останется совсем немного места для этой кучки людей, не слишком милых, но своих, сгрудившихся на стульях в тесной гостиной. Для Дэниела оно может быть и хорошо: смысл его жизни так или иначе вертится вокруг внутреннего преобразования, всех этих преображений, трансфигураций, консекраций, ему всё это ведомо и на простом языке, и на мудрёном. А ей оно незачем. Она уронила и разбила один из фужеров, подаренных на свадьбу Стефани. Дэниел замёл осколки.
4
Юг
Отправляясь в Ним, Фредерика не имела настоящего понятия о том, что такое юг. Знала, что Ним – провинциальный город, и была этим несколько разочарована, «провинциальность» воображалась ею в духе английских романов девятнадцатого века, и совсем не в роде римской провинции, Прованса. Как и всё её поколение тяготея к городам, она думала о Париже, ярких огнях. Из Парижа у неё было заказано отдельное купе – не из-за расстояния («Хотя путь на юг, наверное, долгий»), а из-за времени суток («Не сидеть же всю ночь перед окошком!»). Когда она садилась в свой спальный вагон, у неё состоялись прения с проводником, весьма приятные, на чистом французском: можно было пощеголять сюбжонктивом и условным наклонением и в нужный момент, в ответ на отрицательный вопрос, ввернуть правильную форму «да» (si вместо oui). Однако в споре победить не удалось: на её английском билете проводник упорно читал 7 как французскую цифру 1. Фредерика попыталась объяснить: во Франции 7 пишется с поперечным хвостиком, но в агентстве Томаса Кука (что в Калверли, в Северном Йоркшире) об этом не знают. Проводник молвил: в купе номер 1 уже раздевается некий пассажир. На вопрос по поводу купе numéro sept проводник ничего не сказал, зато разрешил постоять у окошка в проходе, а вагон уже плавно побежал вдоль перрона. Замелькал – под лязг вагонных сцеплений, сквозь узловатые сети проводов – Париж, с его чужестранными, в воздухе висящими сотами крошечных светящихся оконец. Какой-то невысокий человечек, по-компанейски прислонясь локтем к её локтю на перилах вагонного окна, услужливо предложил ей французскую сигарету «Голуаз». Верная своему обыкновению не отказываться от подарков, она взяла сигарету и, всё ещё ликуя от звуков своего французского голоса, что французы её понимают, отвечают ей, – сообщила попутчику, что направляется в Ним погостить в одной семье. Наверное, она с радостью рассказала бы ему гораздо больше, всякое-разное и даже не совсем подобающее, лишь бы слышать, как известное ей, старое, перевыражается в словах нового языка. Ей очень повезло, сказал попутчик, она увидит юг весной, а уж как пахнет маккия![36] Тут воображение Фредерики впервые по-настоящему встрепенулось о юге. Сам-то он едет в Сен-Рафаэль, продолжал попутчик: путешествуем, продаём ликёры, в основном гостиницам. Готов предложить мадемуазель отведать «Куантро», «Гран-Марнье», шартрез, если у мадемуазель негде приклонить голову в этом вагоне.
Фредерика ответила живо, что это славная мысль. Хотя и видела – собеседник слишком волнуется о том, как разрешится предложенная им увертюра. Подобное волнение – отталкивает, а не привлекает, Фредерику не тянуло оказаться запертой на ночь в купе с этим беспокойным человеком. С другой стороны, не хотелось до рассвета стоять в проходе, нанизывая французские слова. Вернулся проводник и объявил, что по счастливому стечению обстоятельств у него имеется свободное купе, пассажир почему-то не явился. Он впустил Фредерику в купе и стоял за порожком, возможно ожидая чаевых, но Фредерике благодарить его было не с руки, в её распоряжении имелись лишь крупные купюры. В результате она с некоторой поспешностью затворила дверь, оставив снаружи и проводника, и разъезжего торговца ликёрами. Одиночество купе просто восхитительно, разъезжий торговец тут же был благополучно забыт.
Частично раздевшись, она зашлёпала по твёрдому, убегающему полу – в чулках, поясе для чулок, комбинации и лифчике. Поизучала кольца-вешалки для полотенец, раковину умывальника под крышкой, оплетённую бутыль с водой. Попыталась что-то разглядеть сквозь смотровое отверстие в опущенной шторе, когда станция с грохотом миновала так быстро, что ни названия не прочесть, ни разобрать узоров чугунных парапетов. Чёрные массы кустов, или каких-то камышовых зарослей, или осок мгновенно, под вой припустившего локомотива, вытянулись неразличимо и продолговато. Ей всё это очень нравилось! Нравилось находиться одной в этой тёплой, освещённой коробочке, а тёмный мир пусть стремится себе мимо. Она свернулась на кушетке, полюбовалась своими длинными ногами, подумала о влечении (разумеется, не к торговцу ликёрами), почитала немножко «Мадам Бовари», немножко «Цветы зла» Бодлера, а потом вдруг проглотила целиком роман Марджери Шарп[37], который, повинуясь безотчётному порыву, купила на вокзале в Лионе… За окошком стал заниматься рассвет, и она подняла штору. Перед ней на необозримом, бледно-лимонно-сером пространстве – ряды каких-то странных древесных созданий, грубых и сильных, но почему-то с плоско, ровно срезанными макушками. Ряды эти не проносились мимо, потому что не имели конца, стояли бесконечными ровными шпалерами. Она даже не сразу и поняла… Лоза в её представлении вилась по решёткам, свешивалась по беседкам, карабкалась вверх. Эти же виноградники, узловатые, корявые, точно корни, принадлежали самой земле, которая, покуда ещё холодная, вот-вот должна была прямо на глазах нагреться от неистово яркого солнца, готового выглянуть из-за горизонта.
Она стала одеваться; наряд был продуманным. Приталенный зелёный твидовый пиджак, в ёлочку. Юбка-тюльпан. Туфли-лодочки на каблуке, очень простые. Бархатная шляпка с вуалеткой (ещё дома укоротила ножницами). Немного загадочный вид имело лицо: стрелки, наведённые карандашиком, смазались, то ли от постоянного качанья вагона, то ли ещё отчего. Она полагала, что можно одеваться дёшево и изящно, если создать скупую благородную линию. Иногда это ей удавалось, иногда же вид получался как у особы лёгкого поведения или же, напротив, слишком постно-унылый. В это утро, спускаясь боком по стальной лесенке – в юбке-тюльпан, на пятисантиметровых каблуках – в песчано-жёлтый Ним, она соединяла в себе, пожалуй, все три впечатления.
Семья Гримо в своём письме сообщила, что встретят её на синем «корвете». О семье она начала думать только сейчас, до сих пор они были лишь средством для достижения заветной цели, побега Фредерики Поттер из Блесфорда и Йоркшира. На другом конце перрона появился крупный мужчина с мальчиком. Фредерика заковыляла к ним на каблуках, волоча за собой тяжёлый чемодан. Встречавшие представились: месье Гримо, Поль-Мари. На Поле-Мари были шорты (каких в Англии не носят), с длинными белыми носками; ноги загорелые до коричнево-оливкового цвета. Фредерика не удостоила его большим вниманием. Гримо-отец с улыбкой подхватил её поклажу. Был он широк в поясе, с седым ёжиком на голове; лицо загорелое, с морщинами от улыбки вокруг рта; на руке кольцо с печаткой, золотая змейка обвилась вокруг халцедончика. Вальяжный, раскрепощённый человек. Спросил Фредерику, как ей доехалось. Она рассказала, уже садясь рядом с ним в автомобиль, по-прежнему радуясь от звука своего французского, про курьёз с проводником. Месье Гримо рассмеялся. Ловко развернувшись от вокзала, он быстро повёл машину по улицам Нима, выбрался на окраину и покатил прочь от города, по прямой дороге, обсаженной платанами; справа и слева шли прекрасно-дикие, но явно возделанные поля. Гримо непринуждённо, с воодушевлением принялся рассказывать и объяснять всё про здешний край и природу. В этом была своя особая просветительская французская и провансальская страсть, которую Фредерика, не имея культурного опыта и не отсортировав ещё впечатлений, не могла взять в толк. Они ехали и ехали по дороге, а чудесный небесный свет разгорался всё ярче.
Эти поля, говорил Гримо, – о, это лавандовые поля, получение лавандового масла – важнейший, исконный промысел провансальцев! Но вообще-то, она попала в Лангедок, что не следует путать с Ланг д’ойль (это уже название средневековых диалектов центральной и северной Франции!). И он принялся рассказывать о трубадурах и сеньорах и тут же самым естественным образом запел, ничуть не смущаясь, перемежая одну песню другой, про лаванду, про миндальное дерево в цвету, про любовь, и всё это пелось на непонятном ей провансальском наречии. Фредерика смотрела на уходящие к горизонту гребни пыльно-зелёно-серых кустов лаванды и воображала, как вскоре вспыхнут они густым сине-алым. Земля лежала ничем не затенённая в этом жёлтом свете; вот ещё виноградники, вот в поле ещё какие-то молодые зелёные побеги (кукурузу она не узнала). Позднее, когда она поедет сюда, на юг, уже тридцатилетней, а потом и сорокалетней, поедет прицельно, располагая благоприобретёнными сведениями о разных занятных местечках, в которых стоит побывать, о местной кухне и винах, о лучших кафе из справочника «Рутье», о давно исчезнувших песчаных дюнах, – она попытается вспомнить свои самые первые впечатления, своё свежее удивление от этого края, которое она пережила в тот первый день на самом деле вполсилы, оттого что её зрение ещё не созрело. Всё тогда пало на её новые, неподготовленные, грубые чувства – неразборчиво-грубым и новым, пыльным и ярким. Лишь запахи, начально-весенние запахи юга, легче ощутимые и застревающие в памяти, и вспоминались впоследствии. Пахучие растения среди камней, можжевельник, розмарин и тимьян (она знала названия, хотя не была уверена, как они выглядят), орегано (даже имени не знала). К propriété, поместью, они подъехали по длинной аллее tilleuls, это слово (липа) она знала, оно жило в её французском словаре, но только сейчас внезапно связалось с формой дерева и волнами запаха. Гримо в этот миг рассказывал, как делают из сушёных цветков липы tisanes, и упомянул как-то неопределённо Марселя Пруста. Tisane (настой), как и tilleul, был в лексиконе Фредерики, но лишь как слово, название, а не как вещь, и пройдёт какое-то время, прежде чем она поймёт эту связь с Прустом, который вошёл в её сознание благодаря кошмарному сну перед вступительным экзаменом в Оксфорд. Этот сон она и вспомнила под рассказ Гримо под плывущими мимо душистыми ветвями.
Ей снилось, будто её заперли в школьной библиотеке, на столе лист чистой бумаги, и нужно письменно ответить на один-единственный вопрос: «Сравните метод повествования в Прусте и „Томе Джонсе“». Ни о том, ни о другом (в этом сне) она понятия не имеет и горько плачет от стыда и бессилия. Когда же она проснулась, то была раздосадована тем, что во сне спутала две разные категории – человека и книгу, – а ведь эта логическая ошибка уже частично и даёт ответ на престранный вопрос. «Пруст» – метонимическое обозначение книг, написанных Прустом, тогда как «Том Джонс» – герой одноимённого романа, которого не писал. Долгие годы, вспоминая случайно этот сон, она не могла отделаться от тех эмоций, стыда и раздражения, – даже после того, как в 1969 году на вечеринке некий психолог доложил ей, что такие сны весьма часто снятся тем, кто в жизни с успехом сдаёт настоящие экзамены любой трудности. Тогда же, в 1954 году, Фредерика мрачно задумалась о том, какое фиаско потерпела в сновидном странном испытании, а машина уже въезжала под арку – если не средневекового, то ренессансного обличья – во внутренний двор. Будет идти время, десять лет, двадцать лет, тридцать лет, и с годами первое впечатление от поместья Нозьер обретёт совершенство и, как ни странно, первородность (подобно тому как наше сознание, лишь очистившись вдруг от потока повседневных занятий, планов, ожиданий, способно воспринять смерть как чистую правду, и вся наша жизнь прорисовывается, стягивается, как из будущего, так и из прошлого, к этой единой точке осознания). Двор огорожен был стеной золотистого камня в пятнах лишайника, чистейшая пыль лежала на этой стене. Кудахтали, бегая по двору, куры.
Мадам Гримо, с собранными наверх гладкими чёрными волосами, коротенькая и подбористая, с нерасплывшейся талией, плотными бёдрами, стояла на крыльце; при ней были две дочери подросткового возраста, нескладные и нахмуренные, с ними-то и предстояло заниматься Фредерике. За этой группой маячили, перемещались фигуры в чёрных платьях – первые средиземноморские прислужницы в чёрных платьях, которых она увидела. Начались многочисленные вежливые приветственные рукопожатия, Фредерика, движимая отчасти природой самого языка, выдала несколько французских фраз, изящно выражавших благодарность. Затем, уже в доме, в столовой под каменными сводами (стены были темны, пол выложен из плитняка), за огромным дубовым столом, ей предложили чашку горячего шоколада, огромный кусок французского багета с хрустящей корочкой, несолёное сливочное масло (опять-таки первое в её жизни!), а также конфитюр о сериз, конфитюр с кусочками вишен. По лестнице с каменными ступенями и перилами кованого чугуна её провели наверх в её огромную комнату, стены которой выкрашены в густо-тёмно-голубой цвет. Он напомнил ей открытку с картиной Ван Гога «Звёздная ночь» и даже ещё сильнее – афишу фильма Лоуренса Оливье «Генрих V», её фон с геральдическими лилиями. Эта порошистая синяя темнота её изумила: в Англии никому б не пришло в голову красить комнату в такой цвет, чем-то даже напоминавший бельевую синьку. Пол выложен плиткой, блёкло-голубой и тёмно-желтой. Кровать высокая, к тому же с пологом, застелена хлопчатобумажным, крючком вязанным покрывалом с шишечками и кружевными просветами. Имелся умывальный столик с рукомоем, фарфоровой раковиной, ведром для грязной водицы. Эта комната размерами вдвое превосходила гостиную в домиках на двух хозяев в Учительской улочке в Блесфорде. Ни большого, ни маленького письменного стола в комнате Фредерики не было, зато присутствовал, как и полагается в спальне, целый набор мебели – гардероб, комод, шифоньер (тяжёлые, в жёлтый тон выкрашенные). Всё тут чужеземное. И это чрезвычайно занятно. Столько непривычных вещей! Вместе с тем Фредерика чувствовала себя совершенно опустошённой. И к собственному ужасу, испытала мимолётную тоску по коврам, книжным шкафам, маленьким распашным оконцам, рукотворным отопительным устройствам – по всему английскому, хорошо знакомому.
Позднее, по крайней мере на протяжении целого ряда лет, она не была способна представить это время в Провансе как часть своей жизни, поэтому вряд ли стоит сейчас рассказывать о нём читателю излишне подробно. Воспоминания Фредерики об увиденном были куда менее подсознательными и непреложными, чем у Стефани или даже у Маркуса. Её голова, в отличие от их голов, была замкнута сама на себя, отталкивала всё внешнее и постороннее – что-то неличное туда впускалось лишь ради решения какой-нибудь неотложной интеллектуальной задачи. В 70-е годы, когда в культурном слое открылись ей прожилки воззрений Эзры Паунда на живые и отживающие культуры, воззрений, во многом связанных с Провансом, она задним числом поняла, что лёгкие, непринуждённые лекции Гримо о родном крае, фольклоре, языке (в гуще которого она очутилась) и были признаком живой энергии в провансальской общине, тогда как у неё на родине, в английском Йоркшире, исторический праздник культуры уже отцвёл, остались лишь жалкие потуги, эрзац-энергия. Билл Поттер как йоркширский почвенник мог кое-чем гордиться: его слушатели-вечерники – общим жаром сравнявшись с членами социалистического фабианского общества – собирали местные слова, описывали характерные примеры общественного поведения, семейных взаимоотношений. Однако подопечные Билла не обладали ни солнечной живостью натуры Гримо, ни его ясным пониманием, что́ именно из наследия надо хранить, чем делиться с миром.
Эта семья не была её собственной, более того – её собственную, отсутствующую и размётанную, заставила резко отступить в тень. Эта семья оказалась к ней очень добра. Гримо был капитаном судна, ходившего между Марселем и Тунисом. Его не бывало дома по неделям; он возвращался, тяжело гружённый алжирскими gigots (задними ножками барана), канистрами оливкового масла, мешками бобов. Поместьем управляла мадам, оно было большим, но не «требующим больших трудозатрат» (это выражение, впрочем, обогатит лексикон Фредерики лишь примерно в 1960 году). Поместье включало гектары виноградников (сколько именно, она так и не узнала), а также персиковые и вишнёвые сады, гряды с дынями, огород. Здесь был избыток итальянских работников, сезонных в саду, и постоянных служанок в доме, так что «помощницей по хозяйству» в подлинном смысле ей быть не пришлось.
Два или три новых, необычных, хозяйственных навыка она, впрочем, приобрела (это притом, что собственную кровать ей застилать было незачем). Она научилась ежедневно срезать спаржу на широких, валками устроенных, даже горбатых каких-то грядах, за золотистыми стенами двора. Выглядывала вновь проклёвывавшиеся лиловые головки и острым, но туго раскладывающимся от земли и песчинок ножом ловко срезывала их чуть под землёй. Она также научилась помогать в приготовлении блюд, которые сама в 1954 году, как ей тогда казалось, не жаловала. Соус айоли, говядина на пару́, козлёнок, тушённый с вином, помидорами и чесноком, суп из овощей, прокрученных через ручную мясорубку, затейливо заправленные салаты из незнакомых ей листьев и веточек, розово-лиловых, кремово-белых, тёмно-шпинатовых, кудряво-бледно-зелёных. Она была при вертеле, на котором запекались алжирские бараньи ножки, нашпигованные чесноком и анчоусами; нужно было находиться в своеобразной овальной клетке металлических прутьев перед огромным очагом, где пылал жаркий огонь из обрубков виноградной лозы. Она сидела на скамеечке в этой оградке и время от времени приводила в движение вертлюг да поливала барашка маслом и собственным его соком с помощью дьявольского вида длинной ложки.
Её единственное явное достоинство, хороший французский, оказалось на поверку недостатком. Мари-Клер и Моника не преуспели с ней в английском, потому что были напуганы ею, а она – ими. Она добросовестно переписывала их домашние работы на добропорядочном английском, но беда заключалась в том, что она – по крайней мере в те годы – ещё не почувствовала в себе наследственно-семейного учительского призвания, не умела объяснять принципов, согласно которым исправляла у них в тетрадях грамматику и строение фраз. И хотя их отметки улучшились, знания английского не прибавлялось. Лишь намного позднее ей пришло в голову, что виновата была она сама, самодостаточная в учёбе и эгоцентричная: угрюмое невежество сестёр казалось ей неисправимой чертой их натуры. Мадам Гримо наблюдала за всем с бодрым благодушием, а однажды заметила, что, по крайней мере, Фредерика оказывает на детей нравственное влияние. Фредерике эти слова показались признаком чудовищной непроницательности. Однако позднее, уже в Англии, она подумала, что это ведь могло быть произнесено и с иронией, – впрочем, к тому моменту она уже забыла – по какому поводу и с какой интонацией? – только помнила, что было это в Ниме, на ступенях Мезон Карре, древнеримского храма, на жутком припёке, где в каменном сиянье носился жаркий воздух.
Они постоянно предпринимали благожелательные попытки её развлечь. На второй день ей, интеллектуальной акуле, выдали резиновый мячик на резиновом шнуре, закреплённом в деревянном ящичке с противовесом, и деревянную ракетку, чтобы отбивать этот мячик. Она стояла во внутреннем дворе, честно и торжественно пытаясь играть в эту игру, джокари, но игра не ладилась. В свои семнадцать она испытывала скованность мышц, и не голод движений, а девичий голод. Все служанки, вместе с мадам Гримо, делая свои обычные домашние дела, наблюдали за ней из дверей и окон. Фредерике это напомнило – mutatis mutandis, с необходимыми поправками, прежде всего в части намерений, – но тем не менее напомнило «Большие надежды», как мисс Хэвишем наняла мальчика Пипа, чтоб приходил к ней играть, и там был двор заброшенной пивоварни, где происходит первая встреча Пипа с Гербертом Покетом (Фредерика всегда испытывала досаду оттого, что не могла этот диккенсовский двор наглядно вообразить).
Её брали с собой повсюду. На рассвете на крытый рыбный рынок, выбирать рыбу для знаменитой марсельской ухи буйабес (что не внушило ей никакой романтики: ещё не были прочитаны ни описание великой ухи в каланках у Форда Мэдокса Форда[38], ни описание видов и причудливых цветов рыбы на прилавках в кулинарной книге Элизабет Дэвид). Вместе с мадам Гримо она посетила её портниху, в ателье имелся коренастый, регулируемый манекен французских форм мадам Гримо, без головы, на металлической ноге. На каждом шагу были знакомые, все то и дело останавливались друг с другом поболтать. В ателье, помнится, были попугаи-неразлучники, а также чёрный кофе с печеньем langues de chat, кошачьи язычки. Неразлучники, впрочем, в её воображении почему-то вскоре превратились в одного-единственного большого сторожевого попугая, на металлической ноге. Она посещала соседние propriétés, отхлёбывала из бокала маленькими глоточками аперитив (а наливался бокал из бутылки, не имевшей этикетки), отведывала белый портвейн – на верандах, в беседках, увитых глицинией, под акациями. В двух из этих семей были молодые люди мужского пола, сыновья и наследники, которым предстояло унаследовать землю предков: серьёзный молчун Мишель, шумный Дани, который знал одно английское слово – «блуджинсы»; а ещё была девушка Дани, раздражительная и темпераментная Ламбретта, взбивавшая мыском туфельки бледную, чистую пыль. Сыновья её заинтересовали, особенно Мишель, но она сразу поняла, что для них незрима, не вполне реальна, как – часто, практически всегда! – бывает нереальна любая няня-иностранка, помощница по хозяйству. Она много говорила при них, они оборачивались, удивлялись её французскому, но говорили об этом промеж себя, к ней не обращаясь; она подумала, что представляет собой для них что-то вроде шарманки, ей же хотелось не только мужской близости, но и восхищения.
Когда был дома месье Гримо, предпринимались более осмысленные культурные вылазки. Однажды они отправились в нимский (древнеримский) амфитеатр, залитый светом прожекторов, где смотрели оперу «Мирей». На этой же арене в другой день происходил бой быков. Она честно желала познать эстетический восторг этого действа, увидеть и понять «момент истины», пускай даже зрелище её оттолкнёт. Но увидела лишь медленный, малоизобретательный, мешкотный и надсадный убой, от которого её (с её типично английской любовью к животным) в прямом смысле замутило. Что немало огорчило Гримо, ведь он был aficionado и ещё накануне ей рассказывал о происхождении этого испанского слова, означающего ярого любителя корриды, от латинского affectio, тяга, склонность, любовь. Амфитеатр с его ареной вдруг как будто дохнул ей прямо в ухо и ноздри – своим столетним запахом кровопускания, – однако даже и это не могло её взволновать – может быть, потому, что нимцы не рычали, требуя крови, в отличие от римлян, но пеклись себе приятно на солнышке, оживлённо обсуждая тонкости работы с плащом. В какое-то мгновение, правда, Фредерика почувствовала: они взметнулись, словно в каком-то припадке, зашипели, заулюлюкали, – но Гримо тут же объяснил ей, что это они стихийно выражают своё неодобрение художнику Пикассо. Вон там, на противоположной трибуне, его можно с трудом разглядеть – коричневое личико в чёрном берете. Толпа, объяснил Гримо, считает его искусство шарлатанским! Фредерика тщетно попыталась вообразить английских футбольных болельщиков на трибунах, столь же истово и коллективно ополчившихся на какого бы то ни было современного художника… и вдруг вспомнила репродукции Пикассо на стенах кабинета Александра Уэддерберна в школе Блесфорд-Райд. Она была тогда влюблена в Александра. Сейчас, находясь вдали от дома с его неразберихой, она была уверена, что по-прежнему Александра любит. Хотя, надо сказать, в Блесфорде этой своей любовью она распорядилась дурацким образом. Вряд ли Александр обрадуется, получив от неё весточку, поди, и думать-то про неё не захочет. Картины Пикассо у Александра на стене относились к «голубому» или «розовому» периоду, все эти арлекины, комедианты-салтимбанки́, необыкновенный «Мальчик с трубкой», в венке из цветов. Странно было сидеть здесь, далеко от Блесфорда, среди солнца и криков, – и видеть в отдалении как бы двоящиеся маленькие кружочки – светлый и тёмный, – лицо и берет художника, который создал все эти произведения. Его линии очень экономны, молвила Фредерика своему спутнику, а тот, с какой-то даже тревогой взглянув на неё, принялся презрительно рассуждать о женщинах с тремя грудями, об одноглазости, о том, что эти, с позволения сказать, картины – куда более инфантильны, чем работы художников кроманьонского периода. Более того, сердито проговорил Гримо, он, видите ли, «открыл» традиционную керамику Валлори́са – лучше б он этого не делал! – по его вине сей промысел, некогда высокохудожественный, выродился в изготовление отвратительных пепельниц с изображениями искажённых быков и примитивных голубок. Пикассо полюбил местную традицию – и погубил её! – с презрением воскликнул Гримо. Фредерика подумала, что подобный взгляд отдаёт мещанством, и лишь позднее поняла, что Гримо был просто правдивый человек. А вот его рисунки корриды, продолжал Гримо, и впрямь обладают определённой художественной ценностью. Фредерика промолчала: этих рисунков Пикассо она не знала, да и про корриду уже невыносимо разговаривать.
В тот же день в витринах мясных лавок появились кровавые отбивные из мяса убитых на корриде быков, они свисали с крючьев или лежали веером на белых блюдах. Семья Гримо купила и зажарила целый ряд этих отбивных – Фредерике объяснили, что такова местная традиция. Увидев у себя на тарелке эту отбивную, Фредерика невольно поднесла руку ко рту, её замутило при свежем воспоминании о том, как повалилась, дёргая ногами, чёрная туша, как из раны от пики растеклась по лопатке густая кровь, как чертили по песку и опилкам рога, когда тушу волокли с арены. Позднее она узнает, что некто Ж. Оливье, уроженец Прованса, полагал, что самоизувечение Ван Гога в Арле связано с тамошним ритуалом боя быков. Победитель-матадор, пишет Оливье, в качестве награды получает отрезанное ухо поверженного быка. Матадор обходит с ним арену, показывая всем, после чего вручает заветный приз «даме своего сердца или какой-нибудь зрительнице, удостоенной его внимания». (В тот достопамятный день ушами никого не награждали!) Итак, утверждает Оливье, Ван Гог, после перепалки с Гогеном, чувствуя себя одновременно и побеждённым и победителем, отрезал собственное ухо и вручил, в свою честь, даме своего сердца, арльской проститутке[39].
Виноградник Гримо давал неплохое vin rosé, розовое вино, которым Фредерика запивала ранний обед, словно водой, но, в отличие от Мари-Клер, Моники и Поля-Мари, водой не разбавляла, полагая, что это как-то по-детски, да и эстетически сомнительно – разводить доброе вино. В результате у неё развились жгучие головные боли, головокружения и устойчивая вялость, которые Гримо, со свойственной им благожелательностью, относили на счёт мистраля, жары, непривычного питания. Возможно, они были даже рады, что после полудня – становясь в этот час смурной и несколько раздражительной – она погружалась на время в глубокий сон.
Книг в семье водилось мало. Месье Гримо рассказал ей об основании Нима римскими ветеранами, которые приняли участие в победоносном походе Октавиана против Антония и Клеопатры и получили тут в награду земли. Имена этих почтенных легионеров дошли до наших дней – Антонин, Нума, Флавий, Адриан, равно как и эмблема победы над змеем старого Нила – вездесущий, прикованный на цепочку нимский крокодил. Гримо свозил её в Юзéс, куда некогда явился к своему дяде-священнику молодой Расин, и жил здесь на лоне природы, и искал церковного бенефиция, и начал писать пьесы. Юзес, расположенный на холме, представляющем собой пологий конус, всегда был и остаётся тёмно-охристым городком словно бы из других веков, с жёлтыми, точно грибные шляпки, друг из-под друга выглядывающими геометрическими крышами. Таким был он, должно быть, ещё в те времена, когда Шекспир писал «Антония и Клеопатру». Фредерика попыталась разговорить Гримо на тему Расина, но моряк, хоть и знал на память несколько отрывков из монологов героев, если чем-то интересовался, то перипетиями судьбы драматурга и его посмертной славой, а никак не сочинениями и мыслями. У Гримо было по томику Расина, Мольера, Шатобриана. Нашёлся Хемингуэй в переводе на французский, опять про корриду, а ещё про то, как «земля качнулась»[40] и стало только тоскливее, голоднее, захотелось жизни, любви, дела. К тому же, как оказалось, она соскучилась по родному языку. Мадам Гримо отвела её в библиотеку города Нима, длинное здание сумрачного вида, с высокими ставнями за декоративными металлическими решётками; старые пыльные книги в кожаных переплётах хранились на полках под самым потолком. Английский ассортимент был так небогат, что ничего лучше полного собрания сочинений Тобиаса Смоллетта не нашлось, его-то она и унесла с собой. Конечно, не такие бы книги ей хотелось класть под подушку, но он был англичанин и о чём-то повествовал. Повествование – не оно ли дурманит и баюкает? А длины романам Смоллетта не занимать.
Потом мадам Гримо осенило – велосипед!
Усевшись в седло, Фредерика пустилась обследовать удивительно неразнообразные, плоские, знойные окрестности. Она тряслась по колеям между рядами виноградных листьев в кобальтово-синих крапинках от опрыскивания. Слушала цикад и вдыхала всепроникающий аромат лакрицы, которую выращивали здесь в больших количествах и перерабатывали на фабрике близ Нимской дороги. Порою она лениво соскальзывала с велосипеда и, усевшись прямо в дорожную пыль в этой классической французской колее, под бледно-ярким небом, разморённая вином и жарою, принималась клевать носом. Она решила, что будет писательницей. Принимая во внимание, что письменное слово в семействе Поттер безмерно уважали и что Фредерика с огромным удовольствием и завидным мастерством писала школьные сочинения, – этот порыв был неминуем. Кроме того, как известно, пребывание на чужбине пробуждает писательское начало в людях, и менее помешанных на слове, чем Фредерика Поттер. Я не думаю, что порыв писать о новом для тебя чужом крае можно хоть в какой-то степени сравнить с чувственным восторгом, который охватывает живописца, когда он соприкасается с новым освещением, новыми формами, новыми цветами; так, Моне увидел свой мыс, Кап д’Антиб, в голубом и розовом, Тёрнер узрел яркий водянистый венецианский свет в Венеции, Гоген всё обрёл на Таити. Красочный пигмент – это пигмент, а свет – это свет, в любой культуре. Но слова, медленно приобретаемые человеком на его веку, – часть совершенно иного восприятия мира, они растут вместе с нами, они определяют и ограничивают, что́ мы видим и как видим. Это я пытаюсь объяснить вам парадокс: почему столь многочисленные литературные описания чего-то чужого, диковинного, нового – столь схожи? На примере Фредерики я постараюсь показать трудности письма о чужом.
Ей захотелось переложить в слова южный пейзаж. Традиция взгляда на пейзаж, к которой она принадлежала, была глубоко вордсвортовской (хотя сердце подсказывало, что Вордсворт предназначал свой язык лишь для своего времени и места). В Озёрном краю Фредерика могла бы увидеть озеро среди холмов, и припомнить, каким характерным местным словом называет такое озеро поэт, и вообще описать его в вордсвортовских словах и выражениях, а поскольку эти выражения известны, опробованы, обдуманы, то можно, внося в них маленькие изменения, сдвиги, добавить какой-то дополнительный нюанс, поэтом не замеченный, создавая тем самым собственную точку зрения на предмет. В Андах есть пастухи, у которых для выражения оттенков коричневого в шкуре овцы более шестидесяти слов. Ну так на то они и пастухи в Андах. У Фредерики имелись точные слова, выражающие оттенки поведения во время коллективного чаепития, а также тонкости магазинных повадок йоркширских матрон. Было у неё и некоторое множество (пополняемое) разнообразных слов для описания устройства шекспировского сюжета и шекспировских метафор. Новое, как ни парадоксально, она находила в старых клише. Тот же Вордсворт, осмеянный за подобную склонность, полагал, что воротился к невинному зрению. Он сообщил нам, что трава – зелёная, а вода – влажная; через внешнюю привычность обозначений вышел к первородному изумлению, изумлению перед тем, что вещи – именно таковы, а не иные; и, словно в мифе, стал давать вещам имена, находить имена для вещей, а не просто слова повторять. Так в своё время и Дэниелу, гулявшему со Стефани по песчаному берегу в Файли, вдруг открылось – открылось его метафорическому зрению, столь же телесному, как дыхание, – почему любовь зовут «сладкой», и сразу же, с толчком крови: отчего любимую называют «сердечком» и «конфеткой». Фредерика же впервые теперь увидела, что свет – золотой, оливки – тёпло-чёрные, а деревья, на которых они растут, – точно присыпаны серым порошком; что лаванда – как лиловый туман. Но когда она написала все эти слова на бумаге, они показались ей – да и были! – затасканными, сотню раз кем-то сказанными, вторичными.
Фредерика также была в достаточной мере дитя своего времени, чтобы сразу задуматься о романе. «Роман – ярчайшая книга жизни», – учительно молвил Д. Г. Лоуренс. Ему вторил Билл Поттер: «Роман – наивысшая форма выражения, достигнутая человеком». Спроси кто-нибудь Фредерику, верит ли она в это, она бы стала отбрыкиваться. Тем не менее – несмотря на вордсвортовские корни – писательский порыв в 50-е годы принял у неё лоуренсовскую форму. О сюжете она не имела понятия. Или скажем так: не умела распознать те начатки сюжета, которые водились в голове. Да и фантазией в те дни не отличалась.
В качестве персонажей она попробовала использовать Дани с его Ламбреттой и молчуна Мишеля, но получилась какая-то дичь. Тогда она обратилась к Александру и безуспешно попыталась превратить этого очень английского поэта в божество здешних оливковых рощ. Результат оказался плачевным: её девичий голод, до этого тихий, сделался болезненным, а сам Александр в её сознании – отвратительно ненастоящим. Она попробовала прибегнуть к форме дневника, но в дневниковом письме подспудно и скучно проступало, что Фредерика Поттер скучает и, к собственному стыду, тоскует по дому. Она не могла сообразить, как встроить в повествование Мари-Клер и Монику, Поля-Мари и мадам Гримо, не говоря уже о местном винодельческом кооперативе, магазине лакричных конфеток или о протестантской общине города Нима. Фредерика, несмотря на эгоцентричность, была хорошим критиком и признала – горестно, но быстро, – что писательство не её удел.
И вот, сдавшись, она сидела между рядами винограда на жарком солнце, то задрёмывая, то снова пробираясь сквозь пыльные томики романа Смоллетта «Приключения Перигрина Пикля», переплетённые в тёмно-красную, с золотым тиснением кожу. Настоящие книжные черви встревоженно выползали из своих тёмных закоулков на знойный свет, переползая по шедевральным сценам, где престарелые леди бесконечно долго удерживают мочу, чтоб можно было потушить мнимый пожар, или подслащают своё зловонное дыхание фиолетовыми пастилками, дабы обмануть желанных молодых любовников. Фредерика не задавалась целью понять, с какими побуждениями создавался сюжет, складывались слова, она принимала всё на веру, как ребёнок в детстве – сказку.
А что же Винсент Ван Гог? Прованс таков, каким он его написал. Созданные им образы стали визитной карточкой, по которой мы узнаём какие-то вещи, прежде всего кипарисы, оливы, какие-то сочетания каменистого пейзажа и растительности, линию Малых Альп на горизонте, долину Кро, узнаём самый свет Прованса.
Голландец, в отличие от Фредерики, прибыл сюда с совершенно определёнными эстетическими ожиданиями. Он ожидал найти здесь «японские» сюжеты для картин, формы Сезанна и Ренуара, южный свет, возведённый Гогеном в чин мистической необходимости. И увидел всё это именно таким, каким хотел увидеть. Кроме того, он встретил здесь, под этим же горячим небом, кое-что и вполне голландское, например мосты, внешне ничем не отличающиеся от мостов в Делфте или Лейдене, разглядел в солнечном блеске цвета, напомнившие ему сильнее всего мягкие синие и жёлтые оттенки с полотен Вермеера. Ну и конечно, разглядел он одновременно и то, что никто до него не увидел, что принадлежит только ему. Подсолнухи, кипарисы, оливы…
Дорогой Тео,
нынче ранним утром я уже написал тебе письмо, а потом пошёл и продолжил работу над картиной, где освещённый солнцем сад. Потом я занёс картину в дом – и снова вышел, уже с чистым холстом, и с ним тоже закончил. И вот теперь у меня появилось настроение ещё для одного письмеца.
Потому что никогда мне ещё так не везло: природа здесь чрезвычайно красива. Что ни возьми, где ни возьми. Небесный купол – чудесно синий, солнце имеет бледное зеленовато-жёлтое сияние, точно сера, вместе же это мягко и очаровательно, как сочетание небесно-голубого и жёлтого на полотнах Вермеера Делфтского. Я не умею работать красками столь красиво, но работа меня так захватывает, что я не держу себя на поводке, не следую никаким правилам…
Здесь более сильное солнце: оказывается, Писсарро говорил мне сущую правду, да и Гоген в письме тоже. Простота, обесцвеченность, значительность великого действия солнца.
На севере такого даже и не заподозришь[41].
5
Ма-Роз. Ма-Кабестань
Ма-Роз
Ранним летом семья отправилась в своё летнее жилище, Ма-Роз, небольшой сельский домик с белёными стенами (побелка была розовой) на склоне холма в Нижних Альпах, в окрестностях горы Ванту. Свою бесполезную и колючую англичаночку они взяли с собой, желая подарить ей культуру, Лазурный берег, природный парк Камарг. Однажды её повезли в Авиньон, где тёплым вечером на открытых, ярко освещённых подмостках во дворе Папского дворца давали французскую постановку «Макбета». Это был спектакль Национального народного театра, в главных ролях – Жан Вилар, голенастый, худой и романтичный, больше похожий на про́клятого поэта-трубадура, чем на шотландского кровавого мясника, и Мария Казарес, изящно-белая, неистово-патетическая. Вот она смывает кровь с рук, в то время как с высоких зубчатых стен пронзительно вопят ангельские трубы. Пьеса буквально мчится галопом – не иначе как из-за языка. Не веский, степенный ямб – «И завтра, завтра, завтра», а нагая французская проза-скороговорка – «Demain et demain et demain».
В антракте Фредерика неожиданно, в кои-то веки сделалась полезной. Стала декламировать утомлённым от скуки юным Гримо куски «Макбета» на память – оказалось, помнит довольно много, – настоящий, густой, недоступный Шекспир так и хлынул из уст. И сразу же её схватила острая тоска по дому – не по вересковым долам, а по речи людей, по летним вечерам, по долгим денькам прошлого лета, когда на ступенях елизаветинской террасы Лонг-Ройстон-Холла ставили пьесу Александра. Стих Александра – тугой, упругий, живой, точно бутон английской розы… Она декламировала ёрзающим Гримо про то, как меркнет свет, ворон летит в свой лес, все добрые дневные созданья заснули и вот-вот должны явиться злые слуги мрака[42], – как вдруг откуда-то сверху, с галёрки, раздался голос:
– О, эту актрису я знаю. Юная Фредерика Поттер! «Перед мечом я не смущусь, не дрогну…» Нет, не это. Вот это. «Ни капли моей крови не отдам!» Помните?
Звук родного языка был отраден, но удар был ниже – сильно ниже – пояса! Да это же Эдмунд Уилки, талант и эрудит, которому в невозможно роскошном эдвардианском номере Гранд-отеля в Скарборо подарила она, пролив при этом моря крови, свою девственность!
– Уилки, ты где? Не вижу в темноте. Что ты здесь делаешь? Excusez-moi, Madame, c’est un ami, un ami de mon pays…[43]
Уилки втёрся на соседнее место. Здесь, в Папском дворце, как и в Лонг-Ройстон-Холле, публика сидела на грубо сколоченных сиденьях, устроенных ярусами. Они переместились немного вбок. На сцене был танец Граций, или королевских достоинств, о которых вещал Малькольм[44]. Уилки ничуть не изменился. Вкрадчивый, тёмный, по-звероватому пухленький, в огромных пучеглазых очках, типичный университетский учёный.
– Monsieur Grimaud, Madame. Edmund Wilkie. Un ami, un étudiant de psychologie, un acteur[45]. Уилки, откуда ты здесь вообще?
– Уместнее, откуда здесь ты, Фредерика? Я-то в гостях у Мэттью Кроу, в Ма-Кабестань. Это французская штаб-квартира Кроу. Ужасно красивое поместье. Множество приятнейших людей. Ты загорела, как негр, и облезаешь кусочками, как платан. Как ты тут, не скучаешь?
– Я помощница по хозяйству и гувернантка. У достойных, добрых людей. Наш здешний домик – в окрестностях Везон-ла-Ромен.
– От нас недалеко. Можем как-нибудь встретиться. В Ма-Кабестань много старых приятелей. И приятельниц. Главная красотка Антея Уор… как там бишь её?..
– Уорбертон.
– Она самая. И Уэддерберн. Он теперь заважничал, такой весь из себя радиоведущий. Ты, наверное, знаешь про его новое занятие.
– Да, мне рассказывали… – Фредерика скосилась вбок, прикусила губу. Целая скамейка Гримо ждёт от неё сейчас не этой болтовни, а Шекспира, извольте наконец работать за свои денежки, всё это неловко и мучительно. Спросила как можно безразличней: – Как у него вообще дела?
– Вот глупая. Сама чего не спросишь? Он приехал ещё на прошлой неделе, специально чтоб увидеть эту постановку. Нам с Кэролайн сказал, идите сегодня. Но у Кэролайн жуткое похмелье, куда ей, бедняжке, в театр, и я привёз его самого сюда на мотоцикле, на заднем сиденье. Ему захотелось ещё разок посмотреть. Он там, наверху. – Уилки повёл рукой неопределённо вверх, в сторону галёрки.
Пронзительно и ясно пропели трубы из-под высоких дворцовых сводов, возвещая наступление последнего акта.
– Les anges, – сказал Уилки, – rayonnent toujours, bien que le plus radieux soit déchus[46]. Правильно? Звучит забавно. Видишь его? Во-о-он там. Ладно, увидимся, я пошёл.
И ловко, точно обезьяна, стал пробираться-карабкаться вверх по рядам сидений. Фредерика вытянула шею ему вслед. И правда, в свете, отражённом от башенного зубца: кто-то худощавый, длинный, сжавшийся в тесноте – чей-то белый распахнутый ворот рубашки, – и, совсем уже смутно, строгое, хмурое лицо… Александр?..
– Знаешь, кого я там сейчас встретил?
Молчание.
– Фредерику Поттер в роли гувернантки с выводком французских детей.
– Боже.
– Мне показалось, она прямо-таки мечтает тебя увидеть. Узнала, что ты здесь, прямо-таки встрепенулась.
– Боже.
– Она любит тебя, Александр.
– Чепуха. Девушка-удав. Всегда такая была и будет. Отстань, не мешай смотреть спектакль.
Фредерика взволновалась. Вспомнила последнюю свою встречу с Александром… по-прежнему слегка затрудняясь дать объяснение собственному поступку. С величайшей тщательностью и осторожностью она вела подготовительную охоту, в нужное время атаковала Александра прямо в лоб, неотразимо, раздразнивая, оставалось лишь пожать плоды: возжелавший её Александр должен быть явиться к ней на ужин, во временно опустевший дом Поттеров. А она?.. А она вдруг вскочила на заднее сиденье мотоцикла Уилки и умчалась с ним в Скарборо. Александра она любила. Эдмунд же Уилки был просто приятель, с которым приятно поболтать. А любила она, всегда, одного только Александра. Но ей – как она теперь, кажется, наконец поняла! – было важно, чтобы эта инициация совершилась безлично, при полном её хладнокровии. И как же объяснить Александру, который, скорее всего, не захочет всего этого понимать?..
«Elle aurait dû mourir ci-après. Un temps serait venu pour ce mot»[47].
То-то и оно… «Пристало б вести сей иное время».
Нынешние эмоции Александра были гораздо проще. Он не мог в точности припомнить, почему и насколько сильно желал тогда Фредерику. Облачко воспоминания имело ярлычок – временное безумие театрального деятеля. Ясно помнилось лишь одно: она выставила его чрезвычайным дураком. В ярости сшибал он ногами подсолнухи и ромашки в крошечном квадратном садике… Ему не хотелось заново пережить даже тень подобного.
Tous nos hiers n’ont qu’a allumés, pour les sots, une voie vers la Mort poussiéreuse[48].
Тем не менее после спектакля две компании не могли не столкнуться в тёмном вестибюле дворца. Уилки ринулся к Фредерике, ярко тараща свои глазища обезьянки-галаго. Александр, наоборот, держался поодаль. Поскольку мотоцикл Уилки был хитроумно припаркован под самым крепостным валом, гораздо ближе, чем синий «корвет», Уилки удалось замедлить, даже обратить вспять шествие семейства Гримо, и Александру пришлось приблизиться к остальным. Уилки обожал такие моменты.
– Привет, Александр.
– Привет.
– Monsieur Grimaud, Madame, Monsieur Alexander Wedderburn… un écrivain anglais… qui a écrit de belles pièces… très renommées… un amis… de mon père[49].
Все раскланялись. Александр, говоривший по-французски не столь свободно, как Фредерика, спросил с неуклонной учтивостью, как Гримо нашли спектакль. Те стали отвечать. Фредерика вклинилась, заметив, что этот французский перевод Шекспира прозой странно ложится на английское ухо. Александр обратился в молчание. Уилки записал адрес Фредерики. Месье Гримо, заинтересовавшись новыми знакомцами и надеясь развлечь свою англичанку, нарисовал, с капитанскими ухватками, на конверте карту, изображавшую подъезды к Ма-Роз со стороны Везона и Ма-Кабестань. Тут же высказал предположение, что Ма-Кабестань, скорее всего, так назван в честь знаменитого трубадура, чья судьба – истинная провансальская судьба – была ужасна, трагична: куртуазная любовь, ревность, кровь… А в Ма-Роз нет газа, электричества, водопровода, но зато он на склоне холма, рядом бьёт ключ, воздух чист, и хорошо видна гора Ванту, Ветреная гора, 1912 метров над уровнем моря, прославленная восхождением на неё в 1336 году великого поэта Петрарки, певца Лауры. Приглашаю вас, месье Уилки, посетить нас в Ма-Роз, говорил Гримо, вас и, конечно же, месье Уэддерберна тоже. Александр смотрел на звёзды и переминался с ноги на ногу (раньше Уилки на мотоцикл ему не сесть). Фредерика, тоже глядя на мотоцикл, вновь вспомнила свою кровопролитную дефлорацию. Тихонько потянув Александра за рукав, она попыталась, без надежды на успех, воскресить хотя бы частичку былых ученическо-учительских отношений:
– Александр, Александр. Я поступила в Кембридж.
– Прекрасно.
– И в Оксфорде тоже предлагают стипендию.
– Прекрасно. Твой отец, должно быть, доволен.
– Он слишком расстроен происшествием с Маркусом.
– Понимаю.
Александр посмотрел на Уилки, который нарочно притворился, будто не замечает взгляда приятеля. Уилки спросил Фредерику, видела ли она уже Средиземное море, природный парк Камарг, город Оранж? Фредерика рассказала, нервно косясь на Александра, как гостила в Оранже у одного из бесчисленных кузенов месье Гримо, смотрела «Британика» Расина, а также одноимённый балет Жана Кокто в Античном театре города Оранжа. Ты только представь, говорила она, Арикия[50] в колготках цвета розового мороженого и Британик в ужасно странном золотом кудрявом парике и в лязгающей металлической мини-юбке. О, весьма в духе Кокто, живо отозвался Уилки; Александр же твёрдо, на кнопочку, замкнул свою голову в орфический шлем, разом приобретя полную глухоту к ярким высказываниям Фредерики и полную абсурдность внешнего вида. Его красивое, чистое, длинное, недосягаемое тело в светлой одежде увенчалось белым, герметично-безымянным шаром. Опустив забрало, Александр скрестил на груди руки.
– Ну что же, – сказал Уилки, широко ухмыляясь. – Чрезвычайно рад был тебя встретить, Фредерика. Как-нибудь на днях заедем к вам в гости, даже не сомневайся. Ну а потом выберем вечерок, и все вместе отправимся на морское купание. Если тебя, конечно, отпустят.
Он снял мотоцикл с подножки и уселся в седло, широко раскорячив ноги. Александр пристроился сзади, на прощание еле заметно склонив пузатый шар головы. После чего они медленно запетляли среди редкой театральной толпы, то чуть подскакивая, то осаживаясь в сёдлах как единое целое, и удалились прочь. Фредерика задумалась, не проболтался ли Уилки Александру про сцену кровопролития в Скарборо. Вероятность была и высокой и низкой одновременно. Если честно, она не надеялась их больше увидеть. Хотя, вернувшись в Ма-Роз, она в последующие дни нет-нет да и взглядывала на белую кремнистую дорогу, не катит ли в облачке пыли знакомый мотоцикл.
Ма-Кабестань
Фредерика хотела, но не осмелилась спросить Александра, как дела с писательством. Дела обстояли не очень хорошо. Жизнь в Ма-Кабестань была вроде бы нацелена на наслаждение искусством и на создание произведений оного. Кроу приобрёл этот дом – серый, в щербинах от пуль, полностью пришедший в упадок – за бесценок сразу после войны. За прошедшее время ему удалось и сам дом, и относящиеся к дому надворные постройки превратить в нечто непритязательно-шикарное и чрезвычайно удобное для хозяина и гостей. В главном доме имелась просторная гостиная с открытым очагом, столовая наподобие трапезной с деревянными столами и скамьями, маленькая библиотека, где принято соблюдать тишину. Амбары, конюшни и домики слуг переделаны были под монашеские – более или менее монашеские – кельи, в которых гости, художники или писатели, могли работать или отсыпаться после ночных излишеств, поодиночке или не поодиночке. Александру досталось отдельное стойло в конюшне. Белёные стены, узкая, но двустворчатая дверь, окно с зелёной ставенкой. Жёлтая деревянная кровать, коврик грубого тканья, письменный стол, два соломенных стула (в жёлтых пятнах, с прямой спинкой), книжная этажерка. Он проводил тут меньше времени, чем изначально рассчитывал: это была и впрямь келья, прохладная и изолированная от всех и вся, тогда как, сидя на передней веранде озарённого солнцем дома и потягивая винцо, можно было устремлять взгляд вниз, на далёкую долину Роны, на лавандовые поля, рощи олив и виноградники. На веранде, кроме того, царил дух культурных разговоров, обсуждались разные интересные вылазки и планы, – именно такого повседневного образа жизни для себя, творческого интеллектуала, и желал некогда в юности Александр, не чуя игр посерьёзнее (в этом был он схож с Фредерикой). Недавно Мэттью Кроу пришла в голову идея, что неплохо бы Александру сочинить пьесу, которую можно сыграть силами гостей. Это должна быть историческая пьеса о славном Кабестане, в честь которого Кроу и назвал резиденцию, показывая французам свою образованность и вместе некую тягу к утончённой жестокости.
Трубадур Гильом, или Гильем Кабестаньский, он же Кабестань, или попросту Кабестан, жил в XII веке; он полюбил Соремонду, или Сермонду, или Маргариту, жену своего сеньора, графа Раймунда Руссильонского. В припадке дикой ревности граф подослал к трубадуру убийц, которые принесли графу сердце соперника, после чего граф приготовил сердце и подал в виде кушанья своей ничего не подозревающей супруге. Узнав, что́ именно она только что съела, благородная дама объявила, что менее драгоценная пища никогда более не войдёт в её уста, и не то уморила себя голодом до смерти, не то выбросилась из окна, и тогда – это её кровь навеки окрасила красной охрой скалы Руссильона! Эзра Паунд умело пронизывает одну из ранних Cantos этими охристыми жилками:
- «Было вам яством сердце Кабестана».
- «Было мне яством сердце Кабестана?
- Пусть тогда вкус непременным останется»[51].
Александр был восхищён стихом Паунда, текучим, драматичным и точным. И восхищён был трубадурами, певшими любовь, боль, служение с помощью бесконечно разнообразных, блистательных, пленительных метафор. Он полагал, что без особого труда сумеет навалять на заказ пьеску-пародию – изящную и одновременно эпатажную. Но всё оказалось не так-то просто.
Отчасти потому, что его снедало беспокойство относительно его следующей, важной пьесы. Он принадлежал к малоусидчивым и вместе с тем чрезвычайно медлительным авторам, у которых живые, красивые слова долго заперты внутри; исподволь и тщательно возводил он в голове весь каркас литературного здания, – и лишь под конец, когда полностью готов фундамент, стены и крыша, и убраны леса, и даже нанесена штукатурка, в нём взмётывался художник, и в быстром, пленительном упоении он принимался играть, работать словом, писать словесными красками.
Он не только был перфекционист во всём, что касалось формы произведений, он ещё имел убеждения, довольно жёсткие и обязывающие, в части сюжетов. Он полагал, например, что английская драматургия поднимется на новый уровень, если сознательно станет браться за большие темы, темы, обладающие общественной значимостью и философским весом. Разумеется, он не был предшественником так называемой «социально-ангажированной» драмы с её сиюминутными задачами – его волновало честолюбивое проникновение в неведомые пределы, битва больших смыслов. Слишком часто современное искусство вещало о самом себе, отдавало излишней интравертированностью, а то и нарциссизмом. К Александру внезапно стали относиться как к видному драматургу, эта мгновенная слава застала его врасплох, поколебала его привычки. Весь круг людей, с которыми он состоял в переписке, – литагенты, режиссёры, группы актёров, журналисты, студенты, преподаватели – воспринимали его как крупного автора и с нетерпением ждали, какова же будет его следующая вещь. Поскольку настроен он был самым серьёзным и нравственным образом, эти чужие ожидания лишь усугубляли его беспокойство по поводу будущего сюжета. Какое-то время он поиграл в уме с эпохой Мюнхенского договора, когда принимались – причём не всегда верно – решения, обусловившие сегодняшнюю жизнь в его мире. Однако ощутил, что, возможно, события 1938 года кажутся всё ещё слишком близкими, чтобы отчётливо их разглядеть, слишком крупными, злыми и сложными – чтоб нанести их художественным слоем. (Подобная точка зрения может показаться странной в более позднее время, когда Фолклендская война, не успев закончиться, становится материалом для телефильмов, когда вдова убиенного президента изображается – при жизни – в полную величину в эпической картине на большом экране.) У Александра сложился было и другой план – соорудить пьесу о ложносолнечном времени перед Первой мировой. Спародировать поэзию пасущихся коровок, идиллию зелёных лужаек перед домом приходского священника, восторг лисьей охоты и, наконец, любовную романтику. Процитировать стихи «окопных поэтов»[52]. Но и это намерение дало осечку, то ли вмешался долг гостя Ма-Кабестань перед трубадуром, то ли, от здешнего солнца и вина или просто от большого расстояния, английские лужайки уплыли куда-то в безвестную даль.
И был у него ещё один, странный замысел, который поначалу подступил несмело (особых намерений или желания писать об этом у него не было), – но теперь всё более навязчиво завладевал всем его сознанием. Ему вдруг пришла блажь: облечь в ткань драматического действия размолвку между Полем Гогеном и Винсентом Ван Гогом, в стенах Жёлтого дома в Арле.
Работа началась, подобно робким поползновениям Фредерики на прозу, со своего рода экскурсии. Он съездил в Арль, прошёлся по римскому некрополю Алискампу. Жёлтый дом не уцелел, его поглотила железная дорога, однако малопримечательная, неопределённая территория между железной дорогой XIX века и древнеримскими саркофагами в их «Елисейских полях» – сохранилась. Ван Гог поделил свою картину «Жёлтый дом» по диагонали мягкой, грязновато-коричневой линией – та же самая линия, глинистый валок отсутствующей канавы, до сих пор присутствовала в действительности. У Кроу было новое издание писем Ван Гога в переводе на английский, Александр одолжил эту книжку и почитывал её в постели. Нашёлся и экземпляр гогеновских записок «Avant et Après»[53], где эпизод в Жёлтом доме изложен с точки зрения Гогена: попытка высокомерной снисходительности мешается у Гогена с каким-то тревожным заискиванием в будущем читателе, чтоб мир, чего доброго, не обманулся по поводу того, кто из двоих главнее, кто влиятельнее, кто великий художник.
Порыв перенести эти события на сцену возник у Александра, когда он прочёл у Ван Гога описания «электрических» ссор между двумя живописцами. Они начали спорить об искусстве. Отправились в Монпелье и повздорили из-за картины Рембрандта. «Споры наши несут избыток электричества. Порой мы выходим из них с усталыми головами, подобно электрическому аккумулятору после разрядки»[54]. Взаимоотношения Ван Гога и Гогена и впрямь пронизаны электричеством, – кажется, что-то буквально потрескивает и сверкает, в мозгу и в теле Ван Гога. Гоген пишет Ван Гога, пишущего подсолнухи. Потом Ван Гог скажет об этом портрете: «Лицо моё с того времени посветлело, но всё-таки и тогда это был настоящий я, ужасно в ту пору усталый и заряженный электричеством»[55].
Гогену становилось не по себе. Иногда он просыпался ночью и видел, что Винсент стоит подле его кровати. «Между двоими, один из которых (он) – извергающийся вулкан, а другой (я) тоже кипит, но внутри, – в некотором роде готовилась борьба…» – поведает Гоген в воспоминаниях[56]. Наступает лавина рождественских событий: Ван Гог угрожает Гогену на улице бритвой, ухо отрезано, Гоген поспешно уезжает, Винсента заточают. В лечебнице для душевнобольных душа его вновь оказывается во власти некоего христианства, гнетущего толка. Беспокойство за Гогена, христианская о нём забота лежат на поверхности писем, которые он шлёт Тео, описывая бегство Гогена, слишком много внимания уделяя фехтовальным маскам и перчаткам Гогена, что остались в Жёлтом доме… Но в глубине писем – ярость и унижение. Винсент и сам страшится той неблагой религиозной истовости, которая нарастает в нём заодно с безумием:
…Я, с моей нынешней душевной болезнью, часто думаю о множестве других художников, испытывающих страдания душевные, и говорю себе, что это не должно мешать исполнять звание художника, как если бы не было этой помехи.
Когда я вижу, что мои приступы здесь склонны приобретать нелепый религиозный характер, я почти убеждаюсь в необходимости вернуться на север[57].
Он боялся, особенно в Рождество, что вновь придут к нему отчаяние и ужасные видения.
Во всём этом была подлинная драма. Положение Винсента как козла отпущения или демона:
Некоторое количество здешних жителей обратилось к мэру (зовут его, кажется, Тардье) с заявлением (более 80 подписей), где указано, что я – человек, недостойный жить на свободе, или что-то наподобие этого.
После чего не то комиссар местной полиции, не то окружной комиссар распорядился вновь меня поместить в психиатрическую больницу.
…Пишу тебе в полном присутствии духа, не как умалишённый, а как прекрасно тебе знакомый брат[58].
И злая обида, невольная, на судьбу, средь отчаянных попыток удержаться по безопасную сторону границы между разумом и безумием… В ответ на рассказ Тео о хитросплетениях брачного договора – считалась бы его невеста наследницей, если б он скончался до свадьбы, Винсент бросает – «отшпилил бы её заранее, да и дело с концом»[59]. Через полгода: «Я так рад, так рад, что, хотя здесь у меня порой в еде тараканы, дома у тебя жена и ребёнок»[60]. Вся эта надсада так очевидна, так объяснима…
Воображением Александра завладел соломенный стул с картины «Стул Ван Гога с его трубкой». Близкими родственниками, вернее, потомками, правда, неясно, в каком колене, ему доводились два стула в этой келье – такие же соломенные сиденья, та же прямая спинка, лишь жёлтый лак отдавал меньше в лимон, имел чуть красноватый оттенок.
Как оказалось, портрет стула создан вскоре после панического бегства Гогена (в письмах с ним «рифмуются» – фехтовальные перчатки), в качестве пары к пустому креслу Поля («Кресло Гогена»). Пустое кресло, вполне себе импозантное, с подлокотниками, написано в темноте на фоне зелёной стены, ярко освещённой лампой (как любил говаривать Ван Гог, «ночной эффект», effet de nuit). «Это этюд его кресла, тёмного красно-коричневого дерева, сиденье же из зеленоватой соломы, а на месте отсутствующего – горящая свеча, да несколько современных романов»[61]. Романы, брошенные небрежно, для Ван Гога, как и для Генри Джеймса, содержали намёк на французские шалости. Для Ван Гога, кроме того, они ассоциировались с жизнью. Когда умер отец-пастор, Винсент написал его массивную Библию, написал сумеречно, с двумя погасшими свечами, не сразу и заметишь, что у подножия Писания приютилась тоненькая жёлтая книжица – роман Золя «Радость жизни». В Париже, учась цвету вместе с Тео, он создаёт прекрасный «Натюрморт с книгами», россыпь парижских романов в лёгких жёлтых обложках на ясном, сияюще-розовом фоне. (А за ними, в воображении – тяжёлые тома, тускло-пыльные, поеденные червями, с аллегорических натюрмортов голландских мастеров, напоминавшие о суетности, тщете человеческих желаний, о смерти.) «Кресло Гогена», осознал Александр, с его ночной палитрой красновато-коричневых и мрачно-зелёных оттенков, со всем его «ночным эффектом» освещения, напоминает непотребное «Ночное кафе» (и – косвенно – бордели, куда двое художников являлись столь часто за натурой, право, за чем же ещё? – бордели, бывшие сценой триумфов Гогена и неудач Винсента). В «Ночном кафе», говорит Винсент, «я попытался выразить посредством красного и зелёного ужасающие страсти человечества»[62].
А что же соломенный стул? Синий цвет, жёлтый цвет образуют цветовой контрапункт. Чист соломенный стул, спинка его бесхитростно-пряма, и не свечка колом стоит на его сиденье, а лежит понурая, погасшая трубка. Что же это – свет тихий, чистота, обретённая чудом нормальность?.. В Сен-Реми, в монастырской больнице, он опять напишет этот, но уже словно тлеющий стул, на котором сидит старик в светло-синей одежде – сокрушённый, уронивший голову на руки – подле хрупких веточек пламени. В этих образах – то, чего сам Александр желал для своих творений, но пока не сумел им дать: высшая правда, высшей правды. Художнику же оказалось под силу сотворить из красок стул, который стал словом Винсента, вместившим его оторопь и надежду, и подспудные мысли о культуре Европы, о севере, юге, о самой Церкви. Соломенный стул – антипод безумных мессианских голосов и видений…
Голова писателя – вместилище тем и мотивов. Вышагивая по дорожке огорода Кроу, то подходя к водяному резервуару (где поныривали на редкость крупные шарики-головастики с малодвижными губками, но проворными хвостиками), то отдаляясь от него, Александр иногда изумлялся причудливому контрапункту, звучавшему в голове. Сердце Кабестана, ухо Винсента, глотки солдат, схвативших иприта, маки, проросшие, по слову поэтов Брука, Маккрея, меж солдатских могил в полях Первой мировой, дама сердца трубадура, будто роза иль ночная фиалка, ирисы Ван Гога, ярость, ревность, боязнь, ярости и ревности боязнь, ужас, праведный гнев, святая жалость – всё это ему блазнилось и пело одновременно. Иногда же, перед четвёртым или пятым бокалом «кот-дю-рон», который положит предел мыслям, он думал с чувством смутной вины – о полях Фландрии, с чувством бессилия – о лесах, где рыщут волки, и с особенным, соблазнительным, тайным восторгом, с приливом сил из неведомого источника в душе – о холодном бахвальстве Гогена и о двух голосах Винсента. После этого он чаще всего отправлялся на боковую. Порою же сочинял и записывал строки стихов о цвете в живописи. И совсем, совсем не думал о Фредерике Поттер. Ибо, хотя и искал время от времени утех, Эротовы стрелы ранили его редко.
Самым восхитительным в Ма-Роз была подача воды. Вода истекала из источника выше по склону. Гримо показал Фредерике, как, соорудив плотинку из сланца и приспособив камень в качестве задвижки, он направил чистую воду в летнее русло, выложенный из камней жёлоб, который шёл обок дома и, завернув вдоль фасада, проводил воду буквально у плитняковых ступеней крыльца. Здесь они и мыли керамические изделия из городка Валлорис – тарелки цвета золотистого мёда и кофейные чашки, сюда, прямо в бегущую струю воды, окунали (и затем отряхивали) салат и персики. Дом был выкрашен розовой побелкой и как бы встроен в склон холма. Фредерика спала в крошечной чердачной комнате без оконец, где помещалась походная раскладушка да её чемодан, больше ничего. Ночью она читала, светя себе фонариком, и открывала дверцу, выходившую на песчаный склон холма. Воздуха на чердаке было маловато, и за день он накалялся через крышу. Войско муравьёв неустанно маршировало по полу под её изголовьем и обгрызло все кромки лежавшего там грязного белья своими несметными челюстями. Кричали совы, стрекотали цикады. Тонко зудевшие комары кусались, превратив лицо Фредерики в некое распухшее, розово-шишковатое подобие её самой, так что могло показаться, будто она пала жертвой угревой сыпи, от которой на самом деле её хранила сухость кожи и, возможно, некоторая сухость натуры.
Лучше б вовсе не встречаться ей в Авиньоне с Александром. Она не была наделена его спокойной отстранённостью, да и не пожелала бы её иметь, свято веруя в слова лорда Байрона из «Дон Жуана»: «Любовь мужчины – жизни часть отдельна, / Одной лишь ею женщина жива». Она переселилась куда-то в облака и смутно, в полвзора, наблюдала оттуда гору Ванту, керамические изделия из Валлориса, ежевечернюю игру в шары на неподвластной времени деревенской площади. Мари-Клер, Моника и она сидели под платанами разморённые, хмурые, ушедшие в себя, лишённые грации, зато Поль-Мари так и прядал за чешуйчатыми шарами, вереща, точно белка, – месье и мадам Гримо, потягивая белый портвейн, наблюдали за своим отпрыском в восхищении…
Как-то во второй половине дня, когда она уже оставила всякую надежду на появление гостей и меланхолично взбивала на крыльце соус айоли, вдруг раздался отдалённый, поначалу еле слышный треск колёс по камням, и в следующее мгновение в большом расстоянии на склоне холма замаячил маленький знакомый мотоцикл, он спускался вниз по серпантину, две круглые муравьиные головки шлемов раскачивались и подпрыгивали согласно. Временно скрывшись за оливами, он вскоре вынырнул, уже ближе. Фредерика прижала масленую ступку к груди. Мари-Клер прыснула со смеху. Мотоцикл между тем подкатил уже под дерево во дворике.
– Фредерика, детка, что ты сделала с лицом? Надеюсь, мы кстати. Какое божественное место. Да поставь уже эту ступку, всю красоту платья попортишь. Я привёз Кэролайн, она сегодня не с похмелья.
Ну да… Какой уж там Александр…
Подружка Уилки, как её всегда называла Фредерика в мыслях – (он ведь сам сказал тогда, в Скарборо: «Есть у меня подружка…»), – огладила раздутую ветром юбку вокруг тонких коричневых ног и выпростала из круглого футляра свою ежиную головку. Месье Гримо между тем явился с огорода, расположенного выше на склоне, где благодаря всё той же умно подведённой воде получал отменные помидоры, кабачки, перцы, бобы и салаты. Радушно протянув Уилки огромную ладонь, он тут же пригласил гостей налегке отобедать.
Фредерика задумалась, знает ли Кэролайн про дело в Скарборо и, если да, по какому разряду оно проходит: шуточное или вечный повод для извинений? И как же всё-таки славно, что она, Фредерика, ничьей «подружкой» не является; хотя в присутствии Каролайн, подружки со стажем и кембриджской второкурсницы, чувствуешь себя скованно. Особенно зная про свой страшноватый вид: к груди присохло жёсткое, но липкое оливковое масло, волосы от жаркого солнца превратились в «мелкий бес», лицо в комариных укусах вообще похоже на чёрт знает что.
Уселись есть во дворе: колбаски с соусом айоли, овощи и салат, молодой сыр нескольких видов и совсем молоденькое вино «Жигондас», с грубым характерным вкусом, неудобоваримое, чернильно-лиловое. Уилки пустился в расспросы о природном парке Камарг (оказалось, что у Гримо один из кузенов владеет там поблизости небольшим имением), затем вежливо осведомился у Мари-Клер и Моники об их успехах в науках и в целом за полчаса общения дал всем больше полезных сведений, чем Фредерика за несколько месяцев. С большим аппетитом он поедал айоли, вылоснив жёлтым свой пухлый, но отнюдь не безвольный подбородок. В детстве, бывало, в солнечный день, вспомнила вдруг Фредерика, подносили свежесорванный цветок лютика кому-нибудь к подбородку, на кожу ложился жёлтый свет, и говорили – много масла ел…
Немного резковато Фредерика говорила с Кэролайн. Про Кембридж гостья заметила: так себе местечко, на одиннадцать студентов – одна студентка. Уилки – гений – сдал без всякого труда на степень бакалавра с отличием, но всё ещё думает, не пожертвовать ли дальнейшей учёной карьерой ради театра. «Он ведь такой, всегда пытается усидеть на двух стульях», – говорила Кэролайн, наблюдая, как её друг поглощает оливки с редисом и багетом.
– Разве мы не все пытаемся это сделать? – спросила Фредерика с сухой усмешкой. – Какие у вас, кстати, дальнейшие планы? Свадьба?
С её стороны это была преднамеренная бестактность.
Кэролайн ответила вполне благодушно:
– Ну, не всё же сразу. Пусть Уилки прежде решит, хочет ли продолжать дальше в Кембридже.
– Пусть бы продолжал, – сказала Фредерика. – Хоть один знакомый у меня там будет.
– Что такое, о чём разговор? – навострил ухо Уилки.
– Останешься ли ты в Кембридже, – объяснила Фредерика.
– А ты как думаешь?
– Надеюсь, что да.
– Ну, если ты надеешься… – ухмыльнулся Уилки, – то, скорее всего, так и будет.
Кэролайн слегка скуксилась. Но это не могло отравить Уилки радость от пребывания здесь в качестве главного гостя. Он отведал вишню в коньяке, затем с восторгом осмотрел систему орошения огорода Гримо. Прохаживаясь среди олив, он игриво переговаривался с Фредерикой, Кэролайн, Моникой и Мари-Клер, одновременно успевая обменяться умными репликами с хозяином о фольклоре и народном искусстве Прованса. Уже готовясь к отъезду, спросил: не возражает ли месье Гримо, если Фредерика на следующей неделе побывает на пляжном пикнике в Сент-Мари-де-ла-Мер? Гримо ответил, что всегда рад сделать приятное своей английской помощнице, лично доставит Фредерику и заберёт обратно, а в промежутке навестит кузена в его имении.
6
Морской пейзаж
Когда Фредерика прибыла на пляж в Сент-Мари-де-ла-Мер, участники пляжной вылазки уже расположились на месте, причём довольно живописно. Они устроились поодаль от других групп, которых в 1954 году на берегу было немного. Ориентиром импровизированного лагеря служила большая рыбацкая лодка, дававшая частичную тень, вокруг брошены яркие холщовые сумки и плетёные корзины с провизией. Нынешние лодки совершенно не отличались от тех, которые застал Винсент Ван Гог, проведший здесь две недели в июне 1888 года, и какими он их написал – красными да синими, зелёными да жёлтыми; каждая из них имеет цветную, стройно стоящую, хоть и хрупковатую на вид мачту с наклонной реей, один конец реи толст, другой же тонок, и скрещение этих рей весьма причудливо рисуется на фоне неба в барашках кучевых облаков. Обводы лодок, изящные и выразительные, врезаются в память посильнее кипарисов и даже соломенного стула. Возможно, примерно такими же были они и за много веков до Ван Гога: их круглый глаз с круглым же веком, выведенный белой краской по обе стороны высокого носа, не сулил ли удачу ещё финикийцам? Фредерика принялась читать названия близ носов: Désirée, Bonheur, Amitié[63]. По этим именам она потом вспомнит вид и цвета лодок. Слова для неё – первичны. Она стояла у подножия голых дюн, крепко держа в руке плетёную сумку с купальником и томиком Смоллетта. (Явившись из песков, Уилки уже договорился с месье Гримо о том, когда Фредерику возвратят.)
В коллективном отдыхе всегда есть что-то настораживающее; Фредерика не надеялась получить удовольствие от пикника. Скорее отважно, чем радостно она стала приближаться к группе англичан, разместившихся вокруг лодки. Что это были англичане – несомненно, хотя откуда такой вывод, сразу и не поймёшь. Сияюще-загорелые, изящно одетые (вернее, едва одетые) люди… Впрочем, под коричневым загаром словно бы проглядывал иной, более бледно-розоватый тон кожи, да и в самом этом – английском? – типе словно бы ощущалось, как ни невероятно это звучит, нечто первично-неиспорченное, одним словом говоря, не здешнее. Они возлежали на боку, опершись на локоть; или лежали звёздами, ничком, животами в песок; кто-то гладкой головой – к гладкой голове; чья-нибудь тонкая коричневая рука подносила сигарету к накрашенному рту, и струйка малахитового дыма подымалась в воздух, который здесь был не тонким, жгуче-кобальтовым, как в окрестностях Оранжа, а этаким жемчужно-сливочно-золотым, увесистым, мягким и волнистым, словно бледный песок, словно само лежащее за песком, туманное, зеленовато-песочное море. Эти человеческие фигуры, в отличие от высоких лодок, не имели чётких контуров, казались яркими, но как бы размытыми пятнами цвета, словно это песок сообщил им свойство мягкости.
Двое незнакомых ей мужчин были в синем, кожа одного из них, худощавого, имела желтовато-коричневый оттенок, в тон песку, лишь потемнее, иссиня-чёрные волосы гладко спадали на один глаз, а плавки на нём были тёмно-лазурные. Другой, пополнее, берёг свою малозагорелую кожу и потому сидел в тени лодки, прислонясь к борту спиной, на нём шорты вайдового синего цвета и небесно-голубая поплиновая рубашка. В половине расстояния между ними, золотисто-тёмная, тёмно-золотистая и отчаянно-розовая, возлежала леди Роуз Мартиндейл, в высшей степени вещественная, но никоим образом не бесформенная и не толстая, вполне себе фигуристая, в шёлковом купальном костюме в розовую и коричневую полоску, её золотистые волосы мягко разметались по коричневой плоти плеч, фрагментики беловатого песка пристали к мерцающим бёдрам, там, где при перекатывании с боку на бок они касались пляжной поверхности. Мэттью Кроу и Антея Уорбертон лежали параллельно, Антея могла показаться бледноватой лишь в сравнении с умброй леди Роуз да с цветом Кроу, больше всего напоминавшим красную обожжённую глину. Можно было подумать, что подобному обжигу он подверг себя, вопреки естеству, лишь посредством воли и хитроумного плана: его херувимско-розовая кожа, коричневея, просто обязана была облезть, явив малиновые пятна, но Кроу непонятным образом заставил загар цепко держаться, даже на лысине (тончайшим сияющим слоем) – и вышел весь целиком как есть терракотовый. Его плавки, почти терявшиеся в складках живота между бёдер, были красновато-лиловыми, и этот цвет не торжествовал над и не пасовал перед новообретённым цветом тела, который чуточку царапал-таки глаз. Антея лежала в позе танца на складках горячего песка, волна её бледно-золотых, прелестных волос, омывавших дивный профиль на голубовато-зелёном, цвета утиного яйца, купальном полотенце, красиво отбилась на сторону, будто развеваемая ветром, цвет загара Антеи был темнее её локонов, все её восхитительные косточки – ключицы, запястья, коленки, лодыжки – подчёркнуты тенью и мерцанием бисеринок пота. Её купальное платье имело павлиновую расцветку, синее и зелёное чередовались в нём, точно рябь подсвеченного моря.
На границе этой круговой композиции помещались Уилки и его подружка, похожие на фотографические негативы. Маслиновая Кэролайн в белом бикини: кожа и волосы представились ослеплённой Фредерике одинаково тёмными. Уилки, ещё более густо-тёмный, прямо-таки сажистый, если не считать крошечного нескромного белого треугольничка, под которым находилось кое-что, да белых смеющихся зубов; свет отскакивал от его ярко-чёрных волос и от огромных солнцезащитных тёмно-синих очков-бабочек, в чьей непроницаемости отражалось жемчужное небо, жемчужный песок, жемчужное море. Кроме Уилки, никто не взглянул на неё, лишь Уилки повёл головой в её сторону, да лодки уставились своими нарисованными финикийскими глазами. Казалось, странный серый прах сеялся из небес на сливочно-белый песок.
Она заранее положила себе быть покладистой, никому не мешать: хорошо бы (в этом заключался предел её мечтаний!) до конца дня остаться невспыльчивой, ничего этакого не наделать, ненароком не сломать.
– Ну вот и Фредерика, – сообщил Уилки, обращаясь к Кроу.
Двое синих незнакомцев подняли руку в знак приветствия, один апатично, другой более решительно. Мэттью Кроу сел и воззрился на Фредерику. Кэролайн кивнула и выдавила из себя еле слышные ползвука. Антея Уорбертон, откинув прядь-другую золотистых волос ото рта, проронила: «О, привет…» – но голос её словно мгновенно иссяк, завяз в густом воздухе.
Перед умственным взором Фредерики – как всегда быстрым и сметливым – мгновенно предстала та же картина, что и у Кроу перед глазами: худющая девица на фоне дюны стоит, скосолапив тонкие ноги в практичных растоптанных сандалиях, из «деревенского» сарафана в цветочек торчат тощие плечи, под лямками – на маленькой груди – треугольные белые пикейные отвороты с двумя белыми же бантиками. Сарафан этот прост, но, увы, не потрясающе и не восхитительно прост; в городке Калверли, что в Йоркшире, он был бы хоть куда, в Ниме или Баржемоне – более-менее уместен, для этой же компании – попросту безвкусен. Волосы её и кожа за время пребывания на юге пробрели странный вид. Роскошные рыжие пряди, которые в постановке «Астреи» были вольно и буйно распущены по плечам, когда она металась по саду, а местный библиотекарь в роли Томаса Сеймура, хохоча, кромсал ножницами её белые бумажные юбки на сотню кусочков, – на жарком провансальском солнце стали сечься, путаться, лишились блеска. Причёска её сегодня похожа на толстое треугольное опахало, с имбирно-рыжей опушкой расщеплённых кончиков понизу. Кожа её на какое-то время – что для рыжей особы довольно странно – сделалась почти шоколадно-коричневой и гладкой как шёлк, но, поскольку рыжина-то была северная, к цвету загара вскоре прибавился красноватый оттенок, затем оттенок бычьей крови, после чего она облезла, крайне неровно: какие-то части оказались цвета подгоревшего тоста, какие-то – редисочно-алыми, на выступающих косточках проступили веснушки, и продолжали слезать во многих местах прозрачно-серые чешуйки… Когда-то, в день последнего представления пьесы, она заявила Кроу, что хочет стать актрисой, и он дал ей совет – обрести новое лицо. Это – свирепое, с истончившейся кожей, испещрённое зудящими следами комариных укусов – вряд ли таковым может быть.
– Здравствуй, Фредерика, – сказал Кроу с благожелательной улыбкой. – Я слышал, ты поступила в няни. По мне, так это невероятно. Что же ты стоишь, садись.
Фредерика села на песок. Все они здесь дышали медленно, кто закрыв глаза, а кто нет. Всё здесь было медленное-медленное: тянулось долгое мгновение, никто не произнёс ни слова.
– Ну, не в няни, если быть точной… – сказала Фредерика.
Никаких дальнейших расспросов не последовало, всем было всё равно, кто же она такая на самом деле. Кроу представил Фредерику леди Роуз (Роуз Мартиндейл дружила с Вирджинией Вулф и её мужем в последние их годы, а сейчас писала славную, изящную книгу о кошках), а также полному и худому незнакомцам: первый был Винсент Ходжкисс, философ, второй – Джереми Нортон, поэт. Кроу поднёс зажигалку к очередной сигарете леди Роуз. Винсент Ходжкисс заметил приятным сдержанным голосом, что при таком свете трудно определять цвет предметов, так как воздух – жарок и сух, но при этом непрозрачен. Небо, море и лодки, живо отозвалась Фредерика, до страсти вангоговские. Да, но вот вопрос, сказал философ, видел ли их кто-нибудь такими до Ван Гога? О Ван Гоге, Фредерика, тут же вступил Уилки, тебе надо обязательно поговорить с Александром. А вот, кстати, сказал Ходжкисс, наш Александр – прекрасная иллюстрация к мною сказанному об эффекте освещения, который мешает правильно установить цвет; скажите на милость, какого цвета сейчас Александр, при этом свете? Фредерика, с самого начала успевшая про себя отметить, что Александра у лодки не видать, всё же послушно повела глазами по сторонам, по песку, по бесцветной дымке, словно тот мог возникнуть из них как мираж, – но Александра нет как нет! Мористее, подсказал Уилки, – и она устремила взгляд за песок, на воду, там – рукой подать от берега – покачивалась на якоре лодка Stella Maris, «Морская звезда», и на высоком гордом носу стоял он, Александр, бледный, почти растворённый в бледном небе, лишь светилось треугольное золотистое пятно между чресл, не ренессансная позолота, а вангоговский хром, отдалённое солнце. Цвет его загара, если вдуматься, бледно-кремово-коричнев, точно пеночка на свежеприготовленном капучино, но и длинные тяжёлые волосы кремоваты, не намного темнее воздуха, в этих сквозистых лучах. Он как будто выждал чего-то, а потом нырнул в подвижную, непрозрачную воду, которая тут же от него разбежалась лучами, будто россыпью засверкали драгоценные камни, опалы, изумруды, что ещё там бывает, лазуриты, рубины, сапфиры, словом, всё то, что увидел в этом же, ночном, звёздном, небе, море Ван Гог в июне 1888 года[64].
Уилки спросил, с собой ли купальник? В ответ она шевельнула плетёной сумкой, которую, сев, так и держала на коленях. Ну так искупайся, сказал Уилки. Она встала, сняла трусы, и прямо под сарафаном натянула свой тёмно-коричневый купальный костюм, как это обычно делала на пляже в Йоркшире, а потом стянула через голову сарафан и одновременно облачилась в верхнюю часть костюма. Она сознавала, что мимолётно показывает Мэттью Кроу сперва ягодицы, а потом и груди, но, впрочем, он ведь уже их видел, и не только видел (при обстоятельствах, о которых, наверное, ни ей, ни ему вспоминать незачем). По обжигающему песку – Уилки, как журавль, вытянул шею ей вослед – она направилась к воде. Александр плавал, поныривал вокруг лодки. Фредерика шагнула в воду, Уилки лениво пошёл по кромке песка.
Плавала она весьма неплохо. Она энергично направилась в сторону Александра, что казалось вполне естественным, ведь на всей плоской поверхности Средиземного моря эта рыбацкая лодка, стоявшая на якоре, была одним-единственным ориентиром, к которому и от которого можно плыть. Александр лежал на спине неподалёку от лодки, раскинув руки и ноги, его волосы в бледной зелёной воде извивались, точно листья растений. Пронырнув с пяток метров, Фредерика оказалась в непосредственной его близости – на него вдруг прямо уставилось странное, коричнево-алое лицо, принадлежащее как будто отрубленной плавающей голове. Подтянув колени к подбородку, Александр ловко перевернулся на живот – теперь они лежали на воде нос к носу – и осторожно посмотрел на Фредерику. Фредерика не сводила с него глаз. У неё всегда была эта отвратительная привычка – возникая из ниоткуда, снедать его упорным взглядом. Так случилось однажды посреди Гоутлендской пустоши, когда он возжелал Дженни на заднем сиденье автомобиля, а лицо Фредерики вдруг прилипло снаружи к стеклу. Так случилось, когда Фредерика, сидя в Лонг-Ройстон-Холле на коленях у Кроу, под огнём внимания Кроу, озарила вниманием Александра, нечаянно заглянувшего внутрь с веранды. И вот теперь снова – в этом сонном, цепенеющем море парка Камарг, в устье Роны…
– Итак, ты здесь, – констатировал Александр, не выказывая ни раздражения, ни приязни.
Взгляд Фредерики по-прежнему неумолим.
– И надолго ты сюда?
– Позвали на этот пикник.
– Ясно.
– Ты хотел бы, чтоб я поскорее удалилась?
– Не особенно.
– Вот и хорошо, – по-прежнему не сводя пристального взгляда.
– Чего б я точно хотел, чтобы ты перестала на меня пялиться. Это невежливо. Мне всегда было от этого не по себе.
– Я же не нарочно. – Фредерика перекувырнулась в воде, высунула голову, отряхнулась и сказала, обращаясь к «Морской звезде»: – Просто мне нравится на тебя смотреть, вот в чём дело. Сам знаешь.
По коже у Александра пошли мурашки, может быть приятные. Чтобы замаскировать своё странное чувство, он сказал:
– Ты ужасно обгорела. Почему тебя никто не предупредил? С твоей-то кожей.
– Предупреждали. – Чёрно-оранжевый череп ухмыльнулся. – Это не сразу случилось. Сначала я была гладенькая, как негритянка. Потом облезла. Я думала, это уже всё. Оказывается, ещё нет. Выгляжу ужасно, пардон. К тому же комары.
– Моего-то носа комар не подточит, – важно отозвался Александр; стоило ему только дать Фредерике втянуть себя в разговор, он начинал балансировать между тоном доброго дядюшки и какой-то детскостью и ещё чем-то третьим, непонятно чем.
Он направился к лодке, подтянулся, закинул себя за борт. Хотел нырнуть ещё раз, прежде чем она, упрямо за ним следуя, окажется в лодке. Но увидел, что она уже у борта, и подал ей руку. Бок о бок они уселись на горячую банку, с них стекала морская вода, солнце начинало печь кожу.
– Как ты тут, поживаешь в своё удовольствие? – спросила Фредерика.
– В целом. В целом, да. Разумеется.
– Пишешь что-нибудь?
– Не так много, как… Пишу, конечно. Но всё что-то не то. Или мне кажется, что не то и не так.
– А что не то и не так?
– Ох, Фредерика, Фредерика. – Он поёрзал влажным задом, доски тихо жамкнули. – Может, хватит уже меня допрашивать на купальном мероприятии?
– Я не допрашиваю. Я хочу знать. Я редко тебя вижу. Правда, хочу знать. Почему мне сказали, что ты должен мне рассказать о Ван Гоге?
– Кто сказал? Вообще-то, да. Может быть, расскажу, – добавил он обречённо, уже вставая. – Но сейчас хочу поплавать.
– Можно с тобой?
– Разве ж тебе запретишь?..
Он нырнул, вынырнул и поплыл. Бросил взгляд через плечо – чисто, без всплеска, пусть и не изящно, она вошла в воду. Её странная физиономия напомнила ему что-то, но вот что? Её словно освежевали, сняли кожу полосками… Тигр, о тигр… Нет, не тигр, несмотря на неумолимый взгляд. Всё-таки ближе к обезьяне. Ну вот. Здесь, в Сент-Мари-де-ла-Мер, он думает о ней, о Фредерике Поттер!.. Он по-прежнему полагал, что в ней кроется ошибка, досадная помеха. Она вынырнула сбоку, уверенно забарахталась, как терьер.
– Значит, ты пишешь о Провансе?
– Не совсем. Я не ставлю этой цели. Не совсем о Провансе. Послушай, Фредерика, ну сколько же можно, почему просто не получать удовольствие.
– Я и получаю, – отвечала она правдиво.
Они медленно, степенно поплыли вдвоём вокруг лодки. Без всяких игр в воде (у него не хватило бы духу). Но когда он стал возле носа поворачивать, то пришлось ему чуточку сгорбиться, чтобы разминуться под водою с канатом, и тогда она оказалась очень близко – и где-то там внизу, под водой, бесцветной, многоцветной, они невесомо задели друг друга нагим бедром. Между ними по-прежнему жило… оно. Непонятное электричество. Так подумалось им обоим, ей – с жадным трепетом, ему – с тревогой, с чувством повреждения своей целостности, с животным желанием самосохранения. Вот она смешливо что-то проговорила, не разобрать.
– Что-что? – переспросил он.
– Дельфин. Ты как дельфин.
– Я люблю дельфинов, да.
– Я тоже. Они поют. Мелодически свистят, посылают эхо-сигналы. Я их как-то слышала по радио.
– Фредерика, почему ты не можешь быть просто здесь? Здесь и сейчас.
– Потому что я думаю. Должна думать. Как, наверно, и ты.
– Нет, увы. К стыду моему. Думаю мало и не о том.
Но разумеется, он думал. Думал, как славно было бы рассказать ей о «Соломенном стуле». Ведь в чём основная трудность? В том, что все его пьесы цепляются друг за дружку. Эта трудность её, конечно бы, заинтересовала, она сразу бы поняла, в чём загвоздка. Он перевернулся на спину и поплыл прочь от лодки, к берегу, резкими, плескучими гребками. Она плыла следом, не вторгаясь в радугу его брызг. Уилки лениво полёживал на мелководье, вяло взмётывал то одну руку, то другую; он, конечно же, видел все их водные танцы вокруг лодки и чему-то своему улыбался. Подружка Уилки между тем вскоре прокричала у кромки воды, что обед, зовут всех обедать.
Обед был прекрасен: порции холодного омлета с пряными травами, сырокопчёный окорок, огромные спелые помидоры с колоритными втяжками у хвостика, как у тыквы, морщинистые, лоснящиеся маслины с чесноком и перцем, довольно острые. Много красного вина «Кот-дю-Ванту». Чудесный хлеб с корочкой. Пикантный свежий козий сыр. Арбузики из городка Кавайон, снаружи зелёно-золотистые (как змеи из мифов и легенд), с красно-оранжевой мякотью, в которую, ловко проделав скважинки, Кроу с видом священнодействия залил розовый мускат «Бом-де-Вениз». Не обошлось, конечно, без отдельных песчинок во всём этом великолепии; да ещё жужжали и атаковали три или четыре грозные осы, с налёту прямо-таки вгрызаясь в мясо и фрукты. Фредерика выпила немало вина и по большей части молчала, переводя взгляд с одного говорившего на другого, а те возлежали, лениво, но цепко перебрасываясь мыслями. Её любопытство было обострено, но, по правде сказать, чужая беседа поглотила её внимание не всецело, куда больше её интересовал Александр. Он лежал на солнце рядом с Мэттью Кроу и леди Роуз, а не с Фредерикой и, судя по всему, слушал в оба уха. Разговор шёл в основном между Ходжкиссом, Уилки и Кроу и касался восприятия цвета и представления цвета. Ходжкисс писал об этом работу по эстетике, а Уилки был автор эксперимента с радужными очками. В настоящий момент Уилки смотрел на лодки Ван Гога, молочное море и небо сквозь карминовые линзы, в этом Фредерике почудилось нечто извращённое, хотя и разбирало любопытство, а как же, собственно, выглядит в них этот пейзаж, не хватало лишь духу попросить их на минутку.
Ходжкисс и Уилки обсуждали природу цвета. Манера философа, весь оксфордский облик его речи, с подчёркнутым проглатыванием отдельных слогов, но зато повсюду торчавшим словом «некий», не слишком понравились Фредерике. У него был голос измождённого меланхолика и тело ловкого, внимательного крепыша. Последнее время, рассказывал Ходжкисс, он читал заметки Людвига Витгенштейна, который незадолго до смерти работал над важной проблемой – как личный чувственный опыт цветовосприятия соотносится с универсальным языком цветообозначений. Первое, утверждает Людвиг, передаётся посредством второго. Витгенштейн пишет о математике цвета, Farbmathematik: ощутив цвет, индивид затем узнаёт, что такое насыщенный красный или жёлтый, точно так же как узнаёт формулу площади круга. Кроу ввернул, что художники-символисты во времена Ван Гога считали, будто есть универсальный язык цвета, первичный язык, божественный алфавит форм и цветов. Да, да, что-то вроде этого, подтвердил Ходжкисс, кстати, Витгенштейн задавался вопросом, а нельзя ли создать естественную историю цвета, наподобие естественной истории растений, и сам же себе отвечал: естественная история цвета, в отличие от истории растений, находится вне времени. Александр заметил, что Ван Гог в своих письмах на французском языке очень редко грамматически согласует цветовое определение с существительным. Поэтому термины цвета у него как бы становятся вещами более реальными, чем предметы, которые они определяют, это уже не часть примитивного вещного мира капусты и груш, а своего рода модель вечных форм из идеальных сфер – желтизна, фиолет, синева, оранжевость, краснота и зелень как таковая. Уилки сказал, что, по данным психологов, определённые цвета производят определённое воздействие на человеческий организм: красный, а также оранжевый и жёлтый увеличивают мускульное напряжение и уровень адреналина, тогда как синий и зелёный снижают температуру тела и замедляют сердцебиение. Далее разговор перешёл на манеру людей соотносить цвет и смысл.
Кроу вспомнил занятное место у Марселя Пруста, где тот связывает гласные звуки с тем или иным цветом. Пруст утверждает, что звук «и» – красный, по крайней мере в любимом имени Жерара де Нерваля – Сильвия[65].
Ну нет, молвила леди Роуз, «и» – это льдисто-синий звук; а Антея возразила – скорее уж серебристо-зелёный! Кроу объяснил, что интерес женщины к цвету, скорее всего, зависит от того, насколько удачно тот или иной цвет помогает ей преподнести своё тело, да и жилище женщина украшает так, словно речь о её собственном цвете кожи или глаз. А что думают все остальные о звуке «и», он какой? – спросил Кроу. Ходжкисс ответил: звук «и» почему-то заставляет вспомнить сравнение у Генри Джеймса – про платье Сары Поккок сказано, что оно «алое, словно вопль человека, пробившего своим падением стеклянную крышу». Джереми Нортон сказал: «Звук „и“ – серебряный». Александр: «Шалфейный». Уилки: «Чернильный»; Кэролайн, себе под нос: «Зелёный». Фредерика сказала, что у неё отсутствуют связи между цветами и прочими знаковыми системами, будь то набор звуков языка или дни недели. Возможно, добавила она, обращаясь к Уилки, у меня нет не только музыкального слуха (помнишь, я тебе говорила?), но и чувства цвета. Всё же более вероятно, отозвался он, что у тебя низкая синестезия и сенсорные реакции рудиментарны, но их можно развить.
Джереми Нортон почти не участвовал в разговоре. Годы спустя Фредерика прочтёт его стихотворение об этом песчаном береге, изящное и лаконичное, где эпитеты цвета словно висят в пространстве, ещё только примериваясь к объектам; поэт как бы спрашивает: язык и мир обещаны друг другу? Тогда, в день пикника, она подумала, что Нортон слишком похож на поэта, чтоб оказаться поэтом неординарным; парадокс был в том, что забраковала она и Ходжкисса-философа: тот мыслил неординарно, очень уж по-оксфордски великолепно – чтобы иметь ту заурядную внешность, которую имел.
Леди Роуз погрузилась в сон. Мэттью Кроу бережно и любовно пристроил ей поверх лица её соломенную, с колесо, шляпу. Антея попинывала песок прекрасными, подвижными пальчиками своей ноги. Девушка Уилки улеглась в тени лодки и Уилки затащила следом за собой, по-хозяйски положив руку на его потную талию. Кроу, откинувшись назад, тихонько захрапел. Антея принялась втирать масло себе в кожу. Александр, необычно оживлённый после еды, предложил отправиться на прогулку и сам не знал, радоваться или печалиться: его приглашение приняла одна Фредерика.
– Видела ли ты здешнюю церковь?
– Нет, я даже не знаю, кто были эти Сент-Мари, святые Марии. И почему их несколько.
Они перевалили через белую дюну, миновали какие-то белые домики. В то время Камарг не был ещё наводнён толпами туристов, из-за тлетворного влияния которых здесь позже построят загоны в американском стиле для печальных табунов стреноженных, костлявых лошадей, воздвигнут сувенирные ряды, где станут продавать шляпы пастухов-гаучо, техасские сомбреро, различные фуражки, форменные и не очень (с изображениями Микки-Мауса или розовых фламинго). Не прикатила ещё сюда – вслед волне туристов, нагоняя и перегоняя её, – волна хиппи 1960-х годов; эти хиппи будут следовать толпой за цыганскими шествиями (о которых Александр минут через десять рассказал Фредерике), после чего встанут лагерем на этих девственных пляжах, будут здесь петь, курить, любить, гадить, и бледный песок сделается по всему побережью цвета дорожной грязи.
В 1960-е годы любое место, которое хотя бы приблизительно могло считаться отдалённым и экзотически-священным, заполонят орды искателей далёкого и экзотически-священного. В начале 1970-х Фредерика напишет статью о перенаселённости городов, о пережитках индивидуализма, о коллективном сознании и фестивале в Гластонбери. В 1980 году Стоунхендж окружат изгородью, как концлагерь, с той лишь разницей, что нельзя проникнуть внутрь; вскоре после этого некий француз предложит оградить Сфинкса прозрачным пластиком, дабы он (она, оно) далее не разрушался (не разрушалась, не разрушалось). Мир станет таким, что уже нельзя будет никогда и нигде пройти спокойно, как прошли Фредерика и Александр в этот день по деревенской улице, где некогда бродяга Ван Гог втыкал в чистую пыль на обочине треногу своего мольберта.
После смерти Христа, рассказал Александр, Мария Иаковлева, Мария Саломеева, Мария Магдалина (в некоторых вариантах предания Мария Магдалина отсутствует) прибыли сюда из Палестины. С ними была и темнокожая служанка Сара (что ни одним из преданий не отрицается). К этой деревушке их прибило после долгих дней скитания по морю – без пищи, воды и вёсел! – что было, конечно же, настоящим чудом. Как было чудом и Сарино появление в лодке: Мария Иаковлева бросила на воду плащ, и Сара смогла прийти к ним по воде. Каждый год статуи этих святых, всех трех, несут к морю и ритуально погружают в воду; и каждый год сюда съезжаются со всей Франции цыгане, считающие темнокожую Сару своей святой покровительницей, и празднуют это омовение и чудесное новое рождение. Есть мнение, что в сознании цыган Сара связана с их очень древним восточным божеством, Сарой Кали.
– А, так это Кали-разрушительница! – сказала со сведущим видом Фредерика (в действительности зная только само это ужасное имя и прозвище). – Одна из богинь, вышедших из моря. Как Венера. Теперь понятно, отчего говорят, что в странах Средиземноморья богини – одна другой краше. Ну ещё бы.
И всё-таки статуи Марий в церкви вызвали у неё – нет, не разочарование, а некое смятение. Сама церковь снаружи напомнила ей крепость, очень старая, суровая, высокая и квадратная. Внутреннее устройство было под стать, без затей, проход и поперечный неф, голые, ничем не украшенные каменные стены, и это приятно отозвалось в северной душе Фредерики – как подобающая простота. Однако натуре её совершенно претила атмосфера храма, где в тёмно-сумрачном, после солнца, воздухе плыли ряды свечей с хрупкими, остроконечными огоньками пламени и затейливые, смутно различимые фарфоровые, медные, картонные таблички благодарили такого-то, такую-то за щедрое пожертвование, а запах старинного камня скрадывался запахами старого воска и курений, ладана и мирры. Священные скульптуры двух Марий стояли неуклюже, как будто наклоняясь с пьедестала, за перильцами. Лица обеих напоминали китайских кукол – умильные, круглые, розовощёкие; и у той и у другой на голове венец или венок из белых шёлковых шарообразных цветков, перевитых нитью жемчуга. Одеты они в платья из фуляра, одна в розовое, другая в бледно-голубое, с золотыми фалбалами, и газовые накидки. Обе улыбаются бездумно. Фредерике они неодолимо напомнили куклу Джейн, которая пялится, безжизненно прислонясь к кухонному буфету на картинке к сказке Беатрикс Поттер про двух нехороших мышек. То были первые подобные скульптуры святых, увиденные ею в Провансе: семейство Гримо, как и многие жители Нима, стойко придерживалось протестантизма. Фредерика вопросительно взглянула на Александра: где же, мол, темнокожая Сара?.. Она в крипте, сказал Александр. По ступеням они проследовали вниз.
Сара была совершенно иная. Её отчётливое, тёмное лицо с красивым носом, вырезанное из дерева, имело печать суровости и вместе дерзости или вызова и что-то по-настоящему восточное (хотя её воланы и накидка – тех же легкопенных, пастельных тонов, что и у её святых товарок их верхнего помещения). Она окружена частоколом тонких кованых канделябров – горят конические свечи, ярко-жёлто развеивая темноту. Перед нею лежат груды цветов – ибо это она здесь самая возлюбленная и лелеемая святая! – умирающие живые гладиолусы, распустившиеся навеки розы из шёлка, бессмертники. За нею на алтаре – рака, сквозь стекло можно разглядеть одну-другую кость! – голень, руку? Вот так же в Британском музее выставлена женщина, неразрушимо сохранившаяся в песке, казалось бы вопреки рассудку: её красноватая, точно выделанная, кожа начала шелушиться на висках, на уши свисают прядки мёртвых тёмно-рыжих волос. Для многих английских детей эта женщина – первая встреча со смертью, она лежит, подтянув колени к подбородку, лежит и шелушится, напрягшись всеми сухими жилами. Смерть сама, вещь сама. Деревянное изваяние, кость, полуженщина-полуалтарь, полукукла-полубожок в частоколе свечей, льющих свет в закопчённый свод. Пойдём на солнце, сказала Фредерика, хватит тут быть.
Выйдя из церкви, они испытывали какую-то неловкость. Александр, маскируя замешательство эрудицией, сообщил Фредерике ряд сведений о других средиземноморских богинях.
Он пересказал ей восхитительную историю Форда Мэдокса Форда о скульптуре Богоматери Замка из Сент-Этьен-де-Гре. Богоматерь, сообщает Форд, явилась молодому пастуху в Малых Альпах, когда тот тесал камень, и пожелала позировать ему для скульптуры. «Когда скульптура была готова, Она выразила полное удовлетворение этим изображением, не только как своим портретом, но и как произведением искусства. – (Я специально попросил епископа подтвердить мне последний пункт!) – Таким образом, миру был явлен окончательный эстетический канон»[66]. Форд вознамерился во что бы то ни стало узреть этот новый художественный ориентир. Оказалось, однако, что в храме статуя так тщательно закутана в широкие одежды, украшенные тесьмою и кружевом, и закрыта вуалью, что совершенно невозможно разглядеть фигуру или лицо. И вот наконец однажды он пришёл в церковь и увидел: на одном из стульев покоится золотой венец, на другом улеглись волны кружева и две старушки, похожие на жужелиц, что-то такое помывают в оловянной ванночке…
«И вы только представьте, – процитировал Александр, – скульптура Богоматери оказалась не чем иным, как грубо обтёсанным куском красноватого камня». Примитивное, почти первобытное изображение – таким вот, наверное, и пытался потом подражать Анри Годье-Бжеска[67]. Ну а разве, с улыбкой продолжал Александр, крестьянская мадонна, явившаяся пастуху, могла бы признать совершенным какое-либо иное изображение? Ведь и Кибела[68], и Венера были объектами поклонения в виде конических камней. Как это прекрасно, как удивительно, воскликнула Фредерика (по ассоциации – красноватый камень – вспомнив красные скалы Руссильона). Александр между тем заговорил ещё об одной скульптуре – «Данаиде» Родена – с бережной, чуть отвлечённой чувственностью, как он хорошо умел. Затем – о Венере Арльской, которую нашли во время раскопок тамошнего Античного театра: она классична и грациозна, у неё две целые руки, в правой она держит золотое или мраморное яблоко[69]. И конечно, процитировал письмо Ван Гога из Прованса: «Здесь есть своя Венера Арльская наряду с Венерой Лесбосской, и, несмотря ни на что, легко можно ощутить во всём этом некую вечную младость…»
– Ах да! Ван Гог, – сказала Фредерика. – Что ты там пишешь о Ван Гоге?
Они уселись в кафе и заказали французский лимонад, citrons pressée[70], и Александр поведал Фредерике о своих колебаниях, о привязчивом соломенном стуле, о быстротечном лете 1914 года, о сердце Кабестана. Что же здесь сомневаться? – удивилась Фредерика, конечно же надо писать «Соломенный стул», пьеса уже живёт у тебя в сознании! И они стали обсуждать, как бы лучше написать эту пьесу. Сделать ли её простой, непреклонно классической, соблюсти три единства, ограничив действие ужасными днями битвы с Гогеном? Или составить пьесу из эпизодов, придать эпичность, введя по крайней мере брата Тео, а может быть, и других действующих лиц, например грозную фигуру пастора-отца из Нюэнена? Фредерика стала растолковывать Александру (а он как раз собирался объяснить ей это сам), что писать пьесу о художниках трудно по определению: арльская проститутка, соперничество, отец, брат, новоиспечённый племянник Винсент Ван Гог – всё это осуществимо; но вот как вывести на сцену битву цветов и форм?! Разговор становился всё жарче, всё увлечённее. И если до этого Александр не был убеждён в своих намерениях, то теперь он уже ничуть не сомневался, что работает над «Соломенным стулом». (Парадокс заключался в том, что, избавившись наконец-то от неясности, от скопившегося напряжения, за следующую неделю он с лёгкостью произведёт, соорудит, сварганит мелодраму в стихах о Кабестане, от которой гости Кроу получат цивилизованное удовольствие.)
Может быть, в эти минуты и случилось первое взаимное движение навстречу, смутно почудилось, что они – друзья, нуждаются друг в друге, будут знаться многие годы? Неизвестно. Хотя в голове у Фредерики мелькнуло, что плотское влечение – помеха для разговора, что разговор Александра с тобой как с равной – радость, от которой трудно отказаться. За всё это время он ни разу не коснулся её, лишь напоследок мимолётно погладил по выгоревшим, пружинистым волосам и сказал: «Спасибо», с подлинным чувством. Она отправилась домой, на свой чердак без окошек, полная ликования и томления; с улыбкой думала о Пречистой Деве, милостиво поселившейся в красном камне, представляла сцены из «Соломенного стула», вспоминала солнечный треугольник плавок Александра на носу лодки. Этим летом больше они не увиделись.
Эмилю Бернару, Арль, июнь 1888 г.
Провёл неделю в Сент-Мари – попал сюда, проехав в дилижансе через Камарг с его виноградниками, песчаными пустошами и полями, столь же плоскими, как в Голландии. Здесь, в Сент-Мари, есть девушки, которые заставляют подумать о Джотто и Чимабу́э[71], стройные, прямые, слегка печальные и таинственные. На совершенно плоском песчаном берегу – лодки, зелёные, красные, синие, чудесные своей формой и цветом, совсем как цветы…
Мне очень уж хочется понять эффект насыщенного синего в небе. Фромантен и Жером[72] видят землю юга бесцветной, многие видят её такой же. Боже, ну конечно, это верно, если взять сухой песок в руку и посмотреть на него вблизи. И вода, и воздух при этаком взгляде – бесцветны. Но нет синего без жёлтого и оранжевого, и если наносить синий, то не обойтись и без жёлтого с оранжевым, ведь так? Ну, теперь ты скажешь, что я тебе пишу сплошные трюизмы.
7
Рождение
(I)
В Блесфорд пришёл апрель (вернёмся немного назад). Солнце перестало быть холодным. На алтаре в церкви – весенние цветы. Маркус пребывал в беспокойном душевном состоянии, но этого не заметили – слишком много думали о ребёнке Стефани. Сама Стефани казалась всё спокойнее, спокойствие было частью её натуры, к тому же она фактически утратила подвижность. Существо, которое раньше свободно поныривало, туда-сюда поворачивалось в ней, теперь заполнило своё место почти до отказа, сложившись косточка к косточке, но изредка пошевеливалось сильно и независимо, толкалось в теперь уж малоэластические стенки её живота с такой решительностью и резкостью, что она в эту минуту начинала испытывать головокружение и задыхаться. Теперь она уже не шествовала чинно, а, сделавшись не в меру грузна, переставляла ноги мелко, неуклюже и с трудом. Её жизнь превратилась в сплошное ожидание, не слишком безмятежное. Она перестала принадлежать самой себе; нечто, вместо неё, жило её жизнью.
Она немного страшилась. Не самих родов, о которых давно и подробно размыслила, а всяческих сопутствующих больнице унизительных штук, наподобие клизм и бритья, – от излишнего воображения невольно слёзы наворачивались на глаза. Бояться родов, говорила она себе, совершенно не имеет смысла, большинство женщин прошло через это, и большинство благополучно выжило; это предприятие имеет начало и конец и долее сорока восьми часов не может длиться. Человек способен, настроившись, выдержать в течение сорока восьми часов фактически что угодно. Женщины в предродовом отделении рассказывали друг другу разные ужасные истории, которые она слушала вполуха, о тазовом предлежании и о живодёрских щипцах. О подобном лучше не думать, пока оно и вправду не случится, уж никак не ранее. Прочла она некую книжку о естественных родах (для женщины её поколения было проще обратиться к книгам, чем к собственной матери) – и пришла в ужас от неестественных, которые живописал автор. Впрочем, она не стала пытаться проделывать упражнения на расслабление мышц, предложенные на страницах книги. Ибо всегда располагала уверенностью во владении собственным телом. Не может быть, что современные женщины настолько уж испорчены цивилизацией, чтобы не разобрать, как себя вести в случае надобности, настолько же неотступной, как утоление голода и отправление нужды. Если расслабление естественно, заключила она, то в необходимый час она сумеет расслабиться. Под влиянием мысли о клизме и бритье она, впрочем, однажды сказала Дэниелу, что предпочла бы родить дома. На его лице изобразился неподдельный страх, он тут же стал твердить: случись что-то не так, они никогда себе этого не простят, да и вообще, как можно появиться ребёнку на свет в окружении Маркуса и миссис Ортон. И Стефани подумала: и верно, эти двое, на свой манер, не уступают клизмам и медсёстрам. Упоминать Дэниелу о клизмах она сочла излишним, из стыдливости. И больше перечить не стала.
Маркус услышал, как сестра запела. Он замер на изломе лестницы, когда из кухни донеслись звуки пения, перемежаемые деловитым лязганьем кастрюль. «Со мной останься, Господи»[73] – вот что это было. Ничего иного, кроме гимнов, Поттеры не певали, в те редкие разы, когда случалось им открыть маломелодичные рты. Маркус даже и припомнить не смог, когда слышал в последний раз песню Стефани. Беззвучно сойдя по ступеням, он укрылся за спиной миссис Ортон, сидевшей в любимом пузатом кресле.
У Стефани сильно болела спина, она почему-то стала думать про боль от одного из трёх железных обручей, которыми оковал себе сердце верный Генрих в сказке братьев Гримм, но обруч никак не спадал[74]. Она продолжала петь, и голова у неё внезапно стала ясная и лёгкая. Она решила, что испечёт Дэниелу хлеб (давненько этого не делала). Конечно же, она читала в книге о выплеске адреналина в начале схваток, но почему-то сейчас не вспомнила, возможно, как раз из-за неожиданно ясной головы. Она нагнулась и вытащила формы для хлеба, потом взобралась на стул и потянулась за жестяной банкой с мукой. Железный обруч стянулся туже, она спустилась со стула, боль отпустила. Закончив «Со мной останься, Господи», она воодушевлённо завела «О Добрый свет, веди…»[75]. Маркус осторожно заглянул в кухню.
– «Я прежде не молил, – пела она, – о том, чтоб Ты повёл…» Маркус, ты что тут делаешь?
– Я слышу, ты поёшь…
– Ну и что же? Мне и петь у себя на кухне нельзя? Поможешь мне замесить тесто для хлеба?
– Ну, если ты не против… – Маркус бочком протиснулся в кухню.
– Приготовь закваску вон в той стеклянной миске. У меня что-то спина разболелась. Дрожжи возьми сухие, один маленький пакетик. Две чайные ложки морской соли, полпинты чуть тёплой воды… «Я прежде выбирал и видел сам мой путь… Но ты теперь… веди…» – негромко продолжила она второй куплет, насыпая муку в чашку весов; переведя дыхание, нагнулась за большой глиняной миской.
Маркус продолжал стоять над чайником, кажется задумавшись над смыслом слов «чуть тёплая».
– «Мне мил был пёстрый день, и, страх зажав в горсти, я шёл, премного горд. Мне те года прости…» – пела Стефани.
Тылом руки, выпачканной в муке, она провела по лбу. И тут её пронзила боль, чистая и громкая, как нота; от беспокоящего места в спине боль метнулась во все стороны, беспощадно и пронзительно, затем стихла. Стефани, почему-то сегодня небывало малочуткая к собственному состоянию, вновь глубоко передохнула и, поворотясь к горке муки в миске, сделала посередине аккуратное углубление. В щёки ей прыгнул румянец, глаза ярко потемнели – Маркус глянул на неё с опаской. Он чуял какое-то возмущение спокойствия, хотя и не умел понять, в чём дело. В его мире любое неспокойствие представляло опасность. Он стал размешивать дрожжи в воде, вдыхая кисловато-тревожный запах, снизу пошли пузырьки, будто под слоем грязи шевельнулось живое существо. Ну конечно, живое. Он ещё побаруздил в миске, там что-то вздохнуло…
– Выливай в муку, – сказала Стефани.
Голова к голове они склонились над миской, Стефани принялась более тщательно размешивать ножом, и вдруг её снова схватила боль, ещё отчётливее, так что она невольно вцепилась в край стола, и в этот раз она ещё почувствовала, как властно что-то потянуло внутри, мышцы вдруг начали сокращаться без её команды, даже без всякого позволения.
– Ой… – только и вымолвила Стефани, глядя в слепой растерянности на Маркуса, а тот уже отшатнулся. – Кажется… – сказала она неуверенно; Маркус отступил за плиту. – Да, кажется… – повторила она, боль ослабила хватку, и к ней мигом полностью вернулось самообладание.
На помощь Маркуса надежды мало. Она вышла из кухни. В кресле дремала миссис Ортон. Миссис Ортон была женщина. В течение нескольких последних месяцев история рождения Дэниела пересказывалась ею несколько раз, то была драма с одним-единственным действующим лицом, храброй страдалицей, немало претерпевшей от злых чиновников-мужчин и плохо знавших своё дело медсестёр. Сомневаясь, что миссис Ортон сумеет хоть чем-то пособить, Стефани всё же обратила и к ней это своё «Кажется…». Миссис Ортон воззрилась озадаченно и, судя по всему, готовилась завести очередной жалобный монолог…