Читать онлайн Гномон бесплатно
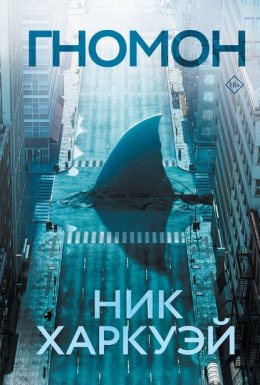
© Copyright © Nick Harkaway 2017
© Ефрем Лихтенштейн, перевод, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020
Тому,
моему сыну
Вау
Впервые громко заданный вопрос в обратном, нежели прежде, порядке и явился сигналом надвигающейся революции.
Рышард Капущинский. Император [1]
DCAC:/
3455 6671 1643 2776 6655 5443 2147
7654 5667 7122 7543 1177 7666 5543
2511 7656 7711 2331 6542 2111 7776
6543 6221 7671 1223 4427 6533 2221
7671 1223 4427 6533 2221 7671 1223
4427 6533 2221 1177 6547 3321 7122
3345 5317 6443 3322 2117 6514 4322
3445 5677 5321 6655 [. .]
Мысли на экране
– Смерть подозреваемого, находившегося под арестом, – говорит инспектор Нейт, – очень серьезное дело. Все до одного сотрудники программы «Свидетель» сегодня переживают личное поражение.
Она смотрит прямо в камеру, ее искренность физически ощутима. Микродвижения мускулов вокруг рта и глаз анализирует десяток разных программ, оценивающих настроение, и выражение лица подтверждает ее слова. Разумеется, более сложные алгоритмы высматривают признаки ботокса и биоэлектрических стимуляторов, которые могли бы помочь ей изобразить болезненную честность, но никто не ожидает обнаружить подобное – и не обнаруживает.
Бегущая строка на экране показывает результаты онлайн-голосования: 89 % считают, что Свидетель не виноват. Среди остальных львиная доля уверена, что виной всему преступная халатность, но не злой умысел. Личные данные Нейт еще лучше: ее назначили расследовать это дело потому, что показатели неподкупности и беспристрастности у нее самые высокие в базе. В фокус-группе все, кроме самых болезненных параноиков, полагаются на добросовестность Нейт.
Это очень хороший результат, даже несмотря на то, что у Свидетеля и так очень высокая поддержка в обществе. Как бы там ни было, общественность продолжит обсуждать дело Дианы Хантер – что вполне ожидаемо, – пока его не затмит новое убийство.
* * *
Девяносто минут назад: Мьеликки Нейт смотрит на свое утреннее отражение в зеркале и чувствует головокружение от неуверенности. Такое состояние приходит порой, когда видишь собственное лицо со стороны и не можешь его понять. Она повторяет свое имя, тихо, с растущим напором; слышит звук, но не может связать его с личностью, которую чувствует. Она не стала кем-то другим: другой набор слогов или черт не подошел бы лучше. Само посредство телесности и наименования, необходимость быть представленной в биологии и языке не подходит ей в это бессвязное мгновение. Она понимает, что видит лишь остаточный след сна, но это не развеивает ее уверенность – клеточную, неприятно ощутимую в крови и плоти, – что-то пошло не так.
Нейт права. Через несколько минут она примется за работу, и день неизбежно направит ее к запутанному Алкагесту. Всего несколько часов отделяют ее от первой встречи с жутковатым костистым Лённротом, чуть больше недели – от потери веры во всё, во что она верила прежде. Сбрасывая шлепанцы и ступая под душ, находя в животном деле ухода за собой растущее понимание собственного тела и его места в процессе, который и есть она, Мьеликки ступает не только на белый потрескавшийся кафель кабинки, но и на дорогу, что поведет ее без задержек и проволочек к точке кризиса: окончаниям и апокатастасису. Сейчас она это предчувствует, исходя из своих ограниченных знаний в этой точке потока еще не случившихся событий, и это знание столь важно, что его эхо докатывается даже сюда, собирается в спутной струе Чертога Исиды и самого сложного и святого убийства в истории преступности. Сознание Нейт этим утром бледнеет, ибо робко касается собственного продолжения во времени, и это касание делает ее почти – но важнее всего, что не совсем – провидицей. Вместо пророческого видения инспектор получает мигрень, и это мелкое различие позволяет ей занять место в узоре, который рано или поздно приведет ее ко всему, описанному выше, но самым судьбоносным – смертоносным – образом ко мне.
* * *
Я вижу свои мысли на экране
Утром Нейт проснулась как почти каждый день, под треск бессовестно устаревшей техники. Жилье, которое Система выделяет сотрудникам ее ранга, представляет собой просторную квартиру с одной спальней в историческом здании на площади Пикадилли. Старинная неоновая конструкция прямо под окном барахлит и трещит при включении: предсмертный хрип рекламы ХХ века. Нейт уже подала жалобу, но не ждет скорых изменений. Современные машины чересчур совершенны; установлено, что очевидный технический промах в таком хорошем районе успокаивающе влияет на людей и вызывает чувство удовлетворения, которого хватает на несколько дней: придает человечность стране, живущей под управлением компьютера. С цифрами не поспоришь.
Теперь, закончив свое официальное заявление, она прислушивается к гудению неоновых ламп. Подойдя ближе к окну, явственно чувствует, как волоски на руках встают дыбом от статического электричества, но знает – это лишь психосоматическая иллюзия. Нейт возвращается к столу, проводит пальцами по лбу, щекам и носу. От яркого света софитов зудят глаза.
А вот и ее новое дело – MNEITH-GNOMON-10559. Имя выглядит идиотским, пока не разберешься, в каких рамках оно присвоено. Рамки – все для оформления документов и работы следователя. В первую очередь, нужно отметить, что это ее дело, поэтому название начинается с ее имени. Настоящий идентификационный номер указан в конце – 10559, но люди дают вещам имена, а не номера; таким образом Свидетель может контролировать имя, не раскрывая тайны следствия. В данном случае слово «ГНОМОН» случайным образом выбрано из списка. «Дело Хантер» было бы проще, но может найтись преступление, где будет фигурировать другой человек по фамилии Хантер, их не следует смешивать. ГНОМОН нужен, чтобы избежать путаницы: неоспоримое и уникальное наименование. Кроме того, это слово, кажется, обозначает старинный геометрический инструмент для построения правильных углов, квадратный металлический угольник. Как следствие, оно обозначает нечто перпендикулярное всему остальному, например вертикальную часть солнечных часов. Такое имя кажется Нейт подходящим, и это чувство щекочет, будто песок в ботинке. Дело Хантер и вправду стои́т особняком. Она сказала об этом в интервью, но данный сегмент находится в вещании одного канала, TLDR, и пока никто не открыл этот файл. TLDR – фактически архив, существующий на пожертвования довольно состоятельных людей, которые верят в необходимость архивизации.
Инспектор просматривает вводные материалы дела: Хантер – бодрая, упрямая и сварливая пожилая дама с круглыми щеками и дурными манерами, какие, наверное, были в моде, когда ей исполнилось двадцать.
– Вы желаете пройти процедуру устного собеседования, которая может устранить необходимость прямого расследования?
– Не желаю.
– Вы желаете сделать заявление?
– Заявляю, что я не пойду на это по доброй воле. Я считаю это необоснованным вторжением – и очень грубым.
– Мы считаем своей приоритетной задачей относиться к вам с максимальным уважением и заботой, пока вы находитесь у нас. Все сотрудники в рамках исполнения служебных обязанностей будут обращаться с вами предельно вежливо.
Она вздыхает:
– Тогда запишите в протокол, что я – женщина в полном расцвете сил, и эти силы жестоко ограничены властями, которые умирают от жажды и требуют, чтобы я одарила их водами памяти.
– Записано, – сообщает техник, оставшийся равнодушным к внезапному поэтическому обороту.
Инспектор что-то слышит в его голосе: заносчивая бабка, допрос которой наверняка не даст ничего, кроме обычной для старой перечницы мизантропии, вызывает легкое раздражение.
– О да, – соглашается Хантер. – Все записано.
Входят медики, и Хантер обмякает, так что им приходится уложить ее на каталку: старомодное пассивное сопротивление, бессмысленная враждебность. Вдруг она кричит, и медики чуть ее не роняют. Санитары заметно мрачнеют, а она над ними смеется. Ее зубы кажутся ослепительно белыми на фоне темной кожи.
В конце концов ее усаживают в кресло, в вену на тыльной стороне ладони входит игла. Хантер хмурится и усаживается поудобнее, будто готовится к скучному и долгому спору, который она тем не менее намерена затеять.
Инспектор прикасается к клеммам и вздрагивает, когда сознание мертвой женщины накладывается поверх ее собственного: Диана Хантер, покойная. Чем пахнет ее жизнь? Шестьдесят один год, в разводе, детей нет. Училась в Мадригальской академии, затем в Бристольском университете. По профессии администратор, позднее – автор нескольких обскурантистских романов в жанре магического реализма; некоторое время наслаждалась славой, затем ушла в затворничество, далее была всеми забыта. Самая успешная книга – «Сад безумного картографа», в которой читателю предлагается распутать не только загадку, над которой бьется главный герой, но и другую, якобы скрытую в тексте, будто подсказка к гигантскому кроссворду. Самая знаменитая книга – последняя, «Quaerendo Invenietis», изданная чрезвычайно малым тиражом и ставшая своего рода городской легендой со всеми вытекающими последствиями. В «Quaerendo» якобы скрыта сокровенная тайна, опасная для здравого рассудка, или настоящее рабочее заклинание, или душа ангела, или дух самой Хантер. Если прочесть книгу в нужном месте и в нужное время, случится конец света или, может быть, его новое начало, или древние боги вырвутся наконец из своей темницы. Первокурсники с гуманитарных факультетов жадно вгрызались в доступные фрагменты текста, думая, что прикасаются к роковому космическому откровению. Было напечатано всего сто экземпляров «Quaerendo», которые теперь стоят баснословно дорого. И Хантер сумела каким-то образом заставить каждого покупателя пообещать никогда не сканировать ни строчки, так что даже сейчас нет электронного варианта текста; по сути, никакого нет.
Поднялся невиданный ажиотаж, и Хантер стала широко известна в узких кругах. Потом все стихло – когда разные люди прочли книгу, а она не остановила течение времени и даже с ума никого не свела. Иными словами, инспектор склоняется к мысли, что Диана Хантер произвела на свет высокоученую и совершенно бессмысленную чепуху, а затем утомилась от этого и ушла на покой. С тех пор ее вклад в великую английскую литературу ограничился стопкой ворчливых и ругательных писем в местную газету. Если она на самом деле являлась опасной террористкой, прикрытие у нее было самое безупречное и совершенное во всей долгой и грязной истории шпионажа. Вероятнее, она стала одинокой жертвой «идеального шторма» в море алгоритмов, но все равно, хоть это и маловероятно, нельзя исключать вариант, что она не та, кем кажется.
Нейт начинает все сначала.
Я вижу свои мысли на экране
Первая мысль Дианы похожа на острие рыболовного крючка, и Нейт инстинктивно хочет отшатнуться. Шесть неприметных слов заставляют ее сжать зубы, словно в ожидании удара. Фраза на удивление ясная и сильная, будто готова к тому, чтобы ее произнесли. Видимо, Хантер осознанно записывала сообщение. Тогда вопрос: кому? Инспектору Нейт, как следователю? Или воображаемому историку? Почему тон, ясный повествовательный душок мыслей Дианы вызывает тревогу в той части сознания инспектора, которая отвечает за профессиональное недоверие ко всем внешним проявлениям?
Наверное, это подозрительно из-за профессионализма. Нет никаких упоминаний о том, что Диана Хантер прошла особый курс подготовки, который позволил бы ей проявлять такую связность мысли. Запись должна представлять мутное, но правдивое отражение ее настоящей личности: не граненый хрусталь, а скорее полупрозрачный студень, выхваченный из миски. До смерти Хантер собеседование имело минимальный приоритет; проверка ничтожной вероятности, основанной на прямом доносе, где использовалась точная формулировка из закона о доказательствах и уликах, а также некоторых дополнительных факторах, позволивших этой информации получить уровень надежности чуть выше допустимой погрешности. Таких случаев бывает двадцать – тридцать каждый месяц: в целях профилактики проводятся полные расследования, которые для подозреваемого ничуть не страшнее похода к стоматологу; разумеется, криминала не обнаруживают. По статистике, люди, прошедшие такое обследование, выходят наружу более счастливыми, организованными и продуктивными. Частично это объясняется последствиями нейромедицинского ухода после осмотра: что-то вроде сервисного тюнинга. Но, по большей части, это психологический момент. У всех есть секреты, даже теперь – невысказанные самообвинения, боязнь слабости и профнепригодности. Везучих подозреваемых взвешивают на беспристрастных весах и находят достойными. Этот процесс настолько благотворный, что инспектор Нейт сама подумывала обратиться с запросом на такой осмотр.
Но есть что-то неправильное в мысленном голосе Дианы Хантер, даже если инспектор пока не может точно сказать, что именно: какая-то диссинхронность, записанная в знаках, общее значение которых Нейт понимает, но не может уловить. Будто смотришь на красный треугольник и понимаешь, что это предупреждение об угрозе, но не можешь прочесть, что написано внутри.
Расплывчатость человеческого общения – одна из причин того, что в Системе до сих пор существует профессия инспектора Нейт. Статистический анализ и даже программируемая логика способны помочь машинному обучению, но компьютер теряется в диковинных и залихватских просторах человеческой иррациональности. Значение конкретного знака может различаться не только у разных индивидов, но и у одного – в зависимости от времени. Даже настоящие символы символизируют более одного понятия – гигантский неоновый знак у Мьеликки под окном, который омывает лондонскую площадь Пикадилли ностальгическим отблеском старой электрики, происходит из тех времен, когда получить прибыль было просто, а товары соревновались и исключали друг друга. Его собрали вручную в 1961-м, изобразили на нем название компании «Реальная жизнь», продававшей строительные материалы, ставшие ненужными с развитием новых технологий. Большинство товаров, которые продавались тогда в Лондоне, можно было подержать или потрогать и вообще постигнуть одними телесными чувствами. Поэтому неоновый знак – знамя ложной нормальности в эпоху, когда уже всё иначе.
Для человека вроде Дианы Хантер это значит, что Система основана на иллюзиях. Для инспектора Нейт это значит, что, каким бы рациональным ни стал образ жизни, людям все равно нужно искать и находить неожиданное утешение в острых углах реальности. Тут зайдет в тупик и самая изысканная аналитическая программа.
Мьеликки Нейт – восторженная сторонница Системы и программы «Свидетель». Первая – истинно народное правительство, избавленное от грубого вмешательства и посредничества всюду, где возможно: демократия в буквальном смысле, общество вечно идущего плебисцита. Второе – институт, который Британия, вероятно, более всех прочих стран желала отыскать, – идеальная полиция. Более пятисот миллионов камер, микрофонов и сенсоров, принимающих информацию отовсюду, и ни единый миг изначально не открывается никому из живых людей. Беспристрастный, самообучающийся алгоритм Свидетеля просматривает и классифицирует данные и ничего не предпринимает, если того не требует общественная безопасность. Свидетель не похотлив. Машину нельзя подкупить, чтобы получить фотографии известной актрисы в ванне и перепродать их «желтым» газетам. Ее нельзя взломать, вскрыть, отключить или испортить. Она видит, понимает и – изредка – действует, но в прочих случаях остается решительно невидимой.
В щелях, которые не могут охватить камеры, или там, где человеческое животное все еще дико и загадочно, появляются инспекторы – судебные правозащитники государства, построенного на тотальном наблюдении; люди, проверяющие и рассматривающие любое дело, которое превысило порог вмешательства. Большинство дел инспекторов касается случаев предумышленного насилия, деятельности организованной преступности и актов внутреннего и международного терроризма. Иногда случаются и убийства на почве страсти, но большинство из них удается предотвратить, как только проявляется первая дрожь дисфункционального поведения. Свидетель не оставит в стороне нарастающий шквал, известную динамику поступков, не будет прятаться за благопристойной завесой невмешательства в личные дела. Никто больше не живет, опасаясь тех, кого любит. Все равны, все на виду.
Так работает Система, в этом ее смысл. Все граждане понимают ее важность, и каждый вносит свою лепту времени и внимания в дело поддержки правосудия, управления государством, в каждодневную работу по созданию свободного и справедливого общества – и в итоге все выигрывают. Это страна, одновременно община и содружество, и этим – стабильностью, справедливым распределением благ, честным правосудием и, прежде всего, способностью предоставить гражданину личную безопасность на неслыханном прежде уровне – Система обеспечивает себе абсолютную верность инспектора Нейт. Из ее миропонимания идеально вытекает избранная профессия и сама жизнь.
Кстати, о профессии. Нейт поудобнее усаживается в кресле, легонько стучит костяшками по столешнице, бросает привычный взгляд на отметку в верхней части экрана: «Нейт М., детектив-инспектор (категория А)». Она не представляет, что толкнуло ее мать дать дочери финское имя, разве что глубокое и искреннее восхищение чемпионкой-лыжницей, которая лидировала на двух зимних олимпиадах подряд и принесла своей стране девять золотых медалей. «Детектив» – более важная часть; она означает, что Нейт может положиться не только на личное, но и на профессиональное наследие, традицию столь же сильную и старую, как знак «Реальная жизнь», обещавший дома для среднего класса, хорошие школы и овчарку в придачу. Она поступила в новую Национальную академию Свидетеля в Хокстоне, получила направление на ускоренный курс и три года проработала патрульным. На нее мочились пьянчуги, у нее на плече рыдали вдовы, ей призывно свистели строители. По результатам обучения Нейт попала в отдел тяжких преступлений. Она арестовывала наркоторговцев и нечистых на руку банкиров, обратила на себя внимание Системы и всей страны, когда выудила из мусорной корзины мелкую улику и пришла к тому, что затем получило название «Ограбление Картье». В тот же день Нейт подхватила след: высокотехнологичная банда с базой во Франции протаранила дверь в хранилище с драгоценностями и попыталась улететь обратно через Ла-Манш на сверхлегком самолете. Получив информацию от Нейт, средства активного противодействия Системы взяли под контроль навигационные устройства преступников и посадили всю банду на военный аэродром для последующего ареста. Из сетей ушел всего один преступник – специалист по обману систем наблюдения, известный под кличкой Вакса, который выбрал иную стратегию побега и получил убежище в посольстве дружественного государства. Незаконченность этого дела всегда тревожила инспектора Нейт, а Вакса от нечего делать иногда присылал ей издевательские сообщения.
После «ювелирного ареста» она вошла в самое сердце аппарата правосудия. Нейт не канцелярская крыса и не карьеристка. Рано или поздно ее доведут до высших должностей в Свидетеле по одной простой причине: она настоящий офицер полиции.
Нейт держит в руках контактные пульты интерфейса Свидетеля – свои основные инструменты. Как всегда, они кажутся ей очень мужскими, сексуализованными. Оба примерно десять сантиметров в длину, серо-черные, с серебристой полусферой на конце. Она расстегивает рубашку. Левый пульт считывает основные показатели жизнедеятельности и устанавливается на груди, у сердца. Правый она прижимает к виску. Такое устройство выбрано по многим причинам, но Нейт подозревает, что дизайн должен придавать инспектору за работой отдаленное сходство с героями старых черно-белых фильмов, которые пользовались двусоставными телефонами.
Короткие записи с менее сложными эмоциональными и когнитивными состояниями машина может просто накладывать в реальном времени поверх восприятия пользователя. Это быстрый и эффективный подход, но он порождает своеобразное раздвоение зрения, от которого многих – в том числе инспектора Нейт – начинает подташнивать. В любой ситуации, когда следователю необходимо хорошо узнать записанного человека или могут появиться важные нюансы, принято заливать сжатый файл целиком в локальную память в мозгу. Нейт представляет себе его последующую распаковку, будто цветок жасмина в чае раскрывается под действием горячей воды, или как разборку оригами, когда чужой разум восстанавливает первоначальную форму, насколько возможно, в новом физическом пространстве. Такой подход позволяет добиться большей близости с объектом, что полезно для важных дел вроде этого, однако он может испортить здоровый сон распаковкой. Чужая память, конечно, не способна захватить власть над сознанием следователя, как пассажир на заднем сиденье не может заставить машину ехать в Брайтон. В файле записан набор впечатлений, а не вирусная личность, что, впрочем, не останавливает лондонских киноделов от производства бесчисленных фильмов, основанных на таком сюжетном повороте – от ужастиков до комедий, но чаще всего склоняющихся к эротике.
И отнюдь не страх стать кем-то другим заставляет ее замешкаться, пусть всего на миг. Скорее желание поддерживать свой мозг в лучшей форме из возможных, так же, как она старается правильно питаться и высыпаться. Разумеется, Свидетель следит за поведением всех сотрудников, которые часто используют загруженную память, и не позволит случиться ничему плохому. Такие вещи намного спокойнее делать, когда у тебя есть идеальный старший брат, регулярно проверяющий твое состояние. Но, в отличие от настоящего брата, Свидетель не лезет в твою жизнь, он просто всегда здесь. Так что инспектор не слишком беспокоится, выбрав глубокое погружение. Нейт принимает Диану Хантер в свою голову, зная, что Свидетель ее защитит.
Свидетель совершенен, потому что видит все, и его восприятие не ограничивается стенками черепа. В редких случаях, когда необходимо, он может войти в мозг объекта путем хирургического вмешательства и считать правду из первоисточника. Это ключевая причина для существования инспекторов. Машина может выполнить процедуру, но она не живая. Неправильно, чтобы нечто мертвое правило живыми. В конечном итоге надзор нужен не потому, что Свидетель допускает ошибки, а потому, что за наблюдателем должен кто-то наблюдать. Система существует, чтобы служить людям, а не наоборот, и именно людям машина доверяет право – и обязанность – принимать все трудные решения.
Когда файл полностью загрузился в ее память и улегся там, инспектор Нейт отдает машине приказ заново начать воспроизведение и – как всегда, когда она прикладывает второй пульт к виску, – думает о Хамфри Богарте.
* * *
Я вижу свои мысли на экране
На самом деле тут больше одного экрана. Я ими окружена. В этой комнате каждая стена – экран, и техники могут их дополнительно делить, чтобы показывать разные изображения. Я вижу свои мысли, свое сознание со всех сторон – на всех экранах. Смотрю вниз, вдоль линии тела – обычно я ненавижу эту позу, потому что от нее у меня появляется какая-то бесконечность подбородков, – на экран за ногами: на нем данных меньше, чем на всех остальных. Слова бегут посередине, между записью ЭКГ и чем-то вроде эхограммы.
Один из техников кивает:
– Это она и есть. Эхограмма вашего мозга.
Думаю, он для меня упрощает. Его голос звучит так, как голоса взрослых, которые говорят с маленькими детьми о сложных взрослых вещах. Подозреваю, это больше похоже на МРТ, но уменьшенное и вложенное внутрь моей головы. Если меня привязали к креслу, это не значит, что я – дура.
Все это, разумеется, тоже появляется на экране, и техник выглядит виноватым. Мне приходит в голову, что он, наверное, милый парень при других обстоятельствах; он даже симпатичный, если вам нравятся ужасно застенчивые дружелюбные растрепы. Но я его ненавижу и хочу сделать ему больно. Он думает, что проявляет доброту, а на самом деле просто успокаивает совесть.
Он читает это, вздрагивает и отворачивается. Мне на миг становится стыдно, но я думаю: да пошел ты. Противоестественно, когда твои поверхностные мысли вот так выставляются напоказ. Противоестественно и жутко, но дает чувство освобождения. Если кто-то настолько груб, чтобы влезать в работу твоего мозга, отбросить вежливые паузы и социальные навыки, забраться в серое вещество, чтобы выудить оттуда секреты, так вам и надо – получите. И все равно я рада, что не думаю о сексе.
Ну вот, теперь я думаю о сексе. На крайнем справа экране мы все видим воспоминания о моем последнем оргазме. Поскольку это чисто визуальная подача, видно лишь, как потолок моей спальни мотается туда-сюда. Это неправильно. Я на это согласия не даю. Я не считаю такое вторжение законным и не принимаю аргумент, что происходящее – в интересах всего государства. И даже если бы это было в интересах народа, все равно для меня неприемлемо. Даже если что-то делается по закону, не значит, что это законно. Законы создаются по образу и подобию некоего идеала. Можно принять закон, не соответствующий данному образу, и тогда получится незаконный закон. Я считаю происходящее здесь абсурдным нарушением. Если выпадет шанс, я отомщу за то, что вы делаете, страшно отомщу. Это моя голова, и вам тут не место.
Техник, который пытался рассказать мне о сканировании мозга, читает это и перестает притворяться очаровашкой. Я дала ему повод видеть во мне врага. Под растрепанными волосами у него плоское как доска лицо, и еще он потеет. Даже воняет. Я вижу у него волосы в носу. С достаточной уверенностью могу заключить, что любовник он так себе. Надеюсь, жена ему изменяет с бомжами и приносит домой такие болезни, для которых еще названия не придумали. Надеюсь, у него собака умрет. Я знаю, что у него есть собака, потому что вижу шерсть на подвороте штанины. И узнаю грязь. Ее состав – настоящая подпись, глина и красноватая земля с примесью мелкого гравия встречаются всего в трех местах Лондона, но лишь в одном из них можно найти семена, которые прицепились к его носку. Как Шерлок Холмс я читаю улики и выстраиваю по реальности настоящего карту прошлого: теперь я знаю, где он выгуливает свою собаку.
(На самом деле нет.)
Это грязь, идиот. Но на миг он испугался, и это победа. Принято. Слышишь меня, жалкий ублюдок? Я тебя уделала. С этого стола. К которому я привязана. Вот какой ты сопляк. Ты жалкий доверчивый коротышка и не достоин моего внимания. Но это меня не удержит от того, чтобы страшно тебе отомстить.
(Я на самом деле отомщу.)
Теперь один из его коллег читает мои мысли у него из-за плеча и напоминает, что именно поэтому протокол предписывает не разговаривать с объектом. Я снова смотрю на картинки у себя в голове.
Слева идет трансляция с моего зрительного нерва. Будто в зеркальной комнате – я вижу то, на что смотрю, экран показывает изображение изображения, а в нем – изображение изображения изображения. Затем второй техник выставляет ладонь перед моим лицом.
– Не надо, – говорит он. – Обратной связью накроет.
– И что тогда? – спрашиваю я.
– Голова взорвется.
Сразу видно, это старая местная шуточка. Он подбадривает самого себя. Так говорит, потому что голова у меня не взорвется, потому что нет такого риска. Они ведь тут не пытками занимаются. Это совершенно простая следственная процедура. Исполняется по решению суда. В ней нет ничего аморального или даже особенно неприятного. Всё в порядке.
Не в порядке. Это вторжение. Это пытка, а вы – палачи. Все вы, те, кто читает это, видит это, чувствует это. Это не ваши чувства. Они принадлежат мне. Пошли вон из моей головы. Моей головы, головы женщины в этой комнате, не вашей, где бы вы ни были.
Они устали читать мои протесты и угрозы, поэтому ввели мне паралитик и завязали глаза. Теперь я просто говорю сама с собой в темноте. Они по-прежнему читают то, что я думаю, но я не вижу реакций, поэтому думать о них гадости гораздо менее приятно. Даже не могу угадать: вдруг они закрыли канал с моих речевых центров, и я просто сама себя извожу. Было бы обидно. Не люблю бессмысленных усилий и беспомощность.
Частичная сенсорная депривация меня тревожит, потому что это по-своему приятно. Должно быть страшно, оно и страшно, конечно, – против этого я особенно ничего не имею. Но это успокаивает, а в такое я не верю. У меня остались только запах, звук и тактильные ощущения, и, лежа тут, я начинаю чувствовать ритм всей комнаты. Начинаю узнавать движения воздуха, которые сопровождают тот или иной звук шагов; легкий налет пота и туалетной воды указывает на первого техника, второго или кого-то нового. Эта регулярность, интимность происходящего запускает в моторном отсеке моего мозга какой-то доставшийся от грызунов контур. Ничего не могу поделать: я расслабляюсь. В других условиях я бы даже испугалась, что могу ляпнуть что-то неуместное или самообвинительное, но об этом речи нет. Примерно через двадцать минут они считают все мое сознание в целях государственной безопасности. Выпотрошат меня как тыкву и оставят с тыквенной улыбочкой: широкой и беззубой ухмылкой идиота. Пойдут домой и скажут друзьям, что хорошо поработали. Поздороваются со своими родными, женами и детьми, а если в глухой ночи усомнятся в своей безгрешности, тут же заявят, что понимают, почему это было необходимо. Родные и близкие им скажут, что они молодцы, раз отважно принимают на себя ответственность, бессонные ночи и угрызения совести, чтобы остальные были в безопасности. Наверняка у палачей всегда так.
«Правосудие усовершенствовано, и Свидетель теперь повсюду». Так они говорят. И это работает. Все мы друг для друга прозрачны. Больше нет никаких секретов – и быть не может. Не должно быть секретов. Поэтому меня прочтут, как читают страницу книги. Если мне нечего скрывать – если Система допустила ошибку, чего почти никогда не происходит, – мне нечего бояться. Этот девиз выписан по-латыни на двери, а над ним колофон – топор в пучке прутьев, символ судейства со времен, по меньшей мере, Древнего Рима. В современности эту фразу приписывают Уильяму Хейгу, влиятельному консервативному политику прошлых лет – настоящему поборнику прав и правого мышления. Но я знаю, что еще это любимая максима Йозефа Геббельса. Защита – первый долг правительства. Говорят, за него и теперь поднимают бокалы – за Хейга, не Геббельса – в Админ-тауэре. Раз в год, на Рождество. За первого наблюдателя, крестного отца Свидетеля.
Касание машины, которым они откроют мой мозг, такое точное, что может прощупать рисовую бумагу, не надорвав ее. Может, они уже начали, а я и не знаю. Это медицинская технология, очень сложная и важная. Вообще, многие люди выходят из этой комнаты – точнее, из таких комнат, потому что их много, – более здоровыми, чем вошли. Здесь избавляются от незамеченных тромбов, удаляют раковые клетки, предупреждают иные горести. Если на страницах моего разума не найдется вины, последствий этот визит иметь не будет, кроме потраченного времени – нескольких часов. Когда моя мама была маленькой, людям приходилось исполнять обязанности присяжных в суде: целые дни уходили на непродуктивный разбор фактов и мотивов, а теперь эти вопросы закрыты. Упаси нас провидение от подобного! Свидетель бдит, машина все видит, доказательства внутри нас. Это более надежное правосудие, чем возня со свидетельскими показаниями. Вот и всё. Да еще и лечат в процессе – ситуация беспроигрышная.
В моем случае, как и почти во всех остальных, Свидетель не ошибся. Я – предатель Системы и общества, которое мы вокруг нее выстроили. Я спряталась от Свидетеля, что само по себе уже пример антиобщественного поведения и повод для более пристального внимания. Я брала чернила и бумагу, чтобы писать и отправлять личные сообщения; меняла одни вещи на другие, чтобы скрыть свои приобретения; оказывала услуги и получала их взамен, чтобы мои дела не попали в доступную базу данных. И я учила других этим навыкам: писать, прятаться, меняться, на глазок оценивать стоимость. Я призывала их использовать, защищала скрытность. Как мне не стыдно. Хуже того, я строила аналоговые системы коммуникаций – туго натянутая через улицу проволока с чашкой на каждом конце; голубиная почта; переговорные трубки. В сопротивлении я дошла до того, что у меня дома нет ни одной современной машины. Ни одного сенсорного экрана. Ни одного компьютера. Даже стиральной машинки нет. Увы, теперь даже стиральные машинки подключены к сети, как и все остальное. Они подсказывают, как сэкономить деньги, воду и электричество. Совсем недавно начали замерять качество воды. Разумеется, эти данные они пакуют анонимно и посылают на центральную станцию для анализа. Так Система может регулировать подачу воды и узнавать о любых опасных загрязнениях, прежде чем они станут угрозой для здоровья населения. Когда мой отец был маленьким, он выпил воду с примесью алюминия, и у него на языке выскочили волдыри – ошибка на местной водоочистной станции. Теперь такого не произойдет, даже в трубах установлены биосенсоры, которые отслеживают любую инфекцию и тут же подают сигнал тревоги. Но за все надо платить: реальность такова, что анонимность скрывает тебя не лучше, чем смешные накладные носы с усами, которые так любят на корпоративах. Если правильно разобрать данные, стиральная машинка может узнать о тебе много такого, что считается личным. Умеет по одежде определить, если ты слишком много пьешь, у тебя экзема, или ты принимаешь наркотики. Может даже узнать, что ты беременна. На рынок недавно вышла новая модель, снабженная обонятельными сенсорами, устроенными по модели носа какого-то особого вида свиней: они по запаху определяют ранние стадии рака и могут отправить пользователя к врачу. Волшебство, правда? Если бы эта информация автоматически не шла в местный медицинский фонд, чтобы там могли точнее оценить твои потребности в годовом измерении. Если бы они не продавали эти базы компаниям медицинского страхования. Если бы все не было так одержимо связано и соединено.
Когда-то и у меня имелись все эти приспособления: самоуправляемый автомобиль; офисное кресло, которое предупреждало, если я сидела в неправильной позе. А потом, шаг за шагом, я от всего избавилась. Не было одного рокового решения, просто медленный переход, смысла которого я не понимала, пока он не завершился. Я устала от голосов у себя в голове и глаз, глядящих мне через плечо. Теперь мои вещи ни с кем ни о чем не разговаривают, а в прихожей у меня прибиты специальные крючки, на которые гости могут повесить свои устройства, прежде чем войти. Весь дом работает как большая клетка Фарадея. Я сама провела провода и наверняка знаю, что все работает. Свидетель – солнце, а мой дом соткан из теней или, может, из сумерек.
Вместо электроники у меня книги: тысячи разложены по дому, почти все плоскости завалены ими. В прошлом году был дурацкий несчастный случай – двойная стопка переводной южноамериканской литературы обрушилась и завалила меня в постели.
Я разрешаю гостям одалживать книги и не записываю, кто что взял. Знаете, за четырнадцать лет у меня не украли ни одной! Потрясающе, что люди так хорошо себя ведут, если не записывать их в каталог. В значительном масштабе это не сработает, видимо; в большом мире полагаться на подобное глупо. За неким порогом это уже не личное доверие, осененное законами дружбы, а трагедия общества, и люди просто крадут. Говорят, так было всегда: нам нужно человечество получше, а не более справедливые законы. Надо научить людей думать иначе.
Не то чтобы я была против каталогов как таковых. Время от времени моя библиотека растет, если кто-то приносит картонную коробку с чердака или из подвала, и тогда я записываю все данные каждой книги на карточках и расставляю их по местам. Иногда я веду уроки для детей и учу их читать книги, которые с ними не разговаривают, и закрывать, когда устаешь, потому что страницы не отслеживают утомление читателя и не приказывают умному дому погасить свет, когда пора ложиться спать. Иногда я позволяю своим маленьким ученикам сидеть за полночь с фонариком под одеялом, но, конечно, так, чтобы они не знали, что это с моего разрешения. Дети шелестят страницами, прячутся и получают огромное удовольствие оттого, что нарушают мой закон. Я учу их читать и не подчиняться и считаю, что делаю доброе дело.
Да, знаю, я ведьма и занимаюсь черной магией. Корёжу хрупкое серое вещество беззащитных младенцев.
Кстати говоря, через несколько мгновений техники запустят металлические щупальца в мой мозг. Звучит ужасно, но на самом деле нет, разумеется. Волокна едва ли несколько атомов шириной укреплены магнитным полем, чтобы проскальзывать между клетками и по кровеносным сосудам, как мышиный выводок в поисках мамкиной сиськи. Они будут прижиматься к разным частям моего «я» и слушать. Поймают сигналы в моей голове с помощью хитозановых миничипов, тех же, что используются для лечения пострадавших от травм и связи между пилотом и самолетом. Они выучат язык моих нейронов, хотя точнее было бы назвать его диалектом, потому что, как выяснилось, когда мы с вами видим голубой цвет, все видят примерно одно и то же, к вящему разочарованию философов. Но, не поверите, мужчины и женщины по-разному обрабатывают восприятие глубины. Так что, если мужчина будет просматривать мой опыт, его, скорее всего, начнет мутить. Так ему и надо, но все равно это очень загадочно.
Сперва будут тестировать и подстраиваться, а затем прочтут страницы моего мозга. Весь процесс, говорят они, займет где-то полдня. Больше времени он никогда не занимал. Мы не настолько глубоки и плотны, чтобы содержать больше информации. Должна быть, наверное, единица измерения личности, в зависимости от времени. Сколько человеко-часов это займет? По ответу вы сможете понять, насколько я настоящая.
Где-то в собранном урожае они найдут то, что ищут. Утверждают, что я владею списком реакционеров и нежелательных элементов, и, наверное, я им владею в некотором смысле, просто не считаю его списком. Я считаю его своей жизнью. Все, кого я знаю, похожие на меня; те, кто решил не участвовать в сети обязательного плебисцита и банковских займов, кредитных карт и локативно-дискурсивных спаймов. Они – последний след или возрождение культуры аналоговых людей, которые не до конца верят, что такой образ жизни совершенен; которым не свободно, а тесно в мире, выросшем из нашей беспечности в той же степени, что из всех осознанных решений. Лишь немногие на самом деле протестуют или участвуют в акции гражданского неповиновения. Они носят протестные карты с указанием контактного номера адвоката, протекают между строк в законах. Уверена, что среди них есть и мелкие преступники: фальшивомонетчики, самогонщики и тому подобные. Когда я делюсь свечами и ранними изданиями Penguin-books, я не спрашиваю, как зарабатывают на жизнь члены моего книжного клуба. Загадка открывает путь мечте, а неуверенность – романтике, забвение дает дорогу прощению и даже искуплению. В моем доме очаг защищен от бесконечного дождя из внешнего мира. Как брак или свобода, это не вещь, а действие: процесс, который нужно создать, а не камень, на котором можно стоять.
Поэтому я здесь.
Система считает, что тот, кто такое говорит, может представлять потенциальную опасность для государства; отказник, за которым могут пойти люди, и, если их будет много, конец придет и Свидетелю, и Системе, а также благодатному, стабильному, всевидящему государству, в котором мы все живем. Пока нет серьезных признаков опасности: они – мы – лишь трещинки в стене, а поддержка и ремонт – одна из десяти заповедей любого хорошего инженера. Когда трещинки расширятся и вода начнет просачиваться через них, стену будет невозможно починить.
Суть в том, что через двенадцать часов Система получит имена и лица всех, кого я знаю, прямо из моей головы. На том моя роль закончится. Машина примет необходимые меры по улучшению моего благосостояния: разберется с физическими огрехами мозговых тканей; проверит, нет ли кровотечения или отека, которые могли бы мне угрожать; проведет превентивные и лечебные процедуры против социопатии, психозов, депрессии, агрессивного нарциссизма, садизма, мазохизма, низкой самооценки, недиагностированной нейроатипичности, дефицита внимания; иными словами, всех известных видов нашего сложного биологического аппарата, даже против вредного и отчуждающего когнитивного диссонанса и синдрома дезадаптации. (Вот его следует бояться – он может быть почти у каждого.)
Иначе говоря, через двенадцать часов я передам всех, кого люблю, в руки моих палачей, и все мы выйдем наружу улучшенными, исправленными, счастливыми и порабощенными. Пересотворенными по образу и подобию того, что я когда-то считала единственным способом избежать ужаса; того, что потом, благодаря смехотворной последовательности ошибок и заблуждений, стало само по себе ужасом.
Я, наверное, поблагодарю этих клевретов, уходя. Когда пойму, как важно попрощаться с тем, чем я была, мне будет приятно видеть, как дети жгут мои книги в знак моего счастливого возвращения в лоно общества – и они это сделают с радостью, после того как им тоже проведут терапевтические процедуры. Я, конечно, смогу снова их добыть, но подозреваю, что решительно депрессивный оттенок чтения документальной и научно-популярной литературы потеряет для меня привлекательность.
Они снимают повязку. Некоторые процессы требуют зрительной стимуляции. Я смотрю на комнату и экраны вокруг, на себя саму и на них, точно крыса посреди лабораторного стола в средней школе.
Алгиатрист говорит: «Три, два, один, пуск». И, погружаясь в темноту, я понимаю, что этот же человек присутствовал при рождении моей дочери.
Я думаю, ты мои мысли не получишь.
Эти слова появляются на экране, выписанные шрифтом sans serif.
* * *
Инспектор Нейт кладет пульты на подставки и, переждав минуту молча, в который раз повторяет ритуал, больше похожий на компульсивное расстройство психики. Над ее столом висит лист с распечаткой, содержание которого она время от времени меняет, чтобы не выучить наизусть. В прошлом месяце текст был викторианский и звучный:
- Скрывался, как изгой,
- За сердца окнами, где красны шторы…[2]
Рваный метр, смысл и лексикон сложны. Это тоже нужно: такой текст требует на время полного и нераздельного внимания. Внимания пробужденного сознания, критичного и резкого. Новый стих более манерный и меньше ей нравится. Впрочем, это, наверное, лучше для дела:
- …и твой дух
- Разлился посреди лобзаний и вина…[3]
Тщательно читая одно слово за другим с листа, она доходит до конца стихотворения, затем берет старый динамо-фонарик и энергично крутит ручку. Из треснувшей линзы Френеля льется слабый свет, и абрис трещины выступает на стене позади стола.
Нейт удовлетворенно кивает: хорошо. Текст неизменен, фонарик работает. Она переходит к последней фазе, подбрасывает старый теннисный мячик в воздух и, когда он – как всегда – падает, ловит его.
Эти три проверки предназначены для тех, кто учится узнавать и даже управлять течением своих снов. Текст нестабилен в воображении бессознательного: его невозможно прочесть, либо он меняется от вздоха к вздоху. Механические устройства и светильники часто не работают, а на законы физики – в частности, гравитацию – нельзя полагаться. Для инспектора Нейт, которая регулярно просматривает значительные объемы записанного опыта чужих сознаний, проверки одновременно позволяют убедиться в возвращении в настоящую реальность и почувствовать себя комфортно в собственной шкуре в конце рабочего дня. Она проходит эти тесты после каждой сессии и время от времени просто во время бодрствования. Чтобы все получилось, это должно войти в привычку: если проводить проверки, только когда думаешь, что видишь сон; никогда этого не сделаешь, если на самом деле видишь сон, но не знаешь об этом. Довольно легко опознать сон в ситуации, когда вдруг летишь после бокала шампанского с Клодом Рейнсом – хотя Нейт не часто снится, что она летает, и это ее беспокоит, потому что Фрейд настаивал, что такие сны говорят о сексе, – но намного труднее, когда отклонения мягче или достовернее: незнакомые и неуловимые привкусы фруктов; исчезающие маленькие миры, наполненные совпадениями до неизбежности; умение читать меню на незнакомых языках или побороть противника вдвое тяжелее тебя. Сновидение – хитрая штука, оно учится вместе со сновидцем.
Инспектор ждет еще немного, пока окончательно не свыкается с окружающей обстановкой. Для этого есть одобренные упражнения, рекомендующие представлять свое сознание как тягучую массу, которая по очереди тянется к рукам и ногам. Нейт считает их детскими и не очень эффективными. Еще раз взглянув на стихотворение, она решает, что этого достаточно, чтобы быть уверенной в своем теле, и идет делать кофе – неофициальное завершение ее ритуала. Она идет на кухню, набирает воды из крана с горячей. Мойка говорит ей – как всегда, – что температура воды 96 градусов Цельсия, идеальная для кофе, но опасная для человеческой кожи.
Инспектор Нейт обращается к Свидетелю и выясняет, что ни один из техников, участвовавших в опросе Дианы Хантер, никогда не принимал роды. Кроме того, у Хантер не было детей. Нейт вздыхает из-за такого проявления упрямой лжи. Через несколько мгновений эта старуха станет прозрачной. При отсутствии стратегической цели нужен и вправду отчаянный отказник, чтобы держаться до последнего.
Нейт подносит к носу кофейную гущу, вдыхает запах и морщится. Она не может себе позволить марку, которую любит, потому что та заоблачно дорогая, и покупает самый дешевый кофе, какой способна вынести. Называется он парадоксально – «Правда». На упаковке изображен владелец компании-производителя, симпатичный отставной футболист из Бенина. Бенинский кофе обычно хорош, но только не «Правда». Она пыталась к нему привыкнуть, но в итоге тоскует по этому вкусу, хоть и не перестала его ненавидеть. Это один из худших вероятных исходов, и Нейт остается лишь надеяться, что это временное явление.
Пока кофе заваривается, она поджаривает тост и намазывает его медом, как всегда с некоторым опасением думая о том, откуда взялась сладость. С другой стороны, если о таком задумываться, и молоко пить перестанешь, а затем начнешь интересоваться происхождением сыра или вина, а оказавшись в этом мыслительном поле, поймешь, что уже вся еда – мясная и растительная – приобрела оттенок поглощения чужой жизни, призрак непрошеного роста в собственном теле. Это старый, очень старый кошмар: что-то живое внутри, что-то касается внутренних поверхностей тела там, где не должно быть никого, кроме тебя; старый – и опровергнутый, поскольку человек – сумма многих частей, не исключая обширной флоры и фауны микроорганизмов-сожителей, необходимых для здорового баланса в кишечнике и крови. Нет единого организма, все мы – сеть или, если угодно, мозаика.
Кстати говоря, – вверху и внизу – пора голосовать. Облизывая пальцы, Нейт возвращается в другую комнату и ставит кружку с паршивым кофе на подставку, чтоб остыл.
* * *
Всех граждан в Системе призывают – но не заставляют – еженедельно тратить некоторое количество времени на голосование. Их полуслучайным образом распределяют по принимающим решения комиссиям на время сессии. В каждой такой комиссии обычно состоят около двухсот человек; они разбираются (коллективно или разбившись на подкомитеты) со всем – от запросов на предоставление убежища или распределения медицинской помощи до коммерческих споров. Это самая изысканная и демократичная система прямого управления в истории, и она требует искренней вовлеченности граждан. Чтобы такая государственная комиссия должным образом исполняла свои функции, каждый участник должен принимать собственное решение в свете личного опыта и взглядов без влияния других на этапе формирования, так что сессии поначалу проходят приватно и остаются анонимными до конца. Проблема представляется каждому участнику чуть-чуть иначе, формулируется именно так, чтобы привлечь его внимание и интерес, самосознание и альтруизм. В итоге выбор совершается с полным пониманием его значения и последствий.
В случаях, когда один из участников комитета обладает конкретными, важными для дела знаниями или опытом, ему могут присваиваться экспертные маркеры, указывающие на тему, по которой он может высказаться, однако значение, которое другие граждане придают таким меткам, варьируется в зависимости от их собственного восприятия. При наличии кворума комитеты могут привлекать к разбирательству неголосующих экспертов, чтобы получить дополнительную информацию или выяснить контекст. Затем вся гамма откликов усредняется по байесовскому методу. Безусловно, даже проигравшая сторона при таком разбирательстве не может не признать справедливость и взвешенность исхода, и, поскольку вердикты не обязаны опираться на предписанные формулы, но могут – в определенных пределах – проявлять творческий подход, окончательное решение тяжбы может оказаться выгодным обеим сторонам. Система – это воля плебисцита, а плебисцит достоверно отражает решения народа.
Нейт, как и другим следователям, нелегко выкраивать время, чтобы выполнять предложенную норму выборных часов. Иногда она берет несколько дней отгулов и уходит в запой. Общий счет ни на что не влияет в жизни гражданина, кроме, разве что, самооценки; единственный человек, который смотрит на Нейт осуждающе, когда она не укладывается в норму, это сама Нейт – хотя было установлено, что участие сотрудников правоохранительных органов на ранних этапах управления сказывается на исходе благоприятным образом, потому что именно им предстоит разбираться с проблемами, когда неудачный выбор приводит к местным неурядицам.
Сегодня необходимость голосовать вызывает у нее легкое раздражение и нетерпение, поэтому Система в ответ выдает крайне сжатые и точные данные и подчеркнуто благодарит инспектора за участие, несмотря на ее занятость. Нейт не попросят принять участие в разборе вопросов, которые, скорее всего, потребуют длительных дебатов или проведения дополнительных исследований. Ее определяют в комитет по иммиграции, где она быстро отказывает в праве на въезд двум подозрительным молодым людям с пестрой личной историей из страны, которая в целом – и небезосновательно – ассоциируется с организованной преступностью. Они предоставили бизнес-план по сотрудничеству с компанией грузоперевозок в районе Доклендс, и Нейт сразу отмечает эту фирму как требующую более пристального внимания. Третьего просителя, похожего на первых двух, она в конце концов впускает. Нейт подозревает, что он хочет убраться куда подальше из родного города и начать новую жизнь, поэтому рекомендует сразу несколько программ профориентации и обучения, получает удивленную и радостную благодарность от его юридического советника.
Следующее задание: четыре девушки были арестованы во время предумышленного уничтожения чужого имущества. Нейт хочет узнать причину. Она коротко опрашивает их порознь и вместе, получив на это разрешение от других членов комиссии и поборовшись немного за ведущую роль с неким специалистом по поведенческому развитию. В конце концов он с честью признаёт поражение, и Система назначает его заместителем Нейт, а потом он задает вопросы, которые инспектор впоследствии оценивает как более полезные, чем ее собственные. (Она присваивает ему метку, чтобы Система могла впоследствии привлекать его к рассмотрению дел, попадающих в соответствующую компетенцию.) Девушек признают находящимися «в неблагоприятной среде / отрицательной синергии» и разлучают, отсылая в разные части страны в рамках инициативы «Новое начало».
И наконец, тяжба за интеллектуальную собственность. В таких делах споры обычно ожесточенные, занимают непропорционально много времени комиссий и вызывают бесконечные философские споры, но в конечном итоге общее мнение склоняется к тому, чтобы художники и писатели могли творить с выгодой для себя в экономике, остающейся, по большей части, капиталистической, что требует поддержания некоего права собственности на созданные произведения. В данном случае некто создал игру, а кто-то другой разработал для нее сюжет, а теперь они поссорились. Это дело отнимает больше времени, чем первые два, и вызывает больше раздражения. Оно кажется банальным, даже пустяковым. Система мягко напоминает Нейт, что беспрепятственное экономическое развитие и творческий подход к правосудию – неотъемлемая часть рабочей рыночной демократии, основанной на прямом голосовании. Нейт подчиняется. Еще через пятнадцать минут она вдруг понимает, что спор здесь идет вовсе не о деньгах. Она делает запрос по закрытому каналу, проводит быстрый анализ и поднимает соответствующий флажок. Модератор дает ей слово.
– Я бы хотела предложить, чтобы истец и ответчик сейчас в полной мере описали личные чувства друг к другу.
Они так и делают, и выясняется, что они отчаянно хотят заняться друг с другом любовью. Нейт допускает даже, что это настоящая любовь. Бизнес – лишь подоплека, а в последнее время он пошел так хорошо, что стал мешать. Нейт хочется рвать на голове волосы или наложить на них штраф, но она решает, что для Системы определенно лучше признать важность романтических отношений. Инспектор предлагает другим членам комиссии вынести обоим предупреждение, чтобы они впредь не позволяли своим личным делам становиться вопросом государственного регулирования, посоветовать им взять небольшой кредит для найма новых сотрудников, а потом рекомендует уютный отель. Комиссия – как подозревает Нейт не без сдержанного смеха от мысли о том, что анонимный, но явно высокопоставленный офицер Свидетеля был вынужден заняться примирением этих самозваных Ромео и Джульетты, – принимает эти меры. Юридически влюбленных отправляют ворковать в более подходящее место.
Инспектор отвлекается на некоторое время, чтобы посмотреть, что пишет о ней пресса. Это не болезненный интерес и не гордыня, а упражнение в самоанализе. Ей важно понимать, как она выглядит со стороны, потому что оценка влияет на взаимодействие с широкой общественностью и, в свою очередь, на то, как она сама воспринимает тех, с кем нужно разговаривать. В целом, кажется, полис одобряет ее назначение на это дело и ожидает быстрого результата. Звучат отдельные голоса, утверждающие, что она слишком вовлечена в работу Свидетеля и поэтому ей нужно назначить помощников или куратора, а ничтожно малый процент высказавшихся считает, что следовало нанять независимого следователя или даже судью. Тем не менее, похоже, непосредственные работодатели ей доверяют.
Нейт просматривает еженедельную сводку по голосованиям: запросы на выделение фондов от разных департаментов, новые проекты, импортные и экспортные квоты. Сейчас на рассмотрении находится только один спорный вопрос: билль о наблюдении. И по его поводу у инспектора есть твердое убеждение. Такая решительность объединяет Нейт с остальными гражданами, хоть и не все разделяют ее мнение. Действующая демократия – ужасно раздражающая штука.
Несколько месяцев назад, принимая во внимание вероятные прорывы в технологиях в следующем десятилетии, Система поставила вопрос, приемлемо ли вживлять устройства постоянного доступа в черепа рецидивистам и компульсивным преступникам. Обсуждение привело к появлению законопроекта, который теперь выставлен на суд граждан.
Аргументы против вживления постоянного наблюдательного устройства сильны: это решительный идеологический и юридический шаг в сторону от концепции внешнего наблюдения к прямому и постоянному надзору за состоянием мозга; такой подход предупреждает будущие преступления, а не те, что готовы совершиться, и есть момент предвзятости, предосуждения человека. Если применить эту технологию здесь, она неизбежно войдет в обиход и в других областях, и последствия такого распространения тоже надо учитывать. И самое важное – подобное устройство подразумевает возможность корректировать работу мозга рецидивиста в реальном времени, а это своеобразная форма контроля над сознанием, неприемлемая для многих. Есть еще интуитивный аргумент (обладающий тем не менее заметной интеллектуальной поддержкой), который сводится к тому, что Система и Свидетель должны следить только за внешним миром, а границы тела следует чтить до момента, пока не появятся достаточные основания – например, в случае недобровольного сбора показаний, – и даже тогда подобные вмешательства должны быть настолько краткими, насколько возможно, и соответствующими ситуации по масштабам. С другой стороны, эта технология позволит людям, страдающим от тяжелых психических заболеваний, снова влиться в общество в полной уверенности, что они никому не причинят вреда, – такой терапевтический эффект сложно переоценить.
Есть и этический аргумент, который кажется инспектору Нейт веским. С точки зрения самоидентификации, Система обязана предоставлять гражданам лучшее из возможных сочетание личной безопасности и личной свободы и достигает этого, позволяя им в рамках закона оказывать на мир разрушительное воздействие, не ставя под угрозу безопасность большинства.
В целом взвешенно-либеральная позиция предлагает компромисс: строго ограниченная программа, в которой технология применяется исключительно с добровольного согласия пациента в сочетании с введением жесточайших технических и юридических ограничений против неуместных псевдомедицинских изменений в его мышлении. Инспектору сама эта идея не внушает доверия, но нельзя сбрасывать со счетов медицинское применение. В конце концов, она тоже подозревает, что всеобщее внедрение какого-то рода имплантов социально и коммерчески неизбежно. Преимущества постоянного доступа к Системе неисчислимы, а этика общества следует за его желаниями. Но все равно тут следует проявлять здравую осторожность.
Нейт отмечает свою позицию: твердо против широкого использования, но за ограниченные медицинские испытания – и отключается. Полное голосование займет неделю или больше, и свою позицию можно изменить до наступления крайнего срока, чтобы отразить эволюцию личного взгляда в свете общественного обсуждения вопроса. А пока, судя по всему, она в числе большинства, с невысоким уровнем поддержки полного запрета и примерно трети голосов за скорейшее полномасштабное и неограниченное внедрение.
Вот так, дело сделано. Личный долг перед государством исполнен, остался профессиональный. Нейт смотрит на часы и цокает языком: демократия отнимает море времени. Нужно торопиться, чтобы не опоздать на встречу с трупом Дианы Хантер.
* * *
Через некоторое время, прибыв на место, инспектор смотрит на тело Дианы Хантер и следит за тем, чтобы его не одушевлять. Трупы – естественные и неизбежные обитатели жутковатой долины, в которой неживое слишком похоже на живое. Тело не лежит на столе, его туда уложили. Глаза не смотрят, руки не сжимают. Это вещь, которая больше не действует сама. В трупе не сохраняется ни следа, ни остатков умершего, кроме воспоминаний, которыми наделяют его живые. Но все равно когда-то тело жило, а в его теперешней безучастности кроется некое злое предзнаменование.
Нейт оглядывается: ей не нравятся больницы. Сразу думаешь о несчастных случаях и болезнях, которыми можно случайно заразиться; от этих мыслей ей становится не по себе. Но еще меньше ей нравятся подвальные морги для безвременно умерших. Как бы ни старалась современная архитектура, каждая непустая ячейка здесь – провал Системы, которая не смогла спасти и защитить человека.
Она слышит шаги и оборачивается. Нейт знакома с патологоанатомом, но без подсказки Системы не может запомнить, как ее зовут, и тревожится, что это совсем невежливо. Нейт копается в собственной голове, гадая, не повредило ли механизмам памяти постоянное соприкосновение с записями чужих сознаний. Врачебное мнение по этому вопросу расплывчато, экспериментировать в данном направлении не рекомендуется.
Подходит патологоанатом. Нейт осознает, что в какой-то миг отключила личную телеметрию Свидетеля, так что имя женщины не высвечивается. Ну и ладно, она сама вспомнит. Лиза? Люси? Лара? Триза. Триза из Сент-Олбанса; бабушка по отцовской линии родилась на Окинаве; мать когда-то солировала в Альберт-холле. Любит танцевать, но парные танцы, не пьет, играет на фортепьяно. Триза Хинде. На груди Хинде – бейдж с изображением радуги. Несколько десятилетий назад оно означало бы ее сексуальную ориентацию, но теперь это просто вежливый знак для Нейт и всех других, что Хинде не нейротипична. Ее мозг попадает в особый пик современной медицинской таксономии, включающий некоторые проявления аутизма, разные особенности восприятия и обработки информации, такие как синестезия и структурная (но неприобретенная) сверхбдительность. Не совсем спектр в линейном смысле, скорее граф с несколькими осями. В случае Хинде это означает, что у нее есть великолепный набор инструментов для рассматривания, запоминания и анализа данных, поступающих от органов чувств, что делает ее великолепным патологоанатомом, однако ей не удается прокручивать перед внутренним взором заведомо ложные или просто выученные картины; она не любит угадывать имплицитное, как другие не любят подпиливать пилочкой ногти или разгрызать кусок льда. Такие особенности восприятия – одна из причин, почему Триза любит танцевать: ее понимание социальных и сексуальных сигналов, связанных с физической активностью, совпадает с общим и раздражает гораздо меньше, чем необходимость постоянно просить всех объяснять подтекст сказанного.
Когда Хинде не танцует, бейдж напоминает другим о контексте их взаимодействия. Это не предписывается и даже не рекомендуется Системой. Просто развитие возможности каждому узнать о другом что угодно через канал связи с Системой: вместо того чтобы люди сперва обижались, а потом смотрели ее данные и стыдились того, что не поняли или не вспомнили, что ее сознание немного другое, Хинде решила – как и многие другие в ее положении – заранее указывать на свои особенности. Исчезновение права на неприкосновенность частной жизни имеет множество преимуществ, и одно из них – отсутствие социальной неловкости. Инспектору такой исход кажется равно практичным и достойным.
– Истощение, – коротко бросает Хинде. – Непосредственная причина – инсульт, но тело измотано, будто она бежала несколько дней напролет. Бежала из последних сил, а не трусцой. Особенно мозг.
Она замолкает.
Инспектор возвращается к трупу. Рассеянным жестом указывает на голову и спрашивает:
– То есть опухоли нет?
Нейт надеялась на чисто физиологическую причину смерти. Пострадавший мозг мог бы объяснить такую тревожную ясность сознания Дианы Хантер, неприятную уверенность ее внутреннего голоса. Опухоль могла бы помешать дознанию – лишить женщину возможности сотрудничать, так исказить ее настроение, что она бы в штыки приняла саму эту идею, – и погубить ее в стрессовой ситуации. Отличное объяснение, но Хинде уже качает головой.
– И никаких метастазов?
– Нет.
– Врачебная ошибка, – предполагает Нейт.
Хинде не отвечает, потому что вопрос только подразумевается. На ее лице появляется напряжение, вызванное попыткой сообразить, как ответить. Нейт так стыдно, будто она только что громко пустила ветры. Инспектор быстро меняет формулировку:
– Это был несчастный случай? Преступная небрежность?
– Возможно. А возможно, и злонамеренная. Она умерла, потому что долго перенапрягалась. Реально ли это установить научно? Да. Есть ли состав преступления? Не ясно. Как я понимаю, они забрались в неизученную область. Вероятно, им не следовало так поступать. Возможно, она очень быстро перешла из нормы в состояние клинической смерти. Так бывает. Просчитывали для нее риски? Был ли такой риск соразмерен необходимости дознания? Или ее смерть была запланирована? Это все интересные, но не медицинские вопросы.
Хинде пожимает плечами: это уже не ее проблема. Потом переводит взгляд с тела на Нейт и обратно.
– Она похожа на вас, – замечает патологоанатом.
Инспектор по-новому смотрит на женщину на столе: лет на тридцать старше ее, темно-коричневая кожа бледнеет в морщинках, и она самым очевидным образом мертва. Хинде заботливо собрала ее заново, но следы малоинвазивной нейрохирургии и разных шунтов, стентов и имплантатов спрятать невозможно. Признаки работы самой Хинде, по большей части, укрыты скромным зеленым одеялом. И все равно что-то в этом есть. Похожая линия волос, но другой их тип. У обеих широкие рты, но разный изгиб губ. Точнее, у Хантер губы изогнуты: видимо, она часто улыбалась, и теперь мертвые мускулы принимают самую привычную при жизни форму.
– Не столько по лицу, – говорит Хинде, проследив ее взгляд. – По форме тела. Структуре скелета. Изгиб ребер, непропорциональные бедра. – На миг она замолкает. – Наверное, снаружи это неочевидно.
Нейт соглашается с последним утверждением и меняет тему.
– Если бы вы руководили дознанием, – спрашивает инспектор, – какие шаги вы предприняли бы, чтобы избежать такого исхода?
Хинде пристально смотрит на нее.
– Я – патологоанатом, – отвечает она так, будто говорит с ребенком. – Когда пациент попадает ко мне, такой исход – данность.
Они стоят по разные стороны от тела, но одинаково озадаченные.
* * *
Не нужно анализировать первые мысли в записи, чтобы понять, что Диана Хантер была настроена против Свидетеля и против самого общества, которое на него полагается. Философский аргумент, который Система выдвигает в свою защиту, – безопасность и расширение прав в обмен на полную личную прозрачность – прозвучал для нее неубедительно. Очевидно, она считала неумолимой ценностью право быть свободной от внешнего наблюдения. Разумеется, есть и другие подобные люди, некоторые из них даже остаются в Соединенном Королевстве под управлением Системы, ссылаясь на различные потребности, которые их привязывают к этой стране. Чаще всего проблем они не создают. Протестуют, голосуют, формируют маленькие замкнутые сети, из которых информация неизбежно вытекает наружу, и не хранят сколько-нибудь важных секретов. А настоящий отказник – тот, кто использует аналоговые и скрытые методы передачи информации между целеустремленными полувоенными группами. Это уже совсем другое дело, хоть и доселе почти неслыханное.
Инспектор раздумывает. Пока ее задача – узнать эту женщину. Кем была Диана Хантер? Если бы ей задали такой вопрос, что бы она ответила?
«Я – женщина в полном расцвете сил». Да, конечно, и все остальное звучит как цитата, но все равно похоже на правду. Что еще?
Но прежде этого – прежде всего, что содержится в записи допроса, который закончился ее смертью, – Диана Хантер как-то жила. Ела, пила, спала. Общалась с какими-то людьми и каждое утро просыпалась, чтобы увидеть одну и ту же картину, красивую или не очень. У нее были привычки и предпочтения, история, и все это сделало ее тем, чем она была.
Нейт подключает очки к глобальной сети, чтобы не пропустить ничего важного, а затем спускается по лестнице и выходит на улицу.
* * *
Лондон зимой, будто снимок на слишком долгой выдержке, выцветает до черно-белого. Нейт выходит в совершенную слепоту: ослепительный свет отражается от изморози, оконных стекол и покрытых глянцевыми красками автомобилей. Солнце висит так низко, что кажется, оно светит строго вдоль Пикадилли, так, что улица превратилась в белый тоннель. Безликие прохожие в одежде, покрытой радужными разводами оттого, что ее зрачки сужаются до минимума, текут мимо бесконечным безымянным потоком, отвоевывая пространство на тротуаре у туристов; кажутся не более материальными, чем узор волн, поглаживающих речное дно. Она оглядывается и видит сияющий проспект, рассеченный полосами непроглядной тени, толпу шагающих золотых статуй. Затем Нейт поворачивает за угол, в тень, и зрение вновь приспосабливается, швыряя в нее массу цвета и деталей: алые листья, голубое небо, серый камень, зеленую краску, человеческие лица с разными выражениями – от оживленного спора до молчаливого размышления. У края дороги ждут пассажиров роботизированные рикши, которые находятся под управлением центрального компьютера одной из таксомоторных компаний. Новые модели снабжены дождевыми пологами, которые можно опустить до самого пола, чтобы защититься от обычных теперь для Лондона паводков. Как всегда, они напоминают Нейт стайку пугливых рыбок у кораллового рифа.
Инспектор поднимает взгляд на новую городскую застройку: стальные спирали и стеклянные шпили Любеткина и его последователей, ставшие почти благовидными благодаря современным строительным технологиям, высятся над неоготическими пассажами из красного кирпича, словно мечта о будущем растет из углей и печей прошлого.
Нейт дожидается одного из новых трамваев и уезжает на юг.
* * *
В Лондоне осталось совсем немного откровенно плохих районов, но дом, который она ищет, стоит как раз на границе такого: уродливая долина жилых коробок в бруталистическом стиле, грязных, как умирающие зубы, сгрудившихся вокруг внутренних дворов, которым суждено стать лишь полем боя для местных банд. Нейт кажется, что главная проблема с ними не в проектировании, а в самом их предназначении – быть коробками для хранения лишних людей. Чувство бесполезности неглубоко ушло в камни, и жильцы ощутили его, как только увидели, куда попали. Проект постепенно выродился в череду заниженных ожиданий и приступов еле сдерживаемой ярости. Прошлый век поставил множество таких, медленно закипающих, котлов гнева; их жар впитался в землю и людей так глубоко, что даже Система не смогла сразу его ослабить. Недоброжелатели – такие, как объект ее теперешнего расследования, – указывали на такие районы, как на доказательство того, что Система стала не тем, чем обещала стать, но Нейт тоже учила историю и хотела бы попросить назвать общество, которое справилось лучше с наследием прошлого. Уж точно лекарство – не прежние, номинально представительские варианты демократии, которые, собственно, и породили этот ужас.
Дом стоит прямо над долиной, но смотрит в другую сторону. Инспектор ступает на мостовую и смотрит вслед уходящему трамваю. Минутный порыв требует немедленно побежать за ним, забраться внутрь и поехать до конечной. Трамвай – отдельный пузырь в пространстве, гордо отделенный от остального мира. Время внутри идет чуть иначе, и пассажиры внутри физически не могут взаимодействовать с людьми снаружи. Трамвайные рельсы – вторжение в будничное пространство другой физической зоны, хоть и настолько обычное, что мало кто осознаёт увиденное. Конечные станции, как и аэропорты, – стыки, перекрестки, места, где временной континуум растворяется в реальности консенсуса. Они находятся там, где заканчиваются рельсы, – на границе двух сил: предельно предельны. В таком сложенном месте, конечно, должны найтись ключи к любой загадке, выброшенные прибоем на берег человеческих поездок.
Нейт фыркает, поймав себя на посторонних мыслях – диалоге между бессознательным желанием сбежать и логикой, ставшей частью ее профессионального арсенала.
Она оглядывается, поворачивается к камерам на фасадах и фонарных столбах, высматривает слепые пятна – заложенные и непредусмотренные, ищет тайники, которые выбрала бы в детстве, чтобы играть в прятки; невысокие стены, где девочки-подростки судят состязания в показном удальстве среди молодых самцов. Выискивает обертки от гамбургеров и пластиковые бутылки, сигаретные окурки, иглы, выброшенные телефоны – все, что могло бы рассказать историю. Это, конечно, будет не та история, которую она хочет услышать, но все истории где-то пересекаются и в конце концов оказываются одной историей.
Инспектор чувствует проблеск внимания. Ее взгляд снова прочесывает все вокруг, пытаясь выхватить то, что почти наверняка существует лишь в ее голове. За что уцепилось подсознание, что пытается протолкаться в ее мысль? (Знак ограничения скорости. Общественный клуб, запущенный и покрытый метками граффити. Газетный киоск. Переполненный мусорный бак.) Расследование – это паутина, а не одна ниточка. Толпа, а не один человек. (Припаркованные машины. Велосипеды. Сломанный общественный терминал доступа в сеть. Кровь на мостовой: из носа, бытовая драка, точно ничего серьезного.) Какая ниточка из тех, что она видит, может под другим углом
оказаться частью сети? И какой сети? Кого в нее ловят? Нейт ходит туда-сюда, заглядывая под лавки и переворачивая мусор, точно хорошо одетая нищенка. Интересно, Хантер так делала? Она внимательно следила за тем, что ее окружало. Ей было не все равно. Она была здесь каким-то центром, так что – да, наверняка. Она ходила по этой брусчатке и видела то же самое: Хантер, которая писала гневные письма и возмущалась спонтанными ночными посиделками молодежи на лавочках напротив ее дома. Та же самая Хантер, которая давала этим же недовольным подросткам книги и, вероятно, подкармливала их. Есть тут противоречие? Или это хитрый обман? Либо просто человеческий характер? Люди непоследовательны.
Одинокий человек с собакой пристально на нее смотрит, а затем фотографирует и вывешивает в сеть с запросом о подозрительных действиях на улице. Свидетель немедленно присылает сообщение о том, что ее сфотографировали, а на его запрос отвечает благодарностью и кратким разъяснением ситуации. Уровень клинической паранойи заметно снизился относительно до-Системных показателей. Выяснилось, что многие случаи заболевания происходили от чувства собственной незначительности, глубокого, почти экзистенциального страха, что тот или иной образ жизни не имеет значения на фоне напора и гомона большинства или бесчеловечного равнодушия Вселенной. Система замечательна еще и тем, что для нее нет людей незначительных. Всякое действие, выбор, тревога, вопрос, даже смелое прозрение или идиотское подозрение – все примет и взвесит бесконечная и безмятежная машина. Отныне нет безмолвия, в которое проваливаются одинокие: Система искренне заинтересована в каждом.
Человек с собакой получает ответ и понимающе кивает ей. Он даже красивый, особой зрелой красотой. Она отмечает его пост, чтобы потом подумать. Можно его пригласить куда-нибудь выпить, если у него никого нет. Добросовестный мужчина с широкими плечами и хорошо воспитанной собакой. Пока они очень даже совместимы. Нейт приказывает машине провести фоновую проверку, чтобы убедиться, что он не асексуал. Поколебавшись, она приказывает Свидетелю скрыть результаты: раз он не опасен, не хочется совать нос. Если заранее все узнать о мужчине, на свидании и поговорить будет не о чем.
Он отворачивается и уходит следом за своим псом.
Нейт тоже поворачивает и осознает, что оказалась у дверей нужного дома. Она видит отражение улицы в окне и чувствует: это важный момент, своего рода Рубикон. Она пытается ухватить это чувство, но интуитивное прозрение уже нырнуло обратно в море ее мыслей. Нейт представляет себе, как большая рыбина уходит на глубину.
Инспектор разглядывает дом.
Дом Дианы Хантер стоит в самом конце улицы – отделанный штукатуркой таунхаус, к которому когда-то, наверное, прилегали другие такие же, но теперь он стоит в одиночестве среди заросшего кустарником сада. Это старая усадьба настолько подчеркнуто держит дистанцию с другими зданиями, что инспектор легко представляет себе, как она подбирает юбки с кринолином и отворачивает крыльцо от назойливых многолюдных верзил двадцать первого века. Это последний дом, за кустами мягкий склон резко уходит вниз, пока его не перегораживает забор из проволочной сетки, за которым виднеются заброшенные железнодорожные пути, а за ними – долина умирающих зубов.
Дом не такой и чопорный. Диана Хантер покрасила его в причудливое сочетание блеклых цветов: то ли нарочито пошла против его имперского духа, то ли просто не хватало краски. В результате получилась дружелюбная цыганская пестрота, будто гигантский пазл, который гостю предлагается сложить. Тяжелая деревянная дверь, приличная дверь приличного дома. Если Нейт и раздражает что-то в эпохе, в которой ей выпало жить, это массовое увлечение лами-
натом и пластиком в ущерб упругой и органической твердости дерева. Дверь должна быть частью дома, которая говорит о жизни, а не о сметке инженера. И эта дверь говорит о жизни громко и ясно, а ступени крыльца заметно вытерты. Здесь кипела торговля, и совсем недавно. Диана Хантер продавала и покупала.
При ближайшем рассмотрении на площадке обнаружились царапины и слой пыли: здесь дверь регулярно чем-то подпирали, чтобы впускать и выпускать множество людей. Такие метки бывают в деревенских клубах, а не в частных домах. А какой клуб будет стоять за околицей деревни? Клуб с дурной репутацией? Может, Хантер устроила бордель? Нет. Такое бы Свидетель не упустил. Что еще вытесняется на периферию? В наши дни, наверное, психотерапевт. И полицейский участок, вдруг понимает инспектор. Или дом ведьмы может так стоять, на самом краю, но все равно доступный всем, у кого есть в том нужда. Дом мудрой женщины.
Надежная дверь открывается бесшумно. Нейт почти ожидала услышать скрип, но петли недавно смазывали, и сама дверь повешена с достойным восхищения мастерством. Инспектор вносит коррективы в образ покойной владелицы дома. Эксцентричная – наверное; недружелюбная, ворчливая соседка – наверняка, но хорошо организованная, даже предельно тщательная – в тех областях, которые привлекли ее интерес.
Инспектор понимает, что по-прежнему стоит на пороге.
Затем – три шага внутрь, она останавливается и с оторопью чувствует, будто вернулась домой.
* * *
Нет одного признака, который делал бы этот дом таким тревожно знакомым. Дело не в старом зеленом ковре, пахнущем стариной, не в старомодной темноте, не в высоких потолках и резных галтелях над темно-лиловыми стенами; не в милом хаосе – так, наверное, выглядит искусство, если не прятать его за стекло. Все это на самом деле должно бы сделать дом Дианы Хантер тесным и слегка зловещим, но почему-то этого не происходит, будто сочетание антиминимализма и теней сотворило здесь храм утраченной хтонической идеи интерьерного дизайна. Тоска по дому становится ошеломительной до головокружения. Здесь ее место, в этой прихожей с книжными полками вдоль одной из стен, кустарным серебряным чайником на столике в углу, рядом с подставкой для зонтиков. Она пытается подобрать название этому чувству и вспоминает – Fernweh. Это по-немецки – тоска по месту, где никогда не был, горечь от разлуки с людьми, с которыми еще не познакомился.
Инспектор качает головой – слишком много поэзии – и оглядывается по сторонам, находит опору в своей работе.
Прихожую пропитал запах библиотеки: меланхолия, ученость, бумага и пыль. Ни следа запахов замкнутой старушки, пудры и старомодных духов. Зато от мебели пахнет пчелиным воском, масляной краской и скипидаром, но прежде всего и неумолимо – знанием. Это уже почти слишком, слишком показательно, будто декорации для фильма о Леонардо да Винчи или Альберте Эйнштейне. Здесь живет книжник. Нейт смотрит в коридор и видит: да, конечно, опять книги. Инспектор тянется к терминалу, чтобы открыть план дома из своих файлов, но вспоминает, что он не будет работать, потому что Хантер решительно и сознательно отрезала свое жилище от сети. Нейт все равно пробует, но изоляция полная. Она осматривает стены, пытаясь понять, где скрыта клетка – где под штукатуркой спрятан блокирующий связь каркас. Инспектор закрывает глаза и припоминает план: коридор ведет в гостевую ванную, заваленную мусором, – хотя теперь она уже не так уверена в этом суждении; кажется, тут ничто не является в прямом смысле слова «мусором». Что может упустить поверхностный взгляд молодого констебля в груде неописанного имущества Дианы Хантер? Например, картину Тициана, прислонившуюся к коробке с морскими узлами.
Нейт идет по коридору, касаясь книжных корешков. В конце ее ждет надбитый гипсовый бюст Шекспира в алькове. Инспектор опускает взгляд и находит с проказливой уверенностью выстроенные ровной шеренгой творения самой Дианы Хантер. Нейт просматривает названия, позволяя подсознанию выбрать, какую вытащить из строя: «Говорящий узел», «Расследования мистера Труппа», «Сад безумного картографа», «Пять кардиналов Z» и последняя «Quaerendo Invenietis». Инспектор делает в уме отметку, что вещи в доме должны считаться финансово ценными и охраняться соответствующим образом. Она снимает с полки выбранные тома, наверху стопки «Quaerendo», и неуклюже прижимает книги рукой к груди.
На миг она задерживается, разглядывает бюст. Сколото ухо, давно, и реконструкция выполнена великолепно, но не замаскирована. Нейт вновь оглядывается, понимая, что многие вещи здесь треснули или сломались, а потом их заново собрали. Окна, зеркала, половицы, плинтус. Корешки книг. Наверное, поэтому Хантер могла себе их позволить: все эти вещи выброшены страной, влюбленной лишь в новенькое и блестящее и, прежде всего, в вещи, которые рассказывают свою историю через электронные записи, а не вязью старых шрамов. Хантер готова впитывать прошлое через трещинки в стекле, отломанные бронзовые ножки и замененные когда-то линзы. Она готова чинить и использовать заново.
«Была», – поправляет себя инспектор. Была готова.
* * *
Прислонившись к стене, инспектор осматривает добычу. На обложке «Quaerendo Invenietis» золотом сверкает пятно в виде, как ей сперва кажется, птичьего контура, вероятно, орла или кондора, раскинувшего крылья на ярко-красном фоне. Странно, что названия нет, но, видимо, эта книга, изданная крошечным тиражом, должна быть и так известна покупателю. При ближайшем рассмотрении кондор оказывается не птицей, а ожерельем или юбкой с узором, намекающим на какую-то связь с Южной Америкой. В голову сразу приходит слово «аксолотль», но Нейт понимает: это нечто другое. В памяти вертятся имена, почерпнутые в детстве из походов в музей: Кетцалькоатль, Тлалок. Она ходила туда с дядей, ученым. Масатеки? Нет. Проще. Хитрее. Будь здесь сеть, она бы уже знала. Поставив клетку Фарадея, Хантер не просто жила на отшибе, а буквально вернулась к иному способу существования. Это в определенной степени отдалило ее от общества, сам факт такого выбора. Как человек, который никогда не путешествует, имеет принципиально другой жизненный опыт по сравнению с тем, кто проводит выходные в Барселоне. Насколько полным стало это разделение? Достаточно, чтобы Хантер возненавидела всю страну? Может, ее не по ошибке арестовали?
Инспектор открывает книгу и видит пустую страницу. Она цокает языком от такого невезения, пробует снова, опять видит белый разворот, еще один; затем понимает, что листает издательский макет, в котором нет текста. Досадно. Нейт открывает следующий том, другой и видит, что они все одинаковые. Инспектор чувствует колебания воздуха и с сухой иронией думает: уж не призрак ли это Дианы Хантер посмеивается? Она откладывает пустышки и осматривает полки в поисках менее обманчивых изданий.
Нейт продолжает искать и вновь чувствует сквозняк, на этот раз сильнее и явственнее. Если бы не идеальное состояние дома, можно было бы все списать на порыв ветра снаружи. Если бы она стояла не в коридоре, а в одной из комнат, скорее всего, ничего бы не ощутила. А здесь движение воздуха чувствовалось отчетливо: будто дверь где-то открылась и закрылась. Но это дом убитой, место преступления под охраной Свидетеля; она – инспектор при исполнении. Здесь не должно быть никого без ее прямого разрешения.
Будь это почти любой другой дом, Нейт могла бы просмотреть запись с местных камер за последние несколько часов и проверить, подходил ли кто-нибудь к усадьбе. Инспектор думает, не выйти ли на улицу, чтобы это сделать, но если она так поступит, а в доме останется улика, которую желает иметь преступник или хочет не дать ей получить, то Нейт рискует ее потерять. Если вызовет подмогу, тоже. Можно попробовать открыть окно и высунуться наружу. Инспектор представляет себе постыдную, тактически проигрышную картину и отвергает такое решение.
Она разматывает шарф и бросает его на пол. Никто из выпускников Хокстона не войдет на место вероятной схватки с готовой удавкой на шее. Наступая на внешнюю сторону стопы, она идет по ковру почти бесшумно, подбирается к кухне по коридору и останавливается. Опять сквозняк. Она чувствует, как половицы под зеленым ковром подаются, и понимает, что рано или поздно наступит на ту, которая скрипнет.
Кухню отделяет от прихожей нитяной занавес, пряди медного цвета опутывают множество мелких предметов: втулки, занавесочные кольца, вентили. Нейт касается его. Холодный, тяжелый. Она не сможет пройти внутрь без шума, поэтому даже не пробует. Все равно там пусто. Инспектор горбится, прислушивается, но не закрывает глаза. Люди, не привыкшие использовать свои чувства, ошибочно считают, что сосредоточиться на одном легче, если отказаться от остального. На самом деле все чувства взаимозависимы и подкармливают друг друга. Человека труднее услышать, если не видишь губ, труднее на ощупь отличить холодное от мокрого, если заткнуть нос.
Где-то справа, на том же этаже, раздается звук. У него нет четкой формы и названия, но какой-то шум был. Нейт цепляется за него, выпуская воздух через открытый рот. Если задерживать дыхание, услышишь только стук собственного сердца. Вот. Опять. Краем уха, но можно различить. Если расслабиться, фоновый шорох дома поглотит звук.
Мьеликки Нейт может часами стоять неподвижно. Ей не надоедает, мысли не разбегаются. Она не считает секунды и не гадает, что будет дальше. Внимательно впитывает все, что может принести новые данные, фиксирует изменения, и этого ей хватает. Трюку – погружаться в тишину, в которой другим людям невыносимо хочется заговорить, – она обучилась.
На кухне открыто окно, хотя не должно: стекло подпирает кусок фанеры, в такую щель может пролезть худой мужчина. Или худая женщина. Или ребенок. Может, в этом дело? Предприимчивый местный вор, который выбрал худшее время из возможного, или отважные влюбленные: заберитесь в пустой дом, напугайтесь как следует, займитесь любовью на ковре. Пока Нейт тихо пробирается по коридору к главной лестнице в поисках места, где лучше слышно, ей приходит в голову, что весь план дома будто нарочно составлен таким образом, чтобы создавать препятствия и слепые зоны. Куда ни брось взгляд, увидишь предмет, над которым стоит задуматься. Даже сейчас, когда она подозревает, что в дом проник опасный преступник, обстановка отвлекает. Картина на стене повешена идеально; тепло поблескивает, привлекая взгляд, масляная краска. Отводишь глаза и видишь стопку глянцевых записных книжек с обложками тех же оттенков – объяснения, истории работы. Тут месяцами можно ловить себя за хвост и ничего не найти, но так и было задумано. Нейт все труднее поверить, что женщина, создавшая это пространство, попалась бы на глаза Системе, если бы хотела остаться в тени.
Едва слышный скрип из гостиной. Не кашель, не всхлип, не стук шагов. Но Нейт уже в полной готовности, потому что это первый однозначный звук человеческого передвижения – целенаправленного и, похоже, вороватого. Инспектор ждет. В дверях никого нет. Шум не повторяется.
Нейт вооружена: в кобуре за спиной лежит мощный тазер. Инспекторы обычно не носят боевое оружие, и пистолет плохо подходит для схватки в тесном помещении. Если расстояние до противника меньше пятнадцати футов – а большинство столкновений в британских домах будут происходить именно на такой или меньшей дистанции, – им не хватает быстроты. Пуля же, выпущенная даже из маломощного пистолета, пройдет навылет и повредит другие вещи, например очевидца или газовую трубу. Тазер – компромисс, но не самый удачный, поскольку выстрелить можно всего два раза и пробойная сила ограничена. На крайний случай у нее есть телескопическая дубинка – нечто среднее между палкой и хлыстом. Разумеется, если она всерьез полагает, что ей грозит физическая расправа, надо немедленно выйти наружу, в поднадзорное Свидетелю пространство, и вызвать подмогу.
Но если она так поступит, может упустить шанс поговорить с человеком, который боится довериться полиции, а в такой необычной обстановке инспектор не может узнать, кто это, не встретившись с ним лицом к лицу. Учитывая характер Дианы Хантер, не стоит сомневаться, что в доме есть потайные входы и выходы.
С другой стороны, если Нейт вызовет констеблей, а внутри обнаружится только малолетняя девочка, которая ищет библиотечную книжку на память о своей любимой учительнице, выглядеть это будет жестоко. Мало того, что сотрудники Свидетеля совершили ошибку и позволили человеку умереть под арестом, еще и напугали школьницу во время расследования, призванного обосновать неизбежность этой смерти… ну уж нет.
Она – полиция, и она – Система. Она пойдет на обдуманный риск.
Второй нитяной занавес. На этот раз – в два слоя. Стук-постук. Такая же сорочья смесь примотанных предметов. Наперсток, кубик лего, пуговица. Тут проходит нить, тут обходит. Нейт чуть касается медных нитей, чтобы они легонько затрещали. Затем отступает на шаг и ждет.
Понимает, что и другой ждет, тоже вполне уверен в своем терпении. Уже решила войти, потому что это не похоже на попытку убийства. Процедура оставляет решение в ее руках.
Нейт входит.
Полумрак. Глаза приспосабливаются медленно. Книги, снова книги. Еще одна дверь сбоку, новый нитяной занавес. Хантер оптом купила; нет, конечно, их дети плетут. Игровая группа. Идеологическое внушение? Вряд ли. Просто очень старая и простая методика обучения – моторные навыки и сосредоточение, тихие вечера.
На стенах – павлиньи перья (значение: дурной глаз. Суеверие или издевка над наблюдателем. Шутка или бессознательный выбор?) и статуэтки. Теперь она повсюду видит глаза: бронзовые пустые глазницы пялятся на нее, стеклянисто поблескивают куклы. Резные маски ждут того, кто их наденет. В банке препарат какого-то растения, подписанный как воронец колосистый с маленьким значком «яд», – и снова глаза: белые круглые плоды с черными кружками зрачков на алых стеблях. Более жуткого растения она в жизни не видела, будто явилось прямиком из кошмаров про фермы, где выращивают органы.
За банкой – мужчина. Или женщина. Смотрит на нее и говорит:
– А, инспектор. Присаживайтесь.
* * *
Инспектор не садится.
– Как вы сюда вошли? – резко спрашивает она.
– Я – Лённрот, – следует ответ лица, все еще раздутого за банкой с препаратом так, что больше напоминает брюхо ската.
Нейт пытается одолеть незнакомое имя, ухватить его смысл как текст. «Лён рот» или «народ»? Явно не английское. Отсутствие сети сказывается, потому что Лённрот вздыхает и повторяет попытку:
– Вы ведь инспектор Нейт, да?
– Это закрытое здание, – отвечает инспектор. – Как вы в него проникли?
– Может, у меня есть ключ.
– А может, нет.
– Ну, тогда, наверное, я могу… – слишком широкая ухмылка – …проходить сквозь стены. – Легкий взмах руки развеивает подступающую скуку. – Регно Лённрот. Понимаю, имя довольно напыщенное, но тут уж не моя вина. Его можно перевести как «царство Красного Клена». Владения, увы, небольшие, зато лично мои. Прошу вас, инспектор, расслабьтесь. Клен – растение безобидное, если вы, конечно, не лошадь. Вы нашли ее дневники?
Странный запах, горький и жаркий, – черная сигарета в пепельнице: настоящий табак. Может быть незаконно – это частный дом, но, разумеется, не Лённрот им владеет. Кража со взломом, отягчающие обстоятельства: преступное курение?
Инспектор сдвигается очень медленно, чтобы рассмотреть собеседника. Впивается глазами – точнее, как положено сотруднику Свидетеля, на чье закрытое место преступления явилась неустановленная личность, неодобрительно и внимательно разглядывает. Она не может с уверенностью сказать, мужчина это или женщина. Может, и нет однозначного ответа. Тонкая, легкая фигура, красивые руки, узкие пальцы сложены домиком. Насмешливое выражение на андрогинном лице. То ли иронично-одобрительное, то ли издевательское. Лённрот носит черное: черный свитер, черный пиджак, черные брюки. Черные ботинки на кубинском каблуке. Черные волосы, слишком белая кожа. Почему-то думаешь о болезни или операции. Плечи квадратные, но стройные. Ушедшая на пенсию поп-звезда, готический вампир, владелец ночного клуба. Социопат. Актер по системе Станиславского. Оживший классический образ Уорхола. Ассоциации катятся по бледному лицу и уходят в никуда. Нет рамок. И нет связи с сетью, потому что дом превратили в клетку Фарадея. Впервые за всю свою взрослую жизнь инспектор понятия не имеет, с кем разговаривает.
– Дневники? – переспрашивает она.
Лённрот кивает:
– Дневники, записи, выписки. Молескины, исписанные зелеными чернилами. Маргиналии на полях «Над пропастью во ржи». Знаете, Иосиф Сталин обожал делать записи на полях. Его заметки в книге Нечаева – историческое открытие, которое ученые постыдно игнорируют. Да, ее дневники. Ее мысли. Записи, которые, если собрать их вместе, могут показать охват ее сознания. Знаете, где они?
– А вы?
– Очень хотелось бы. А вам бы лучше очень хотеть принести их мне.
– Почему это?
Широкие темные глаза смотрят прямо на нее с искренней заботой.
– О, потому что они опасны, инспектор. Крайне опасны для всего, что вы… Хм. Давайте скажем просто, что они опасны, и всё. Но я могу развеять эту угрозу. Я ведь вами восхищаюсь. «Ограбление Картье» – блестящая работа. Жаль, конечно, что с Ваксой не получилось, но искусство определяется своими недостатками.
Лённрот замолкает. Длинные пальцы поправляют рамку на каминной полке: грубый деревянный квадрат, обрамляющий портрет нарочито привлекательной женщины в очках по моде ХХ века, которая гордо стоит перед огромной стопкой чего-то, похожего на старинные перфокарты.
– Знаете, – шепчет Лённрот, – годами меня не покидала уверенность, что она играет Злую Ведьму. А теперь она здесь, в этом доме, смотрит на меня из своей рамки. Или это я смотрю на нее из своей?
Я вижу свои мысли на экране.
– Чем именно опасны? – спрашивает Нейт.
Неприятно гладкий лоб морщится, и инспектор понимает, что Лённрот хмурится.
– Не могу сказать наверняка. Нужно было закончить «для всего, что вы любите». Прошу прощения за неточность. Четкие формулировки могут ускорить наступление того самого кризиса, которого я всеми силами хочу избежать, прежде чем пойму, чем он разрешится. Итак: давайте лучше сойдемся на «опасны», и дело с концом. Не стоит сентиментальничать – это некрасиво. Кстати, вы не ответили на мой вопрос.
– Да, – соглашается Нейт. – Не ответила.
Лённрот сухо кивает. Инспектор проводит рукой по лицу, вручную делает снимок очками: Лённрот и портрет в деревянной рамке. Этот человек, этот предмет, эти отпечатки. Это место. Это время. Цепочка улик, связывающих неподнадзорный дом с миром, где все должным образом документируется. Ей и в голову не приходило, как страшно столкнуться с кем-то вне поля зрения Свидетеля. Что-то вроде свободного падения: пропадают кардинальные направления и теряются стороны света.
Белозубая улыбка становится шире.
– Нет, правда, вы просто великолепны, – говорит Лённрот. – Мне повернуться и подставить вам свою лучшую сторону?
Но длинное тело сгибается и опускается в высокое кресло красного дерева, бледные пальцы охватывают лица Дионисов, вырезанных на подлокотниках.
Нейт пожимает плечами и садится напротив, по другую сторону такого же столика.
– Что вы знаете о Диане Хантер?
– Она ясно видела вещи и не поддавалась заблуждениям. Умела глубоко мыслить, в том числе анализировать собственные ошибки. Она была еретичкой. Даже в смерти, как говорится, голова ее поет на водах. Она была замкнута и стара. Очень боюсь, что она может вызвать затруднения. С другой стороны, она может оказаться другом, с которым мы еще не познакомились. Впрочем, такие чувства часто вызывает автор, чьими книгами ты восхищаешься. Вы любите читать, инспектор?
– Нет. Это вы на нее донесли?
– Я люблю читать. Особенно дешевые детективы. Человеческое состояние точнее всего отражается и фиксируется попсой, как мне кажется. Уродливая бытовая похоть, противоречивые желания напрочь игнорируются более самоосознанными писателями, которые стремятся счистить шлак, чтобы открыть миру внутреннюю личность, а она существует, разумеется, только как сумма шлака. Например, мне было интересно внимательно изучить убийство в литературе. В сущности, как мне кажется, убийца – это ваш двойник, вывернутый наизнанку детектив. Вы сталкиваетесь с преступлением, только когда оно уже совершено, как сегодня. Осматривая тело, изучая характер умершего, его привычки и обиход, а также все материальные улики и более-менее очевидные мотивы, вы открываете лицо убийцы и вершите правосудие. Преступление, расследование, последствия. Убийца, наоборот, связан заказом на убийство. Последствия утверждены – плата и смерть. Затем убийца некоторое время изучает обиход и привычки жертвы, а потом, уже точно зная расположение органов в теле, воздействия ядов и ран, переломов и удушений, наносит удар и уходит. Заказ, подготовка, преступление. Смерть стоит, точно зеркало или центральная ось, между убийцей и следователем, но они, оба, по сути, вовлечены в одно и то же странствие, их взаимные роли зависят исключительно от направления движения. Если время течет в одном направлении, детектив вынимает нож из трупа. Если в другом, это он вонзает нож в бездыханное тело жертвы и совершает таким образом кровавый обряд воскрешения, который затем приходится завершать убийце – устраивать жестокую засаду, чтобы цель ушла целой и невредимой. Скажите честно, вы согласны?
Инспектор молчанием дает понять, что еще не получила ответа на свой первый вопрос.
Тонкая шея снова сгибается в знак понимания.
– Ладно. Нет, я не имею отношения к доносу. Вы, возможно, так и поступили бы, но это противоречит моему образу действий. Вы уже знакомы с Огненными Судьями?
– Если это приглашение на концерт, надеюсь, вы умеете принимать отказ.
Эти слова прозвучали прямо у нее в голове: дерзкий сыщик отмахивается от загадочной помпезности. Очень в духе этого разговора, но на сей раз Лённрот возмущается. Тонкие губы кривятся в знак оскорбленного достоинства. Под носом ни волоска. Женщина? Или мужчина, который очень много времени проводит перед зеркалом с бритвой? Электродепиляция? Алопеция? Темные космы могут оказаться париком. Или имплантатом. Ей хочется потрогать их и выяснить – профессионально: мысль о сексуальном контакте с этим человеком кажется запретной, не омерзительной или уродливой, но совершенно чуждой, как заняться любовью с книжным шкафом. Таинственная долина: место, где симуляция очень близка к реальности, чтобы чувствовать себя комфортно, но еще слишком далека от нее, чтобы их перепутать. Нейт думает, что все лицо может быть пересаженным, накладным. И что скрывается под ним?
Лённрот смотрит мимо нее и обращается к пустоте, будто с церковной кафедры. Видимо, воображаемые прихожане, каковы бы ни были их грехи, лучше слушают, чем полицейские, которые отпускают плоские шуточки.
– Согласно средневековой легенде, Огненные судьи – пять мужчин и женщин, живущих на земле, чья задача – открывать, буквально расшифровывать загадочный выбор Бога. Разоблачать и развеивать тайну сакрального. Как Орфей или Прометей, они – врата в небесный город, спинной хребет, связующий земной мир и горний. Вместе они – пространство, где тень на стене может на миг пожать руку того, кто ее отбрасывает. Или, быть может, наоборот. Быть может, убийца свят, а детектив грешен. – Лённрот вновь строго хмурится. – Столько всего зависит от угла зрения.
Инспектор понятия не имеет, что ответить, и опасается, что рассуждения о религии в широком контексте убийства и его символической важности могут привести к опасному безумию, поэтому выжидает немного и возвращается к сути дела.
– Но вы не знаете Диану Хантер.
Белый лоб вновь становится гладким.
– Теперь, смотря на ее дом, я сомневаюсь, что хоть кто-то ее знает. Выпить хотите?
И действительно, за время короткой паузы Лённроту удалось налить в стакан виски – без воды и льда. Длинные пальцы охватили его, лаская граненое стекло, как прежде холили резные подлокотники. Нащупали трещинку и поглаживают ее. Лённрот устало смотрит ей прямо в глаза, взглядом повторяя вопрос.
Частный детектив сказал бы «да», инспектор Свидетеля сказал бы «я на службе». Нейт говорит:
– Хантер разозлится, если мы выпьем весь ее скотч.
Это уже лучше, больше похоже на типичный чандлеровский диалог: странная смесь флирта, бравады и соучастия. Интересно, Лённрот напомнит ей, что мертвым нет дела до шотландского виски? Но ответ лишь:
– Разумеется.
Бутылка скользит к ней по полированной столешнице.
Инспектор наливает себе приличную порцию. Ей ведь необязательно выпить хоть глоток. Это бутафория, реквизит – для Лённрота так же. Она поднимает стакан, вдыхает. Лённрот опять лучится довольством, ухмылка не сходит с губ.
– Что до моего образа действий – вы ведь понимаете, что я имею в виду? Да, разумеется. Ладно. Вы беспокоитесь, что я – ваш противник и погибель в этом деле. Но я не злодей. Думаю, в конце концов мы с вами окажемся на одной стороне.
– На одной стороне чего?
– Дела, конечно. Но, возможно, и всего остального.
– И в чем ваш интерес?
– Во всем?
– В этом деле.
– Хорошо. Недавно мне поручили уладить кое-что с некой группой людей. Это личное дело – долг, который нужно отдать.
– Они называют себя Огненными Судьями?
– Увы, в этом отношении вы вполне правы. «Огненные судьи» день через день играют часовой сет в «Герцоге Денверском» на набережной. Новая волна, классический фьюжн. Чувствую, вам понравится. Нет, я ищу кого-то другого.
Инспектор пытается понять, означало ли это «да». Тонкая улыбка как бы говорит ей: раз ты проявила грубость, гадай сама.
– А когда вы их найдете, этих людей?
– Извините, но это тайна клиента. Скажу только, что, с одной стороны, я глубоко уважаю их работу, но меня беспокоит их конечная цель. Опять вопрос направления, видите? Их выбор определит и мою реакцию.
Огненные судьи. В обычной ситуации она уже поискала бы это словосочетание через очки, сравнила бы вторичные значения с контекстом. Но не в Фарадеевой клетке Дианы Хантер. Ладно, потом. Нейт представляет себе, как садится за свой стол и запускает поиск, чтобы точно не забыть это сделать.
Виски пахнет восхитительно. Она пьет. Глупо, конечно. Но если Лённрот хочет ее отравить, это, наверное, самое неэффективное покушение, какое она может вообразить.
– Среди этих людей была Диана Хантер?
– Тут все сложнее. Я полагаю, что в конечном итоге – и учитывая тот факт, что она мертва, это затасканное выражение обретает свою истинную важность, – нет.
– Но связана с ними.
– О да.
– И связана с вами.
– Вы не находите, что попросту все нынче связаны? Даже такой человек, как миссис Хантер. Инспектор, я за вас беспокоюсь. Я разрываюсь на части. Боюсь, это дело заведет вас в такие места, где вы не будете в безопасности.
– Какое рыцарское благородство.
– Считайте, что это профессиональная этика.
– Потому что вы – детектив.
– Или хитрый обманщик? Простите. Я ничем от вас не отличаюсь. Точнее, почти ничем. Вы – недвусмысленно явлены в обществе, в котором живете. Я же лишь подразумеваюсь. – Длинные пальцы поглаживают сигарету. – Где детектив, там и увеличительное стекло. Где стоит орга́н, будет и органщик.
На миг она слышит «обманщик».
– Так на кого вы работаете?
Вздох – вызванный, как ей кажется, вопиющей прямолинейностью.
– На определенном этапе, инспектор, вам придется задать себе один вопрос. Это длинный вопрос. Не тот, на который можно ответить или хотя бы сформулировать несколькими словами. Он выражается в этапах, ибо ответ на каждый раздел открывает врата к следующему. Истина в угловом моменте: узор откликов вокруг центрального ядра. Вы – женщина, которая счищает шелуху с луковицы. Каждая открывает ответ, исчезает, и появляется следующая. Все правдивы, и в каждой кроется намек на происхождение следующей, пока однажды взору не откроется целостность, и она окажется вовсе не такой, как предполагали отдельные части. «Я коснулся слона, и он похож на дерево». Понимаете? Наверняка вы уже это слышали. Но все начинается очень просто.
– Как?
– Вы спросите: «Убили они ее или нет?»
– Это и есть предмет моего расследования.
– Нет, нет. На данный момент вы ведете лишь собственное расследование. Ищите подходящую головоломку, что-то подозрительное: кровать, привинченная к полу; краденый гусь; бородатый лепидоптеролог.
– Ладно. В данном случае «они» – это кто?
Голова скашивается налево, затем направо, слишком медленно. Инспектор понимает, что Лённрот качает головой, но не умеет этого делать.
– Что бы вы сделали, если бы в процессе дознания узнали, что мир приближается к своему концу? Продолжили бы расследование или побежали на улицу голышом, чтобы провести последние часы существования в плотских радостях? Думаете, один вариант лучше другого?
– Миру не грозит скорый конец.
– Кто может сказать наверняка?
Нейт не отвечает, и через некоторое время Лённрот продолжает:
– Что ж, хорошо. «Они». Вечные «они» любого детектива. Враги. Казнокрады и отравители. Стеганография повсюду. Но вы спустились на круги своя и полагаете, что из нижнего мира выудите правду о Диане Хантер, но там найдете лишь духов и призраков. Если приведете их за собой в мир яви и не будете слишком строго испытывать их реальность, вам дадут повышение и назначат следующее дело. Если обернетесь и усомнитесь в них, они растают во тьме, а вы собьетесь с пути. Странствие может закончиться печально. Быть может, вы поймаете своего убийцу. Или просто убийцу. А может, не было никакой Дианы Хантер и никакого мира до вчерашнего дня, а завтра снова ничего не будет. Простите: я лишь хочу посоветовать вам отступиться и прекратить охоту.
Инспектор пожимает плечами с некоторым сожалением: она знает, что для этого слишком поздно.
– Вы прощены. И к тому же арестованы. У вас есть право на защиту и право подать апелляцию по поводу своего задержания в случайно избранный комитет равных. Я информирую вас о своем намерении обратиться за ордером на расследование вашего участия путем прямого считывания памяти и чувственных впечатлений. Вы можете ничего не говорить, но прямое словесное описание всех ваших действий может оказаться для вас более приемлемым и будет принято постольку, поскольку позволит обеспечить необходимый уровень общественной безопасности.
Идеальная бровь взлетает вверх, угольная на мраморе. И снова эта невыносимо спокойная улыбочка.
– Обменяемся последней парой вопросов в духе детективной коллегиальности? Так бы поступил Богарт.
Она чувствует напряжение в этом гамбите и сама себе удивляется, когда говорит:
– Один вопрос.
– А у меня их, похоже, два. Может, согрешим вдвойне?
– Один.
Вздох.
– Что ж, хорошо: как вы думаете, давно ли начался допрос Дианы Хантер?
Она отвечает без колебаний:
– Дела по дознанию всегда закрываются в течение двенадцати – восемнадцати часов. У людей просто нет больше данных в головах.
Уже отвечая, она поняла, что, если бы было так, Лённроту не пришлось бы задавать этот вопрос.
Лённрот кивает:
– Совершенно верно.
Нейт размышляет и говорит:
– Расскажите о дневниках.
– Набор записей, вероятно, для романа, который она так и не написала. Образы и личность. Понимание того, кем она была и как такой стала. Мне они ценны, но вам – куда меньше. Мелочи дороги коллекционеру.
Инспектор качает головой:
– Я думала, у нас честная игра.
– Ну, фраера всегда так думают.
Лённрот поднимается и протягивает обе руки, будто для наручников, но затем с неимоверной быстротой сокращает расстояние между ними. Нейт хватается за тазер, но сильная ладонь падает ей на плечо и зажимает нерв, потом другая охватывает ее голову. В следующий миг инспектор летит в стену. Она узнает репродукцию картины из серии «Собаки играют в покер» Кулиджа. Казалось бы, они должны быть повсюду, но Нейт вдруг понимает, что эта – первая, которую она увидела в жизни, а затем врезается в стену. Дом Дианы Хантер построен угнетающе надежно. В более современном жилище она пробила бы дыру в гипсокартоне, но только не здесь. Нейт сползает вниз по стене и болезненно падает на пол. Комнату загораживает огромная, смехотворно грозная тень. Кулак разбивает ей губы, а когда Нейт сворачивается клубком, чувствует, как на ее ноги и корпус обрушиваются удары ботинок, размеренные и сильные.
Больно, но она не умрет. Это уже понятно. Кости не ломаются. Избиение – тоже послание.
– По традиции, сыщика в первой главе должны отметелить, – с преувеличенным отвращением бросает Лённрот, – но мне все время кажется, что должен быть более легкий путь.
Снова удары ботинок. Наконец один из них приходится в затылок, что приносит своеобразную передышку.
* * *
Где-то на горизонте рокочет гром; инспектор сидит на скамейке в парке и кормит голубей. Обычно она этого не делает. Голубей считает чем-то вроде летучих крыс: кормить их – чрезвычайно антиобщественное деяние.
Рядом с ней на скамейке сидит другая женщина, и хотя Нейт не видит ее лица, интуитивно догадывается, что это Диана Хантер. Ее не тревожит соседство с мертвецом. Где-то очень далеко от холодных мокрых деревьев, запаха оживленной улицы и сырой листвы гром ударов напоминает ей, что это лишь сон, так что даже не нужны стихи или теннисный мяч.
Она встает и присматривается, но по-прежнему не может разглядеть лицо женщины, хотя обходит скамейку кругом; поэтому отводит любопытный взгляд, и дальше они кормят голубей вместе. «Лённрот ошибается, – думает она. – Не с убийцей в паре детектив, а с жертвой, чья смерть – своего рода долговой вексель, который приносят тем, кто не смог сберечь ее жизнь».
– Я – женщина в полном расцвете сил, – говорит ей Диана Хантер. – И с некоторыми возможностями. Ясно вижу и не поддаюсь заблуждениям.
– Да, – отвечает Нейт. – Мне так говорили.
Голуби взлетают и уносятся прочь, унося с собой мир, а потом она уже то ли ползет, то ли лежит на крыльце дома. Нейт нащупывает на очках тревожную кнопку, которую еще называют «Аве Мария», но пальцы неловкие, непослушные. Вылетает прогноз погоды на завтра, полицейская сводка по этой улице – уровень преступности низкий, молодцы, – и наконец вот он, сигнал тревоги. Она смотрит на сигнал подтверждения и видит цепочку сообщений о том, что помощь в дороге, кнопку нажимать не нужно. Свидетель присвоил ей статус «Нуждается в немедленной помощи» в тот же миг, как она выбралась из клетки Фарадея. Она это знала. Конечно, знала. В этом весь смысл. Свидетель всегда рядом. Хотя, если неподалеку тот мужчина с собакой, может, он захочет оказать помощь. Ответственный гражданин. Сильные руки.
Увы, он уже ушел на работу. Ну и ладно. Ступеньки тут очень удобные, хоть и каменные. Нейт чувствует, как подкатывает обморок лилово-коричневым маревом по краям глаз. Она сейчас потеряет сознание и, когда это произойдет, скорее всего, увидит сон о Диане Хантер, ведь файл-оригами разворачивается у нее в голове.
Она закрывает глаза и прекращает бессмысленную борьбу.
А в следующий миг чуть не вскрикивает, когда неожиданно видит акулу.
Человек, вода, акула
Нет никаких больших белых акул в Средиземном море.
На самом деле, я знаю, что есть. В Сицилийском проливе, где воды теплые и богатые. К вопросу о корабликах беженцев под Лампедузой: нет в Средиземноморье места хуже, чтобы добираться до берега вплавь, чем то, где они идут на дно. Но я ведь не в Сицилийском проливе, а на дайвинге неподалеку от Фессалоник. С девушкой по имени Черри, которая – после целой недели пневматического секса без лишних разговоров – вдруг необъяснимым образом решила, что будет моей женой. Может, акула ее съест.
Только она где-то далеко, пялится на развалины древнего храма, а акула тут, со мной.
Это, конечно, не большая белая акула, потому что в этой части Средиземного моря нет больших белых акул. Или почти нет. Может, одна-одинешенька, заблудилась-потерялась, бедняжка. Я пытаюсь увидеть в этом огромном теле беспомощность.
Никакая это не бедняжка, а гребаная большая белая акула!
Она не шевелится. Акулы должны шевелиться, чтобы не задохнуться. Им нужно, чтобы вода шла через жабры. Может, она дохлая.
Она шевелится в воде едва заметно, глаза-бусинки моргают. Акулы вообще моргают? Похоже, что моргнула. Может, это я моргнул.
«Профессиональная этика». Это ведь шутка, правда? Акула видит банкира в море, но не ест его. Почему? Профессиональная этика! Ах-ха-ха-ха-ха! А-ха-ха-ха! Ха-ха.
Я настолько чокнутый, что думаю: если я ее сейчас сфоткаю, потом можно офигенно понтоваться. «Кстати, знаешь, кого я видел на дайвинге около Афона? Прямо на расстоянии протянутой руки? Белую акулу. Нет, я серьезно. Поплавали с ней чуток. А потом она свалила. Так и знал, что ты это скажешь, поэтому на, всасывай неотфотошопленный кадр, где я поглаживаю семиметровую торпеду зубастой смерти как бабушкину собачку. Стальные яйца? В задницу сталь. Знаешь, что Зевс говорит, друг мой? Что он говорит своим телкам, когда подкатывает к ним в образе лебедя? Он не говорит, мол, у меня стальные яйца. Он задирает голову, разводит руки и говорит: „Я – царь богов, сын Крона и Реи, повелитель грома и молнии! Я суть дворцы и власти, наслаждения и сокровища, похоть, что разгуливает вокруг в тесных плавках, но лучше этого всего, знаешь, что у меня есть? У меня яйца, как у Константина Кириакоса!“»
Да черт его дери, что мне еще делать? Если акула захочет меня сожрать, она легко с этим справится. Не смогу я ее ни обогнать, ни отогнать, ни подкупить, ни обмануть. Висит себе передо мной – самая большая тварь, какую я видел в жизни. Слон лишь рядом стоял. Только слоны – не хищники, а если ты хищник, сразу становишься больше: концептуальная масса. Да она и так здоровенная: от верхушки спинного плавника до грудного больше меня в полный рост. Это как если бы я лег на спину, и расстояние от задницы до пупка было бы больше твоего роста.
Есть в этом мгновении какое-то неуловимое совершенство: человек, вода, акула. Больше ничего. Я подплываю ближе и делаю снимок. (Живой. И я, и она. Пока.) Я ее не касаюсь на самом деле, конечно. Никаких вольностей. Чувствую движение под кончиками пальцев, дрожь, будто ветер под морем, и рот у меня раскрывается буквой О. Чуть загубник не выронил. Акула отдыхает в узком потоке морского течения, в реке посреди моря.
Она тут просто зависает, как и я. Это ленивая акула.
Глаза шевельнулись. Проблеск интереса, и вдруг я уже проснулся; никаких снов про судьбу и рок, первобытное товарищество с чудовищами. Я в воде, на расстоянии вытянутой руки от (большой белой акулы) огромного и, судя по всему, опасного животного.
Не паникуй.
Твою мать!
Не веди себя как добыча.
Мать!
Главное, чтобы сердце не колотилось.
Мать-мать. Мать-мать. Мать-мать. МАТЬ-МАТЬ. МАТЬ-МАТЬ. МАТЬ-МАТЬ.
Я с детства не молился. Моя мама – армянка, так что я даже не православный, меня в ее церкви крестили. Она говорит, мол, это самая древняя христианская церковь в мире, истинная наследница святого Петра, и в задницу Папу. Но сейчас я молюсь, и вовсе не Богу. Я пытаюсь пятиться: нельзя отворачиваться от акул, это засадные хищники. Без тени сожаления я роняю в глубину блестящие часы, которые вопреки здравому смыслу не снял с запястья перед погруженьем. Вижу, как акула одними глазами следит за их кувырканьем. Продолжаю пятиться в воде, пытаюсь припомнить, в какой стороне катер, и держу перед собой маленький водоустойчивый фотоаппарат, готовлюсь шарахнуть автовспышкой и тоже выбросить, чтобы отвлечь акулу. Это Sony, заоблачно дорогая камера из магазинчика в аэропорту; я купил ее со скуки. И вот как я молюсь:
«Не ешь меня. Пожалуйста. Я все, что хочешь, сделаю. Только не ешь меня».
Акула метнулась в воде. Скользнула мимо меня. Устремилась вниз, следом за искрой моих часов, до жути легко скрылась в воде. Она еще очень большая, когда становится неразличимой на фоне моря.
Жертва принята.
Фотоаппарат по-прежнему у меня в руках. Не хватило времени его бросить.
* * *
Когда история про акулу попадает в новости, я на несколько дней становлюсь местной знаменитостью. Хожу на ток-шоу и даю интервью в газеты. «Der Spiegel» отправляет ко мне корреспондента и девушку-фотографа. Я ее спрашиваю, не пробовала ли она себя в роли фотомодели, но, судя по всему, она это слышит не в первый раз и не ведется.
Но, по крайней мере, за все это время мне себе самому выпивку покупать не приходится, а засветившись в телеящике, легко завязывать разговоры в барах. Околосмертный опыт позволяет мне попрощаться с Черри. Я все переоцениваю в своей жизни. Я изменился. Закалился. Мне нужно время, чтобы все обдумать, сойти с ума, оправиться, напиться и протрезветь. Я – новый человек. Я позвоню ей, когда духовное странствие завершится.
Номер ее я не удаляю, но скорее себе в предостережение.
На частной вилле в Элунде для ускорения исцеления я устраиваю пенную вечеринку. Проекторы высвечивают на стенах мою фотографию с акулой, а гостям подают особый коктейль Кириакоса – с голубым Кюрасао и льдом в форме акульего плавника. Шестифутовая ледяная горка для спиртного выполнена в форме обнаженного ныряльщика – очень героического, но узнаваемого меня, который тянется, словно Бог на картине Микеланджело, чтобы благословить акулу. В баллоны на спине заливается фирменная водка, которая потом свободно вытекает через частично эрегированный член. Еще я привожу отряд безрассудных художников из Камберуэлла и плачу им, чтобы они изобразили ту же картину на голых животиках пяти девочек из «Crazy Horse». В полночь две художницы и танцовщица все-таки убеждают меня раздеться – слава Богу, я ходил на фитнес, тело у меня мускулистое под слоем жира, так что могу сказать, что выгляжу титаном, а не жирдяем, – а потом бреют начисто, с ног до шеи, прямо на кожаном диване и обмывают шампанским. С этого момента начинается настоящее веселье, оргия с оральным сексом и прочим, все отлично проводят время. Я лично совокупляюсь прямо на ледовой горке, реву и дергаюсь, когда задеваю яйцами тающий лед, ну и заднице холодно, зато моей партнерше очень нравится. Она вопит и стонет так, будто у нее никогда прежде в жизни не было оргазма, и мне это страшно нравится.
Знаешь, что Зевс говорит своим телкам? Он говорит… Ну да, я уже рассказывал.
Самая. Улетная. Вечеринка. В истории.
Только один мутный момент приключился. Ближе к утру, когда я уснул под одеялом из скульпторши с дредами и младшей менеджерши из рекламного бюро в Лондоне. Готов поклясться, что видел молодую женщину с короткими черными волосами и очень белой кожей. Платье цвета индиго идеальным каскадом катится по элегантной спине, чтобы приоткрыть два сантиметра обворожительных ягодиц, и вот она мне подмигивает, и глаза у нее совершенно черные, а во рту – акульи зубы.
* * *
Константин Кириакос, тусовщик. Всегда в компании минимум одной фотомодели. Всегда одет по случаю, всегда с шиком. Верно? Быстрые тачки, дорогие картины и шампанское. И, да, конечно, кокс, но, по большей части, – женщины и стиль.
Скажу тебе, вовсе не таким я был в школе. Веришь? Совсем не таким. Я стоял снаружи и заглядывал внутрь. Знаешь, чем это, в первую очередь, определяется у мальчишек в школе? Футболом. Я ни одного футбольного матча не видел, когда пришел, и, хоть я этого не знал, и остальные не знали, это значило, что я для всех остальных пацанов конченый. Я не умел говорить на всеобщем языке. Вот мой совет всем родителям: научите своего сына языку футбола, хотя бы азам, чтобы он мог начать переговоры с врагом.
Я не к тому, что никогда не сидел на трибунах. Я никогда не смотрел футбол даже по телевизору, потому что никто у нас дома не смотрел. Никому не нравилось. У моего отца болела нога, и по субботам он собирал пазлы у себя в кабинете. Мама считала профессиональный спорт жестоким и, может, даже грешным занятием. Поэтому я не знал, к примеру, что хоть игра номинально и бесконтактная, в ней полно толчков и столкновений. Когда играл в футбол, я думал, что все, кто так делают, жульничают, и не понимал, почему рефери не вмешивается. Более того, поскольку я боялся наказания и позора, связанных с жульничеством, сам так никогда не делал. А значит, не мог удержать мяч, поэтому другие пацаны решили, что я бесполезный, а учителя отнесли мою покорность на счет физической слабости и списали меня в утиль. Вместо того чтобы объяснить, что правила гибкие и могут по-разному трактоваться. Потому что все об этом знали. Мальчики – автоматически, генетически. То, что мне это неизвестно, никому просто не приходило в голову.
А потом оказалось, что мне дается математика – хорошо дается, и это стало еще одним поводом к отчуждению, потому что почти никому она не дается хорошо. И меньше всего – моему учителю.
– Покажи решение.
– Вот. (Думаю: «Ты что, идиот?»)
– Покажи решение.
Вот же оно. (Ну, где я пропустил хоть шаг?)
– Что это за число?
Это лунное число. (Что тебе сказать? Есть обычные числа и лунные, это – лунное число. Лунные числа позволяют упростить умножение в столбик.)
– Не делай так. Нельзя полагаться на то, чего не понимаешь. Нужно понимать, как это работает.
Но я знаю, как это работает. Ты не знаешь. Это разные вещи.
– Не груби. И никаких лунных чисел. Сделай все, как надо.
Я прожигаю его взглядом, и, конечно, от этого становится только хуже. Но ладно, если нельзя использовать лунные числа, можно взять ангельские. Ангельские числа не такие, как лунные. Это почти лунные числа, вывернутые наизнанку. С лунными числами больше надо держать в голове, зато все операции очень простые. С ангельскими все наоборот. Я не забываю выразить ответ в обычной записи и показать, как я работаю с ангельскими числами, каждый шаг, чтобы даже мой учитель понял.
Он не понял.
Зато разозлился и послал меня к директору, и профессор Космату, наверное, спасла мне жизнь, потому что меня исключили бы, а потом я бы стал работать у своего дяди и никогда не прикоснулся к настоящей математике, и, скорее всего, покончил бы с собой, когда умерла Стелла. Или даже никогда бы ее не полюбил, потому что никогда не встретился бы со Старушкой.
Я сижу перед кабинетом директора со своими ангельскими числами, жду, когда мне скажут, что я необучаем. Меня предупреждали: «Если ты не можешь учиться, как другие дети, и будешь всем мешать, Константин Кириакос, тебе придется уйти». Сижу и жду расстрельную команду. Мне десять лет. Фаталистическое отношение к безумию взрослых – одна из редких вещей, которые я разделяю с ровесниками.
А потом является провидение в виде худой, угловатой женщины, которая засунула руки глубоко в карманы пиджака, так что пластиковый пакет болтается на запястье. Ей лет за сто, так что можно предположить, что настоящий хронологический возраст – около сорока пяти. Она курит самокрутку с шелухой мускатного ореха, подмешанной к табаку, поэтому комната очень быстро пропиталась запахом сосисок и горелых сливок.
Старушка смотрит на меня. Бросает взгляд на мои бумажки. Приподнимает брови. Протягивает руку.
Почему бы и нет? На данном этапе – что может быть еще хуже? Я отдаю решение с грязным отпечатком большого пальца на белом поле слева, а она кивает и расправляет бумагу на колене. Садится и вздыхает, водружая на нос пару огромных очков с двухфокусными линзами. Ее глаза становятся огромными, как у совы.
Она просматривает мою работу. Видит красные чернила. Хмурится. Достает собственную ручку – зеленую – и перечеркивает одной линией все красное. Переворачивает страницу. Еще один росчерк зеленой ручки – прямое и открытое противоречие. Константин прав, а ты нет. Не прав, не прав, не прав… и не прав. Ставит простую галочку внизу, под моим заключением. А потом я слышу, как она что-то корябает; войлочный наконечник ручки поскрипывает и посвистывает. Она возвращает мне последнюю страницу, и я вижу:
ω2 = −5 − 12i
z2 − (4 + i) z + (5 + 5i) = 0
Думаю, тебе это ни о чем не говорит, да? Тогда просто вообрази, что она набросала великолепную полуфигуру в стиле Рембрандта и дала мне ее закончить.
– Скажешь, когда дойдешь до конца, – говорит она и проходит мимо меня в кабинет директора.
Я не обращаю внимания на течение времени, работаю, и вот – все готово. Я стучу в дверь кабинета и передаю свое решение Старушке. Она улыбается, благодарит меня и закрывает дверь. Не знаю, что еще делать, поэтому просто жду.
Я слышу, как они ругаются. По большей части речь идет обо мне, хотя иногда они переходят и на более общие темы, вроде того, стала ли школа раем для имбецилов или просто посредственностей, есть ли смысл в школах, если они такое дурное дерьмо впаривают детям, и соберется ли Старушка оторвать директору пустую голову, чтобы ею подтереться, или она просто пойдет и спасет «этого несчастного, темного Рамануджана» и «никогда больше не омрачит порога этого скудоумного образовательного притона».
– Он недисциплинированный.
– Конечно, недисциплинированный, если вы пытаетесь заставить его ползти вместе с остальными! Ты и спринтеров заставлял бы идти прогулочным шагом стометровку? А учеников, которые понимают толк в литературе, принуждал бы читать букварики вместе с теми, кому каждое предложение – смертная мука? Нет? Почему? А? Потому что он странными словами называет то, чего ты не понимаешь? Я то же самое делаю, недоумок. Гений ли он, увидим, но он точно непростой. Не пытайся подобрать слово, мне все равно, как ты это назовешь. Но, увидев его в деле, ты должен был это заметить или хотя бы предположить.
– Почему это?
– Потому что, – говорит она, и гневный рокот в голосе сменяется чем-то вроде усталости или холодной ярости, – ты себя называешь учителем.
Между ними возникает напряженная пауза.
– Ладно. Исключайте. Мы его примем.
– Вы примете? Кто это «вы»?
– Университет.
Так и было. Чистая правда.
* * *
Хватит с меня акул и секса на выживание, я поеду домой. Здравый смысл живет в Глифаде, а Глифада находится в Афинах, хотя по духу вовсе не Афины.
Перед тем как въехать, я разделил квартиру надвое и дверь между половинами всегда запирал. Приемная часть вполне соответствует общим ожиданиям: черные бархатные шторы, зеркальный бар, джакузи в центре одной из комнат, точно алтарь, в другой – утопленный в стене камин; толстые ковры и кожа; и настоящий зеркальный шар для дискотеки, потому что стыда у меня нет. И кровати, конечно, самых разных видов – излишества и декаданс, но ничего по-настоящему домашнего. Дверь во внутреннюю часть скрыта за тяжелым занавесом.
На моей личной половине все иначе: просто, чисто и желтовато-бело. Удобные диваны, купленные со скидкой на окружной; CD-плеер, который был старьем уже в 2000 году; посуда – разномастный дельфтский фаянс с трещинками; немного старых книг из университета. На завтрак у меня всегда есть хумус, тарамасалата и хлеб с кунжутом. Под кухонной стойкой – ящик белого итальянского вина с Помпейских холмов. У него вулканический привкус, и оно недорогое. Я покупаю полубутылки, чтобы пить в одиночестве и не напиваться. На все другие случаи у меня есть вода – «Бадуа», потому что холодная, она на вкус как обезболивающее, а иногда я делаю себе фруктовый фреш с имбирем.
Наконец дома. Кипит чайник. Стул пахнет пылью: дружелюбно и привычно.
На столике у стены фотография моей сестры до срыва – сейчас ей намного лучше; я видел ее с месяц назад, она уже почти в норме и язвительно смеется над психическим здоровьем остальных, наверное, вполне заслуженно. Рядом – моя мама улыбается на все тридцать два, и отец с рыбой, которую он поймал как-то летом. Третья – я сам, принимаю диплом от Старушки.
– В твоей работе есть мераки, Константин Кириакос. В ней твое сердце. Она и есть ты. Ты должен остаться тут, с нами, и заниматься ею. Богатства она тебе не принесет, но так будет лучше.
– А счастье принесет?
Я не думал. Столько всего произошло, просто хотелось знать.
– Может, и нет, – сказала она, – но все остальное железно не принесет.
Что ж, если мне суждено быть несчастным – или, по крайней мере, несчастливым, потому что математик знает разницу между отсутствием Х и его обратным знаком, – я выбрал такую форму несчастья. Решил, что буду богат и несчастлив, а не беден и несчастлив. Тогда я был убежден, что второе гораздо хуже, хотя с тех пор навидался, как самые богатые погружаются в такую пучину горя и ужаса, в какую без кучи денег не попадешь: сумасшедшие деньги приносят сумасшествие. С миллионами такое дело – ну, что ты купишь за миллион, чтобы заткнуть дырку в душе? Ничего. Я знаю. Я видел. Ничего нет. Ни все картины Эдварда Мунка, ни белые трюфели, ни «Бентли» ничего не дадут. Через год потребуется следующая подачка. Честное слово, это хуже, чем айфоны.
Может, пришла пора перемен. Может, этот Кириакос – не тот, кем я хочу быть в конечном итоге. В математике мы говорим о трансформациях. Это то, что нужно сделать с одной штукой, чтобы из нее получилась другая. Если взять квадрат и перекосить, получится параллелограмм. Это и есть трансформация. Интересно, какая трансформация сделает Кириакоса счастливым? Может, надо просто выйти из игры, пока я на вершине?
Нет. Ни слова о деньгах. Нельзя о них говорить здесь, на тихой половине квартиры. Никаких денежных дел, вспышек, самообмана, временных женщин – никакого вранья. Только Константин Кириакос и по-настоящему важные вещи. Как выяснилось, это совсем немного.
Я не откупориваю бутылку «Taburno Sannio», а сажусь на балконе и наблюдаю жизнь Афин. Люди на улице; мглистое небо превращается в берег моря, а затем в утес. Мне видится женщина в цепях на алтаре, ей угрожает дракон, и, может, он настоящий, или просто час пик и грузовики.
Не всегда легко быть греком. Даже в грязи под ногами прячутся боги.
* * *
В понедельник – снова на работу. Офисные разговорчики, пронизанные приятным привкусом зависти и ужаса. А правда все было так, как написали в газете? Вот такое чудо? Это само случилось, или я кому-то заплатил, чтобы все произошло? (Люди моего круга обычно убеждены, что все можно подстроить, а значит, всякое чудо, скорее всего, подстроено. Им не приходит в голову восхититься счастливым случаем или поклониться ему. Мне стоило бы расстроиться по этому поводу, но такие мысли я оставляю дома, в Глифаде.)
Да-да, видел акулу. А кто не видел? Что, правда никто? Только я, выходит? Ну, знаете, это был духовный опыт. Чувствую, будто крестился в водах Греции. Я теперь больше грек, чем когда-либо прежде. Я – соленая суть своего народа, кровь, что течет в его жилах. Я прикоснулся к чему-то особенному. Да, так и было.
К чему именно? Ну, раз вы спросили, к парочке роскошных танцовщиц из французского кабаре и одной даме из Лондона, у которой пирсинг в таких местах, что вы сильно удивитесь. Нет, ни в одной из них не было ни капли греческого, точнее, не было до того момента, пока я…
Слишком легко. Я – машина. Я – альфа-самец, да что там, я всем альфам альфа. Поэтому сегодня вечером, когда самые неторопливые газеты добрались до моего героического подвига, под градом лестного внимания со стороны самых высокомерных и хватких афинских дам я встречаюсь с патриархом Николаем Мегалосом из ордена бл. Августина и св. Спиридона. (Его называют патриархом, хотя этот титул обычно приберегают для князей разных ветвей христианской церкви. Николаю Мегалосу дозволено его носить по историческим причинам, очень любопытным, если вам на них не плевать, но лично мне – плевать. Поскольку его орден такой важный – и очень, очень богатый, я не могу понять, зачем им понадобились целых два святых. Википедия, правда, утверждает, что Августин умер от старости и едва ли творил чудеса, но его «Исповедь» знают все, а св. Спиридон известен преимущественно тем, что поджег собственную бороду, объясняя природу Святой Троицы. Возможно, два второстепенных святых ставят орден вровень, например, с францисканцами, которые прибрали настоящего мастака – парня, который говорил с птицами и исцелил, наверное, всех до единого жителей Тосканы.)
Орден может стать очень крупным клиентом, если мне удастся его заманить. Церкви – всегда солидные клиенты, если вообще пускаются в финансы, но этому ордену, видимо, достался один из даров, которыми древние императоры награждали любимчиков. Например, сеть алмазных копей или права на добычу полезных ископаемых во всем Марокко. Когда монахи обратили все это в деньги, я не имею понятия, но теперь орден – крошечное подразделение православного мира с деньгами, которые обычно бывают у создателей интернет-поисковиков или изобретателей новых способов контрабанды героина.
Я не буду встречаться с патриархом Николаем в своем офисе. Даже обычных сотрудников не возьму. Они не подходят: слишком молодые, торопливые и типичные представители моей профессии. Такая возможность появилась, видимо, потому, что этот патриарх – новый, и ему нужно разобраться с некоторыми инфраструктурными вопросами, прежде чем окончательно обратиться к жизни, полной глубокого духовного созерцания и пастырских забот. Старого патриарха сместили в результате церковного переворота, которых в Церкви, конечно, никогда не бывало и не будет. Поэтому я работаю в стиле, придуманном мной специально для религиозных организаций. Их представителей он вроде радует; пока они счастливы, продолжают вкладывать деньги, а я – получать свои комиссионные, большие комиссионные. Для таких встреч я использую похожий на пещеру офис в подвале, принадлежащий одному моему другу, человеку, который в качестве хобби завел виноградники. Комната обита потемневшими от времени деревянными панелями, пол выложен каменными плитами. Полукруглый письменный стол с настоящим пресс-папье: стойкий запах вечности. Мой кабинет в банке предназначен для мирских клиентов, динамика там, не подходящая персонажам типа Николая Мегалоса, и для меня тоже, когда я должен превратиться в подходящего для него банкира. Нет ничего хуже, чем встречаться с человеком, который обрядился, будто на торжественную службу, в комнате, где на стене висит шестифутовая девушка Патрика Нейджела.
Я сижу в полутьме и прислушиваюсь к скрипу старого дерева, далекому шуму дорожных работ и сигналам таксистов, перестуку высоких каблуков по полу над моей головой: к музыке того мира, который патриарх считает прахом. Я чувствую запах пчелиного воска и дуновение одеколона – не моего – и пота.
Когда одолженный в другом месте ассистент сообщает, что мой клиент прибыл, я встаю, еще раз на пробу протягиваю обе руки через стол. (Вот, черт. «Запиши, Петрос, мне нужно купить часы. И приглашай клиента».)
Петрос кивает и скрывается. Он и сам мог бы сойти за монаха. А на самом деле – швейцар из соседнего отеля. Хозяева уступают его мне, когда возникает необходимость.
В любом случае двойное рукопожатие не пойдет, не сегодня. Сегодня я – блудный сын, но не лишенный досто-
инств. Я – заплутавшая душа, и, хотя ее пока не нашли, определенно есть надежда, что в скором времени мне предстоит вернуться в лоно праведности. Вот нужная нота: честный, но не из паствы, ищу путь домой. Так что пойдем строго по формальностям.
Входит Мегалос.
Представьте себе шапку, как из научно-фантастического фильма, черную и по форме, будто веер. Подставьте под нее человека с лицом воинственного персидского царя и квадратной черной бородой. Оденьте его в черную рясу с бледно-голубым кантом, в тон глазам. На пальце – крупный бирманский рубин в перстне времен до Тридентского собора. Подпоясан он вервием с молитвенными узлами, свисающими до самого пола. Константин Кириакос, это патриарх Николай Мегалос, и, даже если ты с ним раньше говорил по телефону, теперь его видишь впервые после восшествия. На пальцах у него старые шрамы, а ногти неровные, будто он лодки строит. Может, в ордене бл. Августина и св. Спиридона есть тайный бойцовский клуб, как в современных банках.
Представляю себе, как Мегалос ревет, точно американский лось, и ломает о колено епископа Рима. Здоровенный ублюдок. Я и сам не худенький, но у этого парня под рясой ноги как Геркулесовы столбы. Он здоровяк и силач; есть большой живот и жирок на руках и ногах, но мускулы под ним тугие, как свиная отбивная. Плотник, соображаю я, вспомнив справку по Мегалосу. Он плотничает, подражая сами знаете кому.
Когда я это прочел, вообразил себе худосочного старичка, который занимается инкрустацией церковной утвари. А этот парень, похоже, ладит великанские тиковые двери для соборов.
Патриарх позволяет мне поцеловать кольцо, и в следующий миг мы обнимаемся, потому что большие деньги – это как семейное родство.
* * *
– Продовольственные облигации, – говорю я, когда мы покончили со «Спасибо, что пришли» и «Надеюсь, ваше недавнее испытание не слишком вас потрясло». Я не думал о своей акуле как об испытании, поэтому пришлось слегка поломать комедию, а затем перейти собственно к делу, то есть к продовольственным облигациям. – Это новые обеспеченные долговые обязательства. Сейчас туда текут офигительные деньги.
Я осознанно говорю просто, почти непристойно. Это дает моему новому клиенту возможность почувствовать свое моральное превосходство. Важно, чтобы Николай Мегалос чувствовал себя моральным авторитетом, потому что здесь он фактически в школе, и никто из тех, кто носит такие смешные шапки, очень давно не оказывался в роли младшего партнера в отношениях учитель-ученик. Но если я позволю себе ляпнуть нечто, за что придется извиняться, патриарх поедет домой, чувствуя, что на краткий миг принес святость в жизнь грешника и в то же время обрел важные знания и надежный финансовый совет в опасном разговоре. Эта близнецовая пара убеждений принесет ему счастье.
Всегда так с близняшками.
– Итак, возжелает ли орден бл. Августина и св. Спиридона наложить лапу на совершенно очуменный кусочек владений мамоны?
Прикрыть рот рукой – oh la la, faux pas! [4]
– Простите, Владыка, не хотел богохульствовать.
Николай Мегалос рокочет, как «Харлей», и я даже не сразу понимаю, что он так смеется.
– По форме это не богохульство, Константин Кириакос, а обращение к ложному богу, то есть ересь или язычество, в зависимости от того, кто это сделал. Но не волнуйся; обещаю, не так долго тебе гореть, если со временем признаешь истинную веру и Церковь. Сам блаженный Августин был великим грешником, прежде чем обрел себя.
– Благодарю, Владыка.
Бестолковый ты старый пердун.
– Милости прошу, Константин Кириакос. Но давай на время вернемся от моей премудрости к твоей: могу ли я указать на то, что обеспеченные долговые обязательства не слишком хорошо себя показали?
На самом деле ОДО вполне ничего, пока держишься правильных активов. То есть они по определению всегда мусорные, но можно чувствовать себя прилично, пока покупаешь хороший мусор, а не тот, что наделали позже, когда спрос был такой, что ребята решили наклепать мусорного мусора и отрейтинговать его на ААА, и когда каждый парень на селе и его родная тетя решили одолжить по десять миллионов баксов под залог лачуги в Эверглейдс. Головой надо думать: если идея предполагает халявные деньги, она плоха, потому что деньги – это математика, а математика не позволяет добавить что-то к одной стороне уравнения, не сводя баланс с другой. Но изначально ОДО не были адским бичом финансового апокалипсиса, которым потом стали. Финансы сами по себе – дело жестокое, и в этой жестокости – спасение. Настоящие катастрофы становятся возможны, только если приправить финансы политикой, потому что политики должны делать вид, будто им не плевать на людей.
– Даже если так, – говорю я Мегалосу, – локальных недостатков нет, то есть нет недостатков для ордена бл. Августина и св. Спиридона – если купите правильный транш и сойдете с поезда, прежде чем музыка закончится. Главное – все сделать вовремя.
Патриарх говорит, что все знает о важности вещей временных и бренных, и мы снова посмеиваемся. Мы такие остроумные.
Нет, серьезно, дело вот в чем: поначалу ОДО были отличной идеей, до определенной степени. Они брали преимущества у крупных заемщиков и распределяли их среди мелких, которые иначе не смогли бы себе позволить такие условия кредитования, собрав их вместе, и в пакете шли риски дефолта с возможностью прибыли. Главное было – выбирать правильных заемщиков, умных клиентов, которые способны расплатиться, но по каким-то причинам не могли иначе взять нормальный кредит. Честных бедняков, соль земли, для которых ставки, позволявшие им получить финансирование через ОДО, означали разницу между доступностью и непосильностью кредита.
Да, конечно, было небольшое осложнение с отмыванием денег, но будем честны, где его нет? В любом случае все отлично тикало.
– Понимаете, о чем я, Ваше Святейшество?
– Я не Папа, – мягко поправляет меня патриарх.
– Простите, Владыка. Я увлекся.
– Не волнуйся, сын мой. Все мы время от времени увлекаемся.
– Владыка, проблема в том, что не хватило высококачественных бедняков.
Брови патриарха чуть не добрались до края шапки.
Это правда – в строго финансовом смысле. Не так много добросовестных заемщиков, которых система почему-то упустила. Есть чуток, но недостаточно, потому что ссудные банки не бездельничают и не тупят, если им не приказать напрямую, но тут на сцену выходит политика. Рынок ОДО нагрелся, все хотели получить побольше таких ценных бумаг, не в последнюю очередь – правительство, которому тогда достались бы все лавры за бум в ценах на недвижимость и стабильный экономический рост. Исполнительные и довольные банки пошли и сделали новые долговые пакеты – более рискованные, а потом еще – уже откровенно токсичные активы, и все они рейтинговались, как и первая партия, а это такое чудесное чудо, что я в него всматриваться не рискну, чтобы случайно не обратиться в камень. В итоге возникли кредиты, которые не могли быть выплачены и структурированы так, что они и не должны были бы выплачиваться. Хочешь взять кредит на полмиллиона долларов под залог своей развалюхи и построить дом, который на самом деле не можешь себе позволить? Хочешь никогда по нему не платить, а просто оказаться должным полную сумму плюс проценты – сумму, которой никогда не будет стоить твой уродливый клоповник, – через сорок лет, когда ты уже почти наверняка окажешься на том свете? Милости просим, мы можем это устроить. Потому что деньги жили не в возвратности, а ушли в продажу рисков. На первых порах было не важно, насколько гнилой или надежный кредит. Важно лишь то, что кто-то хотел его купить и покупал.
Задним умом, наверное, даже самые ушлые американские коллеги дошли, что это не лучший способ делать деньги. Но тогда всем очень нравилось.
(Мне повезло: на проблему намекнул один парень из «Голдман Сакс», и я хорошо отхеджировался. Когда все посыпалось, я был застрахован от и до. Разбогатеть не разбогател, но мои клиенты тоже не потеряли денег, что в тот момент сделало меня чуть ли не гением. И, конечно, мы хорошо отыгрались потом на волатильности, когда все остальное стоило гроши.)
Но сейчас самое сладкое – это продовольственные облигации. Они получаются, когда пакетируют обязательства покупать или продавать те или иные продукты. Продавая продовольственные фьючерсы, мы снова помогаем ребятам, которые на самом деле выращивают еду, потому что деньги им нужны раньше, чем созреет урожай, чтобы этот самый урожай вывезти на рынок. Риски тоже есть: продовольственные рынки подвержены волатильности. Не стоит накапливать слишком много конкретной культуры, а то потом окажется, что нужно все разом продавать, когда ее полно на рынке, потому что созрел урожай. И, конечно, вы не хотите оказаться независимым государством, которому нужно импортировать зерновые, а все остальные предложили больше, и население голодает, так как плохие вещи могут случиться с правительством, допустившим такой оборот. Спросите Романовых, если найдете их останки.
В последнее время заговорили о том, чтобы регулировать подобные спекуляции, и это, наверное, не такая плохая идея. Хорошие правила – хорошие игры. Игры без правил вырождаются.
Тем не менее на уровне организаций финансовая индустрия не очень доверяет ограничениям со стороны правительств, где заседают харизматичные престарелые киноактеры, угоревшие наркоманы и эротоманы, а также профессиональные трепачи и вруны. Удивительное дело, правда? Так что уже готов обходной маневр: можно выдать производителю кредит под залог производимого товара. Потом производитель волен продавать его, кому захочет, учитывая риски падения цен, но получая преимущества от их взлета, пока продолжает выплачивать кредит и проценты. Вроде небольшое изменение на фоне рынка объемом почти в триллион долларов, но нужно помнить, что на планете живет семь с половиной миллиардов человек и только около пятнадцати сотен из них – миллиардеры. Есть еще прослойка богатых людей – плюс несколько сотен тысяч – и сумеречная зона состоятельных, тех, у кого богатства хватает на определенный образ жизни, это скорее геополитическое богатство, его не заложишь в банке; а практически все остальные бедны до нищеты. Что делает бедных (если их рассматривать как экономическую группу и в строго численном смысле) очень богатой прослойкой.
Так что дадим им денег, чтобы производить еду, верно? Но вы же не захотите ввязываться в такой проект, не разделив хотя бы часть рисков с другими, поэтому структура ОДО идеальна. Просто не нужно их прямо называть ОДО, а то вам помои на голову польются.
– По сути, это благодеяние. К тому же выгодное, – говорю я патриарху.
– Пока все не посыплется.
– В мире нет ничего вечного, – говорю я и воздеваю ладони к потолку. Мой тренер по культурной семиотике в бизнесе утверждает, что этот жест может означать беспомощность или честность и щедрость. – Либо выплывешь, либо потонешь.
Я вдруг чувствую в носу соленую воду, и часы снова падают куда-то вниз, только на этот раз за ними летит и моя рука. Матерь Божья! Мать-перематерь Божья! Да у меня же постакулье стрессовое расстройство! Мать!
Он заметил? Я что, выпучил глаза? Уписался или пытаюсь плыть по воздуху?
Нет. Кажется, нет. Я справлюсь, я себя знаю. Нужно укрепиться. Выжечь страх жизнью. Очистить все углы. Я и так сплю с ночником. Еще парочка вечеринок, и все наладится, плохие воспоминания перекроются хорошими, как компьютер перезаписывает ценную информацию: удаление одобрено министерством обороны, единицы и нолики. Кресты и Граали. Лингамы и йони. Секс, да? Просто секс, еще больше секса, и, наверное, этого хватит. Мать-перемать.
Мать-перемать. Матерная мать через мать, меня же почти сожрала гигантская морская тварь, она меня видела, но я отдал ей часы, и она здесь, в этой комнате, прячется за шапкой этого попа! Я точно знаю. Нельзя было спускаться в подвал, он слишком близко к уровню моря, а акулы живут в море. И это такая глупость, что я останавливаюсь. Что же, тварь пробьется через пол? Или из канализации вынырнет, как в идиотском ужастике? Мне что, девять лет? Ради всего святого, это чьи куцые яички? Я – Константин Кириакос. Я любую акулу могу убить.
Одними.
Только.
Моими.
Яйцами.
В выложенном каменными плитами подвале патриарх Николай выглядит слегка встревоженным, так что я опять посмеиваюсь и говорю, что это будет чрезвычайно привлекательный рынок, и чертова туча ублюдков на нем разбогатеет, и лучше, если эти миллионы евро потекут в закрома ордена блаженного и святого, а не в Landesbanken [5]? Потому что немцы, Владыка, просто одурели от этих бумаг.
– Тюльпанная лихорадка, – говорит патриарх.
Я понятия не имею, что это значит, поэтому киваю и говорю:
– Очень точно.
– Позволь рассказать тебе о том, во что я верю, Константин Кириакос?
– Пожалуйста, расскажите.
Пожалуйста, не надо.
– Я верю в Бога, разумеется, но и в нечто иное. Я верю в Грецию. Греция много страдала в последние годы, страдала за чужие грехи и частично за свои собственные. Наши грехи были грехами распущенности, а грехи Америки и остального мира – грехами увлеченности. Ими овладела радость нереального уравнения, возможности получить что-то из ничего, и в результате наша маленькая сонная страна оказалась во тьме. Но я верю, что грядет коренной
поворот, центр цивилизации уйдет из Флориды и Пекина, двинется по земному шару, пока вновь не окажется в Афинах, как некогда предсказал Платон. Из двенадцатой книги «О граде Божием» мы узнаём, что Платон верил в круговой космос. Он учил: Вселенная повторяется, и однажды он снова будет учить в Афинах, как учил в те дни. Такова доктрина апокатастасиса – возвращение к началу. Как я понимаю, в математической физике есть основания, поддерживающие такую модель.
Ага, понятно: тополог – человек, который не видит разницы между чашкой и пончиком. Я вынужден себе напомнить, что не надо умничать перед добрым клиентом, и киваю так, будто каждые выходные обсуждаю с приятелями космологическую теологию, и эта идея – моя любимая. А Мегалос не унимается:
– Я не верю в совершенное возвращение. Я не верю, что оно неизбежно. Мир не столь добр. Но я верю, что оно может состояться, если мы его схватим; и когда оно состоится, наша маленькая страна вновь обретет величие. Хребты наши вновь облачатся огнем. Хватит Греции разрываться на части!
Я некоторое время обдумываю эту многословную мудрость. Придаю лицу подходящее глубокомысленное выражение:
– Это и вправду было бы хорошо.
Мои слова повисают в пустоте, и вдруг я вижу священника в этом человеке: проблеск ревностной веры, которую он хранит глубоко в сердце.
Я сглатываю, и мы смотрим друг на друга через стол, вдыхая запах воска и прислушиваясь к жизни Афин у нас над головой. Мегалос коротко кивает, а затем тяжело вздыхает. Сияние в нем меркнет, и на поверхность вновь всплывает современный теолог.
– Я верю, что это вопрос практической теологии. В том мире, в которым мы ныне живем, теология – дисциплина спекулятивная. Она рассматривает лишь потусторонние предметы. Но для наших предков она была изучением общеизвестных истин. Ныне мы слышим «Сад Эдемский» и воображаем себе сад. Слышим «первородный грех» и представляем себе некое конкретное прегрешение, но грех наш не в действии, а в понимании. Ага. Ты сейчас похож на одного из моих послушников. Уж позволь мне закончить.
– Конечно.
Если мы сможем заполучить твои деньги, я готов все это слушать ежемесячно до конца своих дней. Кто знает? Может, пригодится, если мне встретится симпатичная монахиня.
– Доводилось тебе слышать о персидских Бессмертных?
Персидские Бессмертные. Да. Конечно. В голове у меня возникает картинка: люди в синих доспехах. Спарта, Фермопилы. Ужасный американский фильм.
– Элитное подразделение из десяти тысяч воинов. Когда один из них умирал, его замещал другой человек, поэтому говорили, что они вечны.
– Да! Именно. И в то же время самым основательным образом: нет. Ты попугайски повторяешь то, что тебе говорили, но твои учителя упустили суть, потому что сами вписаны в культуру письменного слова. Не в том дело, что, когда воин умирал, другого призывали стать Бессмертным и занять его место. Суть в том, что Бессмертный не может умереть, потому что место, роль, функция превыше самого человека. Когда падает мертвое тело, на его место приходит новое – и Бессмертный шагает дальше. Человек, который так живет, не сводится к сумме своих опытов и несовершенной человеческой памяти, но становится воплощением вечной сущности. Это не условность и даже не магия, а истина – столь же простая, как восход солнца. Но истинная Греция существует только в этом, ином, мире. Греция, в которой мы живем ныне, – лишь ее тень. Мы должны заново отыскать способ существования, в котором божественное можно найти повсюду, в котором мы живем в мире, где теология – буквальная истина. Если мы это сделаем, воистину вернемся во дни Платона и нашего величия.
Он улыбается, а я гадаю, отвисла у меня челюсть или нет, и видно ли по мне, что меня только что отымели в уши.
– Что ж. Чтобы так произошло, нам нужно многое, и среди прочего – неизбежно – богатство. И вот я здесь. Сундуки о́рдена должны наполниться и затем отвориться в должное время, дабы облегчить страдания бедных и выпестовать грядущую весну. Понимаешь?
– Понимаю.
– Так расскажи мне, Константин Кириакос. Честно.
Он откидывается на спинку кресла, и что-то в его позе говорит о том, что будь он другим человеком, вытянул бы сейчас ноги, вероятно, даже положил бы их на столешницу, а дурацкую шапку сбросил бы на землю. Интересно, он так иногда поступает? Расслабляется, чтобы почувствовать, как его тяжелая должность падает на пол.
– Что рассказать?
– Расскажи мне о своем катабасисе, разумеется.
Что же это такое?
– У меня их двое, но приплода добиться пока не получается.
Он хохочет и взмахивает рукой.
– Прости книжнику ученый жаргон. Катабасис – это путешествие Орфея в подземный мир за своей возлюбленной. И твое странствие завершилось лучше, чем его путь.
Опять у него в пузе рокочет – смеется. Ох, какой он затейник. Даю ему понять, что я так думаю. Ободренный, он наклоняется вперед:
– Прошу тебя, Константин Кириакос. Порадуй меня. Расскажи об акуле.
Ой. Ой! Так он фанат. Боже мой. Патриарх ордена бл. Августина и св. Спиридона торчит от звезд. Ладно, это я понимаю. Я протягиваю к нему руку, но затем собираюсь и сжимаю ладони в бессознательном молитвенном жесте.
– Она была так красива. И, по правде сказать, совершенно мной не интересовалась. Они ведь едят тюленей и тунца. Думаю, она заблудилась.
– Она?
– Чисто теоретически.
– Это очень орфично. Очень по-гречески. Не хватает только девушки, которую бы ты спас.
Что-то подзуживает меня сказать правду.
– Я был на дайвинге с одной женщиной, но, честно говоря, скорее, акула меня от нее избавила.
Мегалос усмехается: ох уж вы, грешники да ваши повадки!
Затем он вновь становится серьезным:
– А теперь? Как ты себя чувствуешь?
И опять правда лезет наружу:
– Акула была очень большая, Владыка, а я – такой маленький…
Барабанный бой.
– Наверное, это было самое духовное переживание в моей взрослой жизни.
И вот, вот, вот он протягивает мне руку через стол, хватает мою ладонь, принимает божественность моего опыта, касается ее, впивается в нее пальцами. Разводит мне пальцы, точно мясник, пробует суставы. Не мигая, смотрит мне прямо в лицо, пристально, изучающе. Я чувствую его ногти, так он сжал мою руку. Что такое важное он пытается найти в моей грешной плоти? Меланому ищет? Татуировку? Что он видит в моих глазах?
После долгого молчания он вздыхает и отпускает меня.
– Мы заключим сделку, – говорит патриарх.
О. Че. Шу. Ительно.
«Орел» приземлился, это один маленький шаг для человека, миссия выполнена.
Я снова смотрю на него: как могу, изображаю агнца, который поглядывает на стадо и думает, наверное, впервые в жизни: может, там мое место.
– Вы об этом не пожалеете, Владыка.
– Не пожалею, сын мой.
Вот такие мутные вещи священники говорят, будто актеры из фильмов про Крестного отца. Он молчит, затем улыбается:
– Хватит разрываться, Константин Кириакос.
Это он точно в следующую проповедь вставит. Сердцем чую. И очень искренне:
– Хватит разрываться, Николай Мегалос.
* * *
Я сижу в офисе уже около часа. Сегодня среда, а по средам я обычно заново утверждаю свой статус альфы, обнимая всех других мужчин. Несколько лет назад я по телевизору увидел программу о проблемных собаках. Ее показывали поздно ночью и по такому каналу, который смотришь обычно, только если ночуешь в отеле, после всякой ерунды. В нее налили, конечно, несколько баррелей фрейдистского психоанализа дурного поведения ротвейлеров, даже учудили собачий гипноз, чтобы проникнуть в их прошлые – волчьи – жизни. Гомеопатия для собак? Да. Акупунктура? Да. Массаж? Да. Целебные клизмы? Конечно! Почему бы и нет? (Потому что это чертова собака, кретины. Если она жизни не рада, а вы ей в задницу шланг засунете, это почти наверняка не улучшит ей настроение – совсем.)
А потом вдруг показали одного парня по имени Сэм, который раньше тренировал полицейских собак, и у него на всю эту чепуху не было времени. «Если пес знает, что ты главный, – сказал Сэм, – всё в порядке. Ты ему уделяешь время, кормишь его, тренируешь; это твой пес, ты его хозяин. Но если пес решит, что ты слабак, начнет тебя подламывать. Собаки не лапушки. Собаки – это собаки. Они животные. Им нужна четкая и понятная иерархия, иначе они путаются, а когда путаются, начинают мочиться на что попало, грызть что попало и сношать что попало, пока ситуация не прояснится. Вот и все. Такое дело. Есть только ты и пес, и кто-то из вас сверху». А потом он будто выглянул из экрана и произнес так, словно обращался только ко мне, честное слово: «На самом деле с людьми все обстоит примерно так же». И я сразу почувствовал, что он прав.
С тех пор я внимательно слежу за тем, чтобы вязать всех остальных в офисе по несколько раз в месяц. Я их обхватываю руками и заставляю себя чуток пронести. Если парень нормальной ориентации, пусть повыкручивается от контакта с моими гениталиями. После этого они все просто делают то, чего я хочу, вне зависимости от того, старше они меня или нет. Обалдеть, как эффективно. В теории, наверное, кто-то из них может мне врезать, но на практике до этого ни разу не дошло.
Особенно внимательно я слежу за тем, чтобы это проделывать с Гаррисоном. Формально Гаррисон – мой начальник, но лишь формально, потому что я – маг и волшебник, а он нет. Он специалист по расстановке галочек и тормоз для торопливой и неумеренной молодежи. По сути, Гаррисон следит за тем, чтобы никто не занимался ничем по-настоящему незаконным, а если кто займется, проследить, чтобы мы все потом могли твердо сказать, что ничего не знали, уволить нарушителя, и дело с концом. Он – предохранитель между миром и прибылями банка: если случится что-то совсем дерьмовое, Гаррисон сгорит лично, но банк уцелеет. Это его, конечно, настойчиво подталкивает к консерватизму, но, если я время от времени пристраиваюсь к его ноге, он розовеет и убегает – стыдливый, да еще англичанин, и женат на жуткой датчанке, которая распевает в машине религиозные гимны, когда везет его на работу. Стало быть, я могу просто жить, как хочу.
Где-то внутри Гаррисон очень хороший человек. Он безобидный, честный и знает свое дело. Никогда не приходил ни на одну из моих вечеринок и ни слова не сказал о том, что пишут о них «желтые» газетки. Он мало пьет и не принимает дурманящих препаратов. Достиг своего естественного потолка, но это его не беспокоит. Тут впору восхититься тем, насколько у него посредственная и обычная жизнь, и ему она, похоже, нравится.
Но есть в нем кое-что, что вызывает желание перднуть ему в рожу. Он уверовал, что стал крутым банкиром, опытным воротилой, и не хочет убирать со своего стола старый монохромный ЭЛТ-монитор, один из тех, что всюду стояли в восьмидесятые, когда он только вошел в бизнес. Этот был изготовлен IBM и загрязняет офис одним своим присутствием. И поскольку у Гаррисона на столе выскочил этот уродливый нарост, многие парни стали и свои дорогие компьютеры настраивать под такой же вид, будто это полезный инструмент. Он даже графики нормально не покажет, только цифры, так что выходит по факту текстовый монитор. Что дальше? Глашатая наймут, чтобы расхаживал по офису и зачитывал со свитка биржевые сводки? «Эх, Константин, тебе бы нужен такой, чтобы тебя не отвлекали твиттер и фейсбук».
Ничто не должно тебя отвлекать, младенец несмышленый. Когда работаешь, работай. Морпехов 6-го отряда спецназа ВМС США отвлекает твиттер? Нет. Почему? Потому что они сосредоточены. Потому что у них есть дисциплина. Они знают, что их действия имеют последствия. Люди умрут. Так вот тебе новость: с нами всё точно так же. Деньги – это жизнь. Бедность убивает. Если тебя твой собственный компьютер отвлекает, ты не годишься для этой работы.
Но нет. Гаррисон всех убедил, что надо бороться с тем, что тебя отвлекает, а не с привычкой отвлекаться. Типичная слабая логика англофонов. Так что у него на столе стоит дисплей прямиком из каменного века, на котором бегут столбиком цены, а летом у всех остальных вдвое мощнее дуют кондиционеры, потому что он греется как утюг. Да его можно счетчиком Гейгера вычислить, так фонит! Только здесь я не могу заставить его прогнуться, когда обнимаю за плечи и сильно прижимаю к груди. Почему именно это чудище для него стало камнем преткновения, не понимаю.
Гаррисон ушел на обед, так что я сижу за его столом, потому что мы обсуждаем стратегию, а переговорная занята.
Швейцарец Бруннер говорит об азиатском рынке недвижимости: мол, все мы должны обратить на него внимание. Я не обращаю внимания на Бруннера, потому что уже обратил внимание на азиатский рынок недвижимости и не думаю, что от него стоит ждать чего-то интересного.
И тут на пафосном монохроме старомодного дисплея Джима Гаррисона я вижу какой-то проблеск, почти волну. На секунду кажется, что проклятый драндулет наконец дает дуба под напором современности, и мир его праху. Но нет, черта с два. Что-то происходит в реальном мире, и это отражается на экране. Последняя цифра во всех столбцах вдруг меняется на 4, лишь на миг, одна за другой, сверху вниз, в алфавитном порядке. Для меня это как увидеть солнечное затмение или комету Галлея, которую я, кстати, видел, когда был маленьким, и собираюсь увидеть снова, когда стану стариком. Это редчайший и прекрасный математический каприз, который называется цепью Маркова: вроде осмысленная последовательность в потоке случайных чисел. Эта – особенно красивая, чудо природы, потребовавшее ошеломительного стечения совпадений. Будто в них вошла душа, невольно вздрогнешь и задумаешься. Четверка поднимается обратно вверх по столбику и задерживается в середине списка.
«Roscombe AG» – довольно крупная фармацевтическая компания. Она производит антациды, которыми все пользуются; это один из лидеров рынка паллиативных средств для ряда хронических заболеваний. Иными словами, уныло прибыльная и надежная компания. Если вдруг не изобретут новое революционное лекарство или ее не поймают на крупной афере, она будет существовать вечно. На экране я вижу, как меняется ее цена в евро:
91.750
91.754
91.740
91.450
94.750
41.750
91.750
Не сомневаюсь, где-то сейчас люди ошеломленно кричат: «Что за черт?!» Скорее всего, в Нью-Йорке. А 4 проплывает обратно слева направо и исчезает.
Это происходит едва ли за секунду. Ни один человек-трейдер не успел бы отреагировать за такое время, но за короткий миг акции «Roscombe» упали в цене почти вдвое. Кто-то мог сказочно разбогатеть, и кто-то, наверное, разбогател. Теперь есть уровень сделок, которые заключаются в мгновение ока, когда наши алгоритмы бьются с их алгоритмами за крошечные флуктуации. И да одержит победу лучший софт! Банки раскупили громадные склады и заброшенные здания вокруг бирж, чтобы сократить передачу данных на несколько миллисекунд, и набили их сверхсовременными компьютерами – в несколько этажей. Там нет офисов, только бесконечные чистые коридоры, по которым временами проходит дежурный охранник, да стойки с корпусами гудят, выискивая прибыльные транзакции. И в одном из таких зданий есть трейдер – автоматизированная система, которая только что отчалила в море, как пират с грузом золота. Вероятно, не один.
Эта 4 похожа на акулий плавник. Конечно. Что еще я мог увидеть? Для меня сравнение неизбежное. Я уже привык к одержимости, как к надоедливому, но привычному скрежету лифта в апартаментах, которые снимал на Манхэттене, даже начал получать от нее удовольствие. Человеческий мозг – устройство, предназначенное, чтобы во всем находить закономерности. Мы видим лица в тучах, мифы в звездах. В моем мозгу появилась выбоина в форме акулы, и все закономерности и вероятности, которые я вижу, принимают именно такую форму. Конечно, 4 – спинной плавник. А еще черные пуговицы и полумесяцы. И дирижабли, и суши, и даже бюстгальтер Мадонны. Если уйти примерно на двадцать два миллиона девятьсот тридцать одну тысячу цифр после запятой в числе π, можно найти восемь четверок подряд. Этому я тоже должен придать особое значение? Могу и в стакане виски усмотреть акулу или в тарелке с колокифокефтедес.
Через десять секунд «Roscombe AG» уходит под воду. Цена внезапно падает до 44.444 и больше не поднимается. Задерживается на этой позиции так долго, что даже люди могут заметить и начать действовать; затем резко – 4.444, потом – ряд пробелов. Дисплей шипит и гаснет, а я вижу, как что-то огромное, зеленовато-белое ныряет и скрывается в катодной серости.
– Что за черт?! – удивляется де Врие.
– Минуту молчания, – отвечаю я, поднимая руку.
– В память игрушки Гаррисона?
– В память «Roscombe AG». Да упокоится она с миром.
Все говорят: «Что?», – и бегут к другим мониторам, чтобы проверить. Я остаюсь на месте. «Roscombe» погибла. Через несколько секунд они кивают и бормочут: «Черт, что с ней случилось? Господи Иисусе».
Я знаю, что случилось. «Roscombe» играла на мелководье, и ее съела акула.
* * *
Я возвращаюсь к дому Стеллы – снова и снова, хоть мне здесь больше не рады. Поэтому обычно я прихожу только во снах.
Но вот я стою на пороге: не в первый раз за последние месяцы, но впервые за очень долгое время звоню. Через прихожую топает Косматос, хорошо знакомая недовольная пробежка по изношенному современному иранскому ковру. Широко распахивает дверь. Гневно смотрит на меня. Я вижу, как его рука отходит назад, будто чтобы показать мне на часы на стене у него за спиной. Я что, опоздал?
Он с размаху отвешивает мне пощечину и орет в лицо, выпучив глаза от горя; шум такой, будто портовая лебедка сломалась. Это длится довольно долго, крик то затухает, то разгорается. Я смотрю ему в рот. За рядом зубов вижу нёбный язычок. Чувствую его дыхание, густой запах кофе. Шум удивительно сложный. Если бы его нужно было выразить в графике, потребовалось бы трехмерное отображение компонент, чтобы правильно все показать. Из-за мокроты в глотке звук выстраивается в аккорд, и я вижу вокруг него цвета в воздухе.
Он наконец останавливается: истрепанный канат с треском проматывается в машине и ныряет в маслянистую воду у причала.
Косматос прислушивается к воцарившейся тишине, оглядывается. На улице стоят огорошенные люди: женщина, которая собирала лаванду у себя в саду, и молодая парочка на скамейке, мужчина с двумя собаками на прогулке. Бродяга с флейтой на углу.
– Заходи, – говорит Косматос. – Будь ты проклят, скотина, провались ко всем чертям. Но заходи. Потому что никто из них меня не простит, если я тебя прогоню.
Я вхожу в дверь, и оказывается, что я совершенно не готов к запаху внутри. Он не изменился. Пахнет ровно так, как пахло всегда. Припоминаю, что он сам готовил, и что курил трубку, табак из какого-то элитного лондонского магазина; что в прихожей пахло его помадой для волос, потому что кабинет располагался на первом этаже. Старушка и Стелла делили рабочую комнату на чердаке – им нравился вид, и там они могли перебрасываться неразрешимыми проблемами и шутками. У меня там тоже было местечко – глубокое кресло, никакого стола – в углу, и я считал себя самым привилегированным из смертных.
Они по-прежнему здесь. Я знаю. Я смотрю через прихожую в зал. Может, они поздно обедают. Тот же стол, темное дерево. Те же темно-зеленые гардины, те же темные стены. Та же миска в центре, и в ней фрукты. Декантер. Но накрыто на одного – его место. Он сидит за столом без них, и от этого, наверное, ему горше, или наоборот.
Я хватаюсь за притолоку и всхлипываю, а за спиной слышу эхо, тоскливый вздох одинокой кошки.
Косматос тоже плачет.
– Будь ты проклят, – шепчет он. – Навеки проклят, мелкий гаденыш. Я никогда не плачу. Я сюда прихожу каждый день, по сто раз, и никогда не плачу. Никогда их не вижу и не оборачиваюсь, будто они здесь, а потом ты здесь всего секунду, и я только и думаю, что они вот-вот вернутся и окажется, что это глупое недоразумение. Что они живы. Просто не на тот поезд сели. Чего ты… чего ты вообще здесь можешь хотеть?
Но моя фамилия не Смит. И не Джонс. Не Берг, не Мюллер. Я не северянин, не спокойный, не сдержанный. Я не разговариваю, когда меня одолевают чувства. Я – Кириакос. Я – Константин Кириакос, и хоть плевать мне хотелось на футбол, Церковь, корабли и Акрополь, но я – грек. Я уже обнял его, приподнял, будто вязанку дров, уткнулся лицом в плечо. И я тоже плачу. Мы – мужчины, так мы скорбим. Я чувствую его слезы на своей шее и не знаю, кто из нас трясется сильнее, – мы оба дрожим крупной дрожью. А потом, точно землетрясение, это мгновение заканчивается, и мы снова просто два человека, которые никогда особенно друг друга не любили, но обнимаются, хотя потом никогда в этом никому не признаются. Удар сердца – и уже не обнимаются.
– Чего ты хочешь? – повторяет Косматос.
– Помощи, – говорю я ему, потому что катарсис ведет к искренности, пусть и неразумной.
* * *
Он заваривает кофе. Я надеялся на чай.
– Садись.
Мы оба садимся – не в одержимой призраками столовой, а в маленькой кухне с яркими люминесцентными лампами и уродливым столиком с желтой пластиковой столешницей. Косматос наливает узо себе в кофе. Теперь понятно, почему его не беспокоит, что кофе дешевый, наполовину труха. Я ему позволяю плеснуть и мне ликера. Лакрица и скетос [6]. Неплохо. Хотя наоборот – очень плохо: омерзительно.
– Так что? – спрашивает Косматос.
Я не говорю, что свихнулся, или что мое постакулье стрессовое расстройство подпитывает математическую синестезию, так что я стал почти ясновидцем. Я не предполагаю, что моя акула настоящая, что я на ней женился или дал ей вечный обет. Я ему рассказываю то, что помню, и то, что видел, и не делаю различий между тем, что возможно и что нет. Он в таких вещах дока и вытащит меня обратно на сушу.
Только он не вытаскивает. Просто сидит, а я время от времени ловлю запах его дыхания и знаю, что это крошечные частички кожи из его рта.
– Часы, значит, – бормочет Косматос.
– Да.
– Золотые?
– Платиновые, – пожимаю плечами я.
Он смеется:
– Ну, конечно.
– А это важно?
– Все на свете важно. Математика должна была тебя этому научить. Бабочка топает ножкой, и буря бушует в Миссисипи. Рождение ребенка в Тунисе меняет массу планеты, она чуть смещается на орбите, и со временем этого хватает, чтобы комета прошла мимо. Или наоборот. Так же и с тобой. Что ты отдал своей акуле?
– Я же сказал.
– Идиот. Не часы – значение часов! Они переносят тебя с места на место с большой скоростью и удобством? Нет, это автомобиль. Значение часов – не перемещение. Можешь ты их использовать в битве? Можешь съесть? Можешь с ними совокупляться? Нет, нет, нет! Часы этого не подразумевают. Часы – сложный механизм, предназначенный… для измерения времени. Время! А у этих был платиновый корпус, то есть богатство и статус. Так?
– Так.
– Ты живешь в мире знаков, равно как и вещей. В этом мире Актеон вскормил свою похоть, взирая на купающуюся богиню Артемиду; а она накормила своих псов его мясом. Желание и голод: одно тело сливается с другим. Отцом Актеона был Арестей, тоже распутник, который в юности и страсти гнался за Эвридикой по лесу, где ее ужалила змея, и она умерла. Изо рта – смерть. Ее возлюбленный, Орфей, спустился в нижний мир, чтобы вернуть ее, – это, наверное, самый знаменитый катабасис из всех легенд. Он пел столь сладко, что бог мертвых позволил вывести Эвридику наверх. Изо рта – жизнь. Но он не смог совладать со своей любовью и слишком рано взглянул ей в лицо, так что ее вновь оторвало от него. Потом он овладел собой, отрекся от плотской любви, и его самого по этой причине разорвали и пожрали оскорбленные киконские женщины, поклонницы Диониса, змеиного бога – вновь змея, – которого младенцем сразили титаны, но потом он вновь родился, когда его еще бьющееся сердце вложили в тело женщины, Семелы. Киконские женщины, которые приняли в себя мясо Орфея, понесли, подобно Семеле; из их чресл явились чудовища, такие как Кит. Из смерти через глубокое и женское внутреннее таинство снова – жизнь. Кит-дракон осаждал Эфиопию и пал в битве с Персеем. Мертвое чудище стало островом Ферой, куда много лет спустя привезли старый череп Актеона. Того самого Актеона! Мы возвращаемся к началу. Из отверзтого рта Актеона – словно из головы Орфея, которая сладко пела, пока воды реки уносили ее в потоках живой крови, – вылетел рой пчел, чей мед исцелял все раны, кроме смертельных, а яд их нес надежнейшую смерть. Понимаешь? Колесо проворачивается, а дорога идет вперед и вперед. Рот – врата жизни и смерти. Мы желаем его, он нас пожирает, из него мы являемся. Боги не умирают, а трансформируются. Они разрываются, перековываются, убиваются, перерождаются, пожираются и выплевываются обратно. Долги наших легенд не отменяются, ибо семя их возрождения содержится в каждой расплате. Перейдем к тебе. Ты отдал время и богатство в обмен на жизнь. В рот бога бросил ты эти вещи. Ныне время и богатство возвращаются к тебе в новой форме, но в следующий миг будет и цена, а за ценой последует новая расплата. Что пожрано, рождается. Ты станешь богат, и ты падешь, и восстанешь, и падешь столько раз, сколько потребует рассказ. Тебя разорвут на куски, и ты возродишься. Поздравляю! Ты стал зеркалом мира. Такова судьба самой Греции в грядущие дни.
Без перехода, от мифологии – к политике. Я стараюсь не уходить в сторону.
– Я не хочу об этом говорить.
Правда не хочу. С Косматосом говорить о народе и государстве так же глупо, как обсуждать футбол с одним из тех идиотов, которые эмблему своей команды вытатуировали на плече.
– Что не так с Грецией? – тут же ощетинился и приготовился к бою Косматос.
– Мы разорены, – отвечаю я, зная, что он не это имел в виду. – Мы позволили американцам продать нам партию плохих свиней, и очень большую, а еще потратили полмиллиарда евро на сеть подключенных к интернету общественных туалетов, потому что чей-то шурин их производил. Как-то так. Кое-что из этого – наша вина, остальное – нет. Мы не очень любим платить налоги, и, если быть до конца честным, мы жили на несуществующие деньги с 1994 года, но это нас ничем не отличает от остальной Европы, кроме того, что, когда музыка стихла, нам не просто не хватило стула. Мы вообще торчали в дальнем углу, играли в доктора и медсестру с симпатичной девочкой с физфака. Когда Португалия сядет на задницу, мы станем прошлогодней новостью.
– Нет, – возражает Косматос. – Нет. Это дерьмо нам скармливают. Это не правда, и ты это знаешь… банкир.
Ну вот. Давай скажи вслух. Признай. Делая вид, что это нечто иное, ты сдаешь позиции. После смерти жены Косматос стал очень изощренным, высоколобым фашистом. Это одна из причин, по которым мы не часто видимся: меня от этого воротит. Будто смотришь, как человек сам себе лицо ножом кромсает. Старушка была бы вне себя от ярости. «Косматос! Бога ради. Найди себе какую-то бабенку. Правда – найди молодую и глупую докторшу с диссертацией по антропологии, которая поверит, что частотный контакт с твоим членом поможет ей постичь религиозный экстаз и природу культа дважды рожденных. Выставляй ее напоказ на вечеринках и позорь нашу семью. В идеале – голландку, которая без обиняков может говорить о минете. Это вполне респектабельные прегрешения для старого бездетного мужчины, у которого умерла жена. Но это… только не это. Это ниже твоего достоинства».
И правда, вера гопников ему не к лицу, но всегда была в нем. Это ошибка в коде или какое-то другое нарушение психологического баланса: единственное, к чему он не применяет мощь своего культурологического анализа. Наоборот, возводит вокруг нее стены и валы, защищает барочными конструкциями и заговорами, а себе не позволяет увидеть подтекст. Косматос-революционер, планирующий вознесение новой Спарты из башен академии.
После смерти Старушки эта вера завладела им целиком, точнее, той малой его частью, которая не является перекрестьем юнгианских практик алхимии, поэзии, теологии и символики. Я знаю, что лучше не спорить. Много лет назад он наполнился странным и ясным представлением о том, что Греция должна уверовать в собственную уникальность, создать особое представление о греческом, выстроенное на идее эвдемонии. «Мы должны стать героями! Должны верить, что мы – великая нация, чтобы великие решения стали для нас обыденными, должны действовать так, будто за нами наблюдают и нас вдохновляют языческие ангелы!» Но теперь эликсир замутился более понятной грязью, обычным доморощенным расизмом. У каждого, наверное, есть родственник-идиот, который за обеденным столом заявит, что «черномазые» на самом деле не понимают цивилизацию и к ней не приспособлены, или что «жиды» захватили все СМИ, поэтому лишь какая-нибудь слюнявая газетка или увешанный гифками рекламы сайт докладывает всю правду. Я когда-то прочел в одной книге, что сознание – сложная информационная петля, способная наблюдать себя саму. Что можно сказать о человеке, который оказывается на такое неспособен? Когда Косматос такой, он вообще личность или только глупый камень, который ходит и говорит, как человек?
Он качает головой:
– Нет, Константин. Нет. Это симптомы. Не в них беда, они – лишь следствие. Греция не разорена – она разорвана. На улицах полно нахлебников, а в коридорах власти – обманщиков. Африканцы, цыгане, хорваты. Банк Америки, немцы, китайцы. Они насилуют страны, как женщин и детей! Так или иначе, все едино. Сперва они открывают тут представительство, создают проблему, а потом единственный выход – дать им еще денег, чтобы они ее решили! Они здесь, чтобы спекулировать и богатеть на том кризисе, который сами сотворили и навлекли на нас. Они отнимут все, что пожелают, все, что у нас есть, и бросят нас, когда полетят дальше. Это не миграция, а роение. И не смей закатывать глаза! Ты с ними только и делаешь, что обедаешь!
Челюсть выехала вперед так, что подмывает врезать ему над чашкой мерзкого кофе. Но я просто делаю еще глоток. Кофе по-прежнему омерзительный, но все равно лучше национал-патриотического поноса Косматоса.
Вот что с ним сделала смерть. А каким глупцом меня сделало мое горе?
Косматос преисполнился напыщенным гневом:
– Все европейское сообщество выстроено на ущербной модели бытия! На груде лжи и невежества! Подонки в Брюсселе и Берлине спасают свои банки, а нас заставляют выносить их собственный мусор! О да, им легко говорить, мол, закон – это то, что написано, а текст международного договора нерушим и подлежит исполнению, а пока мы это терпим, это добродетель. Что с того, что страна горит в огне, а народ голодает? Что с того, что беднейшие в Европе вынуждены привечать тех, кого даже Африка выплюнула? Вот каков драгоценный закон, который мы должны исполнять. Это иудеохристианские представления, отфильтрованные немецким сознанием, и они фундаментально чужды нашему пониманию. Да они просто устарели! В цифровом веке ничего нельзя высечь на камне, и мы это понимаем. Снова пришло наше время, Константин. Истинно греческая жизнь – это поэзия, а не арифметика, поэтому ты всегда не в ладу с самим собой. Мы научимся жить символически, в единении со своими богами. И тебе тоже придется научиться.
Итак, подытожим: финансы – плохо, собрания поэтического клуба – хорошо; евреи – плохо, греки – хорошо; законы – плохо, боги и символы – хорошо. Иными словами, полная бочка поноса. Я страшно зол на себя за то, что пришел. Я ведь знал, что к этому идет, и предоставил ему аудиторию из-за своей слабости, ностальгии. Я пришел искать утешения у милых призраков, а нашел этого узколобого старика.
– Это чушь. Да… да, это чушь, Косматос. Но я хочу… не перебивай меня, пожалуйста. Я вежливо выслушал твою чушь, хоть ты и знаешь, что терпеть ее не могу. Я хочу знать, как она связана с моей акулой?
Мне хочется сказать, что я вообще не понимаю, зачем сюда пришел, но понимаю. Чтобы спрятаться. И эта проповедь – цена укрытия. И чтобы побыть со Стеллой, но ее цену заплатить невозможно.
– Ха! Чушь! В том-то и суть! У тебя в голове акула, которая пожирает целые корпорации, а потом испражняется деньгами. Понимаешь, что это значит?
– Самоочевидно, старый ты хрен, не понимаю, иначе не спрашивал бы.
Я уже слишком устал, чтобы притворяться. Но Косматос не обижается. Он в восторге, почему-то эта ситуация ему очень нравится. Он смеется:
– Это значит – революция! Свержение нынешнего, приближение апокатастасиса. Возвращение к началу. Ты подхватил бога, Константин. Не важно, что ты думаешь: мол, повреждение мозга или пришелец из космоса. Что бы ты себе ни наплел, пока исполняешь волю своей богини, твои враги падут, а ты вознесешься. Теперь для тебя есть лишь единственный закон. Ты становишься тем, чем мы все станем в новой Греции. Скоро ты даже замечать перестанешь, что исполняешь приказы своей повелительницы. Если пойдешь против нее, она тебя пожрет.
– Символически.
Он наклоняется вперед, так что меня обдает кислым запахом скетоса.
– Да. Символически. Ты привык к миру, где символы – вещи неосязаемые, как наследные титулы изгнанных монархов, хотя символы и слухи – главная ходовая валюта в твоем ремесле. Но в новой Греции символы станут наглядной правдой. Если тебя пожрет твоя акула, твое физическое тело разорвет на куски, которые она проглотит. С иудеохристианской точки зрения можно увидеть, как человек режет тело на куски и сбрасывает их в море с лодки. Можно увидеть, как безумная толпа зубами разрывает на куски труп. Но такой наблюдатель ошибется. Он увидит то, чего на самом деле нет, призрак неуместного образа жизни в мире. Образа чуждого и безжизненного, как сальный, сгоревший немецкий автомобиль, через раковину которого проросла трава, в поле, где пасутся могучие кони. Правда будет в том, что богиня тебя съела за то, что ты не был ей верен.
Я понимаю, что Косматос окончательно свихнулся. Я говорю:
– В новой Греции.
– Грядущая Греция, Константин, охватит весь мир: Греция – от Афин до Магадана, от Фессалоник до Кейптауна, от Корфу до Дарвина и Гуама. Не завтра, не в будущем году. Сейчас. Хватит Греции разрываться на части!
Когда так сказал Мегалос, я подумал, что это его собственное выражение, но, похоже, это новый расхожий лозунг у всех придурков.
Косматос вскакивает на ноги и протягивает руку:
– Пойдем! Я знаю людей, которые способны тебе помочь.
Он и вправду собирается меня куда-то вести. Люди, о которых он заговорил, – не люди вовсе, а призрачное безмолвствующее большинство, которое с ним согласно и всегда соглашалось. Это конкретные люди. Ну уж нет.
– У меня есть дела, – говорю я ему и не договариваю «какие угодно, где угодно, только не здесь с тобой».
Он хмурится, надувает щеки:
– Как хочешь. Делай, что тебе в голову стукнет.
Он провожает меня до двери.
Мы не обнимаемся.
* * *
Четыре дня спустя это происходит снова: недвусмысленные четверки. Монитор Гаррисона почил навеки, слава Богу, и при смерти драндулет выпустил какой-то очень ядовитый газ, так что Гаррисону не разрешили поставить другой такой же. Увы, остались эмуляторы – хитроумные программы, которые заставляют новую и дорогую машинерию вести себя, как старая и дешевая. Такое приложение можно поставить на iPad, и я почему-то это сделал, заразился, стал им пользоваться. У меня все остальное тоже работает, но планшет стоит на подставке, а по нему бегут зеленые циферки, как в кино с Киану Ривзом.
Четверки бегают вверх-вниз по столбику цен, потом задерживаются на полпути, будто размышляют. А затем исчезают. Приличная компания, на вид в отличном состоянии.
Я звоню подручному и говорю:
– Сливай «Couper-Seidel».
– Что?
– Сливай. Я в них разуверился. Немедленно.
Он так и делает.
– Господи. Это было дорогое удовольствие, Константин.
Я продолжаю думать. У «Couper-Seidel» есть три конкурента.
– Покупай, сколько сможешь «Juarez Industrial Copper» и «Ardhew Metallic».
Третий мне не нравится. Он шаткий.
– У кого долги «Couper»?
У всех есть долги. На всех есть управа. Он мне отвечает. Я их сбрасываю.
Через четыре минуты это происходит. Бруннер и де Врие пялятся у меня из-за плеча. Один слив «Couper-Seidel» спас нам примерно десять миллионов евро. Сброшенные долги вышли еще в 40 миллионов. Если мы сейчас обналичимся, прибыль по акциям «Juarez Industrial» и «Ardhew» принесет дополнительно около ста миллионов.
В чистейшем виде понта: в бизнесе, построенном на понтах, я только что совершил дело, на котором строят карьеры. Сегодня утром я был очень хорошим банкиром, теперь я – без пяти минут финансовый бог. Я вошел в особое пространство, отведенное мудрецам и пророкам, которые понимают, куда уходят деньги мира, прежде чем они туда потекут, – для таких, как Майкл Берри и Джордж Сорос, и для других, кто не хочет показываться широкой аудитории. Попадешь в этот клуб и почти автоматически – в другой, где полторы тысячи участников, действуя вместе, обладают большей властью, чем любая сила на земле. Это не заговор: концентрация связей и ресурсов не может не обладать солидным весом. Не нужны торжественные клятвы в верности, потому что это подразумевается. Просто богатство, но на таком уровне, что его уже можно считать эволюционным прорывом.
Я чувствую, что меня ждет: новое гражданство и членство в державе, которая принимает тебя, когда ты превращаешься в чистые деньги.
К концу месяца акула съедает еще три компании, и я уже ловлю себя на том, что жду этого – торчу перед монито-
ром, как влюбленный подросток, но это никогда не происходит, когда меня нет рядом. Она ждет. Точнее, как я повторяю себе, подсознательный процесс в моей голове, который во всю силу запустили мои бесчинства, страх, похоть и одержимость акулой, требует, чтобы я проводил определенное время, вглядываясь в цифры, прежде чем показать мне, что происходит.
Но я знаю, что это не так. Мне ничего не нужно делать, только пить кофе и ждать: я произвожу деньги так, как другие – мочу.
На эти деньги я покупаю предметы искусства. Сейчас искусство по многим параметрам – более надежное вложение, чем банки, если покупаешь правильных художников и в таком количестве, чтобы не выплачивать астрономическую комиссию. Это тоже бизнес на понтах, поэтому правила игры знакомые. Я подумывал о вине, но знаешь что? Мне не плевать на вино. Рынок не должен его зажимать и портить. Вино – старое и почтенное, эротичное и человечное. Я знаю, что в «Goldman» когда-то думали купить Бордо – не марку вина, а весь регион, чтобы контролировать поставки, – но отказались от этой идеи, что хорошо. Вино не должно стать фишкой в этой игре, как и продовольствие, здравоохранение или пресная вода. Есть вещи, которых нельзя касаться, и люди, не понимающие этого, не видят и разницы между законной добычей и незаконной: их надо сажать в тюрьмы.
Я нанимаю одну даму из Цюриха. Ее зовут Миранда, она специализируется на поиске и выкупе недооцененных произведений и приносит мне почти полную коллекцию какого-то стареющего рокера из Лондона, поиздержавшегося после громкого развода. Там полно южноамериканского народного искусства – в частности, чрезвычайно редкие
и недооцененные двенадцатиричные кипу [7], которые могут меня заинтересовать, – а также лучшие новые работы парня по имени Берихун Бекеле, который в семидесятых писал летающие тарелки. Должен признать, Миранда знает, что делает. Через несколько дней в «New York Times» появляется статья о нем. Судя по всему, он снова взлетел, взялся работать над новой компьютерной игрой, от которой все сошли с ума, хотя она еще не вышла. Заметка для себя: нужно купить. И еще – снять шляпу перед Мирандой, потому что цена на работы Бекеле удлинилась на пару нулей. Чудики из Силиконовой долины от него теперь в бешеном восторге.
Так что мы просто поворачиваемся и продаем бо́льшую часть Бекеле прямо в Калифорнию, но я прошу прислать мне что-нибудь на ее выбор, чтобы повесить у себя. «Что-то, что мне понравится, и что, по-твоему, мне подойдет». Первое, что я распаковываю, – кипу, «говорящие узелки», как их называют. Похоже, для инков это было одновременно ожерелье и налоговая декларация. Видимо, потому, что я по образованию математик, она вложила стопку бумаг, которые я не читаю, о том, как удивительно, что счетная система у них двенадцатиричная, а не десятичная, как у нас. Кипу, хоть кто-то его расправил наподобие крыльев кондора, больше похожи на неолитические стринги. Я их отсылаю обратно на хранение. Оказалось, что кипу – твердая валюта у коллекционеров, настоящая голубая фишка, так что это финансово неплохой выбор; просто не мое.
Потом из упаковочной пленки появляется очень эротичное изображение обнаженной японки, отдыхающей во дворике; затем – странное подражание Мондриану, которое мне не сдалось, но представляет собой отличный пример солидной современной картины, чтобы стоять с умным видом и поглаживать подбородок; наконец передо мной встает завернутое в коричневую бумагу семифутовое полотно, которое Бекеле написал в форме вызова Хартумской школе: крупными черными буквами поверх скотча написано название – «Гномон».
Это многоуровневая шутка. «Гномон» переводится как «знающий», это метко – и в смысле живописи, и по части моей финансовой магии, но оно же значит и что-то перпендикулярное, выступающее над поверхностью. Как можно было заметить, весь мир поклоняется моей эрекции. Миранду я представляю себе энергичной швейцарской блондинкой с ногами лыжницы, но она не признается, угадал ли я, и смеется, когда я предлагаю ей заказать перелет в Афины.
Бросаю взгляд на печатное описание – смешанная техника. Похоже, там есть настоящий металлический гномон, инструмент архитектора, приклеенный к деревянной доске, на которой написана картина.
Распаковывать предметы искусства даже лучше, чем новый телефон. Картины больше по размеру, они более материальные, от них надежно пахнет маслом и смолой, аж слюнки текут. Аккуратно орудуя ножницами, я «раздеваю» картину и отступаю на шаг. О да! У него ясный взгляд, у этого забытого паренька из Аддис-Абебы. Он прозревает время.
«Гномон» – это, разумеется, плавник, и Бекеле схватил облик акулы весьма точно, выписал выгнутую голову и тело – округлую, пулеобразную форму.
Она плывет в чернильном, электронном пространстве, а небо над ней покрыто цифрами катодово-зеленого цвета.
«Гномон» – это изображение моей акулы.
Сегодня я покупаю выпивку всему стрип-клубу. Танцовщица-израильтянка, единственная, какую я видел в жизни, бывшая танкистка, сидит голышом у меня на коленях и щебечет на ухо.
Она очаровательна. Я никогда в жизни не чувствовал себя таким одиноким.
* * *
Теперь – в постель, но не для сна. Только не в компании танкистки Руфи, самой опасной подстилки в мире! Да и кому захочется каждую ночь видеть во сне белых призраков и бесконечные ряды острых зубов? Так не отдохнешь. Вероятно, разврат поможет, если потратить достаточно времени и денег. Я примеряю невоздержанность – больше, больше всего. Добрые афинские доктора с радостью пропишут состоятельному пациенту самые современные антидепрессанты и снотворное, но в последнее время я убедился, что лучшая защита все-таки естественная. Следующую неделю я пью «Арманьяк» из крестцовой ямки богатой наследницы и «Икем» – из яремной впадинки чемпионки по семиборью. Я устанавливаю столько плазменных экранов, сколько влезло во внешнюю часть квартиры, добываю предрелизный экземпляр безумной компьютерной игры Бекеле – она называется «При свидетеле», что-то вроде Лары Крофт в оруэлловском мире тотального наблюдения; мрачные, гипнотизирующие ландшафты, которые будто смотрят на тебя в ответ, – и устраиваю греческую вечеринку с горячими ваннами. Мы играем в марафон – задача: дойти до максимального уровня первыми в мире. Я понятия не имею, получится ли у нас, но все организовано с помпой и прессой, потому что такие затеи производят деньги, как коровы – коровьи лепешки. Я пьян и луплю по кнопкам так, словно это произведение игродельческого искусства – «Missile Command» из 1980-х, а потом случайно обнаруживаю пасхалку: фигурка моего персонажа пробирается в тайную дверь и оказывается в каком-то безумном центре управления – комнате, набитой секретами. Видимо, это показывает, что у меня «очуменные скиллы», потому что кто-то пишет эти слова на моем животе фиолетовой помадой и самбукой.
Гости радостно ревут, но я об этом не думаю, потому что уже бросил контроллер, чтобы взять бокал с выпивкой, а затем отвлекаюсь на разговор об алгоритмах и пользовательских интерфейсах с тремя лид-инженершами из берлинской компании по разработке ПО. Заметка: программистки – отличная компания, и они обалденно горячие штучки.
Краем глаза я вижу игру, мои гости играют и играют. В «При свидетеле» отовсюду смотрят камеры; дизайнер устроил эту жуткую штуку, когда игра просматривает твой календарь и последние мейлы, а потом о них спрашивает, если ты ее надолго бросаешь: слежка отыгрывается слежкой. Двум моим гостям приходится срочно уйти, когда система прерывает их спор об относительной жизнерадостности Дэвида Хассельхоффа и Эрики Элениак, и 21-футовый плазменный экран спрашивает, спят ли они друг с другом. Пардон, пардон, всем игристого! Нет, нет, шампанского. Что, у вас тут есть пузырьковая машинка? Тащите ее сюда!
Когда я очухался, в городе проходил конвент по рекламе, и, конечно, мы все всё знаем о рекламщицах; а потом – «Неделя моды», а затем – кинофестиваль. И если после долгого загула мужчина не слишком хорош как мужчина, пара недель такой жизни и шестнадцатилетнего в гроб уложит, уже не говоря о парне за тридцать с маниакально-акульим синдромом и умеренно слабым сердечно-сосудистым аппаратом, – современная наука готова ему помочь. Там, где раньше выписывали голубую таблеточку, теперь вживляют инжектор с обратной связью, маленький диспенсер в ягодичной мышце, который сам все делает. И можно настраивать время срабатывания и другие параметры через приложение с айфона. Я вывожу свой пароль на главный экран и предлагаю гостям выбрать уровень моего возбуждения, чем гарантирую себе еще одно появление во всех «желтых» газетках. Удовлетворение – для всех заинтересованных сторон – надежно гарантировано. Я – Робокириакос. От моих причиндалов исходит низковолновой импульс Траха, как сказал незабвенный Чарльз Дэнс.
Да. Он это правда сказал.
Я непобедим, в банке, как за каменной стеной. Акула плавает по рынкам, биржам и моим яйцам. Нет таких замков, которые я не могу взять штурмом. День за днем, ночь за ночью я вкладываю деньги Мегалоса и растущего числа других клиентов, и меня не остановить. Патриарх между тем большой человек, пусть и только в моральном плане. Сперва я его вижу на первой странице своей газеты: он продвигает какое-то трудовое соглашение. Потом в одиннадцатичасовых новостях он рассказывает о долге перед Родиной. Его слава оттеняется слухом, что он недавно очень выгодно вложил деньги с помощью нового, неназванного, консультанта.
Это всё мои яйца.
Мегалос процветает. Все покупают его товар – смесь гордыни и смирения, которая так идет священнику, и щепотки старой доброй нетерпимости к тем, кто не похож на нас. Теперь я уверен, что они с Косматосом, семиотически говоря, спят в обнимку. Используют одинаковые скрытые команды, одинаково скромно хвастаются, одинаково призывают к терпимости – так что нетерпимость вдруг начинает выглядеть вполне разумно. Он – самый шикарный монах Греции, и ни одно важное мероприятие не может без него обойтись. Даже Европа его любит и приглашает на дипломатические рауты, чтобы удержать в рамках. Потому что пока он готов пожимать руку немецкому министру бедности и социальной помощи и говорить об «африканской проблеме» в сдержанных выражениях; пока готов хвалить китайскую программу сокращения вредных выбросов в атмосферу, он все-таки один из них. Великий мыслитель, этот Николай Мегалос – объединитель правых работяг и правых богачей, представитель тех, кто мог бы иначе соскользнуть в менее приятные уголки политического спектра. Только его и на порог не пустили бы, если бы мои яйца не принесли ему богатства.
Да, мои яйца и всё, что к ним прилагается: даже когда акула не приплывает, я просто не могу ошибиться. Мое собственное богатство растет почти так же стремительно, как киборгизированный член. Если бы я знал, что беспробудное пьянство, бессонница и неистребимый запах секса на верхней губе сделают меня таким профессионалом, я бы ухайдокал себя в кому много лет назад. К счастью, я достаточно зрелый человек, чтобы ответственно относиться к своей суперсиле, так что мне не грозит сердечный приступ и на работу без штанов я не прихожу. Сейчас я руковожу пятью фондами сразу. У них разные цели, ограничения и приоритеты, а Мегалос, по сути, единственный крупный институциональный клиент, который остался в первоначальном фонде. Все остальные двинулись дальше и перешли в мои новые, более рискованные фонды. Мегалос не может пойти на такое, ему мешают давно выписанные запреты, так что лишь он сам да кучка мелких инвесторов, которых он привел, упорно держатся надежных вкладов. Для остальных я пляшу между острыми клинками экономики, точно девочка из «Cirque du Soleil». Ничто не может меня остановить. Офис – да что там, весь банк – знает, что я с собой делаю, но пока моя белая полоса не кончилась, мне никто не мешает. Не стоит лезть под ноги человеку на взлете. На самом деле, как ни странно, они – мой ремень безопасности. Пока я на взводе, мне позволяют кутить, но, как только ощутят слабость, подвинут меня и отправят на Kurort, как это называют немцы, – в уютный отель, чтобы питаться сырой морковью, просыхать и припоминать собственное имя.
Это не выход. В одном Косматос был прав: я не теряю свою акулу. Она пришла со мной на сушу при помощи какой-то безумной акульей магии – древней и дикой, нерушимой и вечной. Я связан с ней. Может, женился на ней посредством часов. Я уже говорил, что купил новые? Купил! Сперва пошел в «Watches of Switzerland», но самое дорогое, что у них нашлось, – TAG Heuer, смехотворная модель из углеродного волокна. Если мне нужен истребитель, я куплю именно его: не хочу носить часы в дизайне МиГа. В конце концов я выбрал Ulysse Nardin, потому что ассистент в Jaeger-LeCoultre чуть не заставил меня ждать, и хоть я предпочел бы заставить Breguet продать мне часы Марии Антуанетты, они никогда не выставят их на торги. Я знаю человека, который предложил им двадцать два миллиона долларов, но они отказались. Компания держит эту штуку, исключительно чтобы позлить нас. Думаю, однажды они подарят ее уличному беспризорнику, и от такого альтруистического антикапиталистического деяния мировая ось накренится и придет новая эпоха аналоговых часов. Так что парни из Breguet на самом деле коварные криптокоммунисты с акционистским уклоном. Или просто им никто не предложил столько, чтоб они продали свои безумные часики. Ладно. Nardin украшен таким количеством драгоценных камней, что циферблат из белого золота почти нельзя рассмотреть. Согласились сделать мне модель под заказ – с акулой, потому что «это же Кириакос».
Я их надеваю. Браслет жжет кожу. Сперва зудит, потом болит, а когда я их снимаю, на запястье ожег, будто руку сунул в огонь. Каждое звено отпечаталось. Часовщик в Nardin приходит в ужас и обещает нанести гипоаллергенное покрытие. Ничего подобного прежде не бывало – такого можно ждать лишь от недостаточно чистого золота. Он немедленно возьмет пробы.
В конце концов он рождает на свет новые часы, но история повторяется. Я не показываю ему нижнюю часть запястья, где застежка выжгла маленький треугольный плавник.
* * *
Я обедаю с богами.
Через четыре месяца я оказываюсь в Бильдербергском клубе. Повернуться нельзя, чтобы не пожать руку миллиардеру или главе государства. Не смогу ли я приехать в [подставить название разорившейся страны] и сформировать новый экономический план? Может, небольшой остров у побережья для личных целей поможет мне решиться? Я чувствую власть в своих случайных знакомых и коврах, по которым хожу в перерывах между встречами. Мне надо попасть в Мумбаи. В обычной ситуации я бы поручил компании, которая выпустила мою кредитку, разобраться с багажом, машиной, билетом первого класса и номером в шикарном отеле; привычное дело, о котором даже не задумался бы. Но не теперь. Теперь у меня звонит телефон: это Бен Тисдейл, инженер из Аризоны, который владеет половиной оптоволоконных кабелей в США и обеспечивает подключение всей Азии. Он – известный трансгуманист: находясь при смерти, Бен хочет засадить свое сознание в компьютер, а потом заморозить свой мозг – на случай, если от него что-нибудь останется. Он финансирует исследования жутковатых технологий, таких как прямой интерфейс человек-машина и искусственная телепатия. Держит патенты на изобретения, которые, вероятно, станут основой экономического роста в следующие сто лет.
– Эт’ Кирьякос?
– Да.
– Эт’ Бен Тисдейл. Говорят, ты собрался в Мумбаи.
Кто ему об этом сказал, он, конечно, не говорит. Да и не нужно. Если АНБ следит за всеми и всегда, делает это с помощью техники, которую производит Бен. Но ему достаточно просто спросить. Это же Бен Тисдейл.
– Да, у меня там дело. Вылетаю завтра.
– На фиг. Ты знаешь, каков риск разбиться на коммерческом рейсе?
– Заметно выше, чем на частном самолете.
– У м’ня не просто самолет. Купил «Аэробус». Раньше-то у м’ня был «Боинг», но в «Аэробусе» электроника мне больше нравится. И самый долгий безмоторный пролет был у «Аэробуса». И на Гудзоне он приземлился.
– Но в Хитроу без моторов приземлился «Боинг».
– Там сработал пилот, а не самолет. Просто невероятно. Как Королева его тут же не наняла, не понимаю.
– А кто его нанял?
– Я нанял, – говорит Бен Тисдейл. – Так тебя подбросить? Я собираюсь туда на пару дней.
Так что я лечу с Беном Тисдейлом. Выясняется, что не просто лечу: он сам – опытный авиатор и любит браться за штурвал на часок-другой во время долгих перелетов. Меня он сажает вторым пилотом, что, наверное, противозаконно, но снова – это же Бен Тисдейл. Национальные государства не могут арестовать Бена Тисдейла. Он сам себе – суверенная держава. Мы обсуждаем рестораны. Вино. Сигары. Машины. И только.
Он одалживает мне крыло своего дома на время визита. Я пытаюсь понять, чего он хочет. И понимаю – ничего. Ему просто любопытно. Он думает, что мы еще встретимся.
Сам он улетает в Красноярск, но договаривается с другом, чтобы тот подбросил меня домой.
– Азиатские деньги, – непонятно объясняет Бен. – Интересный парень.
Интересный парень выше меня – это нетрудно, – но очень худой. Его лицо избороздили морщины – такие глубокие, что трудно сказать, пятьдесят ему или семьдесят. У него «Боинг». Он считает, что в «Аэробусе» слишком много электроники, а она по своей природе склонна ломаться. Интересный парень говорит: «Знаете, что должно быть у самолета? Чистота цели. Чтобы он взлетал и летел до тех пор, пока вы не пожелаете его посадить. Остальное излишне». Компания «Боинг» это понимает, поэтому он покупает самолеты у них. Самолеты во множественном числе, потому что у него их несколько. На взлетной полосе нас ждут три, и он выбирает один случайным образом.
«Безопасность, – говорит он и трясет руками так, будто стреляет из автомата. – Всегда нужно соблюдать осторожность».
Я вслух интересуюсь, серьезно ли он опасается покушения. С того момента, как меня подобрал Тисдейл, я не видел особой охраны, но сейчас понял, что она должна быть со всех сторон и постоянно. Охрана надежная, но очень дорогая, а значит, незаметная и водонепроницаемая.
Интересный парень спрашивает меня, знаком ли я с объяснением гравитации, у которой пространственно-временной континуум представляется резиновым листом, где любой объект оставляет большее или меньшее углубление, меняя поверхность листа так, что остальные предметы катятся к нему благодаря уклону. Я признаю, что слыхал такое описание. «Мы, – говорит интересный парень, имея в виду Пятнадцать Сотен, – обладаем такой силой тяготения. Там, где наша гравитация касается другого, может произойти столкновение. Человек погибнет – или экономика. Если один человек знает о приближении другого, первый может предпринять шаги, призванные смягчить опасность, которую представляет другой, в том числе полностью ее нейтрализовать. И хотя так происходит редко, это не значит, что никогда». Он спрашивает, играю ли я в го. «Го, – продолжает он, – хорошая метафора, хоть такое определение не в полной мере оценивает красоту игры. Го – это го. В ней есть понятие, – тут он замолкает и взмахивает руками – ацуми. Это как стены замка. Плотность и контроль. Как масса для гравитации: возможность приводить другие вещи в движение самим фактом существования. Подобные явления можно выразить по-японски и по-английски. Хорошо, но не полно». Я спрашиваю, японец ли он. Интересный парень отвечает, что нет.
Больше он ничего не добавляет, и мне приходится признать, что я никогда не играл в го, и попросить его показать игру в действии.
И мы играем в го. Выясняется, что полное отсутствие опыта не делает меня скучным противником, потому что одно из отличий го от шахмат заключается в том, что там нет устойчивых дебютов. Есть ряд привычных форм, которые быстро приводят к уникальным ситуациям, и то, что кажется ошибкой, может стать поворотной точкой, чье существование и положение позволяет добиться чего-то значительного. Тут столько же личности и характера, сколько стратегии. Компьютерам чрезвычайно тяжело с ней разобраться. Даже самая простенькая шахматная машина способна одолеть большинство игроков, но до самого последнего времени лучшие симуляторы го с трудом выходили на уровень посредственных людей. Теперь все иначе, но благодаря другому шагу. Современный цифровой мастер го – фактически симуляция личности, чье сознание тем не менее касается только игры.
Мы играем, и некоторое время я думаю о том, каково это – знать бытие лишь через вытянутые черные и белые фишки, которые ложатся на абстрактное математическое поле. Восхитительное сочетание сложности и простоты: два цвета и сетка координат, но всего несколько ходов, и позиция обладает миллиардами возможностей.
Я наслаждаюсь игрой и не пытаюсь ее анализировать, делаю выбор на ходу. Интересный парень все равно побеждает, но суть не в соревновании.
Выиграв третью партию, он поднимает на меня взгляд:
– Я удивлен.
– Чем же?
– Я ожидал, что вы будете все время болтать.
Я говорю, что рад некоторое время побыть в тишине, потому что моя жизнь очень громкая. Это вызывает его одобрение.
– Моя жизнь тоже громкая, но эту неделю я приберег для себя: направляюсь в «Сотбис», чтобы купить картину. Пасторальный пейзаж с множеством кленов. В детстве мама говорила, что клен – символ любви и новых начинаний. Позднее, став юношей, я узнал, что он еще означает практичность и равновесие, то есть вещи почти противоположные любви. Дерево противоречий и двойственности, которое поворачивается к миру то одной стороной, то другой. Как я понимаю, мастерство живописца несравненное.
– И кто художник?
– Официально Тинторетто, но это подделка.
У меня снова появляется чувство, будто меня изучают, проверяют.
– Хорошая?
– Великолепная. Но в «Сотбисе» не подозревают. Полагаю, борьба за нее разгорится нешуточная.
– Но вы не собираетесь им говорить, что это подделка.
– И не подумаю.
В четвертой партии мне удается его на время прижать, и дыра на доске принимает форму акулы. Интересный парень цокает языком. «Китайцы не любят цифру 4,– говорит он. – Она шепчет о ловушке рождения, в которой кроется неизбежность смерти. Но это омофоны, а не полные синонимы. Тень в коде. Вы видите четверку?»
Я говорю ему, что для меня 4 имеет другое значение. Интересный парень усмехается:
– О да! Мегалодон!
Я смеюсь. Интересный парень приподнимает бровь. Я объясняю, что у меня есть клиент с похожим именем. Тут нет ничего предосудительного, потому что Николай Мегалос никогда не просил ни прямо, ни косвенно хранить в секрете решение ордена нанять мою фирму. Интересный парень хмурится. «Я о нем знаю», – говорит он, и мы снова погружаемся в молчание.
– Быть может, – произносит он в конце концов, – я куплю картину, а затем подарю кому-то. Такой изящный розыгрыш.
– Быть может, подделка написана поверх истинного шедевра, – отвечаю я.
Он разводит руками и признает, что все возможно.
Мы играем. Я размышляю о том, что, когда выяснится, что я летаю с Беном Тисдейлом и его кругом, ко мне повалят новые клиенты. Власть и влияние притягивают друг друга. Международные финансы определяются не в банковских комнатах для совещаний, а здесь – в приграничных, пороговых пространствах, сотканных из чистых денег. Власть живет в частных терминалах международных аэропортов, редких дворцах и универсальности; в том, чтобы ехать в одном лимузине с другим, потому что тебе никому ничего не нужно доказывать. Просто богатые говорят о других своих домах и обителях. Боги не говорят. Если им нужно какое-то помещение, они его приобретают, или кто-то им его предоставляет. Они не ведут учет государствам и недвижимости, потому что всюду чувствуют себя дома.
В шестой партии я делаю последний ход интуитивно, и, когда интересный парень резко моргает и хлопает в ладоши, понимаю, что сделал что-то правильно. Лик доски меняется и дрожит, когда мы выходим в эндшпиль. Я побеждаю. Интересный парень удовлетворенно цокает:
– Мёусю. И много киай.
Я улыбаюсь в ответ:
– По-гречески – мераки. Тут мое сердце.
– Да. Но это был и неожиданный ход.
Я набираюсь смелости, чтобы задать свой последний вопрос:
– Зачем вы покупаете подделку?
Он протягивает мне руку через стол:
– Потому что она прекрасна, Константин Кириакос.
Кожа у него очень сухая и жесткая. Рука рабочего человека. Мне становится стыдно за свои руки. Некоторое время он смотрит на меня, затем достает бумажник, из него – карточку. На ней красным напечатан длинный номер.
– Если попадете в беду, – говорит он. – Это мои ребята. По безопасности. «Иди хоть до края земли, но я удержу тебя в длани своей». Повторите.
Я повторяю.
– Хорошо.
Пилот просит нас приготовиться к посадке.
* * *
Я сижу за столом и не знаю, что делать.
Десять секунд назад все цифры на экране превратились в четверки.
444444444444
444444444444
444444444444
444444444444
444444444444
444444444444
Я проматываю ниже, но безуспешно – им нет конца. Потом я перезагружаю систему. Все то же. На миг я решил, что окончательно свихнулся, но затем понял, что еще нет. Потом я несколько секунд сидел и смотрел на экран, смотрю и теперь. Некоторые цифры выделены жирным шрифтом, другие – курсивом, остальные никак не обозначены. Из этого складываются странные формы и картины, будто заросли ламинарии. И тут я понимаю.
Понимаю, что это значит.
Рынок сейчас обвалится. Обрушится. Рухнет, как «Гинденбург». Катодно-зеленые пики и провалы бегут по экрану. В глубоких долинах между башнями водорослей скрывается акула, ждет, пока на дно опустятся трупы.
Не важно почему. Может, какой-нибудь идиот опять позволил электронным трейдерам взбеситься. Может, это просто ошибка и завтра все исправится, или золотой запас украли из Форт-Нокса, или по США нанесли ядерный удар. Или еще только нанесут. Не важно. Это случится, и я ничего не могу с этим поделать.
Правда. Ничего. Представь себе:
«Здравствуйте, это Константин Кириакос. Вы могли видеть меня на обложке „GQ“ в прошлом месяце. Ну да, это было немецкое издание. Не важно. Послушайте, я – финансовый гений. И что-то плохое творится с рынком, настолько плохое, что я думаю, это станет угрозой национальной безопасности вашей страны, как грязная бомба или что-то такое… Алло? Алло? Алло?..»
«Guten Tag, hier Constantine Kyriakos. Ich möchte etwas ganz wichtiges erzählen. Eine Katastrophe kommt. Gerade jetzt. Ja. Jetzt. Ich weiß nicht genau. Eine Katastrophe. Vielleicht finanziell. Es wird finanzielle Folgen haben. Ich – Hallo? Hallo?..» [8]
«Нихао…»
«Buenos días…»
«Привет! Послушайте, я уже звонил паре ваших коллег из Госдепартамента и Нацбезопасности, они повесили трубку, но вы должны меня выслушать: есть серьезная проблема, и я думаю, вам нужно поднять истребители. Я думаю, вам угрожает что-то… Ну, с того взял, что рынки обваливаются… Ну, еще нет, но обвалятся… Ну, оттуда знаю, что у меня в голове волшебная акула, и я вижу ее плавник в ценах акций, когда рынок катится ко всем чертям… Вы меня слушаете? Пожалуйста, не бросайте трубку! Алло?»
Да. Это не сработает. А если бы и сработало, что они могут сделать? Так я сам рискую запустить обвал, пытаясь его предотвратить.
Так что в ближайшие несколько минут я должен решить, кому жить, а кому умереть.
Пять фондов. С разными целями, ограничениями и подходами. Но все богатеют на моей безумной интуиции, набирают силу, конкурируют друг с другом. Я могу спасти три, может, даже четыре, но одному придется пойти на дно. Один должен умереть. Сочетание моих ходов точно кого-то погубит. Сегодня музыка денег в мире остановится, и кому-то не хватит стула. Вопрос – кому? В конечном итоге особого выбора нет. Первоначальный фонд не укладывается. Остальные лучше совместимы, у них похожая философия, хоть и разные активы, и мои новые клиенты – из Пантеона. Нельзя сливать Пятнадцать Сотен. Просто нельзя. Да они сами могли это подстроить, чтобы посмотреть, какой я сделаю выбор. Кажется невероятным, что правители мира угробят всю экономику на год, только чтобы проверить одного человека? Это потому, что ты не один из них, а принадлежишь к другому виду. Ты не из Пятнадцати Сотен; ты не просто другой, тебя практически не существует.
Так что я сбрасываю Мегалоса в самую глубокую пропасть, какую могу найти. Пусть мой первоначальный фонд пойдет купаться. В серной кислоте. Он ведь человек божий: бедность спасет его душу. И тут я понимаю, что вот-вот вознесусь на небеса. Скоро я перестану быть советником господ мира. Я стану одним из них – и, вероятно, окажусь почти на самой вершине.
Я звоню остальным своим клиентам, одному за другим, и предупреждаю их о том, что скоро произойдет, чтобы они могли обезопасить другие свои вклады и найти укромную гавань на время шторма.
* * *
Новости приходят через час. Я слушаю радио, чего уже почти никто не делает. События происходят медленно и спокойно, будто все только и ждали этого момента. Очередной банковский кризис? Тю. Ну и что? И так хуже некуда. Мы знали, что больше невозможно поддерживать британский жилищный пузырь. Опять. Мы знали, что продовольственные бонды – дерьмовая идея. Опять. Мы знали, что китайцы подпирают доллар, но не могут делать это вечно; что курс жэньминьби [9] по-прежнему искусственно сдерживается, а Конгресс опять увеличил кредитный потолок. Мы знали, что наши ошибки никуда не деваются, и что плывем в тазу, в котором все больше дыр, и что латки рано или поздно утянут нас на дно глубокого синего моря. Вопрос был лишь в том, какой именно идиотский, трусливый выбор запустит катастрофу. Но мы не понимали – даже я – при всех своих знаниях, что эта финансовая лажа означает что-то конкретное, практическое. Полгода назад правительство наконец приватизировало систему водоснабжения в Греции. Теперь выясняется, что купившие ее компании не могут заплатить рабочим или оплатить счета за электричество для опреснения и очистки. С сегодняшнего дня подача воды будет нормироваться: из крана удастся набрать только ничтожный объем на человека. И нет никакого способа проконтролировать затраты по дому или даже на одной улице. Кому придется доверять, зависит от случайного рисунка труб под асфальтом, от сети, которая знать не знает о социальном положении, классовых привилегиях и богатстве. В другом, лучшем мире это стало бы – хо-хо-хо – водоразделом для всего города и даже страны. Мы объединились бы. Люди заговорили бы о том времени, когда афиняне пили братчину сто лет подряд, и мы стали бы новой, цельной нацией. Но это был бы мир без телевизионных ток-шоу. Ведь их слюнявые мечты не интересуют. Они выбирают самых злоязыких и едких ребят, а потом сажают вместе на голубой диван. Отличное телевидение стоит на потасовках и подстрекательстве к беспорядкам. «Это вы, дрянные иностранцы, воруете у нас воду!» Заметка: надо скупить все станции, которые выставят на продажу, и уволить к чертям всех продюсеров.
Некоторое время все работает, как оркестр на «Титанике». Магазины выставляют свои запасы минеральной воды в картонных подносах, и люди их раскупают. Я пытаюсь купить весь запас, чтобы раздать другим, но менеджер мне не разрешает. «Если я все раздам, – говорит он, – люди подумают, что остальное тоже бесплатно, и явятся парни из плохих районов». Пожалуй, мне слегка стыдно за то, во что я вляпался, но откуда мне было знать. В очередях к оптовикам, где можно купить большие бутыли для офисных кулеров, люди приветствуют друг друга с вежливостью жертв нашествия инопланетян и ждут вестей о том, что все их сбережения пошли на дно вместе с каким-нибудь банком или, наоборот, им повезло приземлиться на крепкий камень посреди потока. Я мог бы им рассказать. Но молчу.
Я понимаю, что оказался здесь в силу привычки. Мне не нужно ничего такого делать. Нужно разобраться со своим новым миром, временно переселиться, но я в ловушке, наблюдаю со стороны за собой и своей страной. Я слишком увлечен зрелищем, чтобы занять пустующий трон. И вряд ли я когда-нибудь вернусь сюда и пойму что-нибудь, если вознесусь сейчас. Это последние мои часы в рядах обычного человечества. Они бесценны.
И удивительны. Приближается миг бунта, день хаоса. Мы все чувствуем, что беспорядки ждут где-то там, за холмами. Будто прогноз погоды: сегодня – ясно с обширными банкротствами, вечером – дождь; завтра – надвигается зона высокого давления, обильные дерьмопады, а на выходных – уличные беспорядки и горящие машины.
В разговорах со знакомыми из финансового сектора я вру, что тоже обеспокоен. Говорю, что нестабильность касается всех, сверху донизу, но на самом деле, когда туман развеется – если только мир не скатится в каменный век, а если и скатится, до некоторой степени тоже, – я окажусь даже богаче, чем был в начале катастрофы. У меня больше не будет работы в банке, но это меня не обеспокоит, потому что к тому моменту я стану сам владеть банками. Может, я куплю банк, на который сейчас работаю.
По очереди обмениваясь с товарищами дружеским ворчаньем, я вижу на их лицах тревогу. Они пришли сюда не для того, чтобы завести новых друзей или купить воды. Они изучают противника.
Вернувшись домой, я пакую чемодан.
Я все время жду, что придется сбрасывать звонки Мегалоса, мне даже запоздало стыдно за то, что ему и его святому ордену придется пожить в апостольской простоте и бедности, но он не пытается со мной связаться. Наверное, бросился на борьбу с кризисом, или его сместили, а новый босс ордена бл. Августина и св. Спиридона – настоящий христианин, набожный старик, только рад возможности повести свою паству обратно на божьи поля и трудиться во славу Господа. Настоящий бум начнется в секторе благотворительности. Почти всем к югу от Милана она потребуется, и всем к востоку от Цюриха. Любопытно, что Исландия справилась неплохо. Одно точно можно сказать об исландцах: они быстро учатся.
В международных новостях: Красный Крест призвал создать сеть продовольственных банков, а левая коалиция во Франции требует национализировать энергокомпании и всю транспортную инфраструктуру. Это очень плохая мысль с точки зрения сообщества финансистов и того, как они будут впредь относиться к Франции, но довольно хорошая с позиции спасения такого количества французов, сколько удастся спасти до конца зимы. Может, чокнутые коммунисты просто чуть раньше остальных поняли, насколько все будет плохо. Конечно, некоторые мои бывшие коллеги резко высказываются по этому поводу. Они еще не осознали, какой уровень отчаяния вызовет катастрофа, и твердят о том, как с гордостью выйти из затруднительного положения. Они скоро выйдут из дома, а на улице будут ждать люди, которые разожгут костер из их «Мазерати» и зажарят на нем их подстриженных собачек, чтобы потом съесть.
Наверное, я полечу на Багамы. Список стран, которых слабо коснется катастрофа, не велик, и почти ни в одной из них нет хорошей кухни и доброго вина. Куда длиннее список стран, куда в обычных обстоятельствах совсем не стоило ехать, но кризис их не коснется, или они его просто не заметят в череде прочих кошмаров. Я не собираюсь обращаться за видом на жительство в Норвегию, и я не хочу лететь в Афганистан, Колумбию или Западную Сахару.
Впрочем, я слегка одурел в квартире. И слишком долго не спал – это меня подводит, поэтому принимаю плохие решения. Нужно прочистить голову. Раздумывая, какой остров лучше, я отправляюсь на ежедневную пробежку. У меня есть личный тренер, Грант, и он из той породы американцев, которые живут по принципу «умри, но сделай». Он, наверное, просыпается утром, делает сотню отжиманий, выпивает огуречный шейк с морской травой и дозой бычьей спермы, а затем отправляется на короткий марафон. И кури в сторонке, Фидиппид, – для него это разминка. Он каждый год участвует в соревновании под названием «Ледвилл Трейл» и проходит маршрут до конца, что, судя по всему, удается немногим, а если постарается, приходит к финишу в первой тридцатке. Наверное, если я поеду на Багамы, нужно взять его с собой. Это, конечно, как брать с собой власяницу и вериги, но что поделать – нужно – значит нужно.
Грант задал мне домашнюю работу. Каждый день, когда мы с ним не встречаемся, я должен пробегать определенное расстояние. Если я не буду этого делать, не смогу выдержать его нагрузки, а они серьезные. И каждый день надо фиксировать время. Понятия не имею, с чего я взял, что это хорошая мысль, или сколько мне стоит эта мука, боль и тошнота, знаю только, что представитель моей страховой компании утверждает: это добавит мне десяток лет жизни и снимет несколько тысяч со страховых премий по моим договорам. Ладно. Должен признать, что я и вправду чувствую себя лучше, чем несколько месяцев тому назад.
Я бегу. Бегу полчаса, поворачивая куда придется, без особого маршрута. Выбираю трудные, крутые улицы, красивые улицы и те, что приведут обратно домой, а на тридцать пятой минуте слышу жужжание пчел.
Когда-то в детстве, еще в Фессалониках, я совершил ошибку и оказался слишком близко к рою. Пчелы меня не заметили, и я завороженно на них смотрел, а потом вдруг они меня заметили, и рой стал единой массой, которая поднялась, зарычала, потянулась ко мне руками и зубами, и я побежал. На этот раз, услышав гул, я сразу бегу, и, разумеется, одет для бега, так что укладываюсь в отличное время для парня, который, наверное, не слишком годится для той жизни, которую заповедал мне Грант.
Я слышу, что гул у меня за спиной усиливается, а потом слышу его и сбоку; думаю, что, наверное, чья-то пасека на крыше загорелась, потому что пчелы в ярости, и чую запах дыма, но это их явно не успокаивает. Как пахнет горящий мед? Улей горит как свеча, там же столько воска?
На перекрестке я вижу рой, но это не пчелы, а разгневанные люди: много, очень много людей. Не просто сзади и сбоку, а со всех сторон. Они собираются в этом маленьком пригороде Афин, где дома слишком красивые и дорогие. И я думаю: «Мать-перемать!» Потому что это случилось.
Если бы они знали то, что знаю я, разорвали бы меня на части и съели.
* * *
Я стою посреди улицы и будто снова на дайвинге. Всё точно так же. Я просто ничего не могу сделать и никуда убежать. Если толпа меня убьет, я труп, но я чувствую пустоту на запястье, где привык носить часы, и понимаю, что все было предвидено, предрешено. Богиня со мной. Моя богиня, от которой я не могу избавиться. Акула.
Толпа приближается, и я жду мгновения, когда стану жертвой. Я должен стать ее жертвой – наверное, заслужил это больше прочих. Может, остальные тысяча четыреста девяносто девять парней и больше, но я точно заслужил.
Однако, захлестнув, человеческий прибой меня проглатывает и даже обнимает. Какой-то мужчина предлагает пиво, женщина дает тряпку и приказывает намочить и повязать на лицо. Юноша у нее за спиной передает мне картонную коробку размером с пару теннисных шаров. «Лыжные очки! – кричит он. – Из маркета! Слава революции, брат!»
Ага.
А ведь я замаскировался.
Не слишком хорошо, но потому маскировка и сработала. Я бежал, так что весь покрыт потом и пылью. Мой спортивный костюм недорогой: штаны, кроссовки, старая футболка. Я – жирный, потный мужик в дешевой одежде и без часов. Я – один из них, может, даже менее удачливый, чем остальные.
Я иду с толпой.
Мне никогда не приходило в голову, что уличные беспорядки – своего рода община, но так и есть. Это спонтанная, самоорганизованная сущность с вполне определенными и очевидными границами, но отзывчивая и добрая. В середине много женщин, которые вышли поддержать сыновей и мужей. Не то чтобы они ничего не бросали и не ломали, но присматривают за своими мужчинами и разрешают споры, кому достанется та или иная часть награбленного. Там, где мужчины подрались бы, женщины поднимают крик, торгуются, толкаются, и каким-то образом возникает согласие, признаются долги, конфликт разрешается и толпа не обращается против самой себя. Но когда нас встречает полиция, матери превращаются в фурий. Одна седая старуха вырывается в первые ряды, вытягивает руки, царапает ногтями, срывает лексановое забрало с ближайшего, вырывает ему кусок кожи на щеке, так что ее приходится оттащить, прежде чем его товарищи ее схватят. Она вопит что-то о кровожадных ублюдках, ублюдках, ублюдках.
– Ее сын умер в полиции, – объясняет другая женщина.
– Они его убили?
– Он был наркоманом. Собственной блевотиной захлебнулся. Это было в… ох, не помню. До «Сладкой жизни» [10] еще.
Она пожимает плечами.
Ярость кипела три десятилетия и выплеснулась сегодня.
Полицейские идут в атаку. Толпа ее отбивает. Все происходящее обладает каким-то гипнотическим эффектом: пять футов назад, десять, потом назад. Уже двадцать назад. А теперь – десять, десять вперед. Люди падают на землю; кровь, крики. Поднимаются и опускаются резиновые дубинки. А потом перестают.
Прибыла тяжелая пехота – строители в красных тужурках со своими доспехами – мотоциклетными шлемами и прочными рукавицами. У одного из них в руках пневматический гвоздезабиватель, а за спиной висит баллон. Риторическая пауза.
И начали.
Чой-чонк! Чой-чой-чой-чой-чой-ЧОНК!
На полицейских вырастают железные шипы. Толпа идет в наступление. Крики: «Мы – спартанцы! Сдохните, свиньи! Защитники политиков, банкиров и иммигрантов!» Люди в толпе не во всем согласны друг с другом, но они точно знают, кого не любят. Полицейский кордон разламывается, и толпа идет дальше. Никому не интересно задержаться и помучить полицаев. Препятствие преодолели, дальше. Рядом кто-то на радостях поджигает машину. Это «Бентли». Я знаю человека, которому она принадлежит, австрийца, претендующего на какой-то наследный титул, но не добившегося признания в судах родины. Пламя серо-оранжевое, с перламутрово-серебряным отливом, что говорит о вредной химии. Это новая фаза – фаза поджогов. Толпа обновляется. Она омывает меня, несет в своем потоке. Что делать? По краям пылают бензиновые костры.
Через двадцать минут Афины в огне.
* * *
После происшествия с гвоздезабивателем прибывает полицейский отряд особого назначения, а с ними – военные. Можно было бы ждать, что тем дело и кончится, но их появление только подлило масла в огонь. Полиция применяет слезоточивый газ и водометы. Толпа огрызается в ответ. Образуются промежуточные пункты, открываются новые фронты. Часы текут, словно в лихорадке; тысячи маленьких битв кипят на сотне перекрестков. Толпа разбухает, рыщет, беснуется, поджигает. Иногда она будто хочет уничтожить дома богачей и перевернуть машины. Иногда просто смотрит. А потом вдруг движется на площадь Омония, а оттуда – в бедные кварталы, бурля от ненависти. «Наркоманы! Иммигранты! Бомжи! Педики, шлюхи, леваки, воры! Валите отсюда! Валите в свою Россию! Валите обратно в Эфиопию и Египет! Тут нормальные люди! Без вас заживем!» Как это произошло? Как мы вообще так быстро попали сюда и нас никто не остановил? Это что там, полицейские ботинки? А впереди – военная стрижка? Ну, конечно. Даже у полицаев есть чувства, верно? И политические взгляды. Это день протеста, или, говоря более традиционно, День Хаоса. Кто был ничем, тот сегодня стал всем и упился этим в хлам. Когда в городе царствует толпа, каждому достается кусочек.
Я ни к чему не прикасаюсь. Я ничего не бросаю и не краду, никого не бью. Меня несет поток внутри звериного тела. Все мне улыбаются и радостно приветствуют. Я – брат, свой, потому что я с ними и не возражаю.
Меня тошнит.
Мы рыщем, громим, поджигаем. Мы бьем. Внешние конечности делают всю грязную работу, но тело зверя – это балласт, убежище, поддержка. Даже просто как часть потока я до некоторой степени виновен. Я не взываю к разуму и терпимости, потому что мне страшно. А потом меня каким-то образом выплевывает в маленькую группу уставших людей, которые идут домой, будто с работы, и все очень вежливы. Мы смену отработали, до встречи завтра, побьем еще окна.
Мой маленький отряд разделяется на перекрестке. Я не рискую идти прямо домой: ни один честный революционер не возвращается в квартиру в Глифаде. Сижу на крыльце и смотрю, как они скрываются вдалеке, а потом сам не замечаю, как погружаюсь в сон, уперев голову в каменную стену.
Я просыпаюсь от холода, – все тело затекло. Понятия не имею, который сейчас час, но уже темно.
На улицах стало чище, в том смысле, что основная мощь разрушения переместилась в другое место. Никто не пытается восстанавливать порядок. Я иду по своей улице в дыму горящих высококлассных автомобилей и слушаю треск, с которым ломается мир. Мой дом не горит, хоть и горел. Разумеется, тут побывали пожарные, и они не экономили воду. Драгоценную воду, которой будет не хватать завтра. Толпа слила в канализацию Афин то, чего требовала. Ведь проще было бы, если бы пожарники просто разлили эту воду по бутылкам и раздали? Но, наверное, «Perrier» и «Evian» сумели заблокировать этот ход на государственном уровне. Может, об этом мы и говорим, или мои коллеги в банке нашли последнее утешение в том, чтобы пополнить свои маленькие (очень маленькие) пенсионные фонды. Потому что они стопроцентно не будут на меня работать, когда я куплю этот банк. Большинство из них и сейчас не должны там работать, потому что ни черта не умеют и не понимают. Но, увы, слишком мало людей разбираются в том, что делают, поэтому контроль качества просто никакой.
Мне в общем-то плевать, что дом подожгли, а потом залили водой. Там ничего особенно важного не было. Старый я. Прежний и чуждый. Не новый я. Я – Константин Кириакос. Что бы я ни потерял, куплю вдвое больше. Вдесятеро. В тысячу раз больше. Я все могу купить.
Поскольку меня никто не останавливает, я вхожу внутрь. Лестница покрыта скользкой жижей из сажи и воды.
* * *
Я снова начинаю собирать чемодан, а потом понимаю, что это не нужно. Вещи собирал бы прежний я. Мне нужны только важные вещи, те, что существуют лишь в одном месте. Я наклоняюсь, чтобы забрать семейную фотографию с прикроватного столика, и слышу, как открывается входная дверь. Голос говорит:
– Эй, Константин Кириакос!
Я поворачиваюсь – это девушка.
Высокая, стройная. У нее очень белая кожа, черные волосы и очень темные глаза. Она смотрит не отрываясь. Эти глаза впитывают меня, будто я сделан из воды, а она – пустыня. Она очень красива. Ничего удивительного, что я уставился на нее после того, как она вошла в мою квартиру в черном костюме и произнесла мое имя. Это секс, просто секс, и тот факт, что, когда я ее видел в последний раз, мне привиделось, что у нее акульи зубы. Я так и не узнал, как ее зовут, и не разговаривал с ней хотя бы минуту, иначе запомнил бы.
Тут нечего запоминать. Это иллюзия, обман зрения.
Мать. Ладно. Она похожа на Стеллу.
Стелла умерла от рака, нелепо. Она пришла к врачу и сказала: «У меня болит голова». А тот посмотрел ей в глаза, спросил про проблемы с равновесием и вспышки по краям поля зрения, а она ответила, что да, такое иногда бывает, и он ее направил на рентген. Тем же вечером она оказалась в больнице, ей сказали, что у нее рак, и она позвонила мне. Но прежде чем я успел доехать, у нее случился удар, она умерла – и всё. А я ее любил, тоскую по ней и всегда буду тосковать.
Это не Стелла, потому что Стелла умерла.
Эта женщина похожа на нее, но она на десять лет старше Стеллы, когда та умерла. Столько ей было бы теперь. Она стройнее, спортивнее. Это развившаяся Стелла, повзрослевшая, изменившаяся, но все же та самая. Будто сестра – родная или двоюродная. Или незнакомка, но поразительно похожая. Они могли бы столкнуться на улице, рассмеяться и подружиться.
Моя Стелла.
– Привет! – говорю я.
Нужно ведь что-то сказать, когда твоя мертвая бывшая девушка входит в твою квартиру сразу после того, как ты отправил под откос экономику.
Я не хочу спрашивать, что она делает в моей квартире. Вдруг я ее сам пригласил? Она не здоровается в ответ, так что между нами повисает молчание. Что ж, храбрость, приди мне на помощь.
– Я уезжаю из Глифады, потому что вся страна скоро пойдет ко дну, а я стал богаче почти всех остальных людей в мире, но понятия не имею, что с этим делать и нравится ли это мне. Важно, что я направляюсь в аэропорт, где сяду на самолет – или куплю самолет, если у них есть готовый к вылету, – и улечу в какое-нибудь шикарное место. Не хочешь полететь со мной, чтобы валяться голышом на пляже и много, грязно заниматься сексом?
Она громко смеется, и этот смех неласковый, но я его внезапно узнаю и понимаю, что ошибся. Она смотрела на меня не потому, что обожает. Эмоция на ее лице не мягкая. Глаза широко распахнуты, потому что она хочет увидеть мои мучения или… чего она хочет? Владеть мной, как владеют мясной коровой. Она дрожит, потому что ненавидит меня. На каком-то фундаментальном уровне, который она даже не полностью осознает, Не-Стелла думает, что я – самое уродливое создание, которое она видела в жизни, худший человек в мире. Она ненавидит меня и хочет причинить мне боль – это очень личное. А потом кто-то толкает меня в спину, и я неуклюже выпадаю из спальни, а когда падаю и тянусь к ней за помощью, она делает шаг в сторону и надевает мне на голову мешок, а к мешку снаружи прикладывает подушечку с каким-то препаратом, пахнущим как соло на тромбоне и разорванная волынка. И я вижу круг теней, словно вход в очень противный ночной клуб.
– Иерофант, – говорит снаружи мешка девушка, похожая на Стеллу. – Ты принесешь нам богиню. Хватит Греции разрываться на части!
«Вот отстой».
Я погружаюсь в черную воду. Там темно, тихо, но я не один – никогда больше не один.
Неэффективная стратегия
Инспектор приходит в себя и чувствует запах антисептика и больничных простыней. Ей неудобно и хочется пить. Она понимает, что надо утолить жажду, но коварный сон захватывает ее врасплох ровно в ту же секунду. Рука сжимается, но не отрывается от подушки. Подходит медсестра, проверяет показатели жизнедеятельности и удовлетворенно кивает. Нейт пытается заговорить, но во рту у нее пересохло, язык распух.
На пластиковой полочке у кровати, кроме стакана с водой и какого-то терпкого леденца, оказавшего успокоительное действие, находятся и ее очки. Она щелкает один раз, чтобы разбудить их, затем еще дважды, чтобы включить аудиорежим, и чувствует, как крошечный наушник выдвигается, чтобы легонько коснуться кожи внутри ее уха. Это специальная модель для офицеров Свидетеля, используемая в ряде критических ситуаций, в том числе тех, когда разговаривать нежелательно. Нейт нужно только сформировать слова так, как она произнесла бы их, и специальная программа считает текст по микродвижениям ее горла и губ.
«Невозможно, – слова толком не получаются, но это и не важно, ей просто нужно сказать: „Кириакосу не место в голове Дианы Хантер“. – Как?»
Машина начинает говорить в ее голове, используя голос, выбранный в настройках: нейтральный мужской тенор, очень тихий и настолько невыразительный, что звучит бесстрастно и пусто – как машина, а не страстный любовник, который шепчет на ухо романтические глупости. Нейт вспоминает, что когда-то читала о ранних экспериментах с аудиоинтерфейсами: немецкий производитель перебирал разные голоса для навигатора, чтобы угодить клиентам. Бодрым менеджерам из Рейнского бассейна не понравилось, когда машина обращалась к ним голосом старшего мужчины. Тогда компания попробовала ласковый женский голос, но он угодил водителям еще меньше. Будто с ними нянька носится. Сладострастный тон прочли как издевку, профессиональный – как назойливость. В конце концов стало понятно, что важен не тон, а человечность голоса. Машина должна была однозначно и недвусмысленно звучать «машинно».
– Нарративная блокада. Вам не следует сейчас работать.
– Я пришла в себя. Я хочу работать. Что такое нарративная блокада?
– Неэффективная стратегия сопротивления прямому нейродопросу.
– Проясни.
Мерцание. Свидетель оценивает ее физическое состояние по ряду таблиц и схем.
– Вы быстро устанете и забудете. У вас легкое сотрясение мозга. Аналитическую работу лучше отложить.
Это не прямой отказ, но разумное предложение. Есть более насущное дело, которое может пострадать от задержки.
– Поиск, последние изображения. Полный файл.
Снимок Лённрота, который она сделала в доме Дианы Хантер.
– Ничего не найдено.
– Что?
– Качество изображения недостаточно высокое для анализа.
У нее перед глазами возникает обычная человеческая голова, покрытая точками и полосками.
– Система опознавания использует сетку трехмерных контуров.
В воздухе возникает фотография, лицо Лённрота. Оно легонько дрожит и превращается в черно-белый узор, похожий на пятна Роршаха.
– В данном случае уникальный источник изображения содержит мало трехмерных деталей. Проблема в низкой освещенности и очень сильной бледности кожи объекта. Для решения нужны дополнительные изображения.
– Проверь местность вокруг дома – до и после моего прихода. Окно – семьдесят два часа.
– Ничего не найдено. Камеры в этом квартале часто портятся. Дети.
– Хулиганство.
– Вариант игры в баскетбол. Возможно, Диана Хантер поощряла такое поведение.
– Можешь экстраполировать? Худое лицо, андрогинное, хорошо за тридцать.
– Да.
Возникает карта страны, покрытая сигнальными значками.
– Найдено приблизительно семь миллионов совпадений.
– Перекрестные ссылки, имя: Регно Лённрот.
– Ничего не найдено.
Она вздыхает:
– Сохрани запрос и уточняй его в процессе. Дай мне значение и контекст.
– Лённрот (Lönnrot), общие и предварительные результаты: буквальное значение «красный клен». Государственный герб Канады, символизирует практичность и обновление. В некоторых регионах Юго-Восточной Азии связывается с любовью и романтическими отношениями. Наиболее известный человек с такой фамилией: Элиас Лённрот, финский врач и фольклорист, собиратель и составитель эпоса «Калевала», структура и содержание которого, предположительно, повлияли на успехи Финляндии в области современного цифрового дизайна. Так же Эрик Лённрот, выдуманный детектив, которому противостоит неожиданный противник. Регно (Regno) – необычное использование. По-итальянски – существительное, означающее «царство». На латыни – глагол в настоящем времени первого лица, значит «править, управлять». Слово не используется в качестве имени, поэтому грамматический мужской род не обязательно указывает на гендер носителя. Возможно, прозвище, титул или звание. В последнем случае это может быть религиозный или церемониальный сан, указывающий на высокое положение в иерархии, хотя некоторые христианские и другие религиозные ордена обычно связывают высшие посты с идеей подчиненности и служения. Таким образом, «регно» может означать уровень послушника или иницианта.
– То есть, проще говоря, «понятия не имею». Перекрестные ссылки: Диана Хантер.
– Не найдено связей с: Хантер, Диана.
– Перекрестные ссылки: Огненные судьи. Историческую часть опустить.
– Не найдено связей. Огонь, пожар – могут в некоторых случаях обозначать нечто срочное или чрезвычайную ситуацию. Часто связывается с идеей очищения и разрушения, но также (в случае птицы феникс) с идеей возрождения. Таким образом, «Огненные судьи» могут выступать как провозвестники нового начала или кризиса.
– Или просто «отличные, замечательные». Судьи – огонь.
– Такая интерпретация тоже возможна, – соглашается Свидетель. Отсутствие интонации придает его заявлению ироничный оттенок.
– А группа такая есть? Музыканты? Проверь все заведения на набережной Темзы.
– Я проверил. Такой группы нет.
Нейт всегда тревожит это «я» – не потому, что оно указывает на пробуждение компьютерной личности, а потому, что не указывает. В китайской комнате никого нет. Нет бога в машине, лишь очень сложная картотека. И машина не должна делать вид, что обладает сознанием.
Вскоре Нейт понимает, что перестала задавать вопросы, и засыпает. Внутренний полицейский требует продолжать расследование, но телу удобно, оно устало. Машина была права: сотрясение мозга – утомительная штука. Она укладывает голову на мягкую подушку; наволочка приятно грубая, с пола доносится запах обеззараживающего средства.
* * *
– Звонок Табмену.
– Вам по-прежнему рекомендуется отдых.
– Я встану и начну делать упражнения по аэробике.
– Это не рекомендовано.
– Звонок Табмену.
– Соединяю…
Она фыркает и ждет, пока Табмен снимет трубку. На это уходит больше времени, чем у большинства других людей. Частично потому, что Табмен выключает свой терминал, когда работает, и частично потому, что он, как человек с паяльником и горелкой, терпеть не может спешку.
– Алё?
– Табмен? Мне нужен твой мозг. Сможешь?
Нейт могла бы обратиться к Свидетелю, и тот изменил бы график Табмена. Как и у самой Нейт, рабочее время Табмена принадлежит Системе, а если бы и не принадлежало, у этого дела высокий уровень приоритета. Табмен не возражал бы, если бы она просто отредактировала расписание в календаре и отняла столько его времени, сколько считает нужным, но именно поэтому Нейт чувствует, что важно спросить разрешения.
– Всегда готов поиграть Уотсона для своего любимого детектива, – отвечает он. – Ты же знаешь.
– Ты не занят?
Табмен громко фыркает.
– Господи боже, Мьеликки, не неси чепуху! Буду рад помочь. Но, – добавляет он, когда Нейт готова опять рассыпаться в извинениях, – не пытайся по этому поводу кокетничать. Ненавижу кокетство.
Ей приходится пообещать немедленно приехать; они оба знали, что так и будет. В следующую секунду на терминале открывается боковая панель, и Нейт видит, как расписание Табмена очищается до полудня. Каждая отмена сопровождается тихим звуком, вроде вежливой отрыжки. Вместо разноцветных заданий – доставка, техподдержка, еженедельный сеанс управления, даже такой нужный ему перерыв в одиннадцать часов – Свидетель растягивает одну серебристую полоску с ее именем. Табмен косится в сторону, явно видит то же самое и морщится.
– Я принесу кофе, – говорит Нейт и видит, как он некоторое время пытается подобрать слова, чтобы запретить ей делать это самой. – Из кафе на углу, – добавляет она.
– Спасибо большое, – соглашается Табмен.
Голова раскалывается, и она позволяет себе минутку беззвучной слабости. Ой, ой, ой.
– Вы быстро устанете, – говорит машина. – С точки зрения состояния здоровья, вам лучше провести в больнице еще хотя бы один день.
– Это важное дело.
Свидетель не отвечает, но через некоторое время приходит медсестра и сообщает, что инспектора ждет машина.
* * *
– Ма-атерь божья! – искренне ахает Табмен, когда видит Нейт. – Я слышал, но масштабов себе не представлял.
Не глядя, он толкает к ней кресло. Оно катится по полу рабочей комнаты и останавливается рядом с Нейт. Она могла бы сразу сесть, но демонстративно катит кресло обратно и вручает Табмену кофе, а потом смахивает пыль, прежде чем опуститься на черное пластиковое сиденье.
Табмен – техник, и он не настолько квалифицирован по бумагам, чтобы объяснить, как работает допросная установка, но у него есть дар ясности мысли, который не раз оказывался для нее незаменимым, особенно в деле, где объект был так травмирован произошедшим, что запись его сознания оказалась непригодной. Таких ремонтников прежде называли «гайкокрутами», а теперь – «отражателями»: из-за характерной рабочей робы. Он – человек, который будет лазать в люки и шахты, чтобы чинить технику, по мнению начальства, стоящую выше его понимания, но на данном уровне знающий ее лучше и ближе, чем начальство. Сам Табмен не так уж много времени проводит в вентиляционных трубах, но частенько становится на колени и копается во внутренностях неимоверно дорогих консолей, чтобы найти отошедший провод, заменить погрызенную мышами проводку и покритиковать неправильно проведенное нейрохирургическое вмешательство с долгим опытом человека, которому потом придется всё это чинить. В широкой перспективе его работа связана с падающей мощностью сложного оборудования, которое плохо себя ведет. В полном соответствии с традицией IT-самоучек, у него нет кучи дипломов, но он вносит свой вклад в окончательные показания профессиональных техников и врачей.
– Ну, рассказывай, – говорит Табмен. – Что ты мне принесла?
– Нарративную блокаду.
Табмен морщится:
– Это плохо заканчивается.
– Почему?
– Ну, процесс занимает больше времени. И пациенту неприятно. Но ничего, по сути, не меняется; машина справится и так и эдак. Пройдет всю линию до конца и нащупает нитку, ведущую к реальной жизни, только подбери ее. Задержка на час, и пациенту приходится напрягаться. Ну и говорят, что прибраться потом – нереально трудно, полный хаос. Но это, по идее, не мое поле – серое вещество. Я же по силикону мастер.
От этих слов Нейт просто отмахивается:
– А как насчет непреднамеренного воспроизведения имплантированных воспоминаний?
– Чего?
– Я была без сознания. И просмотрела здоровенный кусок за это время.
– Ага, понял. Да, так бывает с большими файлами. Тут волноваться особо не надо. Птенчик чуть досрочно вылупляется, только и всего.
Нейт представляет себе эту картинку и решительно выбрасывает ее из головы.
Табмен пожимает плечами:
– Не бойся: вряд ли это снова произойдет. Пришли мне запись, если хочешь, я посмотрю. Тут как с запорным клапаном и давлением. Только давление не настоящее, конечно. Они ведь, по идее, должны прокручиваться, верно? А если ты о них не думаешь, выцветают, как любые другие воспоминания, так что и тебе, и им надо промотаться быстрее. Срочно. Так что… вот с тобой, в частности, такое может случиться.
– Почему именно со мной?
– Тебе ведь все надо сейчас и срочно, да?
Нейт возмущенно смотрит на него, но Табмена взглядом не смутить.
– Ладно, – говорит инспектор. – Если бы у тебя спросили, кто у нас лучший спец?
– Как по мне, Ваксберг в полузащите. Он создает возможности.
– Таб!
– Мьеликки.
– Таб.
– Мьеликки?
– С кем мне поговорить про нарративные блокады и потенциальные последствия? Кто впереди планеты всей?
Табмен пожимает плечами.
– С начальством и профессурой. Верлан был хорош, он сейчас в доме для престарелых. В университете есть Пахт, она жесткая и стервозная. Тебе нужен кто-то, кто не будет юлить, а скажет как есть… – Он вздыхает и явно уступает сам себе в каком-то внутреннем споре. – Есть один надушенный джентльмен по имени Смит – гладкий, словно бритый хорек. В сети говорят, он сейчас на взлете, а завтра будет большой человек.
– Смит, – включается терминал. – Имя: Оливер. Директор по приливным течениям в Дорожном трасте.
Она не уточняет значение терминов. Смит ей сам объяснит, своими словами.
– Ты его знаешь?
– Бывал в его присутствии, но мы не разговаривали по-человечески. Мистер Смит не удостаивает вниманием немытых и груборуких работяг. Он человек возвышенный.
– Но хорош.
Табмен соглашается, что если брать начальство, то да, если хочешь кого спросить, то его спрашивай.
– Спасибо, – говорит Нейт.
– Да не за что. Иди и расследуй, крошка. А кому-то надо и настоящую работу делать.
* * *
Нейт запрашивает встречу с Оливером Смитом. Свидетель организует ее на следующий день, хотя расписание Смита непросто отменить и переписать, как график Таба, даже для высокоприоритетного внутреннего расследования. Нейт заранее посылает вежливую благодарность «надушенному джентльмену» и возвращается домой, чтобы отдохнуть. Свидетель опять прав: она измотана. Голова будто в три раза тяжелее, чем надо. Нейт пьет воду, много воды, принимает лекарство и ложится спать.
Внутри – без спросу и согласия – продолжает раскрываться допрос Дианы Хантер: странное семечко прорастает в глиняном горшке.
Деревянное яйцо
На равнине Эреба, в царстве Гадеса, рядом с черной и безводной рекой Стикс я видела ведовской сон и обрела тайный гнозис: познания и беседу с демоном. Он взошел из подземных переходов и говорил в душе моей, словно ночное предчувствие смерти. Голова у него была человеческая, грудь – павлинья, а лицо его укрывали тени – тени здесь, где нет солнца, в стране, имя которой «тьма». Я поняла, что не боюсь, потому что знаю его тайное имя. Магия – это призыв имен, как чудеса суть деяния веры, а технология – применение разума к камню. Имена людей подобны мешкам, в которые мы складываем частички себя, но имена дженнаев – это приказания, обращенные к миру, и дженнаи должны им покоряться, как воды покоряются луне.
– Душа Адеодата рассечена на пять частей, – сказал демон, – и ни Бог, ни все Его ангелы не могут ее получить, ибо она пребывает в царстве, отделенном от Него, и брошена на воды океана, именуемого Апейрон, куда Ему путь заказан. И не может свершиться метемпсихоз, даже в тело наименьшего из животных. Прах нельзя стряхнуть, ибо душа разорвана и неполна. И каждой частице остается лишь дрейфовать по океану да искать прибежище во всяком лоскутке материи, пока ее не возвратят и не воссоединят.
Адеодат – мой сын. Демонам тоже известна чародейская сила имен, и этим именем можно призвать меня. Во сне я отдалась разгадыванию загадок, сдержав таким образом слезы.
Пять – священное число последователей Пифагора. Два есть жена, а три – муж, оттого пять – это брак. Число четыре, которое определяет треугольную в гранях пирамиду, простейшую из трехмерных фигур, позволяет размечать пространство, но добавь к четырем лишь один элемент – Единое, которое есть начало всему, и получишь пять. Пространство и божественность: пять – это их величайшая загадка, ибо так определяется иерогамия [11], соединение божественного и материального, порождающее смертность и течение времени. Пять – это также число сокровенных покоев Пентемиха [12], в которых, как хорошо известно в нашей синкретической империи Рима в Африке, Юпитер Ахура-Мазда сокрыл семена нового творения, на случай, если Ангра-Майнью уничтожит теперешнее. Пять книг в Торе, пять пальцев на Руке Мириам; пять стихий и пять ран Христовых, из которых проистекают пять рек царства Аида, и пять злых ангелов, стерегущих эти потоки, покуда они наконец не впадут в нижний океан, чтобы вновь вознестись у истока. Богиня сразила пятерых демонов и сотворила из их шкур плащ, отводящий клинки. Пять становятся одним: реки становятся морями, время – Богом. Что лежит под нижним океаном? Быть может, верхний. Быть может, мир замыкается сам на себя, подобно змею Уроборосу.
Если, конечно, верить в такие вещи, чего я стараюсь не делать. Алхимику не пристало верить. Алхимик производит испытанные процедуры и произносит слова, а претензии на всеведение оставляет жрецам и священникам. Им-то нипочем такие странные идеи, как рассеченная на пять частей душа.
Я услышала собственный голос, хотя не открывала рта, и он спрашивал, как можно исцелить раны моего сына.
– Никак, – ответствовал демон. – Это невозможно, но все же произошло, и потому не может быть отменено.
Я произнесла имя, высеченное глубоко в недрах, и камни Эреба поднялись и посыпались на узкие колени и перепончатые лапы, а в укрытой голубыми перьями груди сломались резные кости, так что демон завопил и зашипел. И вновь мой голос прозвучал вне меня и напомнил демону, что Эреб не потерпит лжи.
Тень упала на нас, и демон сжался, завертелся и пропал. Я подняла глаза и увидела огромный силуэт, заслонявший тьму. Он плыл, будто чудовищная рыба, в океане у меня над головой.
Помни имя – Эреб.
А потом, в Карфагене, широкоплечий мужчина, от которого пахло ржавчиной и по́том, надел мне на голову мешок и сказал:
– Опля, малышка, давай обойдемся без обидок!
И я проснулась, забывая, и взвыла от чувства утраты.
* * *
Я думаю, похититель приписал мои слезы страху, и мне становится стыдно.
Я не боюсь. Когда с моей головы снимут мешок, я кому-то устрою самую жесткую взбучку за всю его короткую римскую жизнь. Я не симпатичная девица, которую можно утащить посреди ночи под хихиканье и неискренние возражения и жалобы, – и вообще, ни одна женщина не обязана мириться с такой чепуховиной! А мне сорок два года – и я ученый человек, чтоб вам всем провалиться.
Спору нет: в годы учебы я бы, наверное, получила от этого море удовольствия. Даже проклятый Аврелий Августин пустился бы во все тяжкие, во времена, когда блудовал по полной. Додумайся он до такого, перебросил бы меня через плечо и уволок в какое-нибудь логово, подходящее для старого доброго пасторального растления, густое оливковое масло и терпкое красное вино, да так, что заметная его часть окажется в таких местах, каких добродетельная левантская олива и знать не знает. Кстати, кажется, он и вправду это придумал – если, конечно, то был Августин, а не кто-то из его предшественников, чье существование так его бесило.
Но теперь сын мой умер, и я предпочитаю менее буйный образ жизни. Женщина без мужа – вдова, дочь без родителей – сирота, но нет особого слова для меня, потому что такого не должно быть, или, наоборот, потому что такое происходит так часто со столькими женщинами, что даже отдельного упоминания не стоит. Он был моим сыном: мне не нужно слово, чтобы заключить в рамку то, чем я стала. Это чувство всегда со мной.
Поэтому я живу в посмертии. Серьезно, я много читаю и редко пью. Я учу, исследую и консультирую. Мне хорошо платят ученики, постигшие тайну Карфагена и понявшие, что им потребуется еще и настоящее образование в дополнение ко всему иному, что они здесь найдут. Я веду себя с достоинством ученого человека и собираюсь прожить в уюте и удобстве свои лучшие годы, а потом достичь почтенной старости. Я теперь вхожу в число наставников, и хотя мы иногда предаемся маленьким плотским радостям между собой, делаем это куда более сдержанно. Ужин при свечах, на который загадочным образом забыли явиться остальные гости, случайная близость и немного вина, чтобы расстегнуть застежку на тоге: взаимоприемлемое соблазнение, очень элегантно и по-римски осмотрительно. Никому не нужны театральные выходки.
Ох, боги и дороги, надеюсь, не один из моих коллег испытал приступ чесотки в промежности. Если за мной попытается ухлестывать какой-нибудь усохший козел, обряженный Дионисом, пока четверка красивых рабов и рабынь с рынка будут портить хорошую музыку, играя с завязанными глазами, я его, наверное, зарежу, то-то будет вони. Да, пырну ножом, как бродяжка из глухой деревни, какой я была, когда впервые попала сюда. Новакулу [13] я по-прежнему ношу при себе и измельчаю ею травы, но не забыла, как обходиться с ножом в более напряженной ситуации. Клинок есть клинок, а мой снабжен небольшим перекрестьем, чтобы пальцы не соскользнули, – на всякий случай.
Лезвием вверх – и резать, не колоть. Не забывать, что у тебя две руки и две ноги: нож может отвлечь внимание с тем же успехом, как и служить окончательным аргументом в споре. В первый момент целься в лицо. В крайнем случае считай, что это кошачий коготь, вспарывай швы на бьющей руке, когда нападающий попробует отстраниться. Если окажешься на очень близкой дистанции, бей во внутреннюю часть бедра и проворачивай, но, если можешь, не подходи близко: противник, скорее всего, окажется тяжелее и сильнее тебя, а крепкие мужчины очень любят пускать в дело весь свой вес.
Ладно, признаю, может быть, я слегка взвинчена. В прошлом была любовницей развратника и дебошира, который потом превратился в соискателя благословения Римской Церкви и ныне зовется Августином, епископом Гиппонским, а такие связи подразумевают политику. Все это осталось в прошлом; заложница из меня паршивая – с тех пор, как Адеодат сгорел на погребальном костре. «Огонь растворяет цепи», – говорил Августин. Ничья плоть больше нас не объединяет, ничто не приковывает его к грехам юности. Пусть ветер их уносит. Так и я поступила. У меня теперь другое имя, иная жизнь. Если меня отыскали и на веревке тянут назад сегодня утром, это работа очень изобретательного и трудолюбивого глупца, который сумел меня найти, но не понял, что в этом нет проку.
Если только сердце Августина не ближе к его вере, чем голова. «Пока же остаются эти три: вера, надежда, любовь, но самая великая из них – любовь. Стремитесь к любви и ревностно домогайтесь духовных даров, и особенно дара знать истину» [14]. Это было сказано по-арамейски, я перевела так хорошо, как смогла, и, согласитесь, тут немного места для разночтений. Но касается это, видимо, какой-то другой любви, не этой. Та любовь должна соответствовать высшему образцу, ей мало просто существовать и быть взаимной. И даже произвести на свет ребенка. Все это время я понимала эти слова неправильно: думала, любви дано благословение, а остальное вторично, но, похоже, любовь должна пройти строгий экзамен и получить одобрение совета. Это святая любовь, должным образом исполненная, чинная и направленная не на какую-то деревенскую девочку из Тагаста, умащенную маслом и с горящими благовониями в волосах, когда она забирается на тебя сверху, но на Бога, которому, видимо, не интересен секс. Зачем иначе оплодотворять девственницу с помощью ангела? Другие боги, боги прошлого, выбирали более прямой подход, но только не наш, только не в понимании Августина, хоть я и читала другие евангелия, не те, которые ему так нравятся, и в которых Отец и Матерь проявляли куда меньше аскезы в процессе зачатия. Вот так можно ошибаться в чем-то, что вроде несомненно. Что поделаешь? Он стал отдаляться от меня задолго до этого. Ему хотелось власти – не только над телами и префектурами, но над душами. Роковая ошибка. Или наоборот – моя роковая ошибка в том, что я этого не понимаю.
Ну хорошо. Меня тоже ничто не связывает с Августином, поэтому хватит его бреда. Хватит злобной Моники, его матери, которая меня всегда донимала дурными разговорами. Хватит неодобрительных взглядов от членов общины, разных наставников и писцов. Хватит зловонных северных городов; хватит с меня кораблей и морской болезни, хватит дурацких северных представлений о том, как пристойно одеваться, и проклятого снега. Хватит этого всего, туда ему и дорога. Ничего из этого в моей жизни не осталось.
Вечное мое горе – не осталось и ребенка, за чью смерть Августин – если и вправду есть на свете Бог, и ему есть дело до справедливости – проведет хотя бы некоторое время в аду, который мрачно описывает, в первую очередь, за то, что зачал его со мной. Адеодат умер в придорожном трактире, все благородные металлы и быстрые кони мира не смогли меня привезти туда вовремя, чтобы держать его за руку. Не смогли спасти его – потому что если можно мечтать о невозможном, почему не о двух невозможностях сразу? Почему не о множестве? Покажите мне лишь один раз, как обмануть законы судьбы, и я их завяжу такими узлами, что у вас голова закружится. Из этой гнилой нити я сотку рай, замкну мир сам на себя, прогну его так, чтобы он стал воистину славным, и само это слово вновь значило то, чем теперь лишь притворяется.
Невозможно было, чтобы я пришла к своему сыну в час нужды, и не по моей вине; так почему же слово «мать» углем обжигает мне грудь?
Мы добрались до места.
* * *
Думаю, с подавляющей вероятностью, если бы меня хотели убить, я была бы уже мертва. Но пока я просто сижу здесь, и во мне растет уверенность, что дело в другом – в чем-то, связанном не с Августином, а со мной. Они хотели бы убедить меня в обратном, эти отважные мужчины, которые силой стаскивают спящих женщин с постелей в предрассветные часы ночи, но важная деталь: мешок чистый. Да что там, он просто шикарный, никаких щепок, ни соломы, ни жучков. Но это и не шелковый клобук, так что эротические глупости можно отмести, по крайней мере, частично. То есть мешок – это именно мешок, но с намеком на… уважение? Или иначе: обычно они такими вещами не занимаются, поэтому пошли на рынок и купили новый мешок лично для меня. Каким-то образом я стала важной особой сама по себе, а значит, у меня есть основания торговаться.
Как интересно.
Разумеется, мне все это не нужно, чего бы ни касалось дело. Я ушла на покой и завязала не только с вагинальным кочевничеством, но и с политическими и религиозными интригами – не то чтобы я в них когда-то была серьезно замешана, но побывала на задворках жизни Августина. Мне все это никогда не нравилось.
Тише, девочка.
На некоторое время они оставляют меня – на довольно удобной кушетке с тонким покрывалом и мягкими подушками. Что-то здесь не так; дом, скорее всего, роскошный, но атмосфера нервная и взвинченная. Она ясно ощущается в напряженных, резких вздохах и перешептываниях. Никто не хочет, чтобы его заметили. Никто не хочет привлекать взгляд того, что явилось сюда. Может, мор?
В прошлом году мне довелось иметь дело с мором: демон поселился в колодце, или просто грязная вода и крысы. Это не важно. Я применила огонь, соль и молитву Иоанну Крестителю, именуемому также Иоанном Фонтом, который печется о ручьях и пресных источниках. В детстве я выучила песнь, которую поет его отрубленная голова на водах; известно, что она отгоняет меньших тварей Ангра-Майнью. Если есть такой инструмент, почему бы им не воспользоваться? По меньшей мере, никогда не слышала, чтобы мор усиливался от священных песнопений. Добавлю, что я заставила жителей истребить грызунов, осушить всю цистерну и выжечь досуха, выбросить пепел и заново ее перелиновать. Это не дешевое мероприятие, и они ворчали, но знаете что? Тот подход или иной, но сработал. Поэтому я столько прошу за свои услуги теперь. Я могу предъявить результаты.
А потом я снова внезапно чувствую страх, вспыхнувший будто фитиль свечи. Он возникает почти как рациональная мысль: может, в этом все дело. Или я стала осложнением в чьей-то большой игре, где ставками были провинции, недвижимость и подати. Нередко случалось так, что торговец сам отравил колодец, чтобы выжить людей с земли, а потом выкупить ее задешево. Но нет. Это неправда, просто дурной дух у меня за спиной. Приближается засуха. Кожу пощипывает. Разум сразу услужливо живописует армию муравьев, марширующую по мне – по мешку и под ним, по одежде и под ней. Муравьи. Пауки. Змеи. И что это за звук?
Фантазия разыгралась оттого, что меня грубо разбудили. Соберись, Афинаида, приближаются шаги, а значит, сейчас все начнется. Но еще раз повторю: что-то здесь не так. Что-то не выстраивается, подходит не с той стороны.
А потом – вжух. Мешка больше нет. Новакула в руке. Яркий свет. Большая комната, факелы, стража, много стражи.
Очень много стражи. Хм-м. Увы, придется отложить удар ножом до более подходящего момента. Крепкий мужчина, легионер, смущение на лице. Кажется, я узнаю эти плечи: он вынес меня прочь из дома. Я принюхиваюсь, но все легионеры пахнут потом и ржавчиной, по запаху их не различить. Он старается выглядеть пусть и не сконфуженным, но хотя бы профессионально равнодушным.
– Книги, – бормочет он. – Свитки. Вода и чай для тебя. Ждать долго не придется.
Я корчу разгневанную гримасу сварливой тетушки. Никакого эффекта. Похоже, у него есть свои сварливые тетушки. К тому же он даже симпатичный, а это размягчает сердце тетушкам. Поджатые губы необязательно подразумевают женщину, которая никогда не хотела впиться в грудь мужчины и тереться о него всем телом. Вовсе нет. Он примерно моего возраста и красив. В других обстоятельствах я бы не возражала против более близкого знакомства с его плечами.
– Мудрая, – шепчет он. – Так было нужно. Мы не могли рисковать, ты должна была немедленно оказаться здесь. Жди и прими этот день таким, каким увидишь.
Я узнаю этот тон. Так профессиональные солдаты говорят друг с другом, когда шутки кончились, а варвары почти ворвались в лагерь. Узнаю потому, что была в таком лагере несколько лет назад, и его осадили. Разумеется, мы победили.
Настоящая бойня. Завывающие скотоводы против железного когтя, ощетинившегося острыми клинками. Исход был предрешен, но именно потому, что солдаты относились к нему так, будто он не предрешен. К безмозглым козопасам они отнеслись с той же смертоносной учтивостью, что и к войску персидских Бессмертных. Они подготовили план битвы, заманили врага в ловушку, а затем раздавили двумя закованными в броню кулаками. Civis romana sum,[15] и славлю за это Бога. Рим по-прежнему силен.
Значит, такой подход и прямолинейность? В этом голосе я различаю рокот приближающегося дерьмопада.
Он видит, что я поняла, и одобрительно хмыкает, затем оставляет меня с… да, с книгами. Свитками. Текстами. Алхимическими, дорогими текстами. Возможно, запрещенными. Интересно, удастся мне стянуть некоторые из них в забытом мешке? Походный стол, походные стулья. Ни подушек, ни других кушеток, ни рабов-музыкантов: это уже неплохо. Но есть в этих книгах дурной привкус, направление мысли, которого бы я, по возможности, избегала. Это почти обвинительное заключение.
Опять дрожь. Будто мы в подвале. Откуда тут взяться ветру? Легионеры тоже его почувствовали и нахмурились.
В следующий миг является виновник моих злоключений.
Первая мысль: меня похитил какой-то совет, и это его секретарь. Мрачный человек в плаще и клобуке священника, но чахлый, анемичный: неимоверно высокий и худой как щепка, с такими же пальцами, так что он похож на лангустина. И запах у него подходящий: от него пахнет портом, рыбьими потрохами и чаячьим пометом. Отец Карась. Хитрый Карась, поскольку устроил недостойное доброго пастыря дело. Он из церкви Св. Петра Рыбаря, которая прежде была храмом Портуна, или я – гусыня. Добрый христианин наверняка, если, конечно, прикрыть глаза на неполное усвоение культов мелких языческих божков канонической церковью. И поскольку император Феодосий несколько лет тому назад сделал поклонение языческим божествам преступлением, это «если» довольно сомнительное и целиком зависит от настроения местного духовного владыки. В данном случае речь будет идти об Августине, и, хоть я до самой смерти не прощу его, не могу сказать, что он плохой пастырь. Ему глубоко противна нетерпимость донатистов – он сам бывший еретик, пусть и чувствует предписанное сострадание к страждущему корню этого учения. Августин готов проявлять дальновидность и смягчать своих врагов, чтобы добиться взаимного согласия. Как следствие, Карфаген и его окрестности прониклись куда больше христианским духом, чем иные поселения за пределами его епархии. По крайней мере, в моем понимании этого духа, но в то же время тут полно почти что ересей, каждая из которых добавляет свои апокрифы к истории божественного плотника. А может, правы странствующие орфики, и разные боги – лишь проявления и аспекты одного огромного и непостижимого существа, которое настолько недоступно, что у нас нет средств описать его иначе, чем добавляя новые и новые божественные грани. Возможно, Бог – это предмет с бесконечным числом ликов, которые можно узреть лишь частично с одной точки, но каждое из них может разглядывать нас со всех сторон одновременно. Это хорошо согласуется с наукой алхимией, где почти все является символом чего-то другого: кавалькада масок, скрытых масками; богов, явленных в стихиях, и геометрии, явленной в богах. Но хуже согласуется с учением Святейшего Отца в Риме, однако, вопреки его глубокому убеждению, Бог не прислушивается к его мнению. Хотя, полагаю, было бы вежливо, по меньшей мере, выслушать его.
Кстати, говоря о святости: сколько в Карфагене отцов-петеринцев? Более чем достаточно. Это чудесная жизнь для определенного класса должностных клириков, на почтительном расстоянии от епископской кафедры в Гиппоне Царском; идеальное местечко для тех, кто так полностью не обратился в истинную веру или так и не отнесся серьезно к мелким пожеланиям Истинной Церкви, вроде плотского воздержания. В целом мне нравятся наши священники, но этого я не знаю, а значит, он серьезный, вероятно даже благочестивый. Так сколько истинно верующих настолько богаты, чтобы позволить себе такой кант на тунике, край которой выглядывает из-под плаща? Не много, но и не мало.
А из них кто служит в гавани и, по слухам, похож на креветку?
Недолгое размышление, а затем – уверенность. Это называется «кайрос» – краткий миг, в котором можно обрести все. Смотрите, как я применяю темные искусства!
– Юлий Марк Кассий, я ждала тебя.
Это ты приказал меня выкрасть, скотина.
И, конечно, по глубоко пророческим причинам я всегда жду похищения местными церковными пастырями в одном белье и готовлюсь к неизбежной тряске на колеснице, отобедав палтусом под белым соусом. Тошнота помогает проводить сложные разговоры.
Но он, похоже, мне верит. У-у-у-у, жу-у-утко! Я прозрела его маскарад своей особой маточной магией. Отец Карась выглядит так, будто с самого начала знал, что это плохая мысль – связываться с алхимиками, а с девочками-алхимиками и подавно; у них ведь писательный орган внутри спрятан. Мужчины вокруг меня торопливо осеняют себя различными знаками, призванными отгонять зло. Я проводила эксперименты с этими жестами и ответственно заявляю: они не стоят плевка. Так что никакая молния меня на месте не испепеляет.
– Я жду, фламин [16]. У меня много дел.
Наверное, не стоило называть его фламином. Это не христианское слово, и оно, в общем, подразумевает, что он еретик. Одно дело – трудиться во славу Господа, вести свою заблудшую паству в лоно Истинной Церкви, отбросив невежество и идолопоклонничество, дабы постепенно открыть лик Христов. И совсем другое – служить в действующем храме, посвященном запретному демону. Даже Августин тут провел бы черту, и мало кто порадуется, если его побьют камнями. Святой отец еще фокус с именем не до конца переварил, выглядит он… хм-м-м. Тревожусь – он, кажется, вознамерился проглотить свои зубы. Умница, Афинаида, одинокой женщине, которую притащили сюда в мешке, полезно пугать влиятельных и властных мужчин. Они это обожают. И ты ведь не побежишь в слезах к епископу Гиппонскому за помощью и защитой. Он тебе это внятно дал понять.
Но – хвала старым богам или новому, – похоже, отец Карась не помрет сейчас же от апоплексического удара, так что переходим к главному: «Откуда ты узнала, что это я? Я ничем себя не выдал», – и так далее. Я почти готова сказать ему правду, но вижу, как зашевелились длинные пальцы, и это меня раздражает. Мог бы с тем же успехом забраться на стул и заорать: «Ведьма!»
– Отче, пожалуйста, прекратите. У святого Петра Портуна есть сегодня более важные дела. Рыбаки вышли в море, а с запада приближается шторм.
Полная чепуха, конечно, – точнее, может, и приближается, и если так, то я в отличной форме, а если нет, я всегда могу сказать, мол, отметила, что святой Петр защитит рыбаков, а он – Камень Церкви.
– Я – алхимик, Юлий Марк.
Не сомневаюсь, поэтому ты ко мне и обратился. Ангел Эол носит за мной покупки с рынка, а брат его, Гавриил Кадуцей, течет в моей крови. Я – птичья песнь и ветерок, милосердие Матери и любовь Отца. Открой, в чем твоя нужда, чтобы я смогла рассмотреть ее и дать тебе утешение, или отправь домой, иначе я могу решить, что оскорблена твоей наглостью.
Между прочим, я совсем иначе разговариваю, покупая продукты на рынке; такой тон приберегаю исключительно для ситуаций, когда приходится меряться, у кого длиннее. Обычно с мужчинами. Я захожу с фланга и выставляю свой товар – или, если угодно, очерчиваю пленительные формы своего бредового гона, – и отец Карась становится все несчастнее и несчастнее; ему страшновато, но с каждой минутой он всё сильнее убеждается, что похитил именно ту ведьму, которая ему нужна. Так что можно считать, я очаровательна и обходительна. По всем статям ему бы уже покрыться с ног до головы волдырями или просто начать изучать мир с точки зрения жабы. Но мне любопытно. У него такая беда, что кажется более разумным похитить римскую гражданку среди ночи, а не прийти к ней днем и попросить о помощи. Он думает, я знаю ответ, а я не думаю, что он будет его у меня вырывать силой; думаю, он просто не продумал эту часть плана и сейчас импровизирует. У него большие проблемы, и если так, и мне удастся успешно их решить, я по определению страшнее его, и он надеется, что я не замечу, кто из нас управляет ситуацией.
– Говори же! В чем дело?
Я сверлю его строгим взглядом всеведущей тетушки, и на этот раз взгляд работает. Карась сглатывает. Напряжение прорывается через привычное для священника спокойствие, и он почти кричит:
– Корнелий Север Сципион мертв! Убит в Чертоге Исиды.
Я слышу эти слова, а потом будто слышу их снова. Так бывает, когда слышишь нечто настолько ужасное, что не можешь поверить, потом снова и снова. А отец Карась вытаращился на меня своими рыбьими глазками, умоляет; длинные пальцы сплелись в некое подобие молитвенного жеста, но обращены ко мне. А я только и могу сказать:
– Зевсовы титьки!
* * *
«Корнелий Север Сципион мертв! Убит в Чертоге Исиды».
Клянусь, ни одно слово не предвещает ничего хорошего, но самое паршивое заключается в том, что Карась, который является хоть и не князем Церкви, но вполне уважаемым пастырем, думает, будто нашел Чертог Исиды.
Хуже того, судя по всему, он его нашел. Потому что я смотрю на него сейчас.
Теперь мы в одной комнате с ним – большом и просторном зале, пышно украшенном, как следовало ожидать, богатыми шелками, изящными шпалерами, дорогой посудой и статуями. Вон ту мраморную нимфу, кажется, изваял Фидий – если я ее схвачу и убегу, денег хватит до конца жизни. Казалось бы, такая роскошь должна производить впечатление, но нет. Люди тоже: бывалые легионеры и новобранцы, которые случайно держат руки поближе к оружию. Вся эта толпа и богатое убранство – лишь туман. И не важно, что в них полно жизни и материи, зал все равно почти пуст. Только я и Чертог, лишь мы одни здесь.
Снаружи Чертог – более известный, как Чертог Соломона, и надо отдать должное отцу Карасю за то, что ему хватило ума так его не назвать, – похож на огромное деревянное яйцо, лежащее в углублении в полу. Оно составлено из разных сегментов, чтобы его можно было разобрать для транспортировки, но сочленения почти незаметны. Нужно оказаться от них на расстоянии ладони, чтобы рассмотреть стыки без увеличительного стекла. Древесина темная, старая и плотная. Наверное, было неимоверно и мучительно трудно так его отполировать. Я чую запах пчелиного воска и смолы, но не запах влаги. Когда касаюсь стенки, чувствую холодную поверхность, словно коснулась металла; отнимаю руку, и на дереве появляется призрачный абрис конденсата. Мне хочется попробовать его губами. Думаю, на вкус будет соленый, сухой и мокрый одновременно, как пекорино с маслом.
Нет, лучше, наверное, не облизывать реликвию на глазах отца Карася. Все равно я бы лучше развернулась и убежала далеко-далеко, куда глаза глядят. Вот как она меня пугает, точнее, пугает ту часть меня, которая думает и тревожится. А сама реликвия возмутительно соблазнительная: физически привлекательная, чувственная, словно опасный ухажер, который точно знает, как улыбнуться, чтобы ослабить твою решимость. И тут произошло убийство, и отец Карась ею страшно гордится, как мой сын гордился своими сооружениями из палочек и глины. Он оглядывается на меня через плечо, чтобы увидеть, нравится ли мне, но чем ближе я подхожу, тем больше ее ненавижу и тем острее чувствую холод и тошноту. Я улыбаюсь ему – сдержанно, но восхищенно, и он расцветает от знака признания.
Нет сомнений в том, что́ это. Чертог просто пропитан сакральным: он сделан с невероятным мастерством, изыскан, совершенен. Чудо всегда можно опознать по тому, что просто человеческое рядом с ним кажется неуклюжим и грубым.
Чертог откровенно чудесен – слишком безукоризненный и роскошный, чтобы оказаться чем-то другим. В зале слишком темно, темнее, чем должно быть при таком обилии ламп и факелов; тише, чем должно быть при таком количестве людей. Росписи на стенах поблекли.
– Мне одной кажется, что он похож на сиську? – мой голос звучит хрипло и глупо. – Ведь похож. Думаю, так и задумано – плодородие и плодовитость, все такое. Но ты поставил в охрану легионеров, Юлий Марк, и рано или поздно один из них ее пощупает. В том-то и беда, что наши воины бесстрашны: у них нет чувства меры!
Все уставились на меня, этого я и хотела. Экзорцизм – первый за день, для разогрева.
– Ты, солдат, откуда?
Выбрала случайное лицо, молодое и ошеломленное.
– Из Третьего Августова легиона, – отвечает он, благослови его Бог, называя подразделение, а не родной город.
– Урожденный легионер, – говорю я, прежде чем остальные начнут хохотать. – С девушками встречался когда-нибудь?
– О да, мудрая!
Он просто пытается не провалиться. Если я хоть в чем-нибудь разбираюсь, с девушками он и вправду встречался, но, что делать дальше, представляет смутно.
– За ним присматривай, – говорю я отцу Карасю, на лице которого написан непритворный ужас. – У него огонь в глазах и фаллос пьяного сатира за поясом. Дай ему пять минут наедине с ней, и он ее не просто отымеет, она забеременеет, и тогда беда нам. Верно, легионер?
Мальчик из Третьего Августова решительно мотает головой, но остальные уже заулыбались, и зловещая красота Чертога больше не единственная сила в этом зале. Теперь тут караульный пост, скоро в углу начнут играть в кости между дежурствами. Хорошо. Нужно сделать еще одну вещь, чтобы и последствия были только хорошими.
– Кто с ним в одном взводе? Ты? Отлично. Это Карфаген, солдат, познакомь его с какой-нибудь добросердечной женщиной из тех, что позируют художникам, иначе всем нам грозит опасность!
Снова смех, громче и искреннее. Знакомая территория.
Девичье тело – хо-хо-хо – проглотит мальчика заживо самым лучшим образом. А мы теперь семья, все занимаемся семейным делом – завести этому парню его первую девушку, и весь зал принадлежит нам. Я отмахиваюсь от этого и ворчу: «Свободны!», а они принимаются за свои дела. Настроение в зале улучшилось. К чести отца Карася, скажу: он понял, что случилось, и смотрит на меня уважительно.
Мы обходим Чертог, чтобы я могла осмотреть его со всех сторон. На сиську он, конечно, не очень похож, но работать приходится с тем, что есть.
Ко входу ведет широкий желоб, прорезанный в ровном полу, и я с запозданием понимаю, что Сципион – а это был его дом – настелил новый пол на уровне груди от старого, чтобы разместить свое сокровище. Мы идем по помосту, как в театре, и шаги эхом отдаются внизу. Моя фантазия всегда помогает в трудный момент и тут же подбрасывает примеры египетских погребений с ядами, шипами, кольями, ловушками и скрывшимися в темноте крокодилами, которые вот-вот взломают настил в поисках поживы.
– Ты здорова, мудрая? – спрашивает отец Карась.
– Здесь что-то есть, – отвечаю я, потому что это и очевидная истина, и в потенциале глубоко духовное суждение. Так я мошенница или ученая женщина? И та, и другая, само собой, как все мы. Я не верю в половину того, что знаю. А половину того, во что верю, не могу доказать. Что до остального, надеюсь проскользнуть в мутной воде так, чтобы никто не обратил внимания на мои ошибки.
– Мы были вместе в Чертоге, – говорит Карась, – обсуждали его чудеса. Изображения и слова. И… но ты сама увидишь. Он был точно ребенок с новой игрушкой или юноша перед встречей с невестой. Он так радовался. А потом… я не услышал ни звука.
От одного воспоминания он вжимает голову в плечи.
– Они пробыли там одни около минуты, – заявляет статный легионер. – Не больше. Я ушел, чтобы принести воды для питья.
Карась кивает:
– Быстро. Без всякого предупреждения. Я почувствовал запах крови, мудрая. Нутром понял прежде, чем увидел очами. И все равно я был не готов.
– Теперь ты готов, – говорю я ему.
Он поднимает глаза и понимает, что я имела в виду: теперь у него есть я, и от этого ему становится легче.
Увы, чужой страх я способна изгнать, но со своим ничего не могу поделать.
Отец Карась согласно ворчит, и, наскоро убедившись в отсутствии крокодилов, мы ныряем в желоб.
* * *
Чаще всего его называют Чертогом Соломона, но история гласит, что он принадлежал вовсе не Соломону, а его жене. Ее звали Тарсет, и она была дочерью египетского фараона. Думаю, для Тарсет было сильным потрясением выйти замуж за Соломона и оказаться одной из сотен других жен – уже не говоря о том, что в Египте женщины имели ровно те же права, что и мужчины, а в царстве Соломона – отнюдь нет. Ее обвиняют в том, что она склонила мужа к идолопоклонству, но мне кажется, это значит, что она просто заставила его себя уважать.
Но отложим сравнительный анализ брачных обычаев древнего мира: сам Чертог якобы был даром женщинам Египта от богини-матери, Исиды, и говорят, что внутри него течение времени останавливается, поэтому становится возможна высшая магия. Исида, разумеется, существовала прежде Марии, матери Иисуса, но Бог пребывает вне времени, и в Его длани Мария расходится от своего вознесения вспять до самого Сотворения мира так же, как и вперед на всю вечность, и любит и своих предков, и своих детей, и чад своего Сына. Таким образом, Исида, языческая колдунья, превращается в скрытый лик Богородицы, и это закрывает все вопросы с церковной политикой Римской империи на востоке.
В полном соответствии с описанием Чертог имеет в сечении круг и накрыт куполом. Написано, что молящийся входит в него снизу, дабы узреть улыбающийся лик богини, изображенный на потолке серебряным узором по полуночно-черной мозаике из ляпис-лазури. Купол украшен алмазами, закрепленными по форме созвездий. На стенах – изображения четырех кардинальных душ: двое мужчин, женщина и четвертая фигура, которая может быть равно мужчиной и женщиной, и все они рассыпаны по истории. Вместе с Богиней они суть мост между божественным миром и преходящим, и все они, даже Она сама, скрыты в тени Пентемиха, тоже сокрытого, так что это самый невидимый пантеон из всех существующих. Божественная Мать касается духом остальных четверых, а они в ответ дают ей: материю, дабы из нее сотворить землю; гармонию, дабы сотворенное не разрушилось; и смерть, дабы ни одна вещь не поглотила все иные. Здесь, в этом Чертоге, рождаются ангелы, погибают демоны, а чудеса выпекаются, как пирожки на рынке. Знающий свое дело алхимик способен произвести внутри Чертога эликсир, замедляющий старение и возвращающий юность; претворить болезнь в здоровье; исцелить всякую рану и даже воскресить мертвого. Но величайший дар Чертога – это вечный Алкагест, Универсальный Растворитель, который освободит всякого пленника и растворит не только любую плотную материю, но и клятвы, проклятия, царства, годы и века, даже самое адское проклятие. В прямом смысле Алкагест – это сила Бога. С его помощью можно отменить первородный грех и сделать мир новым раем, обрушить небеса или запечатать бездну навеки, сохранив Сущее от Грядущего. Алкагест – чернила, которыми Исида пишет книгу судеб. Это слезы, упавшие с век Богородицы в день Распятия.
Если у вас есть мозги, вы наверняка гадаете, почему я не радуюсь тому, что нашла Чертог. Ведь я – женщина, которая пойдет на все, чтобы обратить время вспять, исцелить своего больного сына и навеки сберечь это мгновение, жить в нем со своей любовью и маленькой семьей в вечном довольстве. Или только кое-что из этого, ибо, как я поняла, я ценю то, чем стала, куда больше, чем то, чем была тогда. Может, хватит и моего сына. Это будет мой рай, и, чтобы его получить, я готова за волосы тащить всех мужей и жен, и ангелов небесных к спасению. Даже демонов из преисподней я искупила бы, и все это предложила бы Богу в дар за одну-единственную жизнь.
Если у вас не просто есть мозги, вы, наверное, заметили небольшое логическое несоответствие: если Универсальный Растворитель растворяет все, даже глину и камень, золото и душу, как сохранить его в бутыли? А изготовив, как не дать ему вытечь и немедленно растворить весь мир в дым?
Свиток Чертога, именуемый учеными «Quaerendo Invenietis», обнаружили двадцать лет назад в Карфагене, в стопке рукописей, спасенных от пожара в Великой Библиотеке, который устроил Аврелиан, и в этом свитке содержится ответ. На самом деле именно этот ответ придал документу достоверность в глазах ученых мужей, особенно мастеров алхимии. Ответ элегантный и нерекурсивный: он предоставлял решение проблемы бесконечного растворения и произвел на них глубокое впечатление, не в последнюю очередь потому, что тешил гордыню и тщеславие. Если в Чертоге Исиды и вправду можно проводить легендарные операции, выходит, неспособность повторить их без Чертога – не их вина, а если трудность в изготовлении Алкагеста преодолима, то и вся их дисциплина снова становится не только практической – пусть в отсутствие ключевого ингредиента, но и высочайшим достижением в военной, теологической и философской сфере, какое можно вообразить. Из побочной науки алхимия становилась центральной, даже главенствующей, и всякий двор, которому посчастливилось бы найти Чертог, сразу получил бы в свое распоряжение целое воинство ученых мужей и нескольких женщин, способных полностью использовать его невероятную силу.
В особенности обнаружение Свитка Чертога послужило взлету репутации одного старика, именуемого по латыни Iacobus Amatus [17], которого тем не менее куда чаще презирали, чем любили, и считали куда больше африканцем, чем римлянином. Прежде над ним все насмехались – за пьянство и редкие, но решительно провальные эксперименты, но даже больше – за старомодную сентиментальность, потому что он был очень добр. Он был убийственно плохим алхимиком, но искренне любил возиться в лаборатории, и только совершенно бессердечный человек смог бы заявить, что у него к этому занятию нет дарования. Честно говоря, были мастера куда хуже его. Четыре года назад он – уже в почтенном возрасте – ушел на покой, так и не узнав до сего дня, что документ, подлинность которого он подтвердил, свиток, принесший ему широкую славу, – смехотворная подделка.
Именно так. Текст, который лег в основу всего направления, скажем так, «исидологических исследований», – ложь от начала и до конца.
Целью должен был стать лысый похотливый орел Гортенс. Он бы так и скакал над свитком, приготовил бы себе постель, а я бы заставила его в нее лечь, а затем придушила подушкой. План такой, но, когда все завертелось, пути назад уже не было. Я бы ни за что не стала губить Иакова Амата. Он был другом Августина – его настоящим отцом, потому что человек, которого на эту роль назначила жизнь, оказался плох: жестокий и грубый зверь, любивший совокупление и презиравший чувства, а однажды в бане приметил непредвиденную эрекцию сына и провозгласил на весь зал, что такой член предвещает множество детей и великое будущее. Думаю – даже уверена, – что Августин тяжело пережил непристойность, так никогда и не простил отца за нее. То, что он не простил и свое тело за непрошеную реакцию на тепло и воспоминание о симпатичной служанке, я полагаю, многое объясняет в его последующей жизни и даже от части в моей.
Амат был добрым человеком. Тогда в Карфагене можно было найти столько мудрецов и ученых, что, будь они моряками, хватило бы на целый флот – впрочем, они наверняка все потонули бы. Но хоть и можно без труда найти учителя в изобразительных искусствах, литературе, риторике (прежде всего, риторике), музыке, медицине и физической науке, хоть сто миль пройди по городу, не сыщешь человека, который научил бы тебя, как стать просто достойным человеком, пока не найдешь Амата. Какое-то время он был чем-то вроде военного гения, но затем утомился от этого. Он жил, дарил свою любовь, время от времени немудро взрывал что-нибудь у себя дома, но никогда не делал ничего по-настоящему опасного, и за его экспериментами всегда стояла какая-нибудь благая увлекательная идея. Подвергнуть его осмеянию всего Карфагена было бы просто чудовищно. Да и к тому времени уже слишком много горшков с рисом разбились бы от сего откровения. Не уверена, что мне поверили бы, даже если бы я решилась открыть истину.
Нет никакого Чертога Исиды и никогда не было. Не пропадал он в царствование Ровоама, его не выкрали и не отвезли обратно по частям после смерти царицы Тарсет загадочные египетские чародеи. Его не укрыли в тайном храме жрицы Исиды, он не попал в Рим как трофей после подавления мятежа Зенобии, его не дарил царю Британии император, не ведавший, чем владеет. Его не вернули обратно в уплату долга, он не тонул в чистом зеленом море около Неополиса. Все эти истории я слышала, как и многие другие, но Чертог никогда не существовал. Имя жены Соломона, дочери фараона, утрачено в веках, и ей, возможно, с высокой башни было плевать на уважение мужа, но уж точно в ее приданом не значился магический аппарат, который останавливает время.
Я знаю. Потому что я написала Свиток. По собственным воспоминаниям и опыту я знаю, что в нем нет правды – ни скрытой, ни иносказательной. Это выдумки, взятые с потолка: когда я была пьяна и зла, через две недели не слишком старательных трудов на свет явилась подделка, которая и «нашлась» среди старых рукописей. Ее должны были разоблачить давным-давно – для этого есть полдюжины способов. Потальная фольга – не золотая; чернила не того цвета, да и выцвели недостаточно сильно. Пергамент сделан из кожи неподходящего животного. В тексте полно ошибок, потому что я едва начала изучать еврейский алфавит и язык. Краски и пигменты никуда не годятся. Весь Свиток – один сверкающий анахронизм. Ни в одном другом источнике не описывается жизнь египетской жены, нигде не упоминается и Чертог – хотя, если вам заранее сказать, что он существует, можно отыскать пару свитков и кодексов, где о нем будто бы говорится косвенно. Это, разумеется, иллюзия, ложное узнавание, порожденное поворотом колеса. Свиток – книга-призрак, врата, через которые приходят фантомы и сны. Он сам – сон, который мне не следовало записывать. Но все эти несуразности смогли объяснить. Золотую фольгу, говорят они, сняли в тяжелые времена и заменили облоем; чернила – от поздней переписи, призванной подновить рукопись; пергамент указывает на существование торгового пути, о котором мы прежде не догадывались; рука принадлежала явно молодому писцу, который, вероятно, бежал сюда от какой-то опасности, это его личное изложение истории, рассказанной наставниками; он оставил место для иллюстраций и нарисовал их позднее, когда получил доступ к иным материалам, которыми мы пользуемся и поныне; затем он вернулся к тексту и дополнил его, чтобы придать своей работе блеск предвидения. Наверняка были и другие манускрипты, содержавшие это повествование, но они погибли в пожарах.
На Свиток должен был клюнуть один слишком много себе позволявший наставник, а потом попасть как кур во щи. Вот и всё. Никто никогда не сооружал никакого Чертога Исиды, никто его не проектировал и никто о нем не думал, прежде чем я его выдумала. Разумеется, можно счесть его истинным автором Бога, но, если верить тому, чему нас учат, Он – автор всего: от запаха гибискуса до лягушачьей икры и системы налогообложения.
Нет надежды, что здесь, под этим куполом, я смогу воскресить своего сына. Не больше, чем во сне прошлой ночью. Чертог – это обман, выдумка.
Но вот он стоит посреди зала, непререкаемо реальный и прекрасный, да еще и окропленный жертвенной кровью. Чепуха, бессмыслица, которой придали форму и вес, чтобы вершить свое дело в мире. Изображение Исиды выгибается по внутренней стороне купола так, что лишь с лестницы внизу она выглядит подобающе милостивой. Я и не думала, как трудно создать такой портрет, когда описывала его. Лик богини огромен; он слишком близко, и весь облик дрожит, когда приближаешься, так что Исида будто стоит за пределами нашего мира и заглядывает внутрь, словно это мы оказались в плену двухмерной плоскости, а она пытается постичь наше ничтожество. Исида, или Мария Богоматерь, либо другая сила – куда менее благодатная: очи ее – звезды, и сама она, наверное, лишь маска, которую они надевают, чтобы мы не попрятались от ужаса.
Художник (или художница) был невероятно одарен; он усилил, развил мое описание, добавил символы и загадки в свое творение. Чего бы ты ни искал, здесь можно обнаружить отзвук своего желания, полунамеки и указания на сокровенные истины. На стенах выписаны мистические тексты – обильно, почти расточительно. Они обременены смыслами, как садовые деревья – плодами в конце лета. Вон там – Пифагор, а это – орфический трактат о переселении душ. Вон там нечто, похожее на источник, предваряющий Скрижаль Гермеса Трисмегиста, или хитроумно извращенная цитата из его работы. Здесь вырезаны слова из «Авесты», а вот – палиндром из «Сидра-раббы». Все это подлинные религиозные тексты, пользующиеся глубоким почтением и любовью среди верующих, все они вплетены в тонкий обман. Тут больше, чем я могла себе вообразить, мелких деталей, учености. Моя шутка переросла меня и стала таким образом чем-то куда более страшным. Здесь труд, старание и ученость: высший замысел – державный или теологический. Кто-то увековечивает розыгрыш, политический или личный, и на его пути оказались Сципион и отец Карась. А Карась в свою очередь выбрал меня – подозреваю, как самого сдержанного и доступного алхимика, к которому он мог бы без опаски обратиться, – чтобы я помогла ему разобраться в убийстве, совершившемся в таких тревожных и мистических обстоятельствах. Не знаю, чего он от меня ждет. Если только он или кто-то другой не знает, что в мире нет лучшего эксперта по Чертогу, чем я. Может, его подтолкнули к выбору? Совпадение толкнуло сюда и меня, породившую ложь, на которой держится весь этот заговор, или чья-то воля? Знает ли тот, кто стоит за всем этим, что нет никакого Чертога, или в этом смысл: вывести на свет истинное святилище богини, выставив напоказ ложное? Это достаточно великая цель, чтобы оправдать подделку такого масштаба. Иначе парадокс: какая иная выгода могла бы оправдать затраты по созданию Чертога? Одни материалы обошлись в баснословную сумму. А если до такого дошла личная месть, ошибка в оценке рисков и выигрышей вдвойне безумна. Смерть Сципиона, друга Восточного императора Флавия Аркадия, приведет к такому опустошению, которое не перекроют любые вообразимые прибыли. Цицерон сказал в другом месте: «Лишь император смог бы создать подобную вещь, но невозможно себе представить, чтобы император ее пожелал». Один из богов, возможно, и поднял бы так ставки – или один из титанов.
Холодное дуновение пробегает по шее и рукам, касается кожи, так что встают дыбом волоски.
Я смотрю на великолепную огромную конструкцию, сотворенную по образу и подобию моей глупой пьяной выдумки, и мне приходится проглотить свой страх. Четыре кардинальные души изображены на стенах Чертога в идеальном равновесии. На западе пленница, привязанная к каменному столу нитями паутины, а над нею нависает потусторонний тюремщик, тело которого соткано из одних глаз. Несчастная то ли жаждет укрыться от его взора, то ли стремится привлечь его. И кого из них избрать другом? Может, они так же нераздельны, как Прометей и его орел.
На севере выписан сатир, окруженный золотыми монетами, каждая из которых врезана в деревянную стену Чертога и выложена чистым золотом, так что на него даже смотреть больно, а стена уходит назад и тонет в бесконечном мраке. Он стоит на изумрудном камне, покрытом резными нимфами и геометрическими узорами; внизу раскинулся океан тени.
На юге стоит аксумитский святой, которого греки назвали бы αἰθίοπος – впрочем, они бы и меня так назвали. Он идет по горящему городу, на плечах у него восседают мальчик и девочка. За поясом – кисть художника. Если бы я и доверяла кому-то из них, то ему, хотя что-то в его поджатых губах просит меня не делать этого. У него такое тяжкое бремя. Я думаю, что творец Чертога изобразил здесь себя. Живописцы частенько так поступают, взыскуя бессмертия.
А потом мы видим восточную роспись, а на ней – меня.
На портрете я младше и одета как царица – ох, проклятье, кажется, я должна изображать Тарсет, – и я стою в остром противостоянии с неким духом, которого художник соткал из множества мазков, будто он возникает из фона. Каждый отдельный мазок едва заметен, лишь легкая дрожь краски, но вместе они складываются в скорченную тень с длинными птичьими ногами; она тянется ко мне, чтобы схватить, но отшатывается от моего касания. Демон из моего сна. Взглянув на другую сторону Чертога, я вижу – этот пир был бы не полон без еще одного блюда – отражение этого образа в первом. Восток и запад различны, но расположение фигур – то же. Одно отражается в другом или проистекает из другого. При обычном течении времени запад следует за востоком. Солнце восходит и заходит в согласии с этой естественной последовательностью. Но в Чертоге Исиды, как было сказано, время можно обратить вспять, а истину вывернуть наизнанку.
Сказано мною.
Так что же? Я вырвусь из ужасного плена пауков и тысяч очей, чтобы обрести власть? Или к этому столу меня ведет рок?
Быть может, я слишком стремлюсь во всем видеть катастрофу. Лики снов изменчивы, а память о них – еще больше. Сколько деталей из вчерашнего сна я вообразила только что, увидев изображение? Вероятно, это лишь совпадение, и мое лицо просто выбрали из толпы, потому что у Тарсет должно быть какое-то лицо, и мое подойдет. Может, только мой страх придает росписи привычные черты? Или он возбуждает во мне стремление отрицать очевидное?
Я заставляю себя посмотреть на него вновь, внимательно.
Вот.
Нет.
Да.
Вот.
Сомнений нет.
Во мне разгорается ярость – острая и горячая. Художник потрудился над росписью, сделал ее совершенной. Демон сжимает в лапах младенца Адеодата, и кожа его уже рассечена полосками, разрывающими душу на пять частей. Не может быть, чтобы эта история говорила обо мне. Нет у меня таких врагов – столь могучих, влиятельных и богатых. Если бы были, просто прихлопнули бы меня как муху и пошли бы дальше. Если, конечно, этот враг просто не видит разницы между таким излишеством и простым ударом ножа в живот. Быть может, мне выпала великая судьба, и это оскорбляет какое-то божество, потому оно решило разобраться со мной заранее? Но опять: ради чего? Что может стоить такого размаха?
Я вновь поворачиваюсь, и ярость уходит, сменяясь горечью и природной печалью, какую испытывает один человек из-за другого, пусть и неизвестного. Последний элемент плана – или, будь он проклят, его начало? – лежит на полу.
Тело Корнелия Севера Сципиона занимает почти всю серебристую площадку в центре Чертога; его глаза невидящим взором впились в лик богини. Сципион-герой, деревенский мальчишка из побочной ветви знатного рода, который стал несравненным воином: чемпионом легиона с мечом, копьем, кинжалом, да и с любым иным оружием, какое ни назови. В народе говорили, мол, истинный его отец, наверное, Марс или архангел Михаил в воинственном облачении. Говорили, что он сражался так, будто поднимал военное ремесло на новый, высший уровень. Говорят, он в строю бился с визиготами, пока не сдержал их натиск, а потом бросил им вызов, потребовав найти воина, который выстоит против него в поединке. И когда ни один из бойцов не выстоял, все их войско – в пять или даже десять раз больше нашего – просто вернулось в леса. В народе всегда много говорят о человеке, который оказался двоюродным братом Папы и закадычным приятелем Восточного императора. Много, но не настолько, так что он и вправду был особенным.
Он еще молод и красив. Даже в безволии смерти его лицо прекрасно и намекает на острый ум.
Что ж, будь Чертог настоящим, Сципиона мог бы вернуть к жизни какой-нибудь святой алхимик, который бы хорошо понимал правила ритуала и практику глубокой религиозной магии. Здесь, в Чертоге, такой волхв мог бы сотворить чудеса, от которых бы весь мир вздрогнул, или просто воскресить одного человека из мертвых, по милости Божией. Или, может быть, двух, если вымолить такой дар. Почему нет? Какую бы цену я не согласилась заплатить за это? Если бы Чертог был настоящим. Но я стою в нем, посреди него. Мой облик запечатлен здесь, он наполнен мною, обрел плоть через меня или благодаря мне. Возможно, он настоящий: возможно, меня в пьяном угаре посетил ангел, и эта чудовищная издевка способна обернуться истинно святой реликвией, будь у меня хоть немного веры. Но даже если так, где в нынешнем Карфагене найти такого человека? Обладателя глубокого знания, веры и отваги? Я оглядываюсь, словно надеясь обнаружить в зале спрятавшегося святого недоумка, но все они смотрят на меня. Неуместное, абсурдное выражение на лицах – что это? Надежда? На что они надеются в таком месте? В таком месте.
Ох.
Ох, черт.
Я снова окидываю взглядом обман, именуемый Чертогом Исиды, а затем смотрю на мертвеца. Впервые смотрю прямо на него, впитываю абрис его смерти и чувствую, как в живот мне приходит последний удар.
Под одеждой Корнелий Север Сципион рассечен на пять частей.
* * *
Сын всегда повторял: «Мама все исправит», а я не исправила. Не успела, просто не смогла бы туда попасть, и мир оказался больше, чем мне было под силу удержать на плечах. Моих сил не хватило. Он верил в меня, а я его подвела. Где-то должна быть дверь между реальным миром и божественным, и, если она существует, найти ее можно лишь в отчаянии и любви. Оно знакомо всем нам, это чувство вечности: будто не хватает руки, невидимой и неотвратимой, той, что отвечает на потребность души. Сердце может двигать горы, а Бог отвечает на молитвы. Я не справилась, потому что не смогла распахнуть свою грудь настолько широко, чтобы творить чудеса.
Когда Адеодат умер, Августин прислал его домой, ко мне, в гробу, заполненном медом, чтобы я похоронила его или сожгла – по своему усмотрению – в стране, где он родился. Написал, что сам приедет позже и будет присутствовать, если я позволю. Я не стала ждать, пока он управится со своими бесконечными епископскими обязанностями, которые в данном случае задержали его на несколько месяцев, так что я не смогла даже лишить его прощания. Я помню, как открыла крышку, стерла мед с его кожи и говорила, и рыдала, а затем вновь уложила его в гроб. Истинная христианка предала бы его земле, но я не хотела, чтобы он гнил. Я помню, что мед пах розмарином с легчайшим привкусом сырого мяса и мочи.
Не было ничего жестокого в том, чтобы так его упаковать, и стоило это наверняка целое состояние. Душа меда столь суха, что тело, погруженное в него, не знает тления. Адеодат лежал, точно святой: кожа чистая, а сильное тело по-прежнему округлое и гибкое. Глаза его были закрыты; думаю, Августин приказал их запечатать. Глаза жестоки. Смерть приходит в них так быстро, когда мутнеют гуморы, а я бы сошла с ума, увидев разложение на этом лице. Наверное, это было последнее проявление доброты ко мне со стороны отца Адеодата, похороны нашей с ним любви, а не только нашего сына. Возможно, это был правильный выбор. Не могу себе представить, как бы он стоял среди нас в своих дорогих одеждах, даруя по своему призванию любовь и прощение тем, кто ждет их от него очень лично, не от души или разума, а от костей. Ни Христос, ни Моника не отняли у нас Августина, но лишь он сам, это сам Августин преследует себя картинами ада; Августин, который по ночам карает так себя за грехи; Августин, который просит его отвратить лицо свое. Августин, который не может положиться на милосердие Бога, о чьем милосердии он столь велеречиво говорит и на животе ползет к отпущению грехов, хотя ничего дурного не сделал, кроме того, что считал своим святым долгом. Августин, душа которого становилась все больше похожей на мед, стала голодной и сухой, и Августин, сердце которого навеки сохранено мертвым в сладости, не приносящей облегчения.
Мой сын умер от лихорадки. Она поразила его ночью где-то между Миланом и Гиппоном Царским, и к утру его не стало. «Бог призвал его домой», – написал мне Августин, но я не понимаю, что это значит. Что все мы, оставшиеся в живых, меньше любимы? Или это одна из тех христианских загадок, которым учат священники, а старые женщины, которые ясно видят суть, не понимают: мол, любовь Бога к нам всем равна, но в то же время столь велика к Адеодату, что Царь Царей призвал его к себе, прежде чем я успела вновь его обнять? Августин говорит, что это – пример моего себялюбия. Возможно, так и есть. Но если я себялюбива, каков же Бог, везде и во всем вечный; Он не смог еще месяц подождать моего сына? Он, Бог, во мне, и мои руки могли обнять моего мальчика, и уж это точно было бы так, словно Бог призвал его домой. Есть ли вообще слово, которым можно обозначить такую степень себялюбия, где оно становится эликсиром, который весь мир должен испить и назвать любовью?
И вот здесь лежит бедный, глупый, красивый Сципион, и в глазах у него уже белые и черные цветы, и я чувствую тот же проклятый запах мяса. Это предопределение? Поэтому у меня отняли Адеодата? Чтобы здесь в этот миг я приняла то решение, которое принимаю? Это и есть неисповедимые пути, о которых нам говорят, что я должна отдать должное Сципиону благодаря недолжной божественной несправедливости, которую никогда не смогу исправить? Потому я увидела Августина в мастерской, где стояла обнаженной натурой для скульптора, который надеялся на более тесное знакомство, и улыбнулась ему, и захотела его так остро, потому что еще до рождения была создана так, чтобы желать его, и чтобы плод нашей страсти и его жестокости ко мне умер, дабы привести таким образом через безжалостную математику любви к этому выбору? Это и есть свобода воли? Право оказаться вынужденной совершать моральный выбор ради Бога, который мог бы сделать весь мир раем, если бы высказал свое желание?
Говорят, Бог милосерд, и Его милосердие кажется нам мукой, ибо мы извращены грехом. Я знаю все аргументы, они – один бессмысленнее другого. Мир таков, каким мы его делаем. Этот Сципион не похож на моего сына ничем, кроме того, что все мертвые дети кажутся похожими в глазах родителей. Он бледный, северных кровей. Менее африканских. И он умер совершенно неестественной смертью. Почти нет ни крови, ни других телесных жидкостей, что являются после смерти. Самая чистая смерть, какую я видела и о какой слышала, а должна быть одной из самых грязных. Стерильна как мед.
Хватит. Я разберусь. Сципион – не Адеодат, да что там – чуть-чуть подкрутить колесо времени, и он мог бы оказаться моим любовником и даже отцом моего сына, потому что учился здесь немного позже меня. И это не мой сон, пророческий или нет. Это проблема, и если они связаны, что ж: большего блага я достигну, разрешив меньшую.
Сципион – не Адеодат, и я ему ничего не должна.
Но душа моего сына разорвана на пять частей, как этот труп у моих ног, а говорят, убийца иногда совершает свое дело не ради серебра, а чтобы выписать то, что записано в нем самом.
Что же записано здесь дважды? И кому адресовано это послание, если не мне?
Я не знаю. Но я найду тебя, изготовитель этой подделки. Хитрец, обманщик. Я тебя найду и такое с тобой сделаю, что мужчины много веков будут шепотом об этом друг другу рассказывать. Ты будешь умолять, чтобы демоны разорвали твою плоть. Я тебя найду.
Я опускаюсь на колени в этом ужасном храме и начинаю осматривать мертвое тело.
* * *
Полезно иметь историю, когда приходится касаться мертвых и трогать сломанный механизм в его зловонии.
(Хотя здесь зловония почти нет, от этого не лучше, потому что вокруг трупа разлита соленая, будто морская, вода; откуда она взялась и почему?)
Никогда прежде я не видела таких ран – настолько чистых и совершенных. Словно вивисекция – некропсия строго запрещена в Карфагене, поэтому каждый год проводится всего одна, в подвале лавки мясника рядом с университетом, – если бы можно было провести вскрытие и не выпустить телесные жидкости наружу. Я ищу сколы и трещины по краям кости, но не нахожу. Что-то очень быстрое и острое, как бритва брадобрея, рассекает стебель цветка.
Полезно иметь историю, но не всегда можно контролировать ее содержание.
Говорят, стратег Мильтиад умудрился одолеть персов под Марафоном, но затем переоценил себя, и богиня Немезида забрала его жизнь в уплату за гордыню. Строгая академическая история гласит, что он умер от загноившейся раны после попытки взять остров Парос, но я видела рукопись, утверждавшую, что его пожрали изнутри ростки орхидеи. На побережье Пароса, пока воины с шестидесяти кораблей кровью покупали каждый шаг наверх, Мильтиад остановился передохнуть и задумался о том, какую месть свершит над местным народом за прежние обиды. Он выпил вина и уснул, а цветок, посаженный богиней, пустил корни в его ухе и пророс внутрь. Целый месяц он видел мир лишь сквозь сетку зеленых ростков, потом ослеп на один глаз, затем – на второй. Орхидея продолжала расти, и островитяне отбросили нападавших. Когда он вернулся в Афины, чтобы предстать перед судом за мздоимство и, наверное, даже важнее – за провальный поход, он был уже полубезумен от боли и отвращения. Мильтиад сказал судьям, что слышит ток сока у себя в голове, и они согласились выжечь этот ужасный цветок из него – из милосердия, равно как и в наказание. Судьи призвали величайших алхимиков того времени, чтобы те исполнили это решение. Вся процедура была неимоверно точной: цветок обратился в пепел, но Мильтиад все равно умер, поскольку его мозг и кости почти полностью заместились зелеными ростками.
(Соленая вода и всё, чистая и простая. Я вспоминаю, что, когда Христу прободили ребро, наружу излились кровь и вода. Мне приходилось иметь дело с такими ранами, и я никогда не видела, чтобы из них текла вода. Другие жидкости – да, разумеется, самых разных цветов и консистенций, но не вода. До сих пор. Морская вода. Его убила рыба? Когда-то в детстве мне рассказывали, будто в море есть такая большая рыба, что на ее языке поместится телега. Тварь могла бы его перекусить, но, когда это свершилось, как бы куски тела вернулись наружу? И как уговорить морское чудовище кусать жертву точными полосами? Что же, это был рыбий бог, взимавший какую-то диковинную плату?)
До сего дня я полагала, что самая ужасная смерть, о какой мне доводилось слышать, – смерть Мильтиада, но мне всегда хотелось знать: если бы у кого-то сохранились семена этого растения, проросли бы они в земле или только в плоти того, кого презирают боги? У меня есть привычка задавать такие вопросы и понимать, когда на них не будет ответа.
Голова Сципиона держится на обрывке плоти, похожем на резную пробку. Я не вытаскиваю ее, хотя часть меня изнывает от любопытства; та же часть, что приходит в восторг от высоких утесов и смертельных ядов. Края раны чисты, но ее трогали, будто кто-то копался внутри. Я слыхала, что тайные гонцы в случае нужды глотают свои послания. Может, в этом все дело? И Чертог – побочный элемент, а убийство – обычная история интриг и предательств?
Я пытаюсь по привычке перевернуть тело; ноги отваливаются у бедер и коленей. Я чувствую запах кишок, но сухой, будто его похоронили в песках пустыни. Неужели вся вода на полу вылилась из него? Что, если бог выпотрошил его, пока рылся в потаенных глубинах груди? Пентемих. Ферекид. Морская вода.
Нет. Не понимаю. Тут нет жестокости – не больше, чем в любой другой смерти, он ведь умер мгновенно – но и смысла тоже нет. Я не понимаю, что сделали со Сципионом и зачем. Вообразить не могу.
Интересно: если пойму, увижу все иначе?
* * *
Я обхожу Чертог, касаюсь, постукиваю. Стыки почти незаметны. Крепкая древесина, никаких пустот, где могла бы прятаться хитрая машинерия. Я думаю о тонких, прочных нитях или даже мощных потоках воды. Говорят, вода, если пропустить ее через достаточно маленькое отверстие, может резать. Я чувствую золото, ляпис-лазурь, алмазы; вдыхаю густой запах смолы и аурипигмента, охры, азурита и малахита, ароматы высокого искусства. Лишь эти ароматы, но не запах крови. Капли не долетали до этих стен, готова поклясться, но все же он здесь умер, наверняка ни на что больше не хватило бы времени. Но времени не хватило бы и на то, чтобы истечь соленой водой, и чтобы рассечь его на пять частей тоже.
Посреди комнаты я вдруг останавливаюсь, словно друг схватил меня за руку и удержал на самом краю невидимой пропасти. В один миг комната изменилась. Все цвета поблекли. Фигуры кажутся болезненными, а собственное дыхание – зловонным во рту.
Тут что-то есть.
Я спиной чувствую взгляды с росписей. Минуту назад я знала, что весь Чертог – обман, очень дорогая декорация для какого-то хитроумного плана. Теперь я уже ни в чем не уверена. Здесь за тобой всегда следят, наблюдают под любым углом, скрытые завесой. Кто бы ни нарисовал это, у художника был дар изображать правду и показывать то, что есть, а не только видимое. Я слышу какой-то звук и оборачиваюсь. Не могу распознать. Я знаю, что слышала, так как помню, что узнала его, но не могу понять; память истаяла как роса.
Обстановка изменилась. В воздухе и на земле – огромный поток крови, будто застывший в белом янтаре. Прежде его не было. Я наверняка прошла здесь, но не оставила отпечатков. Нет следов и на моей одежде. Призрачная кровь, видимая через дверь.
Пока не важно, что это. Я смотрю. Вот как все было. Вот удар – здесь древесина прогнулась под каблуком, когда его развернуло силой удара; вот выход, выбоинка, которую оставили его зубы и череп. Все четыре клинка одновременно – я говорю «клинка», но это не совсем точно – на большой скорости: мгновенная смерть, но не идеально симметрично, так что тело завертелось. Он был одет, но ткань не тронута. Призрачный клинок, рассекший плоть, но не тронувший полотно. Интересно, какой бог вложил время и усилия в изготовление оружия, которое пощадило бы костюм врага, но оно, наверное, так же проходит и сквозь доспехи. Ужасная перспектива для воина, который привык идти в битву в стальной сорочке.
Голова зависает в воздухе. Кровь прекрасна, точно волна, разбивающаяся о камень.
Из всех углов Чертога Исиды что-то выдавлено в мир, как лицо императора, отчеканенное на монете. Я не вижу его, но знаю, оно здесь: стеклянный цветок тянется ко мне ростками по воздуху.
И шепчет как любовник: «Я разрываюсь».
Я вспоминаю, что нужно дышать, но не могу. Воздух слишком густой: тяжелый и затхлый, будто застывший. Воздух как мед и как вода, падающая на лицо: меня заметили. Что-то сжимается в груди. Тишина – обман, стеганое одеяло, наброшенное на мир, а под ним – шепотки и голоса, словно из другой комнаты. Сципион – выброшенная на берег рыба, которую целиком проглотила цапля. Я чувствую на себе взгляды; чувствую, что меня заметили, и в этот миг приходит гудение, словно жужжание разъяренного роя или рокот далекой бури. Он заполняет мои уши, нос, рот, течет в легкие. На шее у меня затянут ремень, руки прижаты к бокам. Я чувствую толстую ветку в глотке; тяжесть, от которой я рухнула бы на колени, если бы не…
Если бы я не была собой. Я, Афинаида Карфагенская, – любовница, мать, алхимик, фальсификатор, и это – мое создание. Это мой Чертог, моя выдумка. Он принадлежит мне по праву и по сотворению, родился в моем уме; и ты, кем бы ты ни был, будешь себя вести прилично в моем присутствии, или я тебе новую дырку в заднице пропишу.
Рой вздымается, с гулом откатывается и усаживается в листве. Воздух возвращается – ужасно холодный. Но я все еще слышу на грани восприятия шепоток хитина.
Я выдыхаю. Вдыхаю. Выдыхаю. Вдыхаю. Каждый выдох кажется неразумным, будто я могла задержать воздух еще на миг в груди. Я в порядке. В порядке. Я коснулась духа и отогнала его. Или выскользнула из его рук.
* * *
– Юлий Марк Кассий, – тихо говорю я, поскольку уже не надо кричать. – Мне потребуется твое полное внимание во время этого допроса.
Отец Карась не кивает, потому что чувствует острие моей новакулы, приставленной к веку его левого глаза. Я не давлю слишком сильно, но очень раздражена, и в моей позе читается твердость, которую он – совершенно верно – понимает: шевелиться не стоит. Тем не менее он хочет дать понять, что внимательно меня слушает – внимательнее, чем кого бы то ни было в жизни.