Читать онлайн Капкан супружеской свободы бесплатно
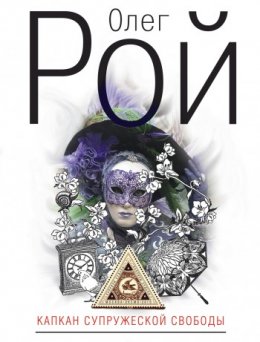
Часть I
Пролог
В снеге, падавшем сверху, чувствовалась злая и враждебная воля, он придавливал человека к земле свинцовой тяжестью, больно ранил лицо ледяными иглами, и от холода, молчания, запредельной тоски, от снежного безмолвия, расстилавшегося кругом насколько хватало глаз, сердце ухало и сжималось, будто тронутое чьей-то безжалостной рукой. Человек сделал шаг вперед, провалился в неглубокий, но отчаянно ломкий, хрусткий сугроб и обвел воспаленным от усталости взглядом окружающее пространство.
Он был здесь один и, кажется, один на всей земле. Тяжелые снеговые шапки на деревьях выглядели как онемевшие причудливые оскалы звериных морд. Кустарники обледенели и скорчились; они гнулись под неумолимой тяжестью снегопада, сливаясь в один общий фон – мертвенно-белый, унылый, безрадостный… От напряженной тишины звенело в ушах, и казалось, будто довольно одного только звука – шепота, вздоха, хриплого карканья пролетающей мимо вороны, – чтобы весь этот заснеженный мир рухнул, погребая под собой и застывшие деревья, и мерзлые комья земли на дороге, и его самого.
Он тряхнул головой, пытаясь отогнать наваждение; он опять и опять прижимал руку к гулко бьющемуся сердцу, убеждая себя в том, что все это только сон и вот сейчас, через секунду, через мгновение он избавится от постылого кошмара и судьба вновь повернется к нему своим прекрасным ликом, станет предсказуемой и понятной, как в былые времена. Но минуты текли, а кошмар не рассеивался, и мороз становился все безжалостней и крепче, и жизнь его билась и рвалась на ветру, точно иллюзия, подвешенная на тонкой нитке больного сознания.
– Довольно! – громко сказал он вслух сам себе и остался разочарован тем, как нетвердо прозвучал его голос. Глотнув холодного воздуха, на мгновение застыв от тоски по своей всегдашней веселой решимости, которая никак не хотела возвращаться к нему сейчас, он снова шагнул вперед, но эхо откликнулось ему насмешливым арлекином: «Довольна-а-а!..» – и, вздрогнув, он наконец узнал это место.
Он уже бывал здесь прежде. Конечно, бывал: в памяти яркими всполохами мелькнули картины, давно, казалось, забытые им, но в этот миг живые и рельефные, словно обстановка знакомой студии или кулиса родной сцены. Неровная дорога… низенькие заснеженные холмики, памятники, оградки… деревья, припорошенные снегом… и скамейка, на которую он тяжело опускался каждый раз в конце своего пути, – а, вот оно!
Человек вздрогнул и обернулся, испуганно ища глазами то, что в прошлый раз – он помнил это так же отчетливо, как собственное имя, – довело его едва ли не до обморока. Старое кладбище, молчаливое и заснеженное, скорбно раскрылось перед ним, маня призрачным, кажущимся спокойствием, и он побрел туда, позабыв о своей недавней решимости, не понимая, как оказался здесь, и боясь увидеть не то, что уже не оставит ему никакой надежды.
Он увидел это сразу, как только повернул за широкую ограду, уже виденную им не раз и не два. Да, это здесь. Должно быть здесь… И в этот момент ожидаемая картина предстала перед глазами, точно он сам создал ее всей силой своего испуганного ожидания и больного воображения. Тупо глядя на две черные разверстые ямы, так цинично и зло нарушавшие ровную белизну кладбищенского фона, он машинально приложил руку к сердцу и ощутил привычную ноющую боль. Он не хотел знать, что случится дальше, но какое-то второе «я», гаденько усмехаясь внутри его сознания, отрывисто шептало ему: «Ну же, не трусь… Подними глаза. Ты же знаешь, что это необходимо; знаешь, что должен увидеть это… тебе никуда не деться. Ну!»
«Н-н-ну-у-у!..» – гаркнул, завывая, ветер прямо в самые его уши, и, дернувшись от невыносимой сердечной боли, не осмеливаясь ослушаться, он поднял глаза вверх от свежевырытых могил. Два деревянных креста, еще не установленных, но уже заботливо приготовленных кем-то и прислоненных к той самой соседней ограде, смотрели прямо на него. И удивляясь четкости и выпуклости своего зрения, он одновременно удивлялся тому, что никак не может, не смеет разобрать то, что написано на табличках, прибитых к крестам. Отчаянно напрягая взгляд, он снова и снова пытался прочитать надписи, и снова и снова испытывал поражение.
Он тяжело опустился на скамью, стоящую рядом, – так уже было, было когда-то, нашептывала ему память, – и уставился на кресты невидящим взором. Снег снова повалил тяжелыми, грузными хлопьями, бился в лицо, залеплял глаза, но так пусто и холодно было у него внутри, таким морозом сковал страх его сердце, что он уже не чувствовал внешнего холода и не отвлекался больше на ненужные мысли о том, как он попал на старое кладбище, кого искал здесь и почему заранее знал о распахнутых черных глазницах могил.
Чей-то взгляд уперся ему в затылок, и он вспомнил: это тоже уже было. Казалось, к спине приставили гладкое, холодное пистолетное дуло; чужое внимание сверлило спину, покрывало тело колкими мурашками, и надо было наконец обернуться, закричать, сбросить с себя кошмарное оцепенение, но у него не было сил. И еще не было смелости. Стыдно было признаваться в этом даже себе самому, но отвести глаза от той точки, на которой они застыли, сейчас казалось ему равносильным самоубийству. Липкое чувство ужаса, животный инстинкт самосохранения заставляли его теперь замереть, слиться с окружающим снежным фоном – лишь бы не увидеть нечто еще более страшное…
Он резко дернулся, почувствовал прилив отвращения к самому себе и на миг закрыл глаза. «Я все равно не успею обернуться, – монотонно проговорил он вслух. Ветер снова грянул у него в ушах, но на сей раз в этой мрачной симфонии ему не удалось разобрать ни одного членораздельного звука. – Такое тоже уже было, было, я помню. Все кончится, как только я сумею пошевелиться. Но разве я не хочу, чтобы все это кончилось?»
И, призвав на помощь самолюбие и все лучшее, что в нем было, собрав все душевные силы, обрушив их, как огромный кулак, на собственную апатию и оцепенение, на малодушие и леность, сжигавшие его изнутри, он рванулся всем корпусом, обернулся назад и успел зацепиться глазами за незнакомое лицо, за разбегающиеся мелкой вязью морщины и тусклые старческие глаза, глядящие на него с непонятным, невнятным упреком. Он вскрикнул, захлебнулся, закашлялся от хлынувшего в горло колкого снега, уцепился зубами за ледяной воздух – и все действительно кончилось.
Глава 1
Алексей проснулся, как всегда, мгновенно. Потянулся гибко и упруго, сбросил с себя махровую простыню, вскользь удивился тому, что сердце почему-то колотится нервно и ускоренно, словно после неожиданной пробежки, – и тут же вспомнил. Рывком сел на кровати, потянулся за сигаретой и, забыв зажечь ее, так и остался сидеть, уставившись глазами в одну точку.
Сколько же времени он уже живет с этим кошмаром? Три года? Пять?.. Он не смог бы, пожалуй, точно определить этот промежуток времени – порой вообще казалось, что кладбищенский сон снился ему всегда, чуть ли не с самой юности, – но математические расчеты были здесь не так уж и важны. Важным было то, что каждый раз после морозного, сковывающего его изнутри смертельным холодом сна Алексей просыпался с ощущением дисгармонии и неправильности собственной судьбы, с чувством, будто чего-то не понимает, не знает, не делает или делает неправильно… Легкий привкус презрения к самому себе, постыдное воспоминание о том безумном страхе, который он каждый раз испытывал на ирреальном, запорошенном снегом кладбище, приводили его в исступление, когда он думал об этом. А не думать было нельзя. Так же как и простить себе, что он никак не решается во сне обернуться, ощущая за спиной дыхание неведомого, непонятного наблюдателя…
Ну, сегодня он обернулся. И что? Единственное, что он мог припомнить теперь, – это ощущение древности, оставшееся от незнакомого старческого лица, резные морщины и упорный взгляд, в котором не было, пожалуй, ничего угрожающего, но были напряженное ожидание и немой вопрос… Тайна осталась тайной, а кошмар по-прежнему оставался кошмаром. Алексей сам не заметил, как накрепко стиснул зубами машинально сунутую им в рот и так и не зажженную сигарету – стиснул так, что у него свело скулы. Неужели же это никогда не кончится? И что, черт возьми, этот сон все-таки может значить – предчувствие? Предзнаменование? Просто разгулявшиеся нервы?..
Тихие шаги на ковре остались им не услышаны – так глубоко погрузился он в собственные мысли. И только когда мягкие теплые ладони закрыли сзади его глаза, легкий завиток коснулся его щеки и знакомый голос негромко произнес: «Проснулся, соня?» – только тогда Алексей сумел сбросить свое оцепенение и улыбнуться наклонившейся над ним женщине.
– Ты давно встала? – спросил он привычно и ласково, как всегда после этого странного сна замечая в себе какую-то щемящую, чуть испуганную, чуть виноватую нежность к жене.
– Давно, – усмехнулась Ксения. – Ты же знаешь: сегодня последний день, масса дел, суеты, сборов, звонков… К тому же последняя наша совместная суббота перед разлукой, так что хотелось побаловать вас с Таткой всякими кулинарными изысками. Да ты, наверное, уже и сам чувствуешь? – и она многозначительно кивнула в сторону кухни, откуда в распахнутую дверь спальни уже действительно струились умопомрачительные запахи свежемолотого кофе, ванили и корицы, горячего теста и домашних пирогов.
На секунду Алексею стало весело. Страх и напряжение разом слетели с него, как ненужная, случайная шелуха мимолетного впечатления. Он потянулся было к жене, которая смотрела на него широко расставленными, серыми, любящими глазами, чуть улыбаясь одними кончиками губ, – и тут же нахмурился. Последний день перед разлукой, сказала она. Ну да, действительно. Как же он ненавидит эти их совместные поездки с дочерью!.. Мало того, что она сама, взрослая сорокалетняя женщина, совсем потеряла голову из-за своего экзотического увлечения, так еще и Наталью в это втянула! Однако вот снова едут – и что тут поделаешь?..
Ксения, насмешливо наблюдая за сменой чувств на подвижном, так хорошо знакомом лице мужа, сумела уловить тот момент, когда его недовольство, казалось, уже готово было выплеснуться в словах, и ласково прижалась к человеку, с которым прожила достаточно долго, чтобы научиться управлять его эмоциями или удерживать его от необдуманных резкостей. Вероятно, Алексею – преуспевающему режиссеру, твердому и решительному человеку, настоящему мужику, каким она всегда его считала, – показалась бы нелепой сама мысль, что кто-то может чем-то управлять в его судьбе или от чего-то его удерживать, но жены – о, жены всегда знают такие вещи лучше своих мужей!
– Ну что ты, Лешик, – примирительно шепнула она. – Пора бы уже привыкнуть. Ты же знаешь, это наша жизнь…
– Ваша жизнь, – передразнил Алексей, высвобождаясь из ее объятий. – А моя жизнь во время вашего отсутствия опять превратится в сплошной комок нервов. И я говорил тебе сто раз…
– А я тебе сто раз отвечала: это не обсуждается, – решительно, не дав ему договорить, прервала жена так и не начавшийся монолог. – Давай не будем больше об этом. Лучше пойдем-ка к пончикам – сегодня те самые, твои любимые!
Глядя на маленькую решительную женщину, которая стояла напротив него с таким видом, будто готовилась к бою, Алексей почувствовал, как его досада улетучивается, а беспокойство и желание поставить на своем уступают место той гордости, которую он всегда испытывал за жену. Да, сударь, подумал он, это вам не актрисульками командовать! Ксения Георгиевна Соколовская за себя постоять сумеет…
И от нежности и тепла, нахлынувших на него, точно по какому-то злобному контрасту он вдруг вновь ощутил морозную оторопь души, ледяную руку, сжавшую его сердце, и чужой суровый взгляд, сверлящий затылок. Точно погребальный колокол прозвенел в его душе, и перед глазами вновь развернулась картина заснеженного кладбища, мелькнули раскрытые зияющие черные ямы и деревянные кресты с непонятными, недоступными ему надписями… Не в силах справиться с нахлынувшей на него тупой душевной болью, он крепко зажмурил глаза и негромко застонал, желая сейчас лишь одного: снова проснуться и понять, что ничего этого не было – никаких снов, никаких тревог, никакого страха…
– Леша, что с тобой? – встревоженный голос жены доходил до него словно откуда-то издалека, гулко и призрачно, и он, немыслимым усилием воли заставив себя вернуться в реальность, поднял ресницы, коротко взглянул на Ксению и прижал ее к себе так крепко, как не делал уже давно.
– Ничего, – коротко пробормотал он. – Немного сердце прихватило. Сейчас пройдет.
Виновато наблюдая потом за тем, как заторопилась жена за сердечными каплями – в общем-то, Соколовские были вполне здоровой и спортивной четой, но на всякий случай джентльменский набор лекарств все же хранился в одном из низеньких удобных шкафчиков их спальни, – Алексей привычно спрашивал себя, зачем ему нужно это вранье и почему он не может просто поделиться с Ксенией своим давним кошмаром. Он давно хотел сделать это, но каждый раз непонятная суеверная мысль останавливала его; ему казалось, что достаточно проговорить все это вслух, облечь тайные видения его ночей в живые, настоящие слова, – и снежный кошмар станет реальностью, а он, Алексей Соколовский, смутивший покой близких своими постыдными страхами, не сможет удержать их рядом с собой и навсегда останется одинок.
– Спасибо, – проговорил он, принимая из рук жены крохотный хрустальный стаканчик с лекарством. – Уже прошло.
И, вскинув на нее совсем несвойственный ему, неуверенный и чуть затравленный взгляд, спросил:
– Ксюш, а может, в этот раз все же отложите, а?..
Ксения нервно передернула плечами, как будто ее охватил нежданный озноб, и отвернулась к широкому окну спальни. Она смотрела на роскошные, бледно-зеленые шторы из тяжелого шелка, затканные едва заметным золотистым рисунком, но видела перед собой не привычный интерьер супружеской спальни, а золотой, и зеленый, и мерцающий, и загадочный мир – мир, скрытый от человеческих глаз, полный тайными шорохами и призрачными тенями, мир, ради разгадки которого только и стоило жить… Ксении Соколовской не нравилось, когда ее сильный, умный и чуть циничный муж – циничный ровно настолько, насколько этого требовали условия современной жизни, чтобы не выглядеть размазней и рохлей, – вел себя как истеричная барышня. Ей не нравилось его отношение к ее здоровому риску: сам-то он, насколько она знала, никогда не отказывался от случая заполучить порцию адреналина в крови. И еще ей не нравилось, когда после двадцати пяти лет брака он играл в преувеличенные, на ее взгляд, опасения за ее судьбу.
А потому она посмотрела на мужа чуть рассеянным, как будто не от мира сего, холодноватым на сей раз взглядом и сказала:
– Мы возвращаемся через две недели. Я сообщу тебе точную дату приезда попозднее.
Этого тона и взгляда было вполне достаточно, чтобы Алексей молча поставил на столик так и не выпитое лекарство и вышел из спальни.
* * *
Никакой ссоры, разумеется, у них не возникло. Их брак давно не обладал тем накалом страстей и эмоций, который необходим для бурного выяснения отношений; много лет их соединяли уже только взаимопонимание и дружба, родственная близость и теплое ощущение надежного плеча рядом, родительская любовь к единственной дочери и взаимное, чуть ироничное терпение к недостаткам друг друга. Впрочем, можно ли обо всем этом сказать – «только»?..
Семья Соколовских была основана на союзе самодостаточных, сильных и творческих людей, каждый из которых умел делать в жизни свое собственное дело и не мешать при этом реализовываться партнеру. Алексей, которому совсем недавно исполнилось сорок семь, находился сейчас, на пороге двадцать первого века, на самом пике своей профессиональной карьеры; спектакли молодежного экспериментального театра, режиссером и художественным руководителем которого он был, неизменно вызывали интерес пресыщенной столичной публики и внимание не менее пресыщенной московской прессы. Несколько громких побед на европейских фестивалях и призы российских театральных премий позволяли друзьям вполне искренне отзываться о нем: «Лешка – гений!», а враги, ехидно посмеивающиеся при этом громком слове, все же вынуждены были, пусть даже нехотя, признавать его талант. Сам Алексей Соколовский, говоря откровенно, гением себя не считал – и был, вероятно, прав. Но в его спектаклях почти всегда была та напряженная, вибрирующая струна, та аура подлинности, которые, собственно, и отличают произведение искусства от грубой и дешевой подделки.
Ксения же в свои сорок четыре упрямо и почти без всяких усилий продолжавшая выглядеть на тридцать пять, была доцентом Московского университета, с упоением занималась геологией и минералогией, знала толк в редчайших породах камней и смогла сделать то, что удается не так уж многим – совместить профессию с любимым хобби. Безупречный художественный вкус позволял ей и готовить для слушателей великолепные, почти литературно выверенные лекции, и со знанием дела коллекционировать красивейшие образцы самоцветов, и консультировать российских художников-ювелиров в том, как лучше «подать» яшму, малахит или оникс для того, чтобы подчеркнуть природную красоту камня. Всегда окруженная толпой студентов, коллег, горных специалистов и художников, изящная и невысокая, с тонким разрезом умных серо-стальных глаз и аккуратно причесанной каштановой головкой, она казалась и знакомым, и собственному мужу воплощением того, что зовется «элегантной женщиной» – не синий чулок, упаси боже, и не то, что порой с насмешливым хмыканьем называют «интеллигентка-с», нет! Но – женщина подлинно современная, образованная без занудства, деловая без ущерба для женственности и вполне успешная без всяких «вливаний» со стороны родственников. И если бы еще не это ее безумное увлечение… ох, если бы не это, режиссер Соколовский, не кривя душой, мог бы утверждать, что с женой ему несказанно, абсолютно – и, наверное, незаслуженно – повезло.
Сейчас эта женщина ждала Алексея за красиво накрытым к завтраку столом, пока он, заканчивая приводить себя в порядок в ванной, пытался с помощью доведенных до автоматизма движений вернуть себе привычный душевный комфорт. Тугие, острые струи душа, покалывающие натренированное тело; тщательное касание остро отточенной бритвой загорелой, все еще упругой кожи; быстрый взмах головой с короткой густой шевелюрой, чтобы мгновенно просушить влажные после мытья волосы… Все это давало ему такое физически отточенное, рельефное, почти зримое наслаждение, что он в последние годы решительно отказался от всех форм нецивилизованного отдыха – любимых некогда походов на байдарках с друзьями, диких рыбалок и прочих походно-мужских радостей – в пользу вариантов, когда под рукой в любой момент оказываются горячая вода для бритья и холодная для контрастного душа. Слишком уж он любил это утреннее ощущение легкости, здоровья, ухоженности, бодрости – то ощущение, которое было для него естественным с юных лет его удачливой жизни и которое так нелепо, так предательски подрывалось в последнее время ледяными кошмарами его мертвенно-белых снов.
– Папка, ты скоро? – перекрывая журчание льющейся воды, раздался через дверь голос его дочери. – Я уже не могу больше ждать, очень кушать хочется!
Последнюю часть фразы она произнесла с характерными интонациями старого анекдота, и Алексей улыбнулся, мысленно представив себе – словно нарисовав – Наталью там, за дверью: быструю, нетерпеливую, веселую… Дочь всегда воспринималась им как какой-то непостижимый, космический сгусток энергии, которому он не в состоянии был противиться, и, мгновенно перекрывая краны, он собрался уже было крикнуть в ответ: «Иду!», как услышал спокойный и непреклонный голос жены:
– Ничего страшного, подождешь. Дай человеку прийти в себя после рабочей недели. Ведь сегодня суббота, Татка.
– Суббота, – проворчала дочь, – можно подумать, он сегодня не будет работать… Когда такое бывало?!
В этот миг дверь ванной комнаты распахнулась, и Алексей, образовавшийся на ее пороге все еще с полотенцем в одной руке, второй, свободной, притянул к себе нахмурившееся великовозрастное дитя.
– Ну, вы с мамой тоже в этом плане не сильно-то отстаете. По крайней мере, по выходным дома не сидите, это уж точно, – добродушно укорил он. А потом, отбросив в сторону ненужный ироничный тон, сделал то, о чем мечтал сегодня с самого момента своего пробуждения: крепко уткнулся лбом в Наташкину пышноволосую, русую, нежно пахнущую головку и одними губами, едва слышно сказал: – Ну, с добрым утром, дочь. Я уже соскучился по тебе…
* * *
Они сидели втроем в своей светлой, просторной кухне, и Алексей вбирал, втягивал в себя настроение этого дня, словно пытался запомнить его надолго, защититься этими воспоминаниями от впечатлений недавнего сна. Звуки, запахи и цвета, легкое касание взглядов и спокойная забота друг о друге – все здесь было таким привычным, любимым и успокаивающим, что он почувствовал, как внутреннее напряжение отпускает его и жизнь вновь приобретает нормальные, не искаженные унизительным испугом очертания.
Он смотрел и слушал, и ему казалось, что все его прошлое, и настоящее, и будущее сфокусировались сейчас в одной точке, сошлись вместе в неторопливом получасе этого майского утра. Вот тихое, мелодичное позвякиванье – это Ксюша слегка задела резной медной туркой о края любимой чашки мужа, наливая ему кофе. Вспыхнувший вдруг в рубиновой капле вишневого варенья, искрящийся луч солнца. Шорох разворачиваемых Таткой салфеток. Тонкий аромат свежих пончиков, которые Ксения пекла по какому-то старинному, одной ей ведомому рецепту – он считался фирменным в ее семье, и когда Алексей из праздного любопытства однажды попытался выяснить у жены хотя бы состав того, чем она начиняет эти божественные, тающие во рту шарики, та полушутя-полусерьезно заявила: «И не старайся узнать, все равно не скажу. Бабушка говорила, что эти пончики – наши обереги и семья наша будет стоять до тех пор, пока никто не знает их секрета…» «Слава богу, что она не рассказала мне тогда этого проклятого рецепта, в котором я все равно ничего бы не понял, – с внезапным суеверием подумал теперь Алексей. – И пусть все остается по-старому: пончики секретными, сны несбывающимися, а мы все любящими и неразлучными…»
Разговор за столом вертелся о ближайших планах семьи, о мелочах, которые еще нужно будет докупить в дорогу, о незаконченных делах. И всякий раз, видя, как едва уловимая складка недовольства трогает лоб мужа, когда речь напрямую касается подробностей их экспедиции, Ксения старалась тут же переключить внимание на его собственный отъезд.
– Как жаль, что ты возвращаешься раньше нас, – говорила она, ловко обходя суть дела, заключающуюся в том, что Алексея не будет дома неделю, а их с Таткой целых две. – Могу представить себе, как тут все зарастет пылью и как неуютно тебе окажется ждать нашего приезда…
– Да ну, мам, – возражала дочь, с преувеличенной плотоядностью выбиравшая на широком овальном блюде самый золотистый пончик, – что он, маленький, что ли? И потом, ты же знаешь, отец все равно не заметит, убрано здесь или нет, – он же дневать и ночевать будет в своем театре.
Конец тирады она произносила уже с плотно набитым ртом и, разумеется, поперхнулась. Отец с матерью одновременно легонько вскрикнули и принялись наперебой хлопать Наталью по худенькой спине, пока, смеясь и отмахиваясь от них, та наконец не перестала кашлять и не вытерла выступившие на глазах слезы.
– Ну вот, – заявила она, глядя на родителей с нарочитым укором. – Довели маленькую до погибели своими пончиками!
– Маленькая! – шутливо замахнулась на нее Ксения. – Аспирантка, спортсменка, просто красавица… Пора стать посерьезней, милая! Тебе бы уже замужем быть и самой детей пончиками кормить, а ты все моими объедаешься…
– Папа! – торжественно воззвала Наталья к его защите. – Помоги. Мама хочет спихнуть меня замуж, ей надоело меня кормить.
Алексей что-то ответил ей привычно-ироническое, почти не вдумываясь в смысл собственных слов, и продолжал потом смотреть на своих женщин странным, отвлеченным взглядом человека, мысли которого бесконечно далеки отсюда. Он не вслушивался в их традиционно легкие пикировки, в которых звучали какие-то «Петя» и «Вася» – вероятно, очередные безнадежные поклонники Татки, которая училась в аспирантуре того факультета, где преподавала Ксения, полностью разделяла безумную страсть матери к ее оригинальным эскападам и совершенно не собиралась, что называется, «устраивать свою личную жизнь». Он даже и не пытался разобраться в хитросплетениях кафедральных дел, на которые вдруг перескочил разговор увлекшихся женщин, в незнакомых именах и названиях, которыми пестрела беседа. Он просто сидел и смотрел на них – таких родных, таких единственных, таких прекрасных…
И именно в это мгновение Ксения остановилась на полуслове, положила свою руку на его ладонь, забытую на столе, и тихо спросила:
– Тебе хорошо сейчас?
Алексей вздрогнул от неожиданности, искренне кивнул, и тут же искусительница-память напомнила ему, как совсем недавно другая женщина, в другой квартире так же положила руку ему на плечо и другим тоном – не мирно-обыденным, как у Ксении, а расслабленным и интимно-счастливым – задала тот же самый вопрос: «Тебе хорошо сейчас?..» Он тоже кивнул тогда ей в ответ, и в тот момент ему казалось, что он никогда еще не был счастливей и что ради этого счастья он готов отказаться от всего, что составляло до сих пор для него смысл понятий «семья» и «любовь»… Ошеломленный вкусом собственного тихого предательства, который он почувствовал теперь, Алексей мысленно чертыхнулся, потом отговорился делами и сборами, поблагодарил жену и быстро поднялся из-за стола.
Завтрак закончился, и вместе с ним закончились легкость, праздничность и простота бытия. Он вышел в холл, ощущая себя внезапно ослепшим и вновь потерявшим способность ориентироваться в собственных желаниях и мыслях. У входной двери он натолкнулся глазами на два аккуратно уложенных, тяжеленных даже на вид рюкзака и чертыхнулся еще раз – теперь уже вслух. Его жена и дочь увлекались спелеологией, с ума сходили от опасных путешествий по подземным пещерам – чем опасней, тем лучше! – и нынешним вечером отправлялись в очередное из них: в Каповы пещеры, на Урал, в краткосрочную разведывательную геологическую экспедицию.
* * *
«Понимаешь, – звучал в его памяти чуть низковатый, грудной голос Ксении, – на поверхности земли таких удивительных, таинственных мест, о которых человеку ничего не было бы известно, уже не осталось. Первооткрывателем теперь можно быть только в космосе, в глубине океана или там, под землей, куда, если уж попадешь однажды, невозможно опять не стремиться. Ох, Лешка, если б ты знал, как там красиво!..» – «Вот и занималась бы космосом, – ворчливо ответил он ей тогда. – Я с удовольствием подарю тебе подзорную трубу, чтобы наблюдать за звездами». – «Какой ты глупый, – убежденно и как-то совсем необидно возразила жена, обнимая его и прекращая прения обычным женским способом – поцелуем. – Любовь же не бывает по заказу. Понимаешь, я люблю весь этот подземный мир, эти узкие ходы и отвесные колодцы, темноту, полную жизни и внутреннего света, этот страх и восторг перед неизведанным, это преодоление себя во имя заветной цели, когда из мрака и тесноты ты попадаешь наконец в огромный мерцающий зал, с которым не сравнится по красоте ни один дворец мира…»
Тогда, много лет назад, ее шепот замер, растворившись в ласках – она впервые поверяла ему свою страсть, свое безумие, свою профессиональную идею фикс, и он не смог устоять ни перед этой женщиной, ни перед притягательной силой ее безумия – сдался, уступил, не настоял на своем. Потом ее экспедиции сделались все более рискованными и частыми, она втянула в них рано повзрослевшую дочь, отдавала им все свободное время, и когда Алексей звал жену в Европу на очередной фестиваль или на модный южный курорт, только смеялась в ответ: «Дан приказ тебе на Запад, мне – в другую сторону…» С годами он стал язвительно – и не совсем справедливо – замечать ей, что как женщина она сильно бы выиграла, если бы тратила побольше времени на себя лично и на всякие милые женские пустяки, занималась бы своей внешностью не только перед их театральными выходами в свет, а постоянно и регулярно… Увы! Эти доводы не оказывали никакого воздействия на Ксению Соколовскую, чья жизнь была полна настоящими, а не высосанными из пальца эмоциями и неподдельным восхищением многих мужчин.
Теперь Алексей стоял в спальне у ее туалетного столика, задумчиво вертя в руках одну из любимых Ксюшиных «игрушек» – горку, маленькую модель подземного мира, сделанную по эскизу жены из восхитительных кусочков горных пород ее приятелем-ювелиром. Мелкие кристаллики агата, малахита, турмалина, топаза, горного хрусталя и еще каких-то неведомых Алексею самоцветов были причудливо склеены в островерхую скалу с крошечной пещеркой у подножия; безделушка была по-настоящему красивой, таинственно переливалась в его руках и казалась ему воплощением странной, загадочной и такой непонятной для него жизни его любимых женщин.
Вздохнув, он осторожно поставил вещицу на место и подошел к окну. Внизу волновался и бурлил Ломоносовский проспект, прямо перед ним высился шпиль университета, и запах яблонь из университетского сада – весна в этом году была на редкость ранняя и дружная – таял в голубоватой дымке утра. Алексей закурил наконец первую за этот день сигарету и, запретив себе думать о чем бы то ни было, прислонился головой к холодному стеклу оконной рамы.
– Ты все-таки сердишься? – раздался за его спиной голос Ксении. На сей раз он вовсе не был для него неожиданным: Алексей прекрасно слышал, как она вошла в спальню, но ему не хотелось ни оборачиваться, ни спорить о том, о чем спорить было давно бесполезно.
– Нет, – ровным тоном ответил он и, обернувшись, приобнял жену. Так стояли они рядом, глядя друг другу в глаза, ни о чем не спрашивая и не давая друг другу никаких ответов и обещаний. Между ними лежала целая жизнь, и в который раз уже за это утро Алексей Соколовский истово помолился богу, чтобы эта жизнь оставалась их общей жизнью и дальше – долго, долго, до конца, до последней березки над холмом…
А Ксения, с сожалением оторвавшись наконец от мужа, кивнула на аккуратно застегнутый, дорогой кожаный чемодан, стоявший в углу комнаты, и спросила:
– Ты видел?.. Я все положила тебе как обычно, но все же посмотри на всякий случай, вдруг что-то забыла.
Он рассеянно кивнул и, вернувшись наконец сердцем к тому, что последние месяцы полностью занимало все его мысли, взволнованно, с жаром заговорил:
– Ты только представь себе, Ксюха: специальная номинация Венецианского фестиваля, сотни экспериментальных театров со всего мира, лучшие театральные имена! А я не уверен на этот раз – нет, не в спектакле, но в труппе, в ребятах… Что-то не то творится у нас в последнее время…
Он осекся, не желая полностью посвящать жену в то, что происходило у него в театре – и происходило, пожалуй, прежде всего по его вине, – но Ксения, словно не обратив внимания на его нечаянную оговорку, осторожно заметила:
– Мне кажется, ты напрасно так нервничаешь. Да и тебе ли беспокоиться об уровне труппы? Ты был с ребятами в Авиньоне, был в Стретфорде-на-Эйвоне, объездил чуть ли не всю Европу – и никогда, нигде ни одной осечки!
– Но уровень, статус, ответственность! Нет, ты не понимаешь, – он почти сорвался на крик, но усилием воли приказал себе задавить его, замолчать, остановиться. Затронутая тема была слишком болезненной для Алексея, и жена слишком мало знала об истинном положении дел в театре. Поэтому, боясь, что не сможет сдержаться, он резко отошел от окна и сделал вид, что углубился в изучение разложенных на кровати документов.
– Я все понимаю, – успокаивающим тоном произнесла Ксения. – Я понимаю, что ставки слишком велики: тебе уже есть что терять, твой возраст и уровень известности уже не позволяют бездарных промахов, и любая ошибка будет воспринята как конец твоей творческой молодости. Исписался, изработался, закончился как режиссер… о, я знаю, что говорят в таких случаях! Но все-таки ты слишком взвинчен. Успокойся, остановись. Все будет как надо. Ты сделал хороший спектакль. Это говорю тебе я – я, твоя жена. Поверь мне…
Ему стало стыдно за свою вспышку. Ксюха права: спектакль был хорош… Он знал это так же твердо, как и то, что сумеет рано или поздно все исправить в своей профессиональной жизни, вернуть ситуацию в труппе к исходному статус-кво, избавиться от косых взглядов и двусмысленностей. Сумеет… когда-нибудь. Но не сейчас. А Италия была уже сейчас – вот она, рядом, завтра, вечерним рейсом…
Легкое прикосновение прохладных пальцев Ксении к его щеке вернуло Алексея на землю.
– Ты будешь очень занят вечером? Сумеешь отвезти нас в аэропорт?
– Конечно, конечно, – торопливо проговорил он, удерживая руку жены рядом со своим лицом, – репетиция закончится часа в четыре; я дал ребятам время, чтобы собраться и отдохнуть перед завтрашним отъездом.
И, поколебавшись немного, добавил:
– Пожалуйста, береги себя и Наталью. Я… буду очень, очень скучать по вас.
Ксения молча кивнула. Задержала взгляд на его лице, чуть-чуть улыбнулась озорно и насмешливо, как частенько улыбалась в их ранней юности, и вышла из спальни, оставив за собой слабый аромат духов, тихий отзвук шагов и растворяющийся в воздухе призрак разлуки.
Глава 2
– Свет! Свет на сцену! Вы что там все, заснули?!
Алексей отшвырнул в сторону зажигалку, которую в течение всей репетиции крепко сжимал в руках, и напряженно подался вперед. Финальная сцена спектакля плохо давалась его ребятам; ему казалось, что они грешат в ней ложным пафосом и ненужной многозначительностью. А тут еще помощники дали неверный свет, и конец вовсе оказался смазанным…
Соколовский вез в Италию лирическую балладу о двух влюбленных, и если можно было чем убить его спектакль – так это как раз дефицитом искренности и дешевым «перебором». На протяжении сорока минут на сцене были только герои, два стула и зонтик. Этот зонтик то укрывал героев от дождя, то разделял их в минуты ссоры своим сложенным острием, как когда-то меч целомудрия разделял Тристана и Изольду в средневековом романе, то становился для них качелями, на которых влюбленные уносились навстречу мечте и радости. Зонтик парил над сценой куполом чудесного парашюта, сверкал остро отточенным наконечником в луче света, падал вниз, внезапно складывая крылья, как гигантская бабочка, и однажды… просто ломался, как всегда ломается любовь. Эта тонкая, поэтичная история была хороша и по замыслу, и по сценарию, и по режиссуре – но ее надо было и хорошо сыграть.
Сейчас, глядя на своих ребят, Алексей вновь мысленно перебирал в памяти все те события, которые привели его к этому спектаклю и к грядущему фестивалю. Сам некогда бывший талантливым и непростым в работе актером, Соколовский всегда знал, чего он хочет, умел выстроить любую роль как броское цветовое пятно – и до безумия конфликтовал с режиссерами, которые пытались подчинить его творческую индивидуальность себе и своему собственному видению спектакля. Он ссорился, рвал отношения, менял театры, обвинял уважаемых в театральной среде лиц в непонимании и банальности и в конце концов, как и следовало ожидать, заслужил репутацию капризного и непредсказуемого человека, хотя при этом и яркого, профессионального исполнителя.
Догадавшись, что ему попросту тесно и скучно в рамках, заданных чужой творческой волей, Алексей сумел переломить и выстроить свою дальнейшую профессиональную карьеру так же неожиданно и круто, как он переламывал предлагаемые ему роли. Он не просто стал режиссером – и при этом таким же известным, как некогда был на актерском поприще, – но создал свой собственный театр. Театр молодежный, необычный, экспериментальный, набор в который Соколовский проводил чуть ли не с улицы, – и в то же время театр-антипод, театр-вызов, театр-сюрприз. Как ни странно, это был антипод всем тем начинаниям, которые в нынешней России принято называть экспериментальными и молодежными. В его проекте не было ничего похожего на столь нашумевшее в последние годы в столице «Метро»: ни ориентации на массовый жанр популярного мюзикла, ни ставки на технические эффекты, ни броских трюков… Его спектакли, камерные и не слишком дорогие для сценической постановки, как-то очень быстро сделались мерилом хорошего вкуса, символом новой театральности, знаком возврата к вечным человеческим ценностям. Вопрос «А вы видели новую работу Соколовского?» сделался таким же обязательным в среде светского столичного общества, как некогда вопрос о пропуске на закрытые просмотры кинофестиваля или престижную выставку в каком-нибудь иностранном посольстве. И это, заметьте, при том, что добираться до его театра приходилось долго и неудобно – на самую окраину Москвы, в старое помещение бывшего молодежного клуба, которое переоборудовали и отделали для театральных нужд умелые руки самих участников труппы…
Он начинал с ними с легких экспромтов, свободного полета фантазии, этюдов на выбранную ими свободную тему, и эти ребята, оказавшиеся на удивление не задавленными массовой поп-культурой, от которой сходят с ума их сверстники, не уставали поражать своего руководителя смелостью, мудростью и тонкостью чувств. Откровенно говоря, Алексей поначалу и сам не ожидал от них такого понимания, такого созвучия своим мыслям; в раскованности, уверенности, яркости молодых он был уверен заранее, все эти качества попросту диктовались их возрастом, а вот чуткость, терпение, какое-то несвойственное лихой молодости чувство меры и соразмерности, ощущение прекрасного в жизни и на сцене… О, это было потрясающе! И он захлебнулся работой с ними, он репетировал до трех, четырех часов ночи, ездил с ними по соседним городам – что было уж вовсе не обязательно для режиссера его уровня и его статуса, – решал их проблемы с регистрацией в столице и принимал близко к сердцу все их семейные сложности… Словом, он жил своим театром, и театр отплатил ему за это признанием и любовью.
Мало-помалу случайные люди отсеялись из его труппы: ушли те, кто прибился к театру из праздного любопытства, из суетного славолюбия, и те, кто не «совпал» с режиссером по мироощущению и накалу чувств. Зато пришли новые лица – выпускники театральных училищ, которые слетались теперь на имя Соколовского, как мотыльки на пламя свечи, не ведая, как просто обжечься рядом с ним и как не прощает он халтуры и непослушания; профессиональные актеры, убедившиеся в его компетентности и таланте; несколько восходящих звездочек российского театра; несколько признанных авторитетов в своей области… Театр ширился и набирал силу, становился похожим на Ноев ковчег, приобретал все большую популярность и что-то терял – безвозвратно, нечаянно, непоправимо, как теряются молодость и свежесть. Именно в это время Алексею удалось добиться статуса экспериментального молодежного театра при Министерстве культуры России – бюджетных денег это приносило ему немного, но зато дало стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а также большее доверие спонсоров, которых и без того было достаточно благодаря его собственной известности и первым успехам труппы. В это же время он создал вторую труппу при театре – более профессиональную, более умелую, более соответствующую его новым замыслам. Ребята-непрофессионалы, перестав ощущать его внимание и интерес, начали разбредаться кто куда; многих он потерял из виду, со многими сталкивался уже только случайно, испытывая при этом невольную горечь и чувство неловкости. Кого-то он определил в театральные училища, кого-то сумел пристроить в другие любительские труппы (его собственный театр в это время уже никто не посмел бы назвать любительским!), кому-то не смог помочь ничем и попросту выбросил их из головы. Не позволяя себе даже мысленно произнести слово «предательство» по отношению к собственному поступку, иногда он все же ощущал вину перед тем своим, первым театром, первой труппой уже десятилетней давности – как перед первой любовью, забытой и преданной. Но он не давал разгореться этому ощущению. Вина способна была помешать ему идти вперед и добиваться поставленных целей. А цели у Алексея были серьезные, и сделать он успел немало.
И вот теперь он смотрел на любимых актеров – крепких профессионалов, умелых и талантливых исполнителей, и не мог понять, почему такое раздражение вызывает в нем то, что они делают. «Мои ребята поняли бы меня сейчас», – мелькнуло у него в голове, и он не успел даже осознать, что только что с легкостью отрекся от собственной труппы, назвав своими тех, кто начинал с ним когда-то много лет назад и от кого он с такой же легкостью отрекся, когда поменял их на этих…
– Ребята, финальную сцену еще раз! Не надо патоки, ее и так достаточно в тексте. Мимика, интонации, пластика – все должно быть сдержанным. Поехали!
– Алексей Михайлович, четвертый раз повторяем! Глаз уже «замылился», только хуже сделаем…
Иван Зотов, один из лучших актеров труппы, успешно специализировавшийся на амплуа героя-любовника, редко позволял себе спорить с режиссером, и в его возражениях обычно всегда присутствовало рациональное зерно. Однако в этот раз Соколовский раздраженно буркнул: «Что? Бунт на корабле?!» – и актерам пришлось подчиниться.
К слову сказать, как раз игра Ивана не вызывала сейчас у Алексея особых претензий. Все свое внимание он сосредоточил на действиях героини: были в кошачьей грации актрисы, в воркующих интонациях ее голоса какие-то нюансы, шедшие вразрез с основной трактовкой образа. И мучительно пытаясь разобраться, что же именно она делает не так, до боли в глазах вглядываясь в рисунок ее движений и походки, он одновременно пытался отделаться от воспоминаний о том, как движется и живет это тело, уже слишком хорошо знакомое ему, в минуты страсти. Женщина-вамп, которая умела принести ему столько наслаждения своей гибкостью и раскованностью, абсолютной свободой своего поведения, никак не хотела сопрягаться в сознании режиссера с образом лирической героини, тонкой, почти бесплотной, воздушно-прекрасной… И оттого Алексей злился и чувствовал, что сам упускает какие-то возможности решения этой последней, такой важной для всего спектакля в целом, сцены.
– Лида, зайди ко мне в кабинет, – отрывисто произнес он, когда замерли финальные звуки музыкального сопровождения, и грузно поднялся из кресла. Неуклюже пробираясь между рядами зрительного зала – он знал, что в минуты огорчения и растерянности теряет грацию, начинает двигаться принужденно и не слишком красиво, – Алексей поймал на себе несколько косых взглядов, долетевших из группы актеров, стоявших у сцены, и даже осколки недружелюбной фразы «…разумеется, она… это же Венеция!». Ну ничего, подумал он, намертво стиснув зубы, и мысленно погрозился сам не зная кому: «Я вам еще покажу!»
* * *
В кабинете он отдернул тяжелые бархатные шторы, давая лучам майского солнца свободно струиться в промытое до блеска стекло, включил кофеварку и нажал кнопку электрического чайника. В этом маленьком здании на юго-западе столицы, которое принадлежало теперь их театру и которое давно стало местом паломничества любителей экспериментального искусства, был уютный и не слишком дорогой кафетерий, но Алексей предпочитал пить кофе у себя на рабочем месте. А Лида, он знал, не признает ничего, кроме зеленого чая.
Раздался короткий стук в дверь и сразу же, не дожидаясь ответа, вошла его героиня. Она шла к нему через огромный кабинет, как могла бы идти вся молодость мира, словно неся на вытянутых руках ему в дар свою отчаянную юность, не признающую условностей любовь и яркую, почти вызывающую красоту. Буйная копна темных шелковистых волос, широко расставленные синие глаза, немного великоватый, но хорошо очерченный рот, превосходная кожа, высокая грудь, стройная и очень женственная фигура… Каждый раз, когда он видел Лиду, первой мыслью его была ассоциация с фотомоделью, длинноногой манекенщицей, девушкой с обложки журнала – и нельзя сказать, чтобы эти ассоциации очень уж украшали актрису в его глазах. Типичное и набившее оскомину редко нравится режиссерам… Но в Лиде такая подчеркнуто сексуальная внешность, во-первых, с лихвой окупалась актерским талантом и темпераментом, а во-вторых… Боже, и в-третьих, и в-четвертых, и в-пятых – до чего же она была хороша!
Она уселась напротив него и спокойно – даже чересчур спокойно – спросила:
– Я плохо играла сегодня?
– Нет. – Он выдержал паузу, подвинул к ней чашку с душистым жасминовым чаем, достал из инкрустированного шкафчика на стене коробку конфет с коньяком и только после этого продолжил: – Не плохо. Но ты играла иначе. Понимаешь, что я хочу сказать? На сцене была другая женщина, и такая – другая – она ломает мне всю идею. Так мы не договаривались, Лида.
Она расслабленно откинулась на мягкую спинку кресла.
– Слава богу, Алеша, а то я уже начала беспокоиться. Ты так странно смотрел на меня сегодня. А что касается образа… Ты же знаешь, я не умею быть одинаковой всякий раз.
– Никто не просит тебя быть одинаковой. Но соответствовать замыслу ты ведь должна, верно? Черт возьми, ну не мне же учить тебя актерскому мастерству!..
Лида засмеялась едва слышным, хрустальным, как звук замирающего вдали колокольчика, смехом и нежно погладила Алексея по щеке. Опять женская рука прикасалась к его лицу, как пару часов назад, но эта рука была совсем другой – мягче, теплее, и пахла она совсем незнакомыми, остро-пряными духами. И, не сумев совладать с собой – так притягивала его к себе эта молодость, у которой был привкус и недозволенности, и порока, и подлинной страсти, – он прижался к этой руке и закрыл глаза. «Господи, прости меня, – подумал он. – Я не должен этого делать. Но я не могу…»
– Все будет хорошо, – шептала ему женщина, и он не мог понять, которая из двух. – Ты сделал отличный спектакль. Это говорю тебе я – я, твоя лучшая актриса…
– Ты сделаешь на сцене так, как я просил тебя это сделать? – спросил Алексей, не открывая глаз.
Она молча отняла свою руку и отошла прочь. Когда Алексей открыл глаза, Лида стояла, прислонясь к противоположной стене, и смотрела на него упрямым, немного искоса, исподлобья взглядом.
– Ты знаешь, что говорят о нас в труппе? – ответила она ему вопросом на вопрос, проигнорировав его просьбу. Соколовский знал за ней эту привычку – перескакивать в разговоре с предмета на предмет и обходить молчанием то, что почему-либо ей хотелось обойти. Он пытался отучить ее от этой великосветской замашки, однако есть ли на этом свете хоть что-нибудь, от чего стареющий и слегка влюбленный мужчина может отучить двадцатишестилетнюю красавицу?
– Знаю, – нехотя ответил он. – А что, тебя это беспокоит?
Лида повела точеным плечом.
– Не то чтобы очень, но все-таки… Дело же не в том, что они говорят, будто я твоя любовница, – это как раз чистая правда, милый. Дело в том, что именно этому пикантному обстоятельству приписывают то, что ты даешь мне лучшие роли, поставил в расчете на меня «Зонтик» и теперь как раз эту вещь везешь в Венецию… И берешь с собой при этом не всю труппу, как обычно, а только пять человек. Хотя все знают, что с тобой «едет» новый сценарий, для которого ты собираешься отыскать там спонсоров, и значит, тебе потребуются показы актерских сил и возможностей театра…
– Ну, почему едет только пять человек, так это надо спросить у нашего нынешнего спонсора, – хмуро проговорил Соколовский. – Он оказался не настолько богатым, как хвастался в начале нашего сотрудничества. И, между прочим, надо сказать ему спасибо и за это. А что касается того, что я отдаю тебе лучшие роли…
На этот раз пауза повисла надолго. Алексей твердо знал, что Лида Плетнева – хорошая актриса. Но еще он знал, что актрис ее уровня в его труппе было немало. Да – нервная, трепетная, темпераментная, с превосходной фактурой и прирожденным, невыдуманным артистизмом, живущая чувствами, а не разумом и выплескивающая свои чувства на сцене не чинясь, не мелочась и не жадничая… Все это было так. И все-таки за те два года, что она провела в его театре, он вполне бы мог разумнее распределять свои режиссерские предпочтения. Правы, правы были злые языки театра; до Алексея внезапно дошло, что еще до того, как Лида стала его любовницей – а это случилось не так давно, – он уже неосознанно выбирал к постановке пьесы, рассчитанные именно на ее амплуа, на особенности ее дарования, с центральными ролями, как нельзя лучше подходившими этой очаровавшей его женщине.
– Да? – мягко вернул его к действительности Лидин голос. – Так что насчет того, что ты отдаешь мне лучшие роли, потому что я сплю с тобой?.. Может быть, в действительности я просто бездарна? Глупа? Ни на что не гожусь? Вернее, гожусь, но только на одну роль – роль режиссерской подстилки?.. Разубеди меня, Соколовский. Прошу тебя.
Она говорила легко, иронично, чуть-чуть ерничая, и все-таки из ее тона, а еще больше из ее взгляда Алексей понял, насколько важен был для Лиды ответ на ее вопрос. Актеры – как дети, подумал он, каждый день нуждаются в поглаживаниях и комплиментах. Неужели она и впрямь так ранима, так зависима от чужого мнения, так не уверена в собственных силах? И тут его осенило: может быть, этой неуверенностью объясняется и новый рисунок роли – изломанный и неровный, – который она попыталась создать сегодня на сцене? Ну, если так…
Он набрал побольше воздуха в легкие – этот прием был им хорошо отработан для тех случаев, когда надо было придать убедительность собственным словам при том, что сам он в них был отнюдь не уверен, – и заявил:
– Я даю роли тем актрисам, которые в данный момент отвечают потребностям театра. Наше ремесло не терпит ни благотворительности, ни милостыни. И прошу тебя поверить, дорогая, что я не подал бы тебе ни полушки, невзирая на все твои постельные таланты, если бы на сцене ты меня разочаровала.
Это выглядело грубо, и Алексей прекрасно сознавал это. Но грубость была намеренной, расчетливой, именно такой, чтобы девушка смогла поверить в его искренность, его профессионализм, его непредвзятость. А сам, сам-то он верил ли в них сейчас?..
Прием сработал, как всегда, безупречно. Лида с облегчением вздохнула и вернулась к столу. Медленными глотками допила свой зеленый чай, совсем остывший, веселым жестом кинула в рот шоколадку из коробки и сказала:
– В Венеции я буду совсем другой на сцене. Такой, как ты хотел. Обещаю.
Ему хотелось тоже вздохнуть с облегчением после этих слов, но он мог позволить себе сделать это только мысленно. И, уже провожая ее до двери, мельком целуя сочные, теплые розовые губы, он перекинулся с ней еще парой легких фраз, как шариком пинг-понга в изящной и необременительной игре.
– Мы увидимся сегодня вечером?
– Нет, мне нужно отвезти своих в аэропорт. Завтра, Лидуша, все завтра. Я буду свободен и буду с тобой. У нас впереди целая неделя солнца, красоты, игры, творчества… Ты, я и Италия. О чем еще можно мечтать?
– Действительно, – эхом откликнулась Лида, – о чем?..
Он вернулся к своим бумагам, к своей чашке кофе, к своим размышлениям и вдруг поймал себя на том, что сидит, замерев, уставившись в одну точку, а перед глазами у него не мельтешение невесомых пылинок в столбе солнечного света, а белая равнина, молчаливые деревья и прочерченный в воздухе крылом черного ворона острый след.
* * *
Было уже почти час ночи, когда Алексей наконец-то вернулся домой из аэропорта, посадив в самолет жену и дочь и повторив им на прощанье тысячу раз, как он любит их и как будет по ним скучать. В этих фразах не было ничего неискреннего или вымученного, но в слегка чрезмерной пылкости его поцелуев оказалось нечто такое, что Ксения, чуткая, как все жены «со стажем», оценила слегка приподнятой бровью и невольной усмешкой. «Вечный прокол мужей, ощущающих себя небезупречными, – думал он потом, ровно ведя свою жемчужно-серую „Ауди“ по мокрому после дождя асфальту. – Вечное стремление предупредить подозрения, прикрыть тылы – и вечный проигрыш, потому что это только заставляет насторожиться женскую интуицию… Но разве я и в самом деле виноват? Разве эта интрижка с женщиной, которая ничего не требует и ничего от меня не ждет, представляет хотя бы минимальную угрозу для моей семьи? Какая чепуха!» Однако, думая так, он невольно кривил душой и сам понимал это – потому что не было на свете ничего, что могло бы оторвать его от Ксении, и не было ничего, что заставило бы его отказаться от Лиды.
Соколовский снова понял это, уже расхаживая перед сном по опустевшей квартире, когда внезапный телефонный звонок (только один человек теперь мог звонить ему глубокой ночью) заставил его напрячься и ощутить легкий укол в сердце.
– Ты уже дома? – Голос Лиды в трубке был сонным и тягучим, и перед его мысленным взором внезапно воскресла вся она: гибко потягивающаяся в постели, едва прикрытая легкой тканью простыни – ей вечно бывало жарко, словно внутри у нее полыхали вулканы, – соблазнительная и прекрасная, как все на свете Евы. Нет, как ни одна из них – как никто на свете!..
Ему пришлось напомнить себе, что она значит для него куда меньше, чем сама думает. И только после этого он смог ответить ей спокойно и тоже чуть сонно:
– Дома. И, честно говоря, уже засыпаю… – Алексею стало немного стыдно за собственный громкий зевок, но, право же, она становится чересчур навязчивой.
– Не скучно засыпать в одиночестве? Я могу вызвать такси и через полчаса буду у тебя.
Господи, она что – сошла с ума? Лида могла быть вздорной, упрямой, капризной, но она никогда не была – по крайней мере, Соколовский никогда не знал ее такой – ненасытной, настойчиво домогающейся мужского внимания и предлагающей самое себя. Что-то случилось, понял он. Что-то, кардинально меняющее схему ее поведения и требующее, на ее взгляд, немедленного обсуждения с ним. А вслух он уже проговаривал осторожным и даже равнодушным тоном:
– Разве мы не все обсудили с тобой в театре? Прости, Лидуша, я так вымотался за сегодняшний день… А завтра – ты помнишь? – уже Италия.
На мгновение он стал неприятен сам себе – тоже мне целомудренный Иосиф, – но другого решения быть не могло. Лида никогда не бывала у него дома; это вообще было не в привычках Соколовского – приводить любовниц в супружескую спальню и в перерывах между ласками рассматривать с ними семейные альбомы, походя наливая кофе в любимую чашку жены. Не так уж много серьезных связей было в его жизни, но в каждой из них он неукоснительно придерживался принципа: не смешивать удовольствия с чувством долга, не создавать угрожающих ситуаций ни для семьи, ни для любовного увлечения, дать любой ситуации «остыть» и умереть естественным путем – прежде, чем жена догадается о происходящем, а подруга начнет грезить иным финалом… Наверное, это было не слишком морально, но зато – разумно, и уж во всяком случае лучше, считал он, чем лепить драму на драме, превращая собственную жизнь в мыльную оперу.
Кажется, он не ошибся в выборе тактики и на этот раз, потому что Лида мгновенно «отыграла» свой неудачный ход назад и рассмеялась легким, чуть хрипловатым со сна смехом:
– Я пошутила, глупый! Неужели ты думаешь, что существует на свете мужчина, ради которого я способна ночью разориться на такси?! Спокойной ночи, Соколовский. Увидимся завтра перед полетом.
– Спокойной ночи, – с облегчением откликнулся он. – Не опаздывай, прошу тебя. Ты ведь знаешь, как важна для нас эта поездка.
– Да? Для нас?.. – иронично подцепила его собеседница на невольной двусмысленности. – В таком случае, конечно, не опоздаю.
И – гулкие, короткие, как недосказанное, оборвавшееся слово, гудки в трубке.
Он, задержавшись на одно ненужное мгновение, положил трубку на рычаг и только теперь заметил, что все время разговора крутил в руках старинную серебряную рамку, из которой с большой черно-белой фотографии – Алексей не признавал цветных пленок, они казались ему раскрашенными лубками – ему улыбалось счастливое, молодое, почти совершенное по чеканности рисунка лицо дочери. Татка была больше похожа на него, чем на мать; она была не просто хорошенькой – в ней ощущались благородство, порода, чистота линий: все то, что люди знающие ценят превыше обычной миловидности, а иногда и превыше красоты. Наверное, княжеская кровь сказывается, усмехнулся про себя Алексей и бережно поставил портрет на место, на одну из полочек деревянного секретера – древнего, резного, с полным письменным прибором на столешнице, – который так аккуратно вписался в их гостиную. Этот секретер, да серебряная рамка для фото, да несколько живописных подлинников известных русских художников, да тонкая связка писем и дневниковых записей, перехваченных узкой розовой ленточкой, – вот и все, что осталось ему от бабушки, которой он никогда не видел и о которой почти никогда не вспоминал. Это – и еще запутанная, темная история, пронизанная страстью, ненавистью, разлукой. История, притягивающая его своим драматизмом и отталкивающая слишком запутанной фабулой, в хитросплетениях которой ему никогда не хватало любви и терпения разобраться…
Часы в гостиной пробили два, и Алексей лениво подумал, что надо бы наконец уснуть. Но ему не спалось, и он снова и снова бродил по квартире, как сомнамбула, нервно втягивая ноздрями последние запахи, последние флюиды, еще говорящие о присутствии жены и дочери. Его взгляд то скользил по строгой и классической в своей изысканной простоте мебели гостиной (обставляя дом в соответствии со своими вкусами и пожеланиями Ксении, он лишний раз убедился, насколько больших денег стоит такая вот простота), то цеплялся за любимые литографии и рисунки на стенах – эскизы к его постановкам, зарисовки различных сцен спектаклей, дружеские шаржи на актеров театра, – то прикипал к брошенной на уютное кресло Таткиной блузке или позабытому женой мягкому халатику. Все в доме сейчас выдавало поспешность женских сборов, многие вещи оказались не на своих местах, и обычно в таких ситуациях Алексей всегда успевал перед собственным отъездом привести квартиру в порядок. Именно так он намеревался поступить и в этот раз – он собирался сделать это завтра, в воскресенье, – но почему-то нечаянно поймал себя на мысли, что ему жаль тревожить хаос милых пустяков и случайных небрежностей, так живо напоминающий ему о семье. Пусть все остается как есть, неожиданно для себя решил он. С удовольствием поживу потом недельку среди этих брошенных, родных и знакомых вещей. А вернутся девчонки – и уберем все вместе. И снова в доме запахнет пончиками, и теплые, сладкие запахи ванильного теста выплеснутся из распахнутых окон, и Наталья непременно зазевается и упустит на плиту кофе, а Ксения, смеясь, будет упрекать ее в безалаберности, и ароматы жилья и жизни перемешаются с их общими воспоминаниями, – а дом оживет и очнется от нынешней спячки, и все пойдет как прежде.
Воспоминания о Ксюшиной стряпне вдруг пробудили в нем зверский аппетит, и Алексей стремительно ринулся на кухню, торопливо соображая, осталось ли что-нибудь в холодильнике такое, что можно было бы перехватить ночью без особого ущерба для фигуры. Пятый десяток – не шутка!.. Еды оказалось более чем достаточно – Ксения превосходно готовила и всегда старалась перед отъездом снабдить остающегося в городе мужа разнообразными вкусностями, – однако ни крупные ломти запеченной осетрины, ни сырные шарики, ни щедро сдобренный приправами и оливковым маслом салат сейчас не показались ему подходящими для скромной трапезы. В конце концов он заварил в любимом фарфоровом чайнике свежий янтарный чай, поставил посуду на поднос вместе со сливочником и сахарницей и, прихватив воровато пару оставшихся от завтрака пончиков, направился в кабинет.
Он прошел туда через коридор и гостиную, сквозь череду плавных, мягко закругляющихся арок. Во время последнего ремонта ему понравилась современная, непринужденная идея заменить тяжелые скучные двери сквозной и легкой анфиладой дверных проемов. Режиссеру Соколовскому никогда не нужны были полная тишина и уединение, если речь шла о его собственном доме. Напротив – творческий импульс, хорошее рабочее настроение ему придавало одно только сознание, что близкие находятся рядом, одна атмосфера присутствия в квартире жены и дочери. Слишком уж часто они бывали в разлуке – его командировки, их экспедиции, – чтобы еще и добровольно замыкаться в себе, находясь в одном городе. Алексей знал, что многие из его коллег не выносят пустопорожних, по их мнению, бытовых разговоров, пустой семейной болтовни, вообще всякого «фонового» домашнего шума. Он мог понять их – но сам был не таков. Работая в кабинете, он то и дело перекликался с Ксенией, спрашивая ее мнения по тому или иному поводу, радовался, слыша Таткин негромкий разговор по телефону, ощущал себя включенным в заботы жены, время от времени улавливая ее реплики в сторону случайно забредшего в дом аспиранта… Вот и теперь, оказавшись среди ночи в своей «берлоге», как шутя называли кабинет его домашние, он тут же удобно устроился в высоком кожаном кресле, водрузил перед собой на столе поднос, от которого подымался аппетитный чайный дымок, и привычно сфокусировал глаза на еще одной фотографии, на сей раз уже семейной, которая привычно украшала собой его рабочее пространство.
И тут же ему стало тошно от собственного благолепия. Ага, сказал он себе. Примерный муж и семьянин, не успев расстаться с женой и дочерью, не спит ночами и оплакивает недолгую семейную разлуку. А в это время ему звонит любовница и предлагает скрасить его одиночество… Стоп, стоп. Что случилось? Откуда эти смешные угрызения совести?! Или впервые он заводит интрижку на стороне? Или есть причины думать, что на сей раз все немного серьезнее, чем обычно? Или… Да нет же, черт возьми! Все как всегда. Прекрасная семья. Прекрасная любовь. Какого же черта тебе еще надо, Соколовский?..
Впрочем, урезонивая и коря себя за нелепые, елейно-супружеские мысли, Алексей все же чувствовал, что повод для них имеется. Во-первых, странный звонок среди ночи – это так не похоже на Лиду. Ох, будут еще, будут у него основания пожалеть, что не смог поговорить с ней сразу и выяснить все, что ее беспокоит!.. Во-вторых, то, что его сердце екнуло и пропустило положенный удар, когда он услышал в трубке ее голос. А признайтесь-ка, господин режиссер, вам ведь хотелось, чтобы девушка появилась в эту ночь в вашей супружеской спальне, а? То-то. Раньше с вами такого не случалось: Богу всегда отводилось Богово, а кесарю – кесарево. И третье… да, что же третье? Но думать об этом уже настолько не хотелось, воспоминания и ощущения были настолько отталкивающими и бездушно-морозными, что Алексей только поморщился и выкинул все это из головы.
Чтобы успокоиться, он нашел глазами два любимых своих полотна – из тех самых, доставшихся от бабушки-дворянки, – которые украшали теперь стены его кабинета и всегда дарили его душе отдохновение и радость. Одно из них принадлежало кисти кого-то из передвижников (подпись была почти неразборчива, и можно было лишь приблизительно определить стиль и эпоху) и изображало трех барышень, совсем девочек, в легкой и светлой беседке яблоневого сада. Выражение лиц, старинные шляпки и платьица, ажурная зелень листвы над их головой, тихая радость летнего дня – все в картине дышало такой юностью, свежестью, незамутненной невинностью бытия, такой навсегда ушедшей от нас доверчивостью к жизни, что у Алексея всякий раз перехватывало горло, когда он смотрел на нее. Россия, которую мы потеряли… И молодость, которую почти успели позабыть.
Зато другое полотно разительно контрастировало с безмятежной наивностью первого. Соколовский считал эту картину бесценной – и было за что. Подлинник Айвазовского, довольно большой по размерам – художник, как известно, любил крупные формы, – с огромной силой передавал бешенство моря, отчаяние гибнущего в волнах корабля, обреченность хрупкой шлюпки, пытавшейся уцелеть среди разбушевавшейся стихии, и – уже у самого берега – незыблемость и непоколебимость огромной скалы, на вершине которой орел терзал когтями свою жертву… Несмотря на то что картина была перегружена деталями и сюжетными намеками, в ней было столько ярости, столько чувства, столько безнадежности и – одновременно – последней надежды, что она никого не могла оставить равнодушным. Понимая это и безмерно гордясь своим раритетом, Алексей повесил картину так, что она прекрасно просматривалась сквозь арку и из гостиной, и даже из коридора – самое яркое пятно в их доме, самый громкий призыв к борьбе и самый – ох, если бы Соколовский только мог догадываться об этом! – самый последний его шанс на спасение…
Однако сейчас он не смотрел на Айвазовского. Ему вполне достаточно было нежных, передвижнических, почти тургеневских барышень. Чай оказался еще крепок и горяч – как он любил, ночь темна и спокойна, тиканье часов было мерным и успокаивающим, и Алексей наконец почувствовал, что этот день действительно кончился. Он прошелся мимо полок с любимыми книгами, раздумывая, не прихватить ли все же какую-нибудь из них в постель, тронул рукой пару статуэток, пристроенных сюда Таткой, обвел глазами ворох милых, добрых и, в общем-то, ненужных ему в кабинете вещей, которыми старались украсить его рабочее пространство жена и дочь, и решительно направился к спальне. Глаза слипались уже по-настоящему; он, собственно, и сам не понимал, что заставляет его изо всех сил цепляться за эту, такую обычную субботу, не давая ей навсегда кануть в небытие. Успев еще спросонья налететь на старую верную Эрику Иванну (так в доме называли его пишущую машинку, на которой он работал, никак не желая поменять ее на пылящийся в углу, навороченный, подаренный какими-то спонсорами компьютер), Алексей наконец добрался до кровати и рухнул на нее, как был, не раздеваясь. Последним, что пронеслось в его сонном мозгу, был голос дочери, услышанный словно наяву: «Пап, пиши всегда на Эрике Иванне! Я так люблю возвращаться домой и слышать твое ворчливое постукивание. Сразу поднимается настроение и хочется самой сделать что-нибудь стоящее… Ты не бросай ее, папка, ладно?» Ладно-ладно, уже во сне проворчал Соколовский. Он и помыслить себе не мог, чтобы писать на компьютере: не доверял современной технике, не мог избавиться от мысли, что достаточно одного неверного движения курсором – и стертым окажется что-то важное, пропадет мысль, испарится вдохновение… Татка сидела в гостиной, в кресле, держа на коленях раскрытую книгу, и наблюдала за ним, работающим, в проем арки. У Татки были глаза девочки с картины передвижника и такая же, как у нее, шляпка… И, улыбаясь дочери облегченно и радостно, Алексей наконец окончательно провалился в сон, в котором не было на сей раз ничего тяжелого или холодного.
Глава 3
Рейс Москва – Венеция задерживался на целый час. Прихватив в маленьком кафетерии уютного зала вылета пиво для себя и кофе для Лиды (что поделаешь, зеленого чая здесь не предлагали), Алексей устроился в новеньких креслах свежеиспеченного международного аэропорта в Домодедове и попытался мысленно еще раз «прогнать» в памяти весь спектакль, чтобы нащупать самые слабые его места и, может быть, придумать, как их исправить. Неторопливо потягивая ледяной пенный напиток из своей кружки, перебирая в голове реплики пьесы, он отсутствующим взглядом скользил по ребятам из труппы, собравшимся рядом с ним в оживленный кружок, видя и не видя их, думая о своем. Он смог в этот раз взять с собой пятерых, только пятерых – но зато лучших из лучших, самых крепких его профессионалов, прирожденных актеров, чувствующих и работающих в унисон с ним. Помимо него самого и ребят, занятых в «Зонтике», здесь были также Володя Демичев (помощник режиссера, правая рука Соколовского, без которого он не мыслил себе никаких переговоров, никаких деловых или административных контактов) и супружеская чета Лариных – отличных характерных артистов, которые в связке с лирическим амплуа Ивана и Лиды образовывали мини-труппу, способную «поднять» практически любую пьесу. У Лены Лариной, правда, был отвратительный склочный характер, а Леонид в последнее время слишком уж увлекался спиртным, раздобрел и обрюзг, стал терять сценическую хватку, и режиссер не раз пытался поговорить с ним с позиций и начальника, и друга, прекрасно сознавая при этом всю тщетность своих попыток. И все же совместный творческий потенциал Лариных был настолько велик, что с этими недостатками приходилось мириться.
Сейчас все они собрались рядом с Алексеем, бурно жестикулируя и обмениваясь последними новостями и сплетнями. Настроение у труппы было приподнятое, как почти всегда перед гастролями: впереди лежала неизвестность, незнакомая публика готовилась освистать или же прославить их, и эта творческая неопределенность будоражила нервы и щекотала актерское самолюбие. А то, что предстоящее им испытание будет проходить в декорациях прекрасной и древней страны, делало поездку еще более притягательной для них.
– Италия, ребята!.. Я давно хотел побывать там, – невольно вслушивался Соколовский в легкий, необременительный треп его соратников. – Представьте себе только: «капуччино», «синьорина» и прочие там «аморе»…
– Не просто Италия, балбес, а сама Венеция! – беззлобно, хотя и грубовато поддел Ивана Леня Ларин. – А что касается «аморе», так на это у тебя времени там не останется. Сначала Соколовский запряжет на репетициях с утра до ночи, потом спектакли, переговоры о новых постановках, потом еще всякие там протокольные фестивальные мероприятия… Скажи спасибо, если успеешь город посмотреть да пару раз в море искупаться.
– Насчет искупаться – не советую, – с видом знатока заявила его жена. Тонкая до неправдоподобия, с узкими и удлиненными пропорциями тела, со змеиной пластикой, эта женщина была одновременно и привлекательна, и нехороша собой, как это бывает с опасными хищниками и двуличными, но притягательными в своей изменчивости людьми. – Официально купальный сезон в Италии начинается только с первого июня, а сейчас вода еще холодная. В отелях народу мало, пляжи пустые… Уж мы-то точно это знаем, да, Ленчик?
Стараясь всеми силами показать, какими опытными путешественниками по заграничным курортам они с мужем являются, Лена, пожалуй, немного перегнула палку, и первым на это веселой усмешкой отреагировал помреж Володя. Соколовский знал и ценил его умение мягко ставить на место зарвавшегося собеседника и теперь с удовольствием ожидал его встречной реплики. Однако в разговор вмешалась внезапно появившаяся Лида, которая на несколько минут отходила «попудрить носик» – ее умение называть не слишком изящные вещи милыми и пикантными именами немало импонировало Алексею.
– Да ладно вам, ребята. И Италию посмотрим, и призы сорвем, и насчет «аморе» не подкачаем. Или мы не молодцы, или мы не русские комедианты?.. Что скажешь, режиссер?
Она подмигнула Алексею, и тот, залюбовавшись поначалу ее стремительной фигуркой и изящной небрежностью каждого движения, тут же невольно рассердился на Лиду за фамильярность. Она никогда прежде не афишировала столь открыто сложившихся между ними неформальных взаимоотношений, и вот пожалуйте вам: Лена Ларина уже скривилась в понимающей ухмылке и бросила мужу нарочито многозначительный взгляд. Что же это такое с девицей случилось, в самом-то деле? Однако актриса явно втягивала его в общий разговор, и на ее вопрос надо было как-то отвечать.
– Скажу, что насчет призов вы, скорее всего, погорячились, Лидия Сергеевна. Желающих, знаете ли, и кроме нас достаточно. А насчет любви, – Алексей намеренно не стал употреблять удалого итальянского термина, который с таким удовольствием произносили его ребята, – насчет любви пусть каждый решает сам. О деле, о деле надо думать, господа актеры! А то болтать-то о победах вы все горазды, а как до работы дойдет… – и он намеренно немного повысил голос, приняв на себя маску отягощенного заботами руководителя и сделав вид, что ему сейчас не до праздного суесловия.
– Получили? – нимало не смутившись, будто отповедь режиссера не имела к ней лично никакого отношения, прищурила яркие синие глаза Лида. – Работать, работать, господа актеры! – и она так удачно передразнила интонацию Соколовского, что маленькая группка дружно расхохоталась, и непринужденные, порхающие реплики вновь понеслись наперерез друг другу в их тесном кружке.
А Лида меж тем незаметно отделилась от друзей и присела рядом с Алексеем, глотнув наконец давно уже принесенный им кофе.
– У, какая гадость, – разочарованно протянула она, отставляя в сторону чашку с остывшей темно-бурой жидкостью. – Мало того, что отрава, да к тому же еще и холодная…
Алексей молчал, выжидая. Лида подавала ему реплику, как партнеру на сцене, но он не хотел подыгрывать ей в неизвестной ему пьесе. В воздухе носилась гроза, что-то непонятное было и в настроении молодой актрисы, и в ее непривычной игривости, и в повышенной нервозности ее поведения, и он чувствовал, что наступает какая-то решительная минута, сложный и, может быть, ненужный ему разговор, от которого, однако, нельзя уклоняться. Он давно допил свое пиво; теперь ему нечем было занять руки, и он подумал с тоской человека, не привыкшего к сценам: «Какая скука!» – и приготовился к худшему. Сейчас он смотрел на любовницу холодно – того требовало его чувство самозащиты, – и холодность эта была вполне непритворной.
Лида тоже помолчала немного, сообразив, что он не станет послушно подавать ей мячи в той игре, которую она затеяла, и наконец – как прыжок в воду – решилась пойти напролом:
– Я хотела с тобой посоветоваться. Дело, видишь ли, не терпит отлагательств…
Подняв бесшабашный взгляд, она ударилась глазами об иронично-отстраненное выражение его лица и споткнулась об это выражение, как о наглухо запертую дверь. Решимость ее мгновенно куда-то улетучилась, и Лида, которую можно было назвать как угодно, но только не глупой, сама уже недоумевала, зачем завела этот разговор перед самой Италией. На самом-то деле она пока явно опережала события, новая ситуация в ее жизни только еще начинала развиваться, и благоразумней было бы пока помолчать, предоставив делу идти своим чередом. Но жадное женское любопытство, стремление поскорее выяснить реакцию Алексея на ее новость заставило ее излишне поторопиться.
Соколовский же, не склонный сейчас помогать ей, все же почувствовал необходимость разорвать неприятную паузу. Чуть поморщившись, он бросил ей снисходительный вопрос, как подачку назойливому попрошайке:
– Посоветоваться – о чем? Я слушаю, слушаю тебя. Не тушуйся, говори, пожалуйста.
Мгновенный прилив злости помог ей выстроить следующую фразу так, как это было бы больше всего неприятно ее режиссеру.
– Меня зовет к себе в труппу… – и она назвала имя прославленного руководителя одного из самых знаменитых московских театров. – Разумеется, речь не идет сразу о ведущих ролях, но то, что он предлагает, несоизмеримо с тем, что я имею у тебя.
У Алексея перехватило дыхание. Потерять Лиду сейчас – прежде всего как актрису, но и как любовницу тоже – вдруг показалось ему невозможно, немыслимо. Но молчать в этот раз было нельзя, и он медленно проговорил:
– Я хорошо вижу, что ты теряешь при этом. Но, извини меня, совсем не вижу, что ты выигрываешь.
– Надеюсь, ты не станешь спорить, что статусы двух театров, о которых идет речь, несопоставимы, – медовым голосом произнесла актриса.
– Но у меня ты играешь главные роли. О тебе говорят в Москве, твоих автографов просят поклонники, ты самая модная актриса молодежной театральной тусовки… И эту известность ты получила благодаря моим спектаклям, не так ли?
Лида усмехнулась. Алексей и сам понимал, как смешно напоминать женщине о собственных благодеяниях, тем более что своей популярностью она все-таки была больше всего обязана собственному таланту. Но такая новость теперь… перед гастролями… когда он сделал на нее ставку, когда ищет спонсоров для новой постановки, рассчитанной прежде всего на ее амплуа… когда уже подобран репертуар для следующего года, который без Лиды рассыплется, словно труха! Черт бы побрал всех этих баб!
– Ты не можешь так поступить со мной, – сказал он еще спокойно, но уже закипая в душе и готовясь дать волю своей ярости, если только она посмеет с ним спорить. Однако девушка спорить не стала, а только вздохнула и сделала еще один глоток из чашки, кофе в которой не стал ни горячее, ни вкуснее за истекшие минуты.
– Самая модная актриса молодежной тусовки… Ты прав, Соколовский, – ее голос, когда она заговорила вновь, прозвучал неожиданно тускло, без выражения, и Алексей почти обрадовался этой нежданной апатии, которая показалась ему признаком того, что Лида готова согласиться с его доводами. – Конечно, прав. Но мне уже… ты помнишь, сколько мне лет, Алеша? О, немного: только двадцать шесть. Но для той молодежной тусовки, о которой ты говоришь, я через пару лет окажусь старовата. И для того чтобы быть звездой экспериментального молодежного театра, – возможно, тоже.
– Ну, только не говори мне, что на новом месте ты собираешься играть старух и вообще мечтаешь остепениться, – ядовито проговорил Соколовский. – И вряд ли новый режиссер сможет дать тебе больше, чем я…
– Он холост, – мягко напомнила Лида. – Я смогу открыто появляться с ним на людях. И он сможет открыто восхищаться мной не только как актрисой, но и как женщиной. Возможно, ты ничего не слышал об этом, но он уже поступает именно так. Вот что он даст мне, Соколовский…
Все, приехали. Этого следовало ожидать. Больше всего на свете Алексею хотелось бы сейчас сказать ей что-нибудь такое, что сразу поставило бы все на свои места и напомнило его любовнице об их негласном уговоре никогда не затрагивать эту тему. С любой другой женщиной он так бы и поступил. Но почему-то сейчас он был оглушен и растерян; он не мог найти нужных слов и почти готов был оправдываться. Лида слишком сильно переплелась в его сознании с его собственным театром; ее успех означал для него успех труппы, ее популярность – известность спектаклей, в которых она участвовала, ее присутствие стало для него символом удачи и радости… И потому он не удивился, когда внезапно услышал свой собственный голос, зовущий к перемирию:
– Ты хочешь о чем-нибудь попросить меня? Подожди, не торопись, быть может, мы найдем выход…
– Я? Попросить? – совершенно искренне и как-то совсем необидно удивилась его собеседница. – Да бог с тобой, Алеша. Это ты всегда просил меня о чем-то, не правда ли? А я никогда ничего не требовала, ни на что не рассчитывала… за это ты и любил меня, верно же?
Она снова помолчала и добавила совсем тихо, как будто не хотела, чтобы он услышал ее:
– Если ты хочешь попросить меня о чем-нибудь, что ж, я готова тебя выслушать. Только поторопись, Соколовский.
– Поторопиться? – пробормотал совсем уже сбитый с толку Алексей, который никак не мог собрать сейчас собственные мысли, предательски разбегавшиеся в разные стороны. – Почему?
– Да вот же, наш рейс объявляют, слышишь? – расхохоталась Лида, точно ни о чем другом они и не разговаривали. – Или ты хочешь опоздать? Ну же, скорее!
И она вскочила с кресел, потянула его за собой, и щебет и гвалт прочих членов труппы закружил и увлек за собой Алексея, и, опомнившись через несколько минут уже на трапе самолета, он сам не мог поверить в то, что Лида действительно хочет бросить его и театр и что весь этот дурацкий разговор ему не приснился там, в удобных креслах аэропорта Домодедово.
* * *
Не может быть, думал Алексей. Этого попросту не может быть… Она улыбалась ему из кресел так весело и нежно (он отсел в полупустом самолете довольно далеко от всей честной компании, отговорившись желанием подумать, поработать), так непринужденно махала рукой, когда ненароком ловила на себе его взгляд, так невинно заснула на третьем часу полета, свернувшись в уютный, грациозно-кошачий клубок… Нет, не может быть! Все ведь было так хорошо. Они так полно, так искренне понимали друг друга. Ему так льстили ее трепетная, молодая влюбленность, ее необременительная преданность, принадлежащая ему целиком и ничего не требующая для себя взамен, ее жертвенность и пылкость. И что же теперь? Теперь, когда он позволил себе неосознаваемую вначале им самим роскошь – быть зависимым от нее, что же теперь?..
Это началось около полугода назад, чудесным днем поздней, светлой, удивительно теплой осени. Деревья еще полыхали пожаром золотых и багряных красок, и Москва утопала в сладком мареве последних цветных дней перед тем, как погрязнуть в официальной, строгой черно-белой гамме долгих месяцев ледяной стужи. В такие дни Алексей всегда особенно остро ощущал преходящую, невозвратную поступь жизни, торопился работать, страстно хотел дружить, говорить, чувствовать… А потому одиночество в эти периоды воспринималось им как высшая несправедливость, как личный враг, которого необходимо низвергнуть и побороть, как невероятная творческая помеха.
И именно таким – пряно-чувственным от дурманящего аромата осени и при этом оскорбительно одиноким – выдался для Соколовского тот вторник, когда на него, точно ураган, обрушилось нежданное, непрошеное, незаслуженное им чувство Лиды. Он хорошо помнил свою досаду и горечь, когда в театре сорвалась репетиция, сорвалась нелепо и независимо от чьей-либо вины – один из ведущих актеров свалился с острейшим приступом аппендицита, прямо со сцены его увезла «Скорая», и работа в тот день закончилась, едва успев начаться. Режиссер метался по артистическим гримеркам, матерясь и придираясь к ребятам от бессильной злобы на судьбу, так невесело подшутившую над ним в этот день. И актеры хмуро огрызались или отмалчивались ему в ответ, тоже с неудовольствием предполагая впереди длинные дни незаслуженного простоя.
Потом он долго курил в своем кабинете, распустив подчиненных по домам. Марал бумагу, пытаясь работать над очередным сценарием и точно зная, что ничего путного он сегодня не напишет, отвечал на чьи-то звонки, просто смотрел в окно. Ему было некуда торопиться: Ксении и Наташи опять – как всегда! – не было в городе. Ох, эти вечные экспедиции, вечные разлуки, это вечное отсутствие любимых женщин и их неучастие – пренебрежительное, казалось ему теперь, – в его жизни! И именно тогда, когда они так нужны Алексею!..
Он был несправедлив сейчас, распаляя в себе негодование на прошедший пустой день и предстоящий пустой вечер, но в этот миг Соколовскому было не до справедливости. Задыхаясь от отвращения к собственной неприкаянности, от обиды, от чувства собственной ненужности этому московскому дню, он наконец вышел из кабинета, с грохотом захлопнув за собой дверь. Точно так же он намеревался поступить и со входной дверью театра, который наверняка уже опустел к семи часам вечера, так неудачно свободного на этот раз от спектакля. Но, проходя через зрительный зал, внезапно зацепился взглядом за живое движение в застывшем пространстве и с разбегу остановился. Одинокая фигурка, склонившаяся в одном из кресел над кипой бумажных листов, показалась ему провозвестницей удачи и – самое главное – спасением от одиночества.
Женщина подняла на него взгляд, и Соколовский понял, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Огромные глаза актрисы, которая всегда казалась ему слишком красивой для мелкой интрижки – а другим вовсе не было места в его жизни, – смотрели на режиссера с едва ощутимым чувством женского превосходства, с сочувственной негой, с насмешливым обещанием. И он начал, как теннисные мячики, подбрасывать ей слова, затевая игру, в нужности которой еще сам не был уверен, и все убыстряя ход событий, наивно веря, что этот ход зависит только от него.
– Лида, вы все еще здесь? Я думал, все давно ушли. Что вы здесь делаете?
– Я хотела поработать над ролью, Алексей Михайлович. Откровенно говоря, мне не все понятно в вашей трактовке и… я не во всем согласна с ней. Вы не могли бы уделить мне несколько минут, раз уж репетиция все равно не состоялась и вы свободны?
– Разумеется, с удовольствием. Вам не нужно было ждать так долго – надо было просто заглянуть ко мне в кабинет, я все равно бездельничал.
Тут она в первый раз улыбнулась, и с невероятным для того мига прозрением Соколовский понял, что Лида не из тех женщин, кто ходит за мужчинами по их кабинетам. Неожиданная встреча, мистическое совпадение, непреднамеренное столкновение больше были в ее натуре, нежели долгие выхаживания и ожидания; фаталистка, она всегда и все предоставляла решению случая, и уже много позже, сталкиваясь с этой упорной чертой ее характера, Алексею приходилось и благодарить, и проклинать за нее судьбу и природу.
Они обсудили роль; в нескольких словах пришли к соглашению, причем Алексей легко уступил в тех местах, которые сам считал малозначащими, и Лида подарила его благодарным взглядом, ошибочно приписывая его уступчивость обаянию собственной внешности; поговорили о том, как долго будет отсутствовать в театре заболевший актер. Посмеялись, посплетничали, посетовали на близкую зиму. А потом теннисные мячики в их игре начали сыпаться все быстрее, и он едва успевал понимать, куда ведет его ее воля. Легкий, ни к чему не обязывающий словесный флирт закружил его в своих недомолвках, улыбках, воздушных, как цветочный вихрь, фразах, и Алексей оказался обескуражен, словно разом сброшен с небес на землю, когда Лида вдруг встала посреди какой-то его шутки и, чуть виновато разведя руками, сказала:
– Простите, дорогой маэстро. Мне пора.
– Вы торопитесь? – искренне огорчился Соколовский, который, не ожидая ничего особенного от развития вечера, все же не хотел так резко обрывать приятного, искрометного разговора.
– А вы нет? – неожиданно резко спросила его собеседница. – Разве вас никто не ждет?
– Представьте себе, нет, – почти польщенный этим банальным женским вопросом, улыбнулся режиссер. – Жены и дочери нет дома; они занимаются спелеологией, увлекаются опасными походами по пещерам и то и дело бросают меня одного. Знаете, – доверительно продолжил он, – они просто помешаны на своих камнях. А я каждый раз так переживаю из-за этих рискованных экспедиций! Дом без них кажется совсем пустым, а я чувствую себя неприкаянным и ненужным. А тут еще сорванная репетиция, заболевший актер, пропавший день… Впрочем, простите: с какой стати вы должны выслушивать мои жалобы?
И он тоже поднялся, считая беседу законченной. Однако он плохо еще знал эту женщину, реакция которой на любую реплику бывала иногда непредсказуемой для нее самой.
– Уговорили, – сказала Лида так, будто он и впрямь только что умолял ее о чем-то, и посмотрела ему прямо в глаза своими бездонными очами цвета мрачной, морской синевы. – Я беру вас с собой. Ручаюсь, что сегодня вы не будете чувствовать себя одиноким.
Наверное, у Алексея был слишком озадаченный вид, потому что она снизошла до объяснений – весьма необычное для нее занятие, как он не раз имел случай убедиться позже.
– У моей близкой подруги сегодня свадьба, и я приглашаю вас с собой. Особого веселья не ждите и на чрезмерно интеллектуальное общество тоже не рассчитывайте; предупреждаю сразу – это брак по расчету со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но, во всяком случае, отличный ужин, качественное спиртное и возможность потанцевать нам обеспечены.
Алексею сделалось смешно от ее серьезного, почти сухого тона; было такое впечатление, будто молодая красивая женщина делает ему деловое предложение, а не зовет с собой на вечеринку. И с чего она вообще взяла, что он потащится в какую-то незнакомую компанию и потратит вечер на чужих людей?.. Но, чтобы сказать хоть что-нибудь и чтобы отказ не выглядел чрезмерно суровым, Соколовский игриво спросил:
– А какие же это последствия вытекают из того, что брак совершается по расчету?
– А вот увидите сами, – засмеялась Лида, и Алексей, открывший уже было рот, чтобы вежливо отказаться от приглашения, с изумлением вдруг услышал, как благодарит девушку за отличную идею и соглашается сопровождать ее.
Так он попал в этот вечер в «Прагу», где шумная компания человек в сто пила, хохотала и перебивала друг друга, празднуя брак интеллигентной симпатичной переводчицы и немолодого бизнесмена средней руки. Невеста так явно стыдилась своего подгулявшего и не в меру болтливого жениха, а бизнесмен столь откровенно влюблен был в юную свою партнершу, что Соколовский довольно быстро сумел вычислить, что именно Лида называла «всеми вытекающими отсюда последствиями». Понятие о мезальянсе как о роковой ошибке, опасной для обеих сторон, по-видимому, не слишком-то изменилось с девятнадцатого века, и впечатление неравенства брака, рождавшегося у всех на глазах, будило в присутствующих, даже если они не отдавали себе в этом отчета, ощущения грусти, стыда и какого-то тайного недоумения.
Алексей много и неожиданно для себя с удовольствием пил в этот вечер, много танцевал – не только с Лидой, но и с другими бесчисленными красотками, представленными здесь точно на выставке тщеславия, – и много наблюдал за гостями, словно собирая в копилку нового сценария приметы чуждого ему «новорусского» мира и смутного, непонятного времени. Лида тоже, казалось ему, пристально наблюдает за ним, хотя она так мало уделяла ему внимания, порхая по нарядному залу и заговаривая с самыми неожиданными людьми, что он почувствовал даже некое подобие разочарования. Глядя на то, как красиво (правда, немного жеманно, тут же отметил его вкус режиссера) она пьет шампанское, танцует, улыбается, и, вспоминая то немногое, что он знал об этой молодой и яркой женщине, Соколовский вдруг невольно задумался о ее судьбе и ее будущем.
Как и все девочки, выросшие в арбатских переулках в эпоху великого перелома цен и ценностей, вышедшие из простых семей и оказавшиеся вдруг брошенными из тотального дефицита в морок сияющих и недоступных витрин, Лида казалась ему существом, неизбежно обреченным на то, чтобы вечно балансировать между невинностью и хищностью, бескорыстием и завистью, любовью и ненавистью. Им было шестнадцать, когда последнее десятилетие века рухнуло на них и придавило своими переменами; более взрослые уже успели заработать к тому времени хоть что-нибудь – деньги, связи, знакомства; более юные могли еще рассчитывать на везение и правильный выбор пути. А эти девочки, еще недостаточно взрослые и образованные, чтобы крепко стоять на ногах, но уже достаточно зрелые, чтобы не соблазниться лаврами путаны-валютчицы, воспитанные еще в иных представлениях о дозволенном и недозволенном, могли рассчитывать только на себя. Его Татка тоже принадлежала к этому поколению, но у Татки было все, а у Лиды, воспитанной матерью-одиночкой, – только ее внешность и талант. И, понимая, что для молодой актрисы его внимание – это прежде всего своего рода капитал, инвестиция в будущее, гарантия новых ролей, Соколовский все же не мог устоять перед лучезарностью ее улыбки, казавшейся такой искренней, перед ее интересом, выглядевшим неподдельным, и перед красотой, которую она, казалось, готова была бросить на алтарь своего театрального успеха.
Он так глубоко погрузился в размышления о Лиде, что умудрился не заметить, как она подсела к нему с бокалом в руке, разгоряченная вином и танцами, и вздрогнул, почти разбуженный ее мелодичным голосом.
– Я надеюсь, вы не жалеете, что приняли мое приглашение? Вам не скучно здесь?
– Разумеется, нет. Однако пора и честь знать… о-о-о, время-то уже к двенадцати! Разрешите откланяться и передайте, пожалуйста, еще раз мои наилучшие пожелания новобрачным.
Роскошный букет был вручен им еще прежде, сразу по прибытии в ресторан, и теперь, решил Алексей, он, пожалуй, может счесть свои обязанности гостя выполненными и исчезнуть не прощаясь, по-английски. Однако Лида взглянула на него поверх шампанского чуть сузившимися, потемневшими, отстраненными глазами и проговорила:
– Разве вы не отвезете меня домой? Мы не дождались десерта, и я могла бы предложить вам взамен него чашку кофе…
Соколовский колебался не более секунды. Все дальнейшее показалось ему закономерным и простым, единственно правильным из того, что могло произойти с ним в этот печальный, одинокий, проведенный со случайными людьми вечер. Он довез Лиду до дома и действительно получил свою чашку кофе – но уже утром, как и рассчитывали, похоже, они оба. Преувеличением было бы сказать, что, зарываясь ночью в темные Лидины волосы, он испытывал к ней что-либо большее, нежели простая благодарность и мужское восхищение ее юностью и свежестью. Алексею вообще казалось, что все произошедшее – не более чем прелестный экспромт; он не собирался увязать в истории, которая началась так неожиданно и даже почти не по его инициативе. Однако мало-помалу ее губы, руки, все ее тело, ее женский шарм и женские же капризы, ее умение задавать нужные вопросы и молчать в нужные моменты, ее по-мужски точные суждения и твердая точка зрения на все на свете, ее взгляд искоса и ночной стон в его объятиях, – все это мало-помалу сделалось для него необходимым, как воздух. И при том все это время он самодовольно продолжал думать, что связь с Лидой, подобно прошлым, не таким уж и многочисленным связям с актрисами в его жизни, служит в его судьбе лишь своеобразным декором, красивым, но необязательным украшением, изящным излишеством, без которого он вполне может обойтись и от которого, при необходимости, легко сможет отказаться.
И все же то, что начиналось и воспринималось им как легкая интрижка, получило закономерное завершение, в которое он не хотел верить, в аэропорту Домодедово, когда Соколовский узнал о себе непреложную и печальную истину: он не может потерять Лиду. Все, что угодно, – но только не это.
* * *
Следующие часы после прилета в Италию были заполнены у Алексея такими заботами и хлопотами, что его усталому мозгу – к счастью, думалось ему – оказалось не до рефлективных размышлений о взаимоотношениях с ведущей актрисой собственного театра. Калейдоскоп лиц – встречающих, размещающих, советующих, консультирующих, поздравляющих, лебезящих и прочее – заворожил его своей сменяемостью и в то же время монотонностью; он механически исполнял все необходимые ритуалы руководителя и туриста и почти не смотрел на Лиду. Это было кстати теперь и казалось ему единственно правильным.
Труппа Соколовского поселилась в Лидо ди Езоло – маленьком, прелестном курортном местечке, от которого за несколько минут можно было катером добраться до центра Венеции и гостиницы в котором, при всей дороговизне, стоили все же неизмеримо дешевле, нежели отели на прославленных венецианских каналах. Зотов с Демичевым и, разумеется, супруги Ларины оказались в двухместных номерах, а Алексею и Лиде достались одноместные – ему в силу его режиссерского статуса, а ей просто потому, что не нашлось женской пары. Так, впрочем, и задумывал Соколовский, отправляясь на эти гастроли и рассчитывая число актеров, которых он возьмет с собой. Только теперь все эти расчеты показались ему почти излишними: отпуская ребят погулять по ночной Венеции – был уже поздний вечер, когда они закончили все необходимые дела, – он не присоединился к возбужденным путешествием друзьям и не скрылся от них тайком, чтобы постучаться в Лидину дверь. Он просто коротко пожелал всем стоящим рядом спокойной ночи и заперся в своем номере.
Быть может, он ждал, что девушка сама придет к нему ночью, но этого не случилось, и, говоря откровенно, режиссер не слишком-то пожалел об ее отсутствии. Ему нужны были несколько спокойных, ничем не замутненных часов наедине с самим собой; он хотел отдохнуть перед работой на фестивале и спокойно обдумать сложившуюся ситуацию. Алексей хорошо знал, что город-праздник, город-фейерверк, каким справедливо считается Венеция, на самом деле требует от тех, кто рассчитывает на ее признание, фанатичной преданности своему делу, работы до самозабвения и служения всерьез. Легкомысленным и романтично-ленивым этот город кажется лишь непосвященным. На самом же деле за парадными фасадами знаменитейшего карнавала, международного кинофестиваля и бесконечных круглогодичных праздников (среди них оказался и фестиваль экспериментальных театров, на который они приехали) скрывается жесткая требовательность, расчетливая практичность и совершенно несентиментальное отношение к миру. Будь венецианцы иными, они просто физически не смогли бы выжить на протяжении многих веков в этом городе на воде, городе-призраке, где борьба за существование всегда была более жестокой, нежели в иных, более благословенных местах. И вот такую-то публику – не говоря уже о строгом международном жюри – должен был покорить Соколовский своим «Зонтиком».
Проведя полночи в размышлениях о спектакле, он поднялся на другое утро если и не отдохнувшим полностью, то, во всяком случае, приведшим мысли в порядок, снова крепко стоящим на ногах и готовым, как он думал, к любому повороту событий. Он снова стал тем Соколовским, которым помнил и чувствовал себя всегда, – человеком, для которого не было ничего дороже его искусства и который, уж конечно, умел быть независимым от каприза женщины.
Спускаясь на завтрак, он еще издали услышал разочарованный басок Вани Зотова, который меньше других успел попутешествовать по заграницам и был совершенно не готов к той грустной реальности, которая носит в европейских странах наименование «континентальный завтрак».
– И это все? – громко и возмущенно вопрошал он. – Вот этот вот сухарь с заплесневелым сыром?!
Соколовский улыбнулся, присаживаясь к своим актерам за большой круглый стол, накрытый белоснежной, крахмально-жесткой, хрустящей скатертью, и успел вставить слово, покуда этого еще не сделала презрительно покривившаяся на Ванину неосведомленность Лена Ларина.
– Сыр, Ванечка, как раз очень приличный, из дорогих сортов, с плесенью; для номеров нашего уровня это достаточно дорогое обслуживание. А сухари, как ты непочтительно выразился, – это тосты, без них не обходится в Италии ни один завтрак.
– Нет, но это и все? – не унимался Иван, кипевший праведным негодованием. – Я вас спрашиваю, это завтрак для мужика?
– Еще есть кофе и соки, – с набитым ртом подал реплику Леонид Ларин. – А вон там, на столе, всякие-разные хлопья. Гадость, конечно, изрядная, но у этих жмотов так принято. Потом смотри: выдали еще по ломтику ветчины…
– И йогурты, – тщательно скрывая улыбку, заботливо добавила Лида. – Если хочешь, я отдам тебе свой.
Елена засмеялась, Володя Демичев молча пододвинул Ивану свою ветчину (он был давним и убежденным вегетарианцем), а Соколовский смотрел на этих ребят, и в груди у него было тепло от одного их присутствия, от того, что завтра вечером они будут сражаться вместе, и от того, что ему не страшно сейчас было зависеть от них – он доверял своей труппе и любил ее. Все другие заботы, тревоги минувших дней, все воспоминания о семье, о Москве – все, кроме театра и женщины, сидевшей сейчас неподалеку от него, начисто выпало у него из головы. Он смотрел на всех, кроме Лиды, нарочно, словно выдерживая экзамен и проверяя собственную силу воли, не позволяя себе задержаться взглядом на ее лице. И все-таки не выдержал, приник к ней глазами, как усталый путник приникает наконец к обетованной земле. Солнечные зайчики играли в ее волосах, она смотрела куда-то в сторону, мимо Соколовского, и лицо ее было свежим, умытым, без единой капли макияжа, и чистым, словно весеннее солнце, которое заливало в эти часы уютный зал маленького ресторанчика. А Алексею казалось, что это молчаливое солнце смывает с ее лица и с его души всю горечь, все недоразумения и все грехи прошлого, в которых они могли быть повинны друг перед другом, – смывает для того, чтобы они могли открыть новую, чистую страницу и сделать на ней свои первые записи.
Разговор за столом меж тем давно уже отошел от кулинарных страданий юного Зотова и вертелся теперь вокруг предстоящего испытания.
– Вы уж постарайтесь, ребята, – озабоченно говорил помреж Володя, торопливо глотая остатки сока. – Вы же знаете, речь идет не просто о том, чтобы произвести впечатление на фестивале. Нам нужно идти дальше, ставить новые вещи, а для этого, сами понимаете… В общем, Венеция решит многое. Здесь будут люди, которые способны помочь нам в Москве, продвинуть нас вперед. И они же могут затормозить всю нашу работу. Так что «Зонтик», можно сказать, это наше прошение на вспомоществование…
– Фу, Володя, зачем так грубо! – кокетливо поморщилась Лена Ларина. – Я как-то не могу представить себе нашу Лидочку с протянутой рукой и в нищенском рубище. Впрочем, может, оно ей даже пойдет больше, чем платье, которое на ней сейчас…
Все невольно усмехнулись. Штатная театральная змея высунула жало и, как обычно, слегка, истинно по-женски куснула соперницу. Лидино платье действительно было очень неброским и скромным в это утро, но, на вкус Алексея, оно сидело на ней просто потрясающе именно благодаря изящной простоте покроя. Ее красота была настолько бесспорной, что могла восприниматься почти как штамп, но Лида умела вдохнуть в свои движения столько неповторимости и только ей присущего шарма, что этот штамп переставал быть таковым и приобретал черты подлинного произведения искусства.
– Я говорю то, что есть, – отрезал Демичев, больше всех прочих (включая и Соколовского) озабоченный в последнее время финансовым положением театра. – Я очень надеюсь на завтрашний вечер, ребята. И, конечно, на последующие пробы…
– Ладно, ладно, – чуть фамильярно хлопнул его по спине Леонид Ларин и принялся шумно подниматься из-за стола. – Не боись, Володь, все будет как надо. Что мы, Ивана с Лидой не знаем?.. И мы с Ленкой на подхвате, если что, – надейтесь на нас. Прямо сейчас и на репетицию…
– Нет, – спокойно откликнулся молчавший все это время Алексей. – Зал для репетиций нам предоставили только с трех часов дня. Так что сегодня придется работать за полночь. Играть «Зонтик» будем завтра вечером; останется время и выспаться, и «прогнать» спектакль еще раз, набело. А пока, до трех – гуляй, народ! Любуйтесь Венецией, катайтесь на гондолах, целуйтесь под майским солнцем… И, пожалуйста, приходите на репетицию влюбленные и счастливые, иначе у нас ничего не получится.
– Как скажете, маэстро, – отрапортовал Иван, тоже поднимаясь и подхватывая под руку улыбающуюся Лиду. – Разрешите идти целоваться?..
Пауза повисла в столбе солнечного света, словно гигантский, начертанный чьей-то неведомой рукой вопросительный знак. Но Лида свободно и просто перечеркнула ее, легко высвобождаясь из Ваниного объятия.
– С тобой целоваться мы будем на сцене, Ванечка, – взглянула она ему прямо в озорные глаза. – А сейчас… если ты не возражаешь, конечно… у меня немного другие планы. Я могу рассчитывать на вашу индивидуальную консультацию, Алексей Михайлович?
И Соколовский вздохнул с облегчением, совсем забыв, что только вчера он изволил сердиться на актрису Плетневу за ее излишне открытую демонстрацию труппе своих особых с ним отношений…
Глава 4
– Ты с ума сошел! – смеялась она, отрицательно качая головой и отодвигая от себя блюдо, на котором в живописном и диком натюрморте были разложены крупные креветки, мидии, крабы и еще какие-то морские чудовища, названия которых они даже не знали. – Во-первых, мы совсем недавно завтракали. А во-вторых, я их просто боюсь; ты же знаешь, я никогда не увлекалась этими самыми дарами моря…
Ему тоже было смешно – и потому, что она так забавно кривила губы, нарочито испуганно отказываясь от дорогущего блюда в одном из самых знаменитых ресторанов Венеции, и потому, что Лида всегда оставалась сама собой: ей и в голову не пришло кокетливо ахнуть: «Что ты! Это же так дорого!», как непременно бы сделали девять из десяти известных ему женщин… Он настаивал, уговаривал, твердил, что ей нужны будут в эти дни все ее силы; дошел даже до того, что намекнул, будто по точным, проверенным данным морские кушанья усиливают сексуальный потенциал, а это ей сегодня непременно понадобится. «Завтра, во время спектакля, хочешь ты сказать», – сделала вид, будто не понимает его, Лида, но Соколовскому было все равно, он продолжал смеяться просто оттого, что она была рядом и – ни словом не напоминала ему о вчерашней беседе в аэропорту, точно ничего и не было сказано.
Потом она кормила голубей на площади Святого Марка, и красота ее, словно обрамленная в невыносимо прекрасную оправу венецианских мозаик, показалась ему еще более грозной и притягательной силой, чем когда бы то ни было. Мимо него, устроившегося на лавочке и не отрывавшего взгляда от женщины, в которой сфокусировалось для него сейчас все волшебство мира, проходили толпы туристов. Две толстые немки, оживленно жестикулируя, почти закрыли от Алексея Лидину фигуру. И, глядя на их толстые зады, обтянутые нелепыми шортами, он вдруг понял, почему эта девушка всегда казалась ему такой немыслимой редкостью. Дело не просто в том, что она была красива, а в том, что умела нести свою красоту по жизни, точно награду и наказание, словно личное знамя, словно собственный крест и собственное отличие. В мире вообще-то всегда было не так уж и много привлекательных женщин, а в нашем веке их стало особенно мало. Хотя бы потому, что сто лет назад люди давали себе труд, заставляли себя выглядеть привлекательнее, чем на самом деле; они затягивались в корсеты, надевали немыслимые кринолины, гордо ступали на высоких каблуках и истово верили, что красота требует жертв. Нынче же все принесено в жертву не красоте, а комфорту, и толстые немки, думал Алексей, – лучшее тому подтверждение. Ведь они могли бы выбрать для себя иную, куда более идущую им одежду, но туристическое удобство заставило этих женщин не только бесстыдно напялить на себя узкие, изуродовавшие их шорты, но даже горделиво фотографироваться в них на фоне Дворца дожей…
Лида, насколько он знал ее, никогда не позволила бы себе исказить собственный облик неизящной, пусть даже супермодной прической или безвкусным платьем. Она была женщиной до мозга костей, и присущее ей благоговение перед красотой – в чем бы та ни выражалась, пусть даже в ее собственном теле, – отчего-то бесконечно трогало и волновало его мужскую душу. Соколовский вздохнул, вспомнив о том, что его собственная жена, одаренная природой, пожалуй, не намного меньше красавицы-актрисы, ни за что не желала приложить дополнительные усилия к тому, чтобы стать еще лучше. Ей вполне достаточно было данного ей Богом, и никакой особенной заботы о своей внешности она проявлять не собиралась. Прежде Алексей даже мысленно не позволял себе сравнивать Ксению с Лидой, но теперь он не смог удержаться от мимолетной и не слишком-то благородной по отношению к жене мыслишки: недаром, видно, один из пиков разводов приходится на женский возраст «сразу после сорока»… В это время женщина почему-то запускает и теряет себя, перестает интересоваться такими «презренными» материями, как внешняя привлекательность и сексуальная озаренность. А вот уже в сорок пять… о, не случайно народная мудрость об этом возрасте говорит «баба – ягодка опять»! Как ни странно, как ни парадоксально, но к середине пятого десятка женщина снова расцветает «красотой дьявола», и Соколовский уже много раз замечал, насколько интереснее и привлекательнее сорокалетних кажутся ему дамы, вплотную приблизившиеся к полувековому юбилею…
Толстые немки наконец-то отошли от его скамейки, и он увидел, как издали, с середины площади, машет ему та, которой было еще так бесконечно далеко до пятого десятка. Лида шла ему навстречу, и над ее головой кружились белые венецианские голуби, и мрамор Сан-Марко окружал ее своей вековечной загадкой, и каменные плиты сами стлались ей под ноги, словно бесценные длинноворсные ковры… Солнечные лучи запутались в ее черных волосах, сноп света ударил ему в глаза и ослепил его, и Алексей шагнул к ней, как к единственной женщине на свете.
Они успели еще посмотреть, как выдувают в мастерской драгоценное муранское стекло, полюбоваться фресками одного из торжественных католических соборов и даже выпить капуччино в крохотной уличной кофейне. Избегая разговоров о завтрашнем спектакле и обо всем, что было неоднозначным в их отношениях, они оба тем не менее ни на секунду не забывали ни о фестивале, ни о цели, которая привела их сюда, ни о безумном своем, почти детском желании выиграть. Театр связал их незримыми узами, он был домом для них обоих, и кроме этого театра – их театра – сейчас в мире не было ничего, достойного их внимания и любви. Держась за руки, как дети, мужчина и женщина смотрели друг на друга влюбленными глазами, не отдавая себе отчета в том, что на самом деле они влюблены только в завтрашний день, в ожидаемый успех и в свою сцену.
А уже на репетиции начались неприятности. Прежде всего, работа началась с опозданием: в репетиционном графике, в фестивальной суматохе, которой иногда не удается избежать даже пунктуальным европейцам, произошли какие-то сбои, и труппе Соколовского пришлось ждать, пока зал, извиняясь, не покинут темпераментные французы. Кроме того, оказалось, что площадка, где они будут играть, не просто велика, а чрезвычайно велика; таким образом, «Зонтик», рассчитанный на камерную сцену, попадал в чужеродное для себя, излишне крупное и агрессивное пространство… Но и этого мало; главное, что исполнители спектакля сегодня показались режиссеру какими-то зашоренными, заторможенными, они словно думали о чем-то своем, произнося заученные слова роли, и Алексей, как ни старался, не мог увидеть в них героев своей выстраданной пьесы. Он нервничал, чертыхался, гонял актеров, кричал, что задыхается в этом излишке воздуха, и в конце концов сорвался. Выскочив из зала, пробежав по коридорам дворца, он замер наконец на его мраморных ступенях, которые лизала зеленоватая вода венецианских каналов. Хотелось курить, но сигареты, как назло, закончились, и это показалось ему еще одним невезением, еще одной мелочной несправедливостью судьбы.
С ним произошло то, что уже не раз происходило в решающие минуты его биографии, перед серьезными профессиональными или жизненными испытаниями. Он вдруг начисто лишился способности объективно оценивать то, что делает, перестал чувствовать, хорошо или плохо сработана вещь, не умел определить направление дальнейших поисков. То казалось ему, что все безнадежно испорчено и он переоценил себя и свою труппу, осмелившись участвовать в состязании такого уровня, то, напротив, он вдруг без всяких причин ощущал себя сильным и возрожденным, и азарт преследователя гнал его обратно в репетиционный зал, чтобы настигнуть и ухватить за хвост свою удачу… Такая «болезнь» хорошо знакома многим творческим людям, ее нужно пережить и переспать с ней ночь, чтобы назавтра, обретя вновь способность рассуждать и чувствовать здраво, снова приняться за свое дело. Алексей и теперь пытался убедить себя в этих давно известных ему истинах, но безумная растерянность его не унималась, он чувствовал себя обезоруженным и раздавленным и с ужасом думал о необходимости возвращаться на репетицию.
Кто-то положил ему сзади руку на плечо. Лида молча обняла его и, не говоря ни слова, повела вверх по ступеням старого палаццо. Репетиция продолжилась и закончилась на удивление мирно, и хотя Соколовский так и не увидел этим вечером на сцене того «Зонтика», которым, бывало, восхищался в Москве, все же у него осталось смутное чувство, что показать это пресыщенной итальянской публике не стыдно.
Глубокой ночью, в отеле, они так же молча разошлись по своим комнатам. Больше всего на свете Алексею хотелось сейчас последовать за Лидой и уснуть с ней рядом, защищаясь ее присутствием от кошмаров и комплексов тягучей, не желавшей еще забрезжить даже сереньким рассветом ночи. Но, как суеверный мальчишка, он намеренно заставил себя отказаться от этой простой мечты, будто загадал себе на завтра удачу только в том случае, если сумеет выдержать без Лиды еще одну ночь.
* * *
Он не мог поверить своим глазам. То, что происходило на сцене в решающие минуты их выступления, было настолько удивительно, до такой степени не похоже на все виденное им раньше, что душа его замирала и звенела, как натянутая струна, боясь поверить в реальность происходящего. Соколовский всматривался в так хорошо знакомые ему человеческие лица, не узнавая их и пытаясь понять, что же все-таки происходит, – но по-прежнему не узнавал, не понимал, недоумевая и радуясь, точно ребенок…
А на сцене царила Лида. Она подчинила себе и вобрала в себя все действие спектакля, заслонила и заполонила собой привычный образ героини, перечеркнула все намеченные рамки и вознесла идею «Зонтика» так высоко к небу, что теперь ее не узнавал сам автор этой идеи. Она стала и актрисой, и режиссером, и создателем нового спектакля, рождавшегося на глазах молчаливой публики из недомолвок и иносказаний, из пенных и извилистых, как кружево, движений женщины, из ее тончайшей грусти, едва уловимых взглядов и таких нечаянных поворотов фигуры, которых не в силах был бы уловить самый точный фотограф. Она сама играла эту пьесу, и Иван, ее партнер по сцене, подчинился ей с каким-то непонятным и непротестующим восторгом, стушевавшись рядом по воле Актрисы и во имя ее. Алексею же – ее партнеру вне сцены – оставалось лишь смотреть, изумляться, молчать и, быть может, не соглашаясь с ней ни в чем, все же преклоняться перед тем, как эта женщина держит весь зал в своем маленьком кулачке, не потрудившись даже сжать его как следует и упуская между тонких пальцев свое счастье, но не внимание потрясенного зала.
Замерев на фоне кулисы после финальной реплики, сделав неимоверную по напряжению и мастерству паузу, Лида дождалась шквала аплодисментов и раскатистых итальянских «Брависсимо!», которыми наградила ее публика, и мгновенно исчезла со сцены. Соколовский, ринувшись за ней, нашел ее в крохотной гримерке, отведенной русской труппе, неподвижно глядящую в зеркало. Лида повернула к нему побледневшее, одухотворенное какой-то мучительной мыслью лицо, и он произнес совсем не то, с чем бежал сюда, ища эту женщину среди незнакомых артистических уборных.
– Ты не вышла на поклоны. Почему?
– Я не смогла, – совсем просто ответила Лида. – Мне хотелось остаться одной.
Алексей усмехнулся, глядя на нее и восторженно, и ревниво.
– Это непрофессионально, детка. Ты слышишь – еще продолжают хлопать. Ты должна пойти туда.
– Вместе с тобой, – сказала она и встала легко и красиво, протянув ему руку. – Триумф или проигрыш, но это наше общее дело. Не правда ли, маэстро?
О проигрыше речи уже не шло, но режиссер не стал говорить своей актрисе об очевидном и только молча принял ее руку. Когда они вышли на сцену, прихватив с собой из-за кулис и Ивана, зал взорвался новыми аплодисментами, и зрители встали им навстречу. Яркий свет театральных прожекторов упал на Лидино лицо, и Алексей на мгновение позабыл о том, что тоже должен кланяться, заглядевшись на это лицо и подумав, что никогда еще не видел его столь прекрасным. Из милой, прелестной девочки, имевшей способности к театральной игре, в эти часы и мгновения у всех на глазах рождалась талантливая актриса, быть может, даже великая, и ее юная красота на сцене становилась силой, почти сравнимой с силой любви и силой искусства.
Оказавшись вскоре после спектакля на узенькой венецианской улочке и воссоединившись с другими актерами труппы (при этом, разумеется, им пришлось выдержать град мокрых поцелуев Лены Лариной, неуклюжее слоновье пожатие руки ее мужа и искренние, но чересчур долгие поздравления Володи Демичева), исполнители спектакля и их режиссер наконец-то обнялись сами и почувствовали себя победителями. Опустошенные и растерянные, досуха выжатые волнением, как лимон, они тем не менее понимали, что в этот вечер театр Соколовского совершил некий прорыв в будущее и что благодаря Лиде их выступление наверняка не останется на фестивале незамеченным.
– Куда теперь? – спросил Ваня, с каким-то новым для него, непривычным обожанием взиравший на свою партнершу.
– Время еще не позднее, и после нас играют поляки и хозяева-итальянцы. Неплохо было бы все-таки посмотреть сегодня хоть что-нибудь из фестивальной программы, – благоразумно заметил помреж Володя.
Он был совершенно прав. В предыдущие дни Соколовский не настаивал на просмотре спектаклей других участников фестиваля, потому что, во-первых, у них было совсем мало времени, во-вторых, не хотел отвлекать ребят от сосредоточенного настроя на «Зонтик», а в-третьих, не любил перед собственными выступлениями ненужных сравнений и лишних эмоций, то самоуничижительных, то шапкозакидательских. Однако теперь, после бесспорного триумфа и в ожидании решения жюри, конечно, стоило бы поучиться театральным приемам и сценическому мастерству у друзей-соперников из разных стран.
– Ну, нет, – заупрямился Леонид Ларин. – Мы и так все едва живые от волнения и усталости. Если хотите знать мое мнение, то за оставшиеся дни фестиваля мы еще успеем объесться высоким искусством. По-моему, единственное, что нам сейчас нужно, – это хороший ужин и веселая компания.
– Значит, отправляемся в ресторан, – безапелляционным тоном заявила Елена. – Непременно морской, рыбный – это престижно и принято в Венеции.
– А потом закатимся куда-нибудь в ночной клуб, казино или варьете! – обрадовался Иван. Самый наивный и неискушенный из всей труппы, добродушный и непосредственный по натуре, он готов был теперь, как щенок, весело ловить собственный хвост и праздновать с друзьями хоть до утра. – Отметить же надо, ребята, когда еще выпадет такая удача!..
На лице Володи Демичева мелькнуло легкое неудовольствие, он выразительно оглянулся вокруг в поисках чего-нибудь деревянного и, не найдя, постучал костяшками пальцев по Ваниной голове, бормоча: «Тьфу, тьфу, тьфу…» Ларины тоже накинулись на бедолагу с воплями: «Ты что?! Сглазишь!..» И посреди всего этого шума и гама, посреди дружеских тычков и необидных шуток, посреди мужского смеха и женских восклицаний один только Алексей наконец заметил, что Лида до сих пор не сказала ни слова.
– Может быть, спросим все-таки у самой героини? – медленно произнес он, адресуясь ко всем сразу и ни к кому в отдельности.
Она стояла в такой задумчивости, что режиссеру пришлось еще раз повторить вопрос, перекрывая разговоры друзей, и окликнуть ее: «Лида!», чтобы она наконец обратила на него внимание. И когда девушка поняла, чего от нее хотят, то в наступившей вокруг тишине сказала ясно и так спокойно, будто только об этом и думала все время:
– Гондолы. Я хотела бы покататься на гондолах… и, если можно, всю ночь.
Лена Ларина явственно выразила своим взглядом: «Какая банальность!», Леонид почесал в затылке, вспомнив, должно быть, что это довольно дорогое удовольствие, а Ваня Зотов крикнул «Ура!» и залихватски обнял свою партнершу. И только помощник режиссера, оставаясь серьезным и невозмутимым, как скала, проговорил то, что хотел сказать сейчас молчавший отчего-то Соколовский:
– Слово победительницы – закон. Возражения не принимаются: едем кататься на гондолах!
Лида молчала и потом, позже, когда они всей веселой компанией отправились искать гондольеров, и когда нашли их и принялись шумно договариваться о цене и маршруте, забавно смешивая английские слова с исковерканными итальянскими, и когда со смехом загружались в нарядную, черную с золотом ладью, покачивавшуюся над потемневшей водой, и даже когда ей на грудь неожиданно упала роза, предприимчиво подхваченная Иваном перед самой посадкой у уличного торговца… Молчал и Алексей, мрачно подмечая и точно коллекционируя взгляды, которые в этот вечер бросали на Лиду мужчины труппы. Восторженные от Ивана, осторожные и задумчивые от Володи, откровенно заинтересованные от Леонида – все они казались ему опасными и раздражали своим неприкрытым желанием. Ему показалось вдруг, что эти мужчины – все как один – жаждут внимания Лиды, ее любви, ее тела, и, понимая, что ведет себя как мальчишка, он все же сходил с ума от неожиданной ревности и какой-то новой, безумной, стократ возросшей от ее неожиданного успеха страсти.
Рассвет уже заливал бледным светом лагуны Адриатики, когда друзья вернулись в отель. Едва дождавшись последних восклицаний и пожеланий спокойного сна, Соколовский зашел к себе в номер, налил полстакана отличного коньяка из платного бара и выпил резко, одним глотком. Потом постоял немного, глядя в окно на туманную даль моря, едва начавшую розоветь от солнца, и быстро, отчаянно, точно отпуская себя наконец на волю, рванулся по коридору к Лидиной двери.
* * *
– Хочешь, поедем с тобой во Флоренцию? – говорил он час спустя, медленно и бездумно поглаживая ее по щеке. – Я мечтаю показать тебе Боттичелли – настоящего Боттичелли, а не те бледные его копии, которые ты видала в цветных альбомах… А еще мы пойдем с тобой на Золотой мост, в эти древние, знаменитые ювелирные лавочки; я хочу, чтобы ты выбрала себе какую-нибудь безделушку на память – флорентийское золото славится во всем мире, ты же знаешь…
Не глядя Лиде в лицо, он почувствовал, что она улыбается, но продолжал размышлять вслух, все так же сонно и неторопливо произнося слова и ощущая себя в эти мгновения волшебником, который может бросить к ногам возлюбленной все радости мира.
– А может быть, лучше в Пизу? Я прежде думал, что эта знаменитая падающая башня тяжелая и темная – так она выглядит на снимках. А оказалось, что она кружевная, белоснежная и точно взмывает в небо… Да и бог с ней, с башней, самое лучшее в Пизе – это узенькие, таинственные улочки, такого настоящего средневековья ты больше нигде не увидишь. Можно рвануть и в Неаполь – юг, солнце, море и пицца… Я забыл – а может, никогда и не знал, – ты любишь пиццу? Или все-таки Рим?.. Мы пойдем с тобой в парк Виллы Боргезе, посидим у фонтана Треви, и на площади Испании я куплю тебе самое настоящее трюфельное мороженое.
– Ты точно декламируешь вслух рекламный путеводитель, – еле слышно засмеялась Лида и гибко потянулась в его объятиях. Простыня соскользнула с ее смуглого тела, точеные руки захватили его голову в крепкое объятие, и он почти не успел осознать поцелуя: таким мгновенным, легким, едва потревожившим губы – как прикосновение бабочки – было это касание.
– У нас остается всего несколько дней, и я хочу, чтобы ты увидела все лучшее в Италии, как когда-то увидел я, понимаешь?
– Понимаю, – прошептала она нетерпеливо. – Полежи спокойно, хорошо?
И ее рука отправилась в неторопливое путешествие по его телу, касаясь его так нежно и бережно, что Алексей, еще не остыв от недавней страсти, вновь ощутил, как сквозь него струится вечный поток желания, захватывая по пути в свою гибельную воронку и ее тело, и их общее в тот момент сознание, и воспоминания о прошлом, и надежды на будущее. Он рванулся навстречу ее рукам, соприкоснулся с ними своими собственными ладонями и забыл обо всем на свете. Ничего заученного, ничего привычного не было в ту ночь в их объятиях; он точно заново открывал для себя волнующие тайны женского тела, а она будто в первый раз ощущала себе повелительницей мужских желаний. Вечная тайна пола, загадка обнажения, череда притяжений и отталкиваний, стойкая грусть в момент самого сладкого трепета и непонятное отчуждение в тот миг, когда губы шепчут: «Я люблю тебя…» – все это суждено было познать им в эту ночь разом, вспомнить давно забытое, угадать неизведанное и ощутить себя счастливыми в тот самый час, когда счастье, горько плача, навсегда покидало их…
– А знаешь, – сказала Лида, дождавшись, когда дыхание их вновь стало спокойным и они обрели способность разговаривать, – я почему-то всегда знала, что нам суждено быть вместе. Еще давно, тогда, когда ты почти не замечал меня среди актрис театра и обращался со мной официально-вежливо, по имени-отчеству.
– Разве такое бывало? – рассеянно спросил Соколовский, которому в этот миг слова «нам суждено быть вместе» не показались ни напыщенными, ни опасными.
– Еще как бывало! Ты казался мне холодным, как лягушка, занудным и очень-очень старым… Но я все равно полюбила тебя. Я думала еще тогда, что у тебя должно быть два дома: один – где ты спишь, обедаешь, хранишь вещи, разговариваешь со своей женой, а второй, настоящий – где сияют огни сцены, где ты владеешь умами и душами и где рядом с тобой – я. Глупо, правда? Но ведь в конце концов все так и вышло. Мне хотелось вдохнуть в тебя новые силы, помочь тебе идти дальше, изменить твою судьбу – и попробуй только сказать, что мне это не удалось!
Он слушал ее лепет рассеянно и отстраненно, едва заметно касаясь рукой ее груди и ощущая сейчас такую близость к этой женщине, какой ни разу не чувствовал раньше. Лида никогда прежде так открыто не говорила ему о том, что любит, и это всегда было на руку Алексею: ведь, кроме искренней страсти в постели и новых ролей в театре, он ничего не мог дать ей. Понимая, что его собственный семейный очаг выстроен раз и навсегда, что он не может – а главное, не хочет – ничего менять в нем, режиссер и радовался, и боялся того, как развивается его связь с актрисой. Но хотя Лида ни разу в жизни не произнесла слова «брак» по отношению к ним двоим, его мужского опыта и самомнения вполне хватало для того, чтобы знать наверняка: то, что он тоже не заговаривает об этом, разочаровывает и обескураживает женщину, заставляет ее сомневаться в себе, своих чарах, своей необходимости этому человеку и, следовательно, охлаждает ее чувства к нему.
До сих пор Соколовскому это было почти безразлично. Он твердо был уверен в том, что никогда не оставит жену… потому что считал, что и Лида никогда не оставит его, и он ничего не теряет в отношениях с ними при всех своих рокировках. Однако теперь, после разговора в аэропорту, о котором Лида так и не обмолвилась больше ни словом… и после того, как она вчера играла… и после всех этих взглядов, которые, казалось, воровали ее у него… нет, теперь он больше ни в чем не был уверен.
И, вновь принимаясь ласкать это нежное, послушное тело, продолжая слушать ее сладкий и жаркий шепот, ее откровения в теплом оранжевом зареве восходящего и заливающего всю комнату солнца, все эти милые пустяки, о которых женщины обычно говорят в постели, Алексей вновь – уже второй раз за минувшие дни – позволил себе опасную и нелепую игру в сравнения. Он думал о том, что Ксения давно уже стала для него больше другом, нежели женой; что рядом с ней, назубок зная все линии и все желания ее тела, он ощущал себя путником, идущим давно проторенной дорогой – родной и знакомой, но не обещающей впереди никаких открытий. С Лидой, конечно же, все было иначе; она была таинственна и неизведанна, словно terra incognita, и, изучая рельефы ее бархатистой кожи (впадинка здесь, волнующий изгиб там и крошечная родинка на неожиданной выпуклости – о, как же она прекрасна!), он вел себя как восторженный первооткрыватель единственной оставшейся в мире непознанной страны.
И дело, конечно же, было не только в ее телесном совершенстве. Слишком простенькой оказалась бы задачка, если бы ему пришлось выбирать между Ксенией и Лидой, как между содержанием и формой, душой и телом, привычными домашними тапочками и вдохновляющей, непредсказуемой свободой. Увы! Беда была в том, что он все еще не мог оставаться равнодушным к женским чарам жены – он по-прежнему любил и хотел ее, – и при этом, как мальчишка, восторгался независимостью, умом и обаянием Лиды.
Ах, если бы я все-таки был по-настоящему свободен, со страстным отчаянием думал Соколовский, предаваясь бессмысленным и оттого даже приятно меланхоличным мечтам. Не развод, конечно – о нет! – невозможно нанести такой удар своим домашним, но вот как-нибудь иначе: вот если б иначе сложилась жизнь и он встретил Лиду раньше или если бы Ксения вдруг встретила и полюбила другого, дав ему тем самым желанную свободу, да мало ли что бывает!.. И, не ведая, что творит, погружаясь в эти бездонные мечты, как в глубины прекрасного Лидиного тела, Алексей застонал от счастья и взмолился только о том, чтобы никогда не потерять женщину, которая была сейчас с ним рядом.