Читать онлайн Бухтарминские кладоискатели бесплатно
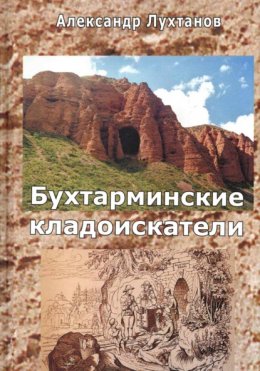
К читателям
Сия повесть есть не только плод неудержимой фантазии писателя. Она навеяна реальной историей жизни одной семьи, необычной и, по мнению автора, совершенно замечательной.
В не такие уж давние времена, до 1977 года, жил в алтайской тайге близ городка Зыряновска знаменитый пчеловод Николай Иванович Лаврентьев. Истый горожанин, он был интеллектуалом и настоящим интеллигентом, гостеприимным, общительным и… романтиком, влюблённым в природу и своих пчёлок. В Зыряновске его знали многие, в том числе и я. Приветливая его изба стояла за рекой Хамиром на живописной поляне среди леса и гор. За огородом бежала скачущая с уступа на уступ горная речка, с водопадами и голубыми омутами, называемая Большой. Тогда, в начале 50-х, Столбоуха была большим посёлком, «столицей» лесорубов, ещё живыми были лесные деревушки, и в том числе примерно в 6 километрах от Столбоухи подхоз Леспромхоза из 15–20 дворов. Почти 40 лет проживал тут Николай Иванович с семьёй и нисколько не жалел, что он, потомственный житель города, променял его на таёжную пасеку. Об этом не совсем обычном человеке старший сын рассказывал так:
«Отец был очень самобытным человеком. В душе он был большим поэтом, восторженно любившим природу, и беззаветно был предан пчёлкам, как частичке этой природы. Он утверждал, что на свете есть только три вида человеческой деятельности, достойные уважения. Это выращивание хлеба, вождение пчёл и …разведение цветов. Он и в 60 лет, как мальчишка, весной перед домом бегал за журавлями: это же так интересно! О так называемом техническом прогрессе отзывался очень скептически и относился к нему с большой опаской. И, как показывает жизнь, был в этом по-своему глубоко прав».
Такими же любознательными и влюблёнными в родной край выросли трое его детей. Жизнь среди природы полна приключений. И хотя большинство здесь описанного – вымысел, автор уверен, что прототипы его героев поступали бы именно так, как рассказано в книге.
В книге затронуты темы истории Казахстанского Алтая, его природы и животного мира. Дотошный читатель может заметить кое-какое несоответствие в датах. Действительно, отдельные эпизоды сдвинуты по времени. Так, основное действие происходит в 1953–1955 годах, рассказ об экзотических раскопках на Зыряновском карьере соответствует 1959–1960 годам, разведка и открытие месторождения на Чемчедае, как и падение ступеней ракет, – в 1970–1980 годах.
Что касается историй географических открытий учёных-путешественников, то здесь всё изложено реалистично, и автор лишь добавил к своему рассказу антураж, что можно понять и с ним согласиться. Надеюсь, геологи простят фантазию автора в трактовке геологических процессов и рассуждений. На то он и есть приключенческий жанр с фантазиями и авантюрными приключениями.
Часть 1. Бухтарминские кладоискатели
– Где же мы будем копать?
– Да где угодно.
– Как, разве клады везде зарыты?
– В том-то и дело, что не везде. Они бывают зарыты в каком-нибудь укромном месте – когда на острове, когда в гнилом сундуке под засохшим деревом – там, куда тень от сучка падает в полночь, – а чаще всего под полом в старых домах, где нечисто.
Марк Твен. Приключения Тома Сойера
Оплывина
Роман проснулся в неясной тревоге. Какой-то пугающий гул слышался со стороны горы. Казалось, дрожала земля. Роман что-то слышал о землетрясениях и подумал, что это оно и есть – трясение земли. Потом что-то мягкое толкнуло в стену дома. Изба вздрогнула и как будто осела, словно придавленная тяжёлой подушкой. Всё стихло, но теперь зашевелились мать с отцом, о чём-то негромко переговариваясь.
– Кажись, оплывина, – услышал Роман отца и взволнованный голос матери:
– Кабыть, она и есть.
– Ну, мать, перекрестись, что не раздавило! Феофану спасибо надо сказать, что крепкую поставил избушку.
– Обожди радоваться, – остановила мужа Марфа. – Слышишь, трещат стены? Как бы брёвна не разошлись. Ужо тогда точно придавит. А то и ещё сверху сорвётся.
– Не должно бы – первый удар самый страшный. Снег над нами спрессовался. Он теперь как бетон – будет нас сохранять.
Ребята кучей сидели присмиревшие, молча глядя, как мать зажигает свечку. Мёртвая тишина наступила после зловещего шума, и даже потрескивание дерева под тяжестью снега прекратилось.
– Надо пробивать выход, иначе задохнёмся. Мы же теперь закупоренные.
Отец неторопливо одевался, как видно, на ходу обдумывая происшествие.
– Сколько раз говорила я тебе, что отсель надо выбираться! – ворчала мать. – Вот хлестануло так хлестануло, и в окне ни проблеска света. Ни звёзд, ни неба.
– Какое тебе небо, когда снегом завалило! Со всех сторон обложило и сверху придавило сырой снежиной.
– Хватит балясы точить, – прервала его мать, – делом надо заниматься. И печку не затопишь. Небось, и труба под снегом.
– Тут сначала хотя бы дырку пробуравить, не то задохнёмся. В другой раз такой удачи не выйдет. Прихлопнет, как в мышеловке.
Отец вышел в сени, распахнул дверь на улицу. Белая масса стеной преградила выход и даже не высыпалась в избу.
– Дед-то не дурак был – предусмотрел такую ситуацию, хорошо, хоть дверь вовнутрь открывается. Бетон, голимый бетон, – попробовав на ощупь снег, определил отец.
Мать торопила:
– Теперь наваливайся, пробивай выход. Нам же ещё скотину спасать надо.
В сенках был люк и на чердак, но на крыше снег оказался ничуть не менее плотным.Через него тоже не вышли на свет. Несколько часов кряду, сменяя друг друга, отчаянно долбили снеговую стену. Спрессованными глыбами завалили все сени, а конца-края снегу всё нет.
– Наискосок, вверх надо бы, – командовал отец. – Сверху и снег не должен быть таким плотным, и к воздуху быстрее пробьёмся.
С ожесточением вгрызаясь в тело лавины, отец старался вбивать отваленный снег в стенки, но они и без того были спрессованы. Закупоренные снегом, пленники потеряли счёт времени и не знали, ночь ещё или уже день. Туннель, круто поднимаясь, уходил в сторону лога.
– А как же речка? – встревожился Роман. – Затопит водой, и до нас доберётся!
– Не должно бы. – Сам себя успокаивая, отец, как видно, и сам не знал, что всех их теперь ожидает. – Вода сама пробьёт себе выход.
С очередным взмахом лопаты черенок провалился в пустоту.
– Всё, кажись, пробились.
Тусклый свет засветился в конце туннеля. Отец на корточках выкарабкался наружу.
– Светает, – доложил он. – Ну, скажу я вам, не узнать ни долины, ни речки. Одна белая целина. Теперь не один день надо раскапываться, иначе до июля не оттает. Зато и лесу навалило – дров заготавливать не надо.
– Ты там не рассуждай впустую, не разглагольствуй! Трубу надо, трубу в первую очередь, её откупоривай! – торопила мать. – Надо оттапливаться, да и еду готовить.
День вставал хмурый, неласковый, но и не морозный. До вечера бились, раскапывая крышу. Трубу своротило снегом, но отец устроил дымоход, обложив выход кирпичами. Скотина – корова с бычком в хлеву – остались целы, как и сам хлев.
– Пронесло! – радостно твердил Пётр Иванович. – Все живы, здоровы, а остальное – дело наживное. Постепенно всё устроится, и избу новую поставим.
– Только не здесь! – ворчала мать. – Хватит нам испытывать судьбу!
– Будем, мать, будем. Поставим хорошую избу на весёлой солнечной поляне. Ни наводнения, ни оплывины будут не страшны. Как все люди, будем жить в Большой Речке, в Подхозе.
К вечеру обнаружилась ещё одна неприятность. Снег стал пропитываться водой, а это означало, что подпитываемая речкой влага могла пробраться и в избу.
– Всё одно, надо откапывать избу со всех сторон, – вслух рассуждал Пётр Иванович, – так и так никуда от этого не отвертеться. Работёнки на всех хватит.
Одно утешало – что скотина цела и даже сено в порядке. А значит, с голоду и семья не пропадёт. Днем пришёл сосед, молодой Загорнов. Смотрел, удивлялся:
– Ну, Пётр Иванович, в рубашке ты родился! Ума не приложу, как изба уцелела!
– Бог хранит, Бог добродетель видит, – объясняла мать. Хотя и не верующая, но сочувствующая и Бога вспоминающая так же, как своих родителей.
Роман смутно помнил, как летом в 46 году избу чуть не снесла река. Разбушевавшаяся от бурного таяния снега и беспрерывных дождей Юзгалиха – речушка, которую в сухую пору курице вброд перейти, – вдруг стала страшной. Чёрная от мути, она бурлила, затопив берега, несла стволы и обломки кедра и пихты. Перекатываясь по дну, глухо стучали каменные глыбы, и от их ударов вздрагивала земля. Отец суетился, перегоняя корову и лошадёнку повыше от реки, перетаскивал инвентарь и всё посматривал на реку: не затронет ли избу. Тогда натерпелись страху, но всё обошлось. Вот и теперь едва ли не месяц кидали снег, не надеясь на весну, которая приходила в их лог лишь в конце апреля. От дома в сарай и хлев ходили по снеговым туннелям, а ведь в апреле уже надо выставлять улья для облёта пчёл. Иначе пропадут.
Таёжный край
«Тайга – это лес и горы без начала и конца», – пишет сибирский охотник и писатель XIX века А. Черкасов в своей знаменитой книге «Записки охотника Восточной Сибири». И далее: «Страшные, непроходимые леса скрывают её внутренность, а топкие, болотистые кочковатые пади заграждают путь любопытному путешественнику. О дорогах и мостах тут и помину нет». Здесь речь идёт о забайкальских лесах, вполне сравнимых с горной тайгой Южного и Западного Алтая, хотя есть и отличия. Во-первых, непроходимость создаётся не столько лесом, сколько буреломом, буераками и буйными травами, в дождливое лето достигающими высоты трёх и более метров. Болот, тем более топких, таких, в которых тонут люди, здесь вообще нет. Есть сырые места, мочажины, поточины, сочащиеся водой. О дорогах и мостах за редким исключением тоже не приходится говорить. Есть тропы, и то далеко не везде, пробитые зверями или скотом, который гоняют на летние пастбища, на белки. Более заметны они в высокогорье, на альпийских лугах, на высоте свыше 1700 метров, ниже же быстро зарастают и поглощаются густыми травяными дебрями.
И сама здешняя тайга – это вовсе не сплошной лесной массив. Скорее наоборот, это чередование открытых пространств, обязательно заросших травами и ерником, как в Сибири называют густой кустарник, в основном состоящий из караганы (низкорослая акация, цветущая жёлтыми цветами), шиповника, жимолости и таволги, и лесных массивов, чаще в виде «островов» – отдельно стоящих рощ, лесков, перелесков, колков. Настоящей тайгой можно назвать лишь сплошные пихтово-берёзовые леса по северным, более влажным склонам гор, да кое-где по долинам рек, где преобладает тополь и реже ива, пихта, черёмуха, рябина. Южные покатости гор засушливы, лес там редок и ютится в основном по логам. Основные породы деревьев зыряновской тайги – берёза, пихта, осина. Выше, ближе к белкам, растут кедр и лиственница, не создающие больших массивов и образующие так называемые парковые леса с чередованием берёзового стланика и открытых пространств, занятых лугами, скалами и россыпями, называемых корумами. Сюда, на кедрачи, в прохладную зону, где меньше комаров, на лето поднимаются медведи, лоси, глухари, соболь, кедровки, сойки и оляпки. Есть тут и свои постоянные жители: сурки, сеноставки (пищухи), бурундуки. Такова в общих чертах зыряновская тайга, хотя необходимо отметить богатство цветущего разнотравья, начинающегося ранней весной, когда южные покатости гор вдруг вспыхивают сплошным ковром подснежников: леонтьиц, на смену которым чуть позже приходят луга и мочажины, розовеющие от сплошного ворса кандыков и белых розеточек ветрениц, прячущихся под пологом ещё не одетого леса. Отцвели подснежники, а серые поляны и тенистые опушки загорелись пламенем жарков, называемых ещё и огоньками. А дальше, в лето, цветущее разнотравье настолько богато, что цветов и не счесть: водяная калужница, яркая марья-коревна, алая зорька, выглядывающая из темени леса, кудрявая лилия сарана, одиноким стеблем возвышающаяся среди моря трав, и многие другие цветы.
Описываемый лесной уголок не столь уж удалён от Большой земли – 45 километров от шахтёрского городка Зыряновска, 27 – от посёлка Путинцево. Зимой белое безмолвие и непроходимые снега. Посмотришь на деревеньку со стороны – из-за сугробов валит дым, избушек почти не видно, и заиндевелый лес стоит вокруг.
До появления русских в тайге бродили лишь охотники-алтайцы. С открытием Зыряновского месторождения в 1792 году этот таёжный край пыталось осваивать горнозаводское начальство рудника, когда сразу возникла острая потребность в строевом и крепёжном лесе для посёлка и шахт, в дровах и дёгте. Всему этому препятствовали отдалённость, отсутствие дорог и река Бухтарма. Тем не менее вырубка, хотя и не интенсивная, шла, гнали дёготь, чуть позже здесь одна за другой стали возникать пасеки. Главным богатством тайги весь XIX век были пушнина и мёд. Всё резко изменилось в 30-е годы, когда за дело взялась советская власть. Началась интенсивная вырубка леса, для чего в тайгу были вывезены сотни раскулаченных крестьянских семей, образовавших в описанном крае не менее 20 лесных посёлков, главным из которых стала Столбоуха. Можно сказать, Столбоуха была столицей лесного зыряновского края. В 50-е годы хозяевами в ней были Леспромхоз и геолого-разведочная партия. Дом Дементьевых оказался на краю Подхоза леспромхоза «Большая Речка», расположенного за рекой Хамир напротив Столбоухи. По соседству, в основном по логам, ютилось не менее 6 пасек и крохотный, умирающий Екипецкий посёлочек.
Пасека на Юзгалихе
Дико и неприветливо ущелье Юзгалихи. Крутобокие травяные откосы, чередуясь с каменными кручами и грядами тёмно-зелёных пихт, вздымаются вверх до самых белков. Вверху в просвете между утёсами светлеет небо, зажатое обомшелыми скалами. Кудрявые кедры прилепились кое-где, кронами свисая в пропасть. А внизу грохочет, в белой пене злобно шипит речушка Юзгалиха. Сейчас она совсем небольшая, чистая и светлая. Скачет козликом, зажатая каменными обломками. Над рекой, пронизывая водяные струи, время от времени пролетает небольшая кургузая птичка, называемая водяным воробьём или оляпкой. Подрагивая длинным хвостиком, с камня на камень перепрыгивает изящная жёлтая птичка – горная трясогузка. Бурундучишко, по-птичьи пискнув, мелькнул полосатой спинкой и юркнул в кучу валежника. Голоса птиц не смолкают всё лето, и только зимой Юзгалиха замирает, заваленная огромными сугробами снега.
За горами, далеко над Тургусуном, всё время громоздятся тучи. В полдень где-то там громыхает гроза, а здесь, на Юзгалихе, моросит дождик, и бывает, как зарядит, так и шелестит совсем по-осеннему неделями. Как говорит Марфа, там, в верховьях Тургусуна, «гнилой угол», ссылаясь на слова своих дедов. От обилия влаги и растительность лезет, как на опаре. Скалистые «щёки» по руслу речки облеплены лепёшками бадана, выше – поля кипрея, приютившегося под пологом пихтача.
«Травяное безумие, – вздыхает Пётр Иванович и вдруг спохватывается: – Но они же, эти травы – кормилицы наши. Не будь этого разнотравья – откуда пчёлам брать мёд?» Потом мысли его переходят на другое:
«Будь он неладен, этот Феофан! – ворчит он на прежнего хозяина. – Выбрал же место, где пасеку поставить! И жить опасно, и ни травы накосить для скотины, ни дров подвезти. Зимой, да и весной тоже, того и гляди, оплывина задавит, в мае остерегайся Юзгалиху. Разбушуется так, что и избу может снести. Не дай Бог, не приведи Господи!» Нет, вовсе не тяготится Пётр Иванович ни своей работой, ни судьбой, ни жизнью в тайге. Напротив, на минутку остановится, оглянет всё вокруг – и душа его растворяется в благостном восторге: «Боже, как хорошо!»
Пётр Иванович приехал на Алтай в смутный и непонятный 37-й год, когда ни в чём не повинных людей забирали, и они исчезали неведомо куда. Забрали и отца Петра Ивановича, известного в округе человека. Кто сменил место жительства, тот остался жив. Так поступил и он. Приехал бобылём – ни жены, ни кола, ни двора. Один потрёпанный фанерный чемодан. Однако колхоз, куда вступил Пётр Иванович, помог: выделил участок с полуразвалившейся избой умершего пчеловода Феофана Серёгина. «Ты особо-то нос не вороти, – предупредил Волков, председатель, – у нас есть и такие, что до сих пор в землянках живут. В 30-е годы, когда пригнали, на зиму глядя, сколько душ померло! И язык-то особо не распускай. Работай да полмалкивай. Так-то оно лучше будет – живее будешь!»
«Хороший совет, – уже и сам смекнул Пётр Иванович, – жить-то оно всё равно хочется. – Однако “пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву”, – в который раз пришла в голову местная поговорка. Избе всё равно надо было пропадать – одна сырость, гниль да холод. Солнце, если бывает, светит всего часа четыре, а зимой – и того меньше. Чуть просушит ночную росу, и снова тень».
Пётр Иванович хоть стáтью не вышел, но лицо благородное, вовсе не мужицкое. Да и обхождение, манеры, разговор, а главное, эрудиция – всё выдает интеллигента. Оно так и есть – сам учитель, отец, дед и сёстры – все учителя с дипломами и образованием. И не из сибирских краёв – из России-матушки, с Волги. Но так уж жизнь повернулась, что оказался за тридевять земель от родного очага. «Не было счастья, да несчастье помогло». Была и беда, и горе, а вышло всё к лучшему. Помогло любительство, которым, опять-таки, занимались его предки и сам Пётр Иванович. Теперь оно как нельзя лучше выручило, став основным делом, и Дементьев сейчас даже представить себя не мог без пасеки и раздолья на природе. Он и сам не заметил, как за годы жизни на Юзгалихе этот лес, цветущие поляны, звонкие ручьи и холодные речки стали для него родными, больше, чем земля, где родился и вырос.
Жена у Петра Ивановича, Марфа, – из местных, работящая, хозяйственная, не избалованная, как бывают городские барышни. Хоть грамота невелика, но бог не обидел природным умом, таким, что образованному мужу всегда даст дельный совет. И Пётр Иванович к ней прислушивается.
Крестьянский быт – это работа от зари до зари. С одной скотиной сколько забот! Огородик – и без него нельзя, магазинов здесь нет. Конечно, основная работа – на пасеке. Целых двести ульев! А за пчёлами большой уход нужен, и главное – любовь к делу. Без этого никак нельзя, равнодушия пчёлы не простят.
Все дни в работах и заботах, но грех на судьбу обижаться. Вот и детям можно порадоваться – все в родителей пошли. Дома хорошие помошники, учителя в школе хвалят. Их у них трое: погодки Роман и Степан уже подростки, на два года младше Наденька, она же Лялька, она же Леля.
Братья
«Все мы лесные люди, – не раз говорил Пётр Иванович. – Вот взять меня: прирождённый, потомственный горожанин. Учительствовал, как и мой дед, как и отец, а теперь не мыслю себя без леса и без вот этих гор с цветами, травами и пчёлами. И никакой город мне не нужен».
И Рома слушает и мотает себе на ус. И правда, хорошо в лесу, но вот загвоздка: всё самое интересное в мире происходит вовсе не в лесу, а в городах. Там наука, там делают открытия, изобретают машины, там есть искусство. Там кипит жизнь. Рома ещё с шестого класса в школе прослыл энциклопедистом. Услышав это, Пётр Иванович не удивился, а только сказал: «Читай больше книг, в жизни всё пригодится». Стёпа тоже доволен – можно гордиться старшим братом, – а Надюшка объяснила всё по-своему: «Это оттого, что папа выписал Большую советскую энциклопедию и чуть ли не каждый месяц приносит из Столбоухи толстые тома, пахнущие типографской краской и с множеством картинок».
И верно, энциклопедия – гордость библиотеки Петра Ивановича. Сухое изложение фактов, но масса информации. Сам он в неё заглядывает время от времени, а у Романа это книги для чтения. И всё-то ему интересно: и техника, и история, и география, и те же птицы, что снуют вокруг дома. А почему так, он и сам не знает. Любит он часами сидеть над картой, мысленно путешествуя по разным странам, а ещё бы лучше – по своим местам. Он твёрдо уверен, что лучше Алтая нет гор на белом свете. И от книг по истории его не оторвать, а уж журналы «Техника молодёжи» и «Знание – сила» прочитывает от корки до корки.
Отец, хотя и любит своё дело – пчеловодство – и на прогресс техники посматривает с опаской и настороженностью, любознательность старшего сына одобряет. Ему нравится, что у Романа развивается кругозор. «Как же, без этого нельзя, – говорит Пётр Иванович. – Современный человек не может оставаться невеждой».
И Степан тянется к знаниям, но нет в нём той серьёзности и упорства, что у Романа. «А может, это и к лучшему, – думает Марфа. – У человека должно быть и послабление в жизни, не одно только дело на износ. А наша лесная жизнь ой как тяжела!»
Степан любит ковыряться в технике и читает любые книги: приключенческие, про путешествия, про рыцарей, про войну. Рома и сам не знает, кто он: технарь или гуманитарий. Хочется ухватиться и за то, и за другое.
Конечно, отцу хотелось бы, чтобы дети пошли по его стопам, – можно было бы передать им своё дело, – но тут уж как получится. А жаль бросать нажитый большой опыт работы с пчёлами. В этом деле сплошные тайны, и кое-что Пётр Иванович усвоил и открыл.
– Не неволь детей! – ворчит Марфа. – Пусть сами выбирают себе дело и занятие в жизни. Это ты лесной интеллигент, а им, может, хочется быть нормальными людьми. Знаешь же поговорку «Жить в лесу – молиться колесу». Не каждому это по силам и по нраву. Мы-то старой закалки люди, а молодёжь мыслит по-другому.
Как дальше жизнь у детей пойдёт, никто не знает. А пока в свободное время у ребят забавы на реке, благо Большая Речка под боком. Там и водопады, и омуты под скалами, откуда можно лихо нырять. И, конечно, рыбалка едва ли не каждый день. Это вовсе не то сидение с удочкой в тихой заводи, похожее на дремоту. Тут азарт охотника, пытающегося перехитрить осторожного хариуса. И Надюшка неравнодушна к этому занятию. Все трое сидят затаив дыхание, смотрят за мушкой, бегающей по воде. Она плящет и скачет вместе со струёй, в глазах рябит от мелькания солнечных искорок и брызг, а хариус ходит вокруг, и видно, как в воде ходят тёмные тени кругами. Радостно ёкнет сердце, когда лихорадочно вздрогнет мушка, а рыбка всплеснёт и забьётся, сверкая серебристой чешуёй.
Роман со Стёпой на берегу заняты рыбалкой, а вокруг идёт таёжная, скрытная жизнь. Углубившись в своё занятие, братья молча таскают рыбку за рыбкой.
– Рома, ты там поглядывай за ведёрком, – прервал молчание Степан.
– А что?
– А то, что норка тут шныряет. Смекнула, что можно поживиться.
– Она может. Дело нехитрое, а отваги и наглости у неё хватает.
– Вот-вот! У Опарина, соседа, сколько раз воровала. Он совсем глухой стал и видит плохо. А то, гляди, зимородок или оляпка уворуют! – усмехнувшись, добавил Стёпа. – Вон они, мимо так и сигают.
– Ну, ты рассказывай сказки!
Родной дом в лесу, а Роману со Стёпой и этого мало – соорудили свою потайную хижину в самых глухих дебрях, в Фомкином логу. Хижина отшельника, крохотный самодельный домик, что-то вроде индейского вигвама, крытого корьём и куском брезента, выпрошенного у отца. Есть нары, столик и даже печечка – литая чугунная буржуйка, подобранная на месте брошенной заимки.
Здесь было полное уединение, и никто не нарушал покоя этого укромного уголка среди дремучего леса. Крохотный ручеёк с кристально чистой водой струился совсем рядом. Лопушистые листья мать-и-мачехи обрамляли его, зелёной щёткой стоял частокол молодого хвоща. Постоянными обитателями здесь были изящная горная трясогузка и пёстрые рябчики, любившие прилетать на открытый берег ручья, чтобы попорхаться в песке и поглотать мелкую гальку. Время от времени братья, то вместе, то поодиночке посещали свою потаённую хижину, находя здесь покой и тихую радость общения с диким лесом. Поздней осенью, когда на улице хмарь и слякоть, сиди в тепле и в окошко поглядывай. А лучше всего здесь просто мечталось и думалось о чём-то самом заветном и сокровенном.
За горными петухами
Медленно и как бы нехотя наступала весна. Но она уже чувствовалась по яркому сиянию солнца и нестерпимому блеску снега. Ещё нигде не проглянула ни одна проталина, а тетерева уже волнуются. Не терпится им поплясать, свою удаль показать. Ходит тетерев-косач туда-сюда по ветке, вниз посматривает: не показалась ли земля? Снег ещё не поплыл, а поверх льда на реках уже выступила вода, днём она расплывается под солнцем, как сахар, поедая снег, а ночью вновь смёрзнется жёлтым блином-наплывом – гладким, как стекло.
От нетерпения сердито бормочет себе под нос тетерев, будто грозит кому-то: «Продам шубу, куплю балахон». Вот заладил: ну и продавай, коли жарко стало. Скок-поскок, спрыгнул на снег, походил по жёсткому насту, опустив крылья и подняв хвост. Нет, несподручно голыми ногами по снегу-то шлёпать – взобрался опять на берёзу. Песенка тетерева вовсе не громкая, а разносится в весеннюю пору во все стороны, далеко по горам, по долам. На что Столбоуха – большое село, а хорошо слышится на всех улицах тетеревиное бормотание, особенно по утрам. И Роме со Стёпой не терпится в лес не хуже, чем косачам. Сидят на уроках, в окна поглядывают.
Майским субботним вечером вся семья Дементьевых сидит у самовара. Назавтра наметили поход за глухарями, и, конечно, разговор только об этом. Можно ли назвать охотой ловлю птиц петлями?
– Во всех книгах пишут, как весной охотятся на глухарей, – делился Пётр Иванович. – Крадутся к токующей птице ночью, подскакивают, когда глухарь точит – шипит и щёлкает. Любовь у него, и он якобы в это время ничего не слышит, глохнет. А вот у нас совсем не так. И глухарь наш совсем другой – черноклювый, горный, и вовсе он не тугоухий. А почему так – не знаю. Может, все врут? Наши ли охотники или российские?
– Да к чему это ночью по тайге шарашиться. заряд ружейный тратить, – встрела в разговор Марфа, – когда петлями куда добычливей охота бывает? Ещё дед мой этих петухов так добывал. И отец, само собой. Потому наш глухарь и называется горным, что на горе его ловят. На равнине в России этот способ не пройдёт, а у нас на Алтае того же косача, бывает, руками ловят.
– Как это? – не поверил Стёпа. – Тетерев – птица! Как его можно поймать, если он летает?
– Летать летает, да вот на ночь в снег зарывается. Если мороз за тридцать, может не только ночь, но и день там просидеть. Под снегом ему тепло, благодатно, да вот беда: когда он с берёзы вниз спрыгивает, на снегу след остается. Охотник идёт, примечает: «Ага, здесь косачи с дерева спрыгнули». Ямки-то, они видны. Тихонько подкрадывается и… кошкой бросается и хватает тетерева. А то ещё и сачком – так ещё сподручнее.
– Да-а, – протянул Рома, – надо и нам попробовать.
– И не жалко вам? – вступила в разговор Надя. – Как-то нечестно получается. Им и так тяжело зимой, а тут вы, будто голодные!
– Ну, не нам, так лисе на обед достанется, – оправдывался Степан.
– Это что, – опять взяла слово мать, – в бытность моего детства косачей было так много, что их ловили, сидя в специально вырытых ямах. Сверху укрыто всё ветками, соломой, и снопики пшеницы – их называли кладью – для приманки расставлены. Тетерева глупые, лезут за поживой, а тут яма. Проваливаются – только успевай хватать.
– Это очень жестоко, и мне не нравится, когда вы называете тетеревов глупыми!
Надя не очень любила рассказы охотников, хотя частенько сопровождала братьев в прогулках по лесу, да и на охоте бывала не раз.
– Тут, Надюша, так, – за всех ответил отец, – или признавать охоту, или нет. А охота, между прочим, человека человеком сделала. На одних корешках да луковичках дикий человек гомо сапиенс бы не стал. А впрочем, Надя, я с тобой согласен. Атавизм эта охота, должна бы отмереть эта страсть, а тянет. Так как, с нами-то завтра пойдёшь?
– Пойду, пойду! – торопливо отвечала Надя. – Эти глухари такие смешные! Ходят важно, вразвалочку, и сердитые бывают, как индюки.
Ловлей глухарей по оттаявшим склонам занимались едва ли не все пчеловоды и жители Подхоза. У каждого свой путик – тропинка, по которой бегают или ходят тяжёлые мошники, как называют глухарей за их солидность и вес. Именно ходят, а не летают. Зиму глухарь кормится в кедрачах на белках, а как горы оттают, летит вниз. Глухарь – птица тяжёлая, летает плохо, но вниз-то чего не лететь! Так разгонится, что и остановиться не может. Планирует, летит, как тяжёлый снаряд. Бах! – сел. Огляделся: «Эх, однако, перелетел, надо возвратиться чуток вверх». Топает на своих двоих, выбирая дорожку, где почище и кусты пореже. Что такое? Какая-то ограда поперёк пути. Бежит вдоль неё, вот, кажется, и проход есть. Как раз то, что надо! Сунулся туда, голубчик, – и готов! Головой прямо в петлю.
– Вот он наш красавец, попался, как кур в ощип! – порадовался удаче Пётр Иванович. – У меня их тут целых пять ловушек, будет ли ещё? Как раз тебе, Надюша, на день рождения плов сделаем.
– Мне и одного хватит! – почти сердито отвечала Надя, жалея краснобрового черныша.
– И когда ты, пап, изладил всё это? Имею в виду ловушки с загородками из хвороста, и петли из чего-то изладил? – спросил Рома.
– А вот пока вы грызли гранит науки, я и потрудился. А кто научил? Так это же соседи наши надоумили. Здесь ведь все пасечники – охотники. Даже мать наша – она же из местных – науку эту знает. А что до проволоки, так голь на выдумки хитра – из брошенных автомобильных шин вынимаем. Стальная, не порвёшь. Этого добра сколько хочешь, и, главное, бесплатно – ничего не стоит.
Во второй ловушке ничего не было, а в третьей и в пятой опять удача. Двух положили в рюкзак, а третьего отпустили, благо он был жив-живёхонек. Обрадованный, быстро-быстро побежал в гору – совсем как это бы сделал домашний петух.
– Ишь, какой у него внушительный, сердитый вид! – весело сказал Пётр Иванович. – Давай, шпарь, да не попадайся больше! На развод, пусть живёт, – добавил он, оборотясь к детям, – а нам, и верно, двух хватит. Бывает, и зайчишка попадается в эти окаянные петли. Вот ведь незадача – лезут почём зря. А может, и правда пора кончать с этими ловушками! Мне ведь, Надюшка, и самому птицу жалко.
Сделав дело, все присели отдохнуть на прогретые сухие кочки. Достали припасы из дома: яйца, сваренные вкрутую, чёрный хлеб и молоко. Со всех сторон, сидя в голых ветвях, рыженькие овсянки тянули свою нехитрую песенку. Бабочка лимонница пролетела, а солнце жгло так, будто на дворе лето.
– Ну вот, ребятки, кажется, неплохо мы провели день, – сказал, вставая, Пётр Иванович, – теперь можно и домой. Глядите, клещей не наберите. Они сейчас дюже голодные – так и лезут, спасу нет.
Экспедиция за ревенем
Снежную лавину, что скатилась с горы, всей семьёй раскидали лишь к июню, да и то не всю. Выше же, по ущельям Юзгалихи и Большой Речки, остатки оплывин всё ещё возвышались обледенелыми снежными грудами.
Ранним июньским утром у пасеки Дементьева остановилась кавалькада всадников с четырьмя лошадьми.
– Едем за ревенем, – после приветствия пояснил бригадир совхоза из Столбоухи Куприян Гордеевич. – Говорят, у вас тут на Юзгалихе его шибко много.
– Много-то много, но надо знать, где его искать. Он же, ревень, таков: где много, а где и вовсе не найдёшь.
– Вот я и хотел попросить тебя, Пётр Иванович, отпустить твоих мальцов, чтобы показали. Уж они-то, твои орлы, всё должны знать.
– Отпустить-то не проблема, да вот незадача: лежит там оплывина, как раз на пути, с зимы не растаяла. Юзгалиха там промыла себе выход, но ледяной свод так и висит над головой. Очень осторожно надо проезжать. Что ты, Марфа, на этот счёт думаешь?
Петру Ивановичу явно не нравилась вся эта затея.
– Не дай бог, может обрушиться в любую минуту! Над головой ледяная глыба тает – никто не знает, когда обвалится. Придавит не хуже бревна в кулеме. Тут недалече по Большой речке лежит куча костей. Так же вот, как бывает в шахте, свод обвалился на коней. Так лошади и пропали. Там, если проходить под сводом, надо порознь, отдельно лошади и люди. А ещё лучше обойти стороной.
– Мы так и сделаем, – согласился Куприян, – авось пронесёт.
До лога с ревенем километров, наверное, пять. Половина пути – тропа, а дальше прямо по руслу. Воды ещё порядком – где-то вброд, где-то по берегу. Серовато-белой глыбой встал на пути снежный арочный мост. Гигантская, частично обледенелая гора снега десятиметровой высоты перегородила ущелье. Настоящая плотина поперёк реки, и хорошо ещё, что вода пробилась сквозь неё и не только нашла выход, но своим дыханием протаяла туннель в виде ледяного грота. Противоположный конец едва просвечивался. Ширина моста по руслу, наверное, не менее 100 метров. Однако проход под оплывиной есть, и высота грота такая, что не слезая с лошади можно свободно проехать.
– И верно, нехорошее место, – остановившись, произнес Куприян. – Что, мужики, будем делать?
Спутники его, крепкие рабочие с Подхоза, посовещались и решили рискнуть; время перевалило на вторую половину дня, и тратить его на обход по горам не захотели. Да и лошади без боязни под мостом прошли. Наломали ревеня на полные вьюки лошадям. Спустились из лога, уже начинало смеркаться и собиралась гроза. Вот и мост – надо бы скорее проскочить, но что это? Лошади прижали уши и встали как вкопанные. Стоят, ушами прядают и ни в какую, как ни понукай.
– Вот ведь, скотина, а чувствует, – недовольно проговорил Куприян. – За день подтаяло, однако, действительно опасно. Держится на честном слове.
– Животная, она лучше человека знает, где можно, а где нельзя, почуяли, что грот может обвалиться, – делились мужички. – К тому же и темно в туннеле – им и страшно. У них уши чуткие – наверное, слышат какие-то звуки, шорохи.
– А что делать? Объехать не получится – по сторонам сплошные скалы.
Куприян недолго думал:
– Придется взбираться на оплывину да по верху как-то переходить. Хотя и это тоже рискованно. А что делать, иного выхода нет. Вот беда: у нас ведь, кроме топора, другого инструмента нет.
Стали готовить вход на мост, на него ведь непросто взобраться. Надо было обрушить часть снега у склона, утрамбовать его. С полчаса, наверное, бились, но с грехом пополам какой-то вход соорудили. Странно, что лошади послушались, пошли на снежную гору. И только вся эта кавалькада взгромоздилась на ледяную верхотуру, как хлынул сильнейший ливень, и вся эта снежная масса рухнула по всей длине. Вместе со снегом кувыркнулись, смешавшись в кучу: кони, люди, вьюки с рассыпавшимся содержимым! Благо остатки моста падали как-то замедленно и никто из людей сильно не пострадал.
Братья шли следом, и Роман не заметил, как ухнул в темноту.
– Стёпа, ты жив?
– Здесь я, здесь! Испугался, а так ничего. Вроде бы цел.
Больше всего досталось лошадям. Испуганные, пытаясь быстро вскочить на ноги, они бились и барахтались, но, слава богу, не покалечились, хотя потоптали то, что весь день собирали.
Вспышки грозовых разрядов ослепляли в темноте – после них ничего не было видно. Молнии втыкались в склоны гор то справа, то слева, и громыхало оглушительно и страшно. Под этот аккомпанемент целый час ушёл на то, чтобы ощупью собрать остатки ревеня.
Тронулись в путь, а навстречу с факелом уже идут Пётр Иванович и Марфа. Ничего не сказал Пётр Иванович в ответ на сбивчивые слова оправдания Куприяна. Только Марфа позже ворчала:
– Впредь не потакай, держи свою линию твёрдо и не сворачивай! Не хотел соглашаться – так и стой на своём. Много их таких. Давят, а ты не поддавайся. Не мужик, что ли!
Дом на солнечной поляне
Слова с делом у Дементьевых не расходились. Через год на широком лугу, полном солнца и света, стояла просторная и светлая новая изба. С одного её бока гора, обращённая к солнцу, с другой – луг с родником у кромки пихтово-берёзового леса. В избе большая горница, отделённая от кухни большой печью. Четыре окна на две стороны, не считая кухонного. Весёлый рубленый дом с цветными карнизами и под железной крышей. Через Большую речку перебираться не надо, и Юзгалиха больше не грозит.
Изба крестьянская, да не совсем. Конечно, батарейными радиоприёмниками не удивишь, а вот стеллажами с книгами Петру Ивановичу можно было гордиться и удивлять любого местного гостя. Тут и художественная литература, и энциклопедия, а уж журналов – уйма. «Огонёк», «Наука и жизнь», «Знание – сила», про «Пчеловодство» можно и не упоминать. А ведь за почтой надо два раза в неделю ходить в Столбоуху, а это почти семь километров в одну сторону. А как же иначе, дети не могут расти неучами, считал Пётр Иванович, а без книг образованным человек не вырастет. И не только образованным, а человеком вообще – так он считал.
У Петра Ивановича пчелохозяйство доходило до 400 ульев совхозной пасеки. Умопомрачительное количество, требующее работы от зари до зари. А Пётр Иванович ещё находил время полюбоваться лесом, птичками, цветами и всеми явлениями природы. Работа, работа… Кроме хождения за пчёлами надо ещё кормить себя и семью. А это скот, заготовка сена, ягод и дров на долгую, семимесячную зиму. Летом особенно большая нагрузка, зимой тоже на диване не залежишься: со скотиной забота, с дровами, надо огребаться от снега, иначе задавит и дом, и все постройки. А он всё валит и валит, начиная с начала ноября до самого апреля.
И всё же зимой некоторая передышка. Редкими вечерами, когда семья собирается дома, Пётр Иванович при свете керосиновой лампы или самодельных восковых свечей читает «Войну и мир», Марфа Михайловна что-то штопает и тоже слушает увлекательное чтение.
Весёлая поляна, весёлая гора напротив. Зимой с неё и оплывины не страшны, и хорошо с неё стремглав прокатиться на санях. Сколько хохоту и смеха, когда зарюхаешься под горой в сугроб! Она же, эта горка, и весной первой освобождается от снега – иди и собирай подснежники! А чуть позже, в мае – июне жарками полыхает поляна за домом. Тенистый луг тянется до самого леса. Там, в лесу, птичий гам, а под окном тоже какая-то птаха распевает с утра до вечера.
Посмотришь со стороны – настоящий рай земной! Однако и он имеет свои особенности. Роман хорошо помнил, как мальчонкой пострадал от змеи. Тогда ещё жили в устье Юзгалихи. И было ему лет шесть, ещё не школьник. Родители с утра ушли на пасеку, а для присмотра за детьми приезжала бабушка Лукерья Егоровна. Ну а маленькому Роме поручалось не пускать скотину на сенокосные угодья (склон горы перед домом). Вот он в очередной раз «верхом на коне» – на хворостине, – босоногий, мчится по тропинке. Обо что-то запнулся, упал, вскочил и дальше. Прибежал домой и жалуется бабушке, что больно ноге. К вечеру стало плохо, нога начала пухнуть. Пришли родители с пасек. Отец сразу понял, что укусила змея. Расковырял ранки и пытался выдавить и отсосать кровь, но время было упущено. Перетянули ногу выше колена жгутом, а к утру нога до пояса распухла. Жгут оказался как бы заплывшим так, что его с трудом развязали. Поднялась температура. Приходили бабки-знахарки с Подхоза, заговаривали и совершали всякие шаманские действия, и наконец посоветовали смазать ногу дёгтем. Отец незамедлительно это сделал, за что себя потом много и долго укорял, ибо на следующее утро вся нога стала сплошным волдырём. Какое-то время Рома был без сознания и только через неделю едва сполз с кровати. А ходить начал, наверное, недели через две.
Змеюку эту Пётр Иванович всё-таки укараулил и убил. Размером она была, наверное, с метр. Редкий экземпляр чёрной разновидности гадюки. Да и вообще, змей там самого разного окраса, как и случаев, было великое множество. После того у Романа инстинкт осторожности всегда срабатывал: прежде, чем ступить или взяться рукой, – внимательно осмотрись.
Тогда жил во дворе большой мохнатый пёс Шарик. И сторож отличный, и ребятишкам для забав, как ездовая собака, особенно по насту (чарыму) служил. На ночь его, как правило, с цепи отпускали, и он, наверное, считал своей обязанностью вблизи дома отлавливать змей. Иногда придушенных этих гадов он раскладывал возле крыльца по нескольку штук. Морда его тогда была сильно распухшая. В такие дни на цепь его не сажали, он ничего не ел, пил только воду, ходил к реке и ел какую-то траву, похожую на осоку, – лечился.
А однажды в доме, когда все сидели ужинали, кот Василий вылез из-под кровати с ещё шевелящейся змеёй в зубах. Положил её на пол и сел, взирая на всех и как бы вопрошая: молодец ли он? Конечно, молодец! Вообще, со змеями, медведями и ещё кое-какими зверями и птицами приключений было немало. На то она и дикая тайга вокруг; вот гора напротив называлась Маралухой, хотя эти олени приходили редко.
Всё лето суета, торопливая работа, лишь поздним вечером соберутся все вместе, а уж чтобы посидеть семьёй за одним столом – так это возможно лишь в школьные каникулы. Долги зимние вечера, всего пять часов – до вечера вроде бы далеко, а уже темно, и с каждой минутой всё плотнее сумерки.
Потрескивают дрова в печи, и пламя, пробиваясь в щелки, отражается, играя огненным зверьком на белой стене избы. Там, у печи, ребята отогреваются, накуртавшись по снегу, хлопочет Марфа, гремя чугунками и сковородками.
– Батюшки, темень-то какая! – сетует она и зажигает восковую свечу, вставленную в стеклянную баночку.
Большая печь делит избу на две части – кухню и горницу. Сидя в полутьме, домочадцы дожидаются отца. Вот, кажется, и он гремит и шумит за дверью. Утолкавшись со скотиной, да и мало ли чего надо по хозяйству, Пётр Иванович долго и основательно топчется на крыльце, отряхивая с валенок снег, и, распахнув дверь, вваливается в избу.
– Что-то у вас темнота такая, – говорит отец, – сидите, как мыши в потёмках. Зажигай-ка, мать, лампаду! Свечи – это совсем тускло.
«Лесное электричество» называет отец, керосиновую лампу. Мать достаёт с полки лампу, называемую семилинейкой, долго протирает стекло газетой, зажигает и ставит на стол в горнице.
– Вот это дело! – весело говорит отец. – Как там ужин? Ребята-то уж, небось, заждались.
Почему лампу называют семилинейкой, никто толком не знает, даже отец. Но к этому названию все так привыкли, что и вопросов по этому поводу не возникает. Семилинейка, и всё тут!
Керосиновая лампа – почти роскошь. И керосин надо экономить, его трудно доставать, и стекло – драгоценность – не дай бог, может лопнуть. Чаще освещаются восковыми свечами – пасека же! Можно и каганцом, он же коптилка, жировик – примитивный, самодельный светильничек из баночки с жиром и фитильком из тряпочки.
Хоть и небольшая, но гордость хозяйства Дементьевых – лампа «Летучая мышь». Это чудо техники – тоже керосиновая лампа, но с колпаком, и с ней можно ходить на улице, так как она не боится ветерка. На зависть соседей очень удобная вещь. Семилинейка же, даже стоит только сильно хлопнуть дверью, может погаснуть. А этой хоть бы что – горит себе, был бы залит керосин.
Сидя за большим столом, семья ужинает, перебрасываясь репликами, а то кто-нибудь да и поделится случаем сегодняшнего дня, а то и из древних событий. Отец, побывавший на фронте, служил в военной разведке, но он редко рассказывает о войне. «Страшная это вещь – война, – говорит он, – даже вспоминать не хочется». А если изредка и поделится, то только не о боях и смертях.
– Пап, я вот думаю: как это ты из центра России забрался в такую глухомань? Была ли какая-то причина? – поинтересовался как-то Роман.
– Я-то что, – отвечал Пётр Иванович, – ты бы вот спросил Андрея Фёдоровича Свинина. Он-то как, служа в лейб-гвардии полка капитаном, дворянин, как он, уподобившись отшельнику, поселился не рядом с посёлком, как мы, а за десять километров, в таёжной чаще. Жил, на глаза никому не казался. Интересная у него история, ещё со времён Гражданской войны началась. Сам красавец, метра в два ростом, прихватил с собой служанку. Агафья-то Лукьяновна в молодости недурна собой была. Построил сначала землянку, потом избу, хозяйство завёл, стал жить по-человечески. Кстати, говорят, что фамилия-то его произошла вовсе не от слова «свин», а от имени Свен. Из шведов, выходит, он. – Пётр Иванович задумался, а потом продолжил тихим голосом: – Ты, сынок, понимать должен. Тех, кто из дворян, да ещё и офицеров, советская власть не привечала. Сколько их, горемык, голову сложили в Гражданскую войну. Да и потом не жаловали. Тут загадка скорее другая: как он цел остался. Впрочем, и тут объяснение можно найти. Значит, есть порядочные люди – не тронули. А он человек хороший, тихий, рассудительный, всем поможет, какая бы беда ни случилась.
К тому времени, как состоялся этот разговор, Свинин уже вышел из «подполья», переселившись поближе к людям. Двор его, целая заимка с большим домом, стоял на отшибе близ Столбоухи. Ребята Дементьевы бывали у него не раз в гостях. Там впервые попробовали викторию, как называют в этих краях домашнюю клубнику.
Был у Андрея Фёдоровича и яблоневый сад. Правда, яблоки приземистые, с ветвями, стелющимися по земле. «Иначе замёрзнут, – пояснял хозяин. – Климат наш не очень располагает к садоводству. – Но ягоды – виктория, смородина – растут хорошо».
Школа
Едва ли не главной проблемой лесных отшельников всегда была и будет учёба детей, и выход тут один – интернат. Советская власть, при всех её недостатках, уделяла большое внимание образованию (за что, некстати, и поплатилась распадом страны). Интернаты были всюду, в том числе и в Столбоухе.
К первому сентября вся ребятня лесного края – а это около десяти деревень и не меньше 25 пасек – собирается в этом школьном заведении, кому-то казавшемся домом родным, а кому-то казённым домом со всеми вытекающими последствиями, главное из которых – тоска по маме с папой. Но и обитатели интерната не городские паиньки, мальчики и девочки, дальше своего города или пионерлагеря носа не совавшие. Бойкие ребята, знающие физический труд, за лето подзагоревшие, поздоровевшие и окрепшие на сенокосах и огородах. Приключений у деревенских за три месяца каникул столько, что если все их собрать, получится целая книга. Книга сельского быта и жизни на природе. Общее почти у всех: работа в поле, рыбалка, встречи с дикими обитателями леса, походы за ягодами и грибами. Кто-то встречался с медведем, кого-то укусила змея, кто-то поймал очень уж большую рыбу. К сожалению, нередки и трагические случаи, хотя чаще это случается со взрослыми. Кто-то ушёл в горы и не вернулся, кто-то утонул, кто-то упал с лошади и разбился, а бывает, что и на рога быка можно попасть.
Радость – встретиться с друзьями, но тяжко жить в казённом доме, где вместо мамы и папы чужие тёти и дяди. Роман долго помнил, как мать приходила проведать его, долго искала по Столбоухе и нашла спящим, прикорнувшим на завалинке под весенним солнцем. Школа в деревне, да ещё и интернат, – это совсем не то, что городская школа. Интернат – это хотя и не служба в армии, но явное посягательство на личную жизнь. Когда сам себе не принадлежишь, а подчиняешься твёрдому распорядку. Нет ни личного пространства, когда хочется побыть наедине с самим собой, ни личного времени. Нет ничего своего – ни секретов, ни занятий, ни увлечений. Все вместе, всё общее, всё на виду. С одной стороны, это хорошо, по крайней мере, здесь приучают к труду, коллективизму и сельской жизни. Тут и уход за школьным огородом и скотом, вождение автомобиля и даже трактора. Да и букой не будешь, проведя столько времени в общежитии среди людей.
Полдня на занятиях, вторая половина – опять в коллективе: общественная столовая с казённой едой, спортивные игры, приготовление домашних заданий и сон в большой комнате, похожей на солдатскую казарму. И так шесть дней, и лишь полтора дня свободы, когда в субботу после уроков, радостный, бежишь домой. Детям Дементьевых это более семи километров по лесу, да ещё и с переправой через Хамир. И как тут не запомнить каждую тропинку, ручей, бугорок, рощицу или даже каждое дерево! В погожий день одно удовольствие пройтись, почти пробежаться по знакомой дорожке, где всё своё, родное почти так же, как свой дом. А в непогодь, в осеннюю слякоть или зимой, когда тропинка завалена снегом? Тут только жди, когда Пётр Иванович приедет на своей Карьке, чтобы забрать детей, а заодно и почту в Столбоухе.
А переправа через Хамир чего стоит! Хамир – серьёзная горная река. Зимой, с декабря по март, эту проблему решали намораживанием временного моста. А вот в половодье или после обильных дождей осенью на Хамир было страшно смотреть. Жителей пасек и двух посёлков – Екипецкого и Подхоза – с Большой землёй связывает тоненькая ниточка лодочной переправы, ненадёжная в большую воду, когда нужно преодолевать бурное течение разбушевавшейся реки. Роман не мог забыть трагический случай, случившийся весной с переправлявшейся оравой школьников.
В тот раз взрослых с ними не было, а самые старшие из всех, братья Султановы, решили показать свою удаль перед девчонками. Раскачали на стремнине лодку так, что она перевернулась, нырнула, ударилась о дно и была выкинута на поверхность. Большинство ребят каким-то образом успели обхватить руками скамейки в лодке и спаслись. А братья и восьмиклассница Нина Овчинникова – дочь пчеловода Нифонта Овчинникова – были выброшены из лодки. «Героям» удалось спастись – зацепились километра через полтора за корягу, – а Нина утонула. И никто из взрослых не сделал из того случая вывода. Как плавали, так и продолжали переправляться и рисковать. Это уже позже, когда и Подхоз исчез, натянули пешеходный подвесной мост.
Каменщики
Учитель труда Артур Рихардович Шнель был любимцем интернатовских школьников. Между делом он рассказывал занимательные истории из своего революционного прошлого в Средней Азии. О том, как их военный отряд гонялся за басмачами, как сражался на фронтах Гражданской войны, как влюбился в красавицу-таджичку. Бывало, на переменках доставал аккордеон, и ребята под его тягучие вздохи с удовольствием пели пионерские песни.
Но прошли те времена, когда всё это нравилось Роману. Теперь гораздо интересней было слушать рассказы учителя истории о прошлом их родного края.
– Ребята, – громкий голос Евгения Александровича, учителя истории, гипнотизировал класс, – вы знаете, что есть мировая история, история нашей страны, но есть ещё и история нашего края, где мы с вами живём. Такая история называется краеведением. Это история наших дедов и прадедов. Да, это история маленького кусочка земли. Если посмотреть на карту нашей родины, то наш Бухтарминский край будет выглядеть маленькой точкой. Но от этого история его ничуть не менее интересна, чем история целой страны, тем более что кто-то из вас может задуматься: «А ведь и мой прадед жил здесь в то далёкое время». Эту историю вы не найдёте в учебниках, я сам долго изучал её, читая разные книги, собирал по крупицам сведения. Ходил по музеям, расспрашивал знающих людей. Занятная и увлекательная, скажу я вам, получилась картина. Вот я и хочу её вам рассказать.
Весь класс замирал, слушая эти слова учителя, и даже самые отчаянные шалуны забывали о своих проделках и проказах.
– Давно это было,– продолжал учитель, – двести – двести пятьдесят лет назад. – По Бухтарме, по диким ущельям Холзуна и Листвяги стали появляться доселе неизвестные люди. Бродяги не бродяги, бедные непонятные люди, одетые в дерюги и домотканые рубахи. Заросшие, бородатые мужички, кто на лошадёнке, с ружьецом, а кто и без, пешим ходом, с топором за поясом. Были они голодны, промышляли кто во что горазд: кто рыбачил, ставя самодельные верши на Бухтарме, кто стрелял коз или ловил в западни и ямы щук. Прячась по диким ущельям, беженцы получили прозвище «каменщиков», ведь в России в те времена все горы называли камнем.
Народ голодный, и потому на всё способный. Могли и отобрать у бродячих охотников-алтайцев еду и одежду.
К зиме сделали себе землянки, но пахать, сеять нельзя, потому что были они беглые, а пашня могла выдать их местонахождение. Следом посылались военные отряды – они рыскали, искали беглецов. Были среди них и женщины, но мало – не более одной на десять мужиков. Потому дрались или брали в жёны местных калмычек. Вам, конечно, интересно знать, кто же эти беглецы. Это были старообрядцы, преследуемые властями за веру, и горнорабочие с алтайских, демидовских заводов, сбежавшие от принудительного и непосильного труда на шахтах. Эти заводы и шахты назывались тогда Колывано-Воскресенскими.
– А наш дед Селиван рассказывал о прежней жизни, – вмешался в рассказ мальчик Коля Зенков, – как молотили хлеб цепами, толкли зерно в каменных, самодельных ступах, и бывало, мёд качали в земляные ямы, так как не было посуды.
– У них получилось не лучше, чем у Робинзона Крузо, – заметил другой паренёк. – Тот с одного зёрнышка начинал. Нашёл завалившееся где-то в щелке кармана и развёл целую плантацию.
– Вы правы, ребята, – согласился учитель. – Робинзон, не Робинзон, а нашему мужику туго приходилось. Голод не тётка, а люди пришли с голыми руками. Не скопили никаких припасов. Да и откуда их взять, когда бежали тайком, боясь погони? Хотя бы самим целым остаться. Кору, бывало, толкли и ели. Крапиву, лебеду. Опять же, в землянках жили. Прятались. Сколько людей померло!
Лес рук поднимался над партами, ребят живо заинтересовала история их края, но урок подходил к концу, и, к огорчению класса, Евгений Александрович признался, что он и сам во многих вопросах ещё не разобрался.
– Честно вам скажу, – продолжал он, – история с каменщиками темна, как сама черневая тайга, и полна загадок. В своё время, в XVIII веке историки упустили её. Когда спохватились, оказалось, что нет ни документов в архивах, ни сведений. Да и какие документы могли быть у беглецов, по существу – у бродяг, скрывающихся от властей? Кое-что можно почерпнуть из донесений отрядов, разыскивающих беглых. Отчёты, приказы, распоряжения.
Первые известия о каменщиках поступили в 1761 году, когда были обнаружены две избушки на реке Тургусун. Там узкое ущелье, труднопроходимое. Потом стали известны поселения выше по Бухтарме, но ни слова о Хамире. Возможно, они были и здесь, но об этом нет известий. А о том, что русские знали эти места, говорят и названия: Громотушка, Логоуха, Столбоуха. Они упоминаются уже в источниках начала XIX века.
Из заслуживающих внимания документов есть лишь список некоего офицера отряда, в конце XVIII века отправленного ловить беглецов, где он перечисляет таёжные убежища – поселения каменщиков, жилища в которых нельзя назвать ни деревянными, ни земляными. В каждом из них по две – пять хижин или землянок. Но этот список касается верховий Бухтармы, а про наши места ничего не сказано. По логике наша долина должна была заселиться одной из первых: широкий простор, нет теснин, возможность заниматься земледелием и охотой. С другой стороны, именно близость и доступность на руку властям и карательным отрядам. Здесь труднее прятаться.
Здесь прозвенел звонок, но школьники не расходились и, окружив Евгения Александровича, наперебой заваливали его вопросами.
Роману многое из рассказанной учителем истории было знакомо из разговоров отца с матерью – ведь их отец в молодости работал учителем в Усть-Каменогорске и многое знал из истории края. Теперь он вместе со Степаном не раз возобновлял разговор на эту тему. Всегда занятый, Пётр Иванович не отказывался от общения, но чаще всего отвечал на бегу, между делом, кратко и торопливо. В основном его рассказы дополняли или повторяли то, о чём говорил учитель в школе.
– Опять о каменщиках рассказать? Что можно сказать о беглых людях, прятавшихся в диких горах? Считай, те же разбойники. Жили как первобытные люди. Прятались по чащобам, друг друга боялись, жён воровали. Женщин-то было раз-два и обчёлся. Если у кого была, то беда. Убивали мужика насмерть, чтобы женщину себе забрать. Таких убивцев мясорубами звали. Нелюди, хуже зверей. Было ли, не было на самом деле, давно об одном таком случае бают. Убегла в лес целая артель – семь мужиков, и одна женщина с ними была. Сначала вроде бы дружны были, а потом один из мужиков ревновать начал. Ночью, когда все спали, взял топор и порубил шестерых мужичков – своих подельников и соперников, значит. В общем, жили, прозябали и сами не рады были своему горю-житью. Тем более что ещё приходилось и прятаться, так как посылались военные отряды, чтобы их изловить.
Братья молча осознавали услышанное.
– Пап, ты расскажи про Селезня, что давеча нам говорил, – попросил Роман. – Это поживее будет.
– Да, было дело, – начал Пётр Иванович, – крутой мужик, так бы сейчас сказали про этого Селезня. Не раз он сиживал в остроге то ли за разбой, то ли за побег. Как ни посадят его, а он всё равно убежит. Вот и в очередной раз сбежал, да ещё и мужичков с собой прихватил, заранее подговорив. А куда бежать – два пути: на Уймон, в дебри Катунь-реки, или на Бухтарму. Да-да, ребятки, там, где сейчас санаторий «Голубой залив», двести пятьдесят лет назад была глухомань, куда никто не решился пробраться, только беглецы – каторжане и кержаки. Да ещё рыскали разбойнички, промышлявшие грабежами.
– Вот чудеса! – удивился Стёпа. – Какая глухомань, там всего-то реденький сосняк!
– А вот так, дело не столько в сосняке, сколько в отдалённости и безлюдье. В те времена в наших краях только изредка охотники бродили да бродяги-разбойники шастали. Разбоем промышляли. Словом, сплошное беззаконие. Жили по принципу: кто смел, тот двух съел. По закону силы и тайги.
– Выходит, власть нужна.
– А как же, для порядка. Так вот, мы отвлеклись, – продолжал отец, – шайку этого Селезня грабили, а он в отместку тоже грабил и убивал, пока воинская команда не взяла штурмом их крепость. После того, как разгромили шарагу Селезнёва, русские беглецы стали искать места подальше и ещё поглуше. Так дошли до верховий Бухтармы, прятались по диким ущельям. И вроде бы самому Селезню удалось ускользнуть от солдат. Дальше его судьба неизвестна.
– А чья вся эта земля была?
– А тут трудно разобраться. Сначала считалось, что это Джунгария. После их разгрома китайцами на всю территорию претендовал Китай. Хотя, скорее, ничейная была земля. Бесхозная, как говорится. Вот русские после того поставили на месте заимки Селезнёва что-то вроде укрепления. Так, больше для видимости – хотели проверить реакцию китайцев. Построили, а сами ушли.
– Ну и что китайцы? – теперь уже и Стёпа заинтересовался.
– Сожгли. Не понравилось им. Хотя тоже никакого гарнизона не оставили. А русские, наоборот, через двадцать лет прислали сюда команду и основали Усть-Бухтарминскую крепость и посёлок при ней. Так Россия потихоньку расширяла свои владения, а тут представился удобный случай присоединить и весь Бухтарминский край. Достаточно было принять в своё подданство жителей этого края, то есть каменщиков. По совету властей из Барнаула, в 1792 году Екатерина II «простила» их, после чего большинство каменщиков вышли из гор и поселились в долине по нижнему течению Бухтармы, где удобно было заниматься земледелием. Так возникли деревни, о которых вы хорошо знаете: Богатырёво, Быково, Сенная, Печи и другие.
«Да, не позавидуешь такому житью, – была общая мысльу Романа и Стёпы.– Какая уж тут романтика, хотя бы выжить! Не сдохнуть с голодухи, не попасться разбойникам и карательным отрядам». А ещё сам собой возникал вопрос: как так получается – в школе историю учим разных там древних греков и египтян, а что творилось у себя, ничего не знаем?
– Это ты верно заметил, – согласился отец. – Обычно свою историю копают сами жители. Есть такие неравнодушные, что интересуются своим прошлым.
«Может, и нам этим заняться? – возникла мысль у Романа, и Стёпе она понравилась. – Да, жаль, книг об этом не найдёшь. Мы же почти ничего не знаем о своём крае, где живём. Кто здесь раньше жил, когда сюда пришли русские, где были первые поселения? Найти бы хоть какие-то следы, порыться на чердаках – глядишь, попались бы старинные монеты или, например, кремнёвое ружьё. Нашли же в Козлушке старинную фузею, говорят даже, что из неё стреляли».
– Что интересного ты собираешься найти в крестьянском дворе? – смеётся Степан. – Горшки, ухваты, в лучшем случае утюг чугунный попадётся. Так у нас дома такой есть, и мама до сих пор им пользуется. Ну сбрую, подкову старую найдёшь. А насчет фузеи – тут неясно, говорят, что её приволокли то ли из Белой, то ли из Печей.
– Всё равно где, но ведь нашли! Вот в газете писали, что в Зайсане откопали в каком-то дворе винтовку Пржевальского. Вся ржавая, она выставлена теперь в музее.
– Да, про сенсацию сообщили, но не добавили, что прятали эту винтовку в Гражданскую войну от большевиков. Кстати, – спохватился Степан, – ты же знаешь старое кладбище в Столбоухе?
– Ещё бы не знать – за околицей села, на опушке пихтача.
– А я там специально бродил, смотрел. Заброшенное, заросшее дикой травой. Деревянные кресты давно попáдали, а некоторые и сгнили, но холмикам ничего не сделалось. Так вот, рассказывают, что там похоронен богатый купец, зарубленный красными, а где-то рядом его дочь зарыла клад из семейных ценностей. Целый ящик. А что в нём, никто не знает.
– Ящик? Если деревянный, то он уж давно сгнил.
– Может, и сгнил, а может, он и не деревянный. Люди ведь соображали, когда прятали. Там и документы какие могут оказаться. От советской власти ведь всё тогда прятали. Фотографии генералов, дворян, купцов до сих пор боятся показывать. Но это я к слову. А ты разве не слышал про это дело?
– Слышал, но как-то не придал этому значения, да и не очень-то верил всем этим рассказам.
– А я знаю, что не раз делались попытки найти тот клад, но всё безуспешно. Ни дочери того купца, ни родных их давно ведь нет. Копались тайком по ночам, да где там, в темноте да украдкой. Летняя ночь коротка – пока то да сё, начнут рыть, а уже заря занимается. От народа стыдно, что гробокопательством занимаются. Быстренько зароют всё назад, да ещё и травкой надо прикрыть, чтобы следы спрятать. И стоит та могила, клад свой бережёт. Кому-то денежки нужны, золотишко, а нам бы историю раскрыть. Там бумаги, документы могут быть. Смутное было время, почём зря людей убивали. Брат брата, бывало, не жалел.
– Стёпа, ты так увлекательно рассказываешь, что мне прямо сейчас хочется бежать и раскапывать тот клад!
– Надо с Пахомычем поговорить, порасспрашивать – он многое знает.
– Это тот дед, про которого говорят: «Дед – сто лет»?
– Он самый, ему далеко за восемьдесят, он помнит всю заварушку в наших краях, что была после революции.
– Как же, красный партизан! Кстати, как раз на этом его можно и разговорить.
– Да он уже этим не гордится. Хотя, может, что и расскажет. Занятный старик.
Пахомыч
Не откладывая в долгий ящик, вскоре братья были в избе старого партизана Пахома Ильича Свиридова. В тёмной комнате было не слишком уютно – чувствовалось отсутствие женской руки. Старик давно уже похоронил хозяйку и жил бобылём.
– Значит, интересуетесь, как была установлена советская власть в нашем лесном краю? – Пахомыч сделал остановку, закурив сигарку-самокрутку из самосадочного табака. – Да-а. А я, пожалуй, уже и сам забыл и запутался, как всё это было. Убивали друг друга, махали шашками, головы рубили. В общем, была какая-то кутерьма с расстрелами, голодухой, разрухой, и так несколько лет. А что до советской власти, так это всё было довольно мрачно. Пришли какие-то дяди в кожаных тужурках, перепоясанные ремнями и увешанные маузерами, и объявили, что установлена советская власть.
– Но как же, а ведь до этого были бои. Красные, белые. Нам даже в школе рассказывали про Малея, расстрелянного под берёзой около Шумовска.
Роман делал попытку разговорить оказавшегося довольно суровым и неразговорчивым Пахомыча.
– Красные и белые? Так это же и те, и другие были наши же мужики. Крестьяне. И вовсе не значит, что красные – это беднота, а белые – кулаки и богатые. Бывало и наоборот. Сейчас трудно разобраться, а тогда и вовсе всё было непонятно, кто за что, кто против кого.
– А как же зверства беляков, о которых пишут и нам в школе рассказывают? – для затравки начал Степан. – В Зыряновске вон памятник стоит борцам за советскую власть.
– Я, ребята, вот что вам скажу: вы меня не слушайте, я уже свою жизнь прожил, а у вас всё впереди, и вы должны по-другому мыслить, чем я. А я же сам воевал – и теперь виню себя за это. Братоубийственная та была война, и жестокость проявляли с обеих сторон что белые, что красные. А что дальше было? Сплошной обман. Землю посулили крестьянам, а сами тут же отобрали не только землю, но и выращенный хлеб. Это что, как это назвать, кроме как грабежом?
Пахом Ильич так разошёлся, что ребята были уже и не рады затеянному ими разговору.
– Пахом Ильич, да мы по другому вопросу, – попытался изменить ход разговора Роман. – Земля слухом полнится, болтают, что рядом с вами клад зарыт.
– Это кто же вам сказал?
Роман замялся, не зная, что сказать, но Стёпа тут как тут:
– Как кто, знакомая вам наша школьная техничка Фаина!
– А, Фая… Ну да, она могла кое-что знать. Ну, раз уж это не стало тайной… – Пахом Ильич вдруг заговорил сердито. – А что же вы хотите – стать кладоискателями и чтобы вам всё преподнесли на тарелочке? Клады не так просто искать – вокруг них всегда тайна, разбойники, пираты. Их ищут, потом за них сражаются, проливают кровь. И что же это за клад?
– Говорят, вроде как дочь убитого купца где-то тут зарыла своё богатство.
– И вы верите этим байкам?
– Вот мы и пришли к вам разузнать.
– Хм-м… А вы бабу Анисью знали?
– Эту старуху, что была не в своём уме?
– Её, её.
– Ещё бы не знать! Её вся Столбоуха знала, а некоторые даже боялись. Она же с топором на людей кидалась. А сама побиралась, пока не умерла.
– Да, было такое дело. Её как в молодости напугали, так до самой смерти не прошли обида и страх. Ведь дочь купца, про которую вы говорите, – это и есть баба Анисья.
– Мы этого не знали.
Братья на самом деле очень удивились.
– А я, ребята, знал её, можно сказать, с детства. Мы тогда в Путинцево жили по соседству. Красивая была дивчина. Она на меня долго обиду держала, когда с её отцом так поступили. Я же в красном партизанском отряде был, хотя к смерти её отца никакого отношения не имел. Жила в одиночестве, ни с кем не дружила. Это уж потом отошла, я ей помогал, как мог, когда она оказалась в бедственном положении. Да, перед смертью она мне рассказала, что зарыла семейные ценности. И место показала. Тогда же до самого тридцатого года всё отбирали, вплоть до женской юбки. Называлось раскулачиванием. Вот она что-то и припрятала, да так и не попользовалась.
– Невероятная история! – вырвалось у Романа.
– Тут много неясного, – в свою очередь отметил Степан. – Как получилось, что вы и она оказались здесь вместе в Столбоухе?
– Всё очень просто. Я проработал всю жизнь лесником, а она пожелала поселиться рядом с могилой отца. Работала на почте в Столбоухе. Вы-то уже знали её только в старости.
– Значит, могила её отца здесь, в Столбоухе?
– Здесь, совсем рядом, где мы с вами сейчас находимся. Говорю, открывая чужие секреты, так как сам я уже слишком стар и надо кому-то передать эту тайну. Родных-то у Анисьи не осталось, мне тоже недолго жить на этом свете, а вас я считаю людьми достойными, так как знаю и уважаю вашего отца.
– А почему сами не воспользовались?
– Самому? Это в нашей-то убогой жизни? А почему ты не спросил, как так вышло, что сама Анисья не воспользовалась?
– Да, почему не воспользовалась?
– Вы же не знаете, что там закопано. И я скажу вам, что тоже не видел этот клад. Мне Анисья сказала так: «Там, говорит, Пахом, закопан фарфоровый чайный сервиз. Но сервиз не совсем обыкновенный. Дорогой, кузнецовской фирмы». А фирма эта гремела на весь мир. Говорит, малинового цвета сервиз на двенадцать персон. Вот сами и судите: зачем Анисье или мне эта ювелирная работа в крестьянской избе? А вы откопаете – если сохранилось, можете в музей сдать. Потому вам и доверяюсь. Возможно, и какие-то бумаги есть относительно её отца.
– Нам, Пахом Ильич, интересны бумаги для истории. Предметы старины, что люди привозили с собой, когда сюда бежали. Мы интересуемся, когда и как заселялся наш край.
– А вот тут, ребята, вы опоздали. Анисья когда умерла, через год снегом раздавило её избушку. Она и так дряхлая была. Вот мальчишки и повадились бегать на развалины, рылись в рухляди. Показывали мне старые иконы – чёрные, закопчённые. Анисья всё это держала, хотя и не очень набожная была. Книжные талмуды там были, религиозные, конечно, старинные. Я-то всем этим не интересовался.
– А что за мальчишки? Может, у них всё это сохранилось?
– И-и, и тут вы опоздали! Вы разве не знаете, что рыскал здесь один тип из Зыряновска? Всё спрашивал про иконы и старинные книги. Он всё и забрал, можно сказать, за бесплатно ему всё отдавали. Зачем нашему человеку это старьё? А этот Крепинин, не будь дураком, всё это добро потом сплавил за границу. Говорят, озолотился этот проходимец. Он ведь не только в Столбоухе шарился – все деревни по Бухтарме обскакал. Шустрый был человек и с тёмным прошлым. Болтали, что он в наших, советских лагерях десять лет отсидел за сотрудничество с немцами в годы войны.
– Нет, Пахом Ильич, мы этого ничего не знаем. Мы же всё лето живём у себя на пасеке.
– Ну, так вот теперь будете знать. А клад этот надо раскопать – мне и самому интересно узнать, что там Анисьюшка запрятала. Она-то и сама уже давно позабыла, что там было, когда мне обо всём этом рассказывала. Вы это дело не откладывайте в долгий ящик – нынче надо и разрыть, пока я живой. Весь инвентарь: лопаты, ломок – всё это у меня возьмете, и скажите спасибо: могилка и клад рядом, тут, в двадцати пяти шагах от моей избы. Получается, что я как охранник, на кладбище всю жизнь прожил. Да вот ещё. Хе-хе, знаете, тут ещё один сторож имеется. Удивитесь: сова! Как чуть под вечер, она вылетает из леса, садится на макушку пихтушки, в самый раз у того клада. И сидит так, зыркает по сторонам, поглядывает: не трогает ли кто тот бугорок. И что меня удивило: у всех сов глаза огненно-красные, а у этой – синие! То ли она заколдованная какая?
Роман оживился:
– Неясыть эта сова называется, Пахом Ильич, только у неё глаза чёрные, с синевой, а у всех других сов они жёлтые или оранжевые.
– Ну вот видишь, что значит наука! Теперь буду знать. А вы приходите, раскопаем. Но лучше на рассвете, когда народ спит. Ночью-то несподручно, а пораньше – самый раз. Нам не нужны деревенские пересуды – так-то вернее будет и спокойней. А приходите с вечера. У меня переночуете, чайку попьём, дроздов послушаем – шибко хорошо они поют по вечерам тут рядом, на макушках ёлок. Рассветает в половине четвёртого, мой Петька как пропоёт, так и за работу примемся.
– Придём, Пахом Ильич, обязательно придём. Как ты, Рома, думаешь, когда?
– В воскресенье не получится – надо дома побывать.
– Ну, тогда в пятницу вечерком к вам, Пахом Ильич, и заявимся.
– А как же школа? – вспомнил Роман.
– Выбирай: один прогул, но раскопки.
– Ну, разве ради науки! У меня ещё идея возникла: порыться на месте избы бабы Анисьи.
– Приходите. Всё осмотрим. Там целая кипа бумаг была – авось что-то и сохранилось. А от меня привет передайте Петру Ивановичу!
Душа Анисьи
Майским вечером братья брели по раскисшей деревенской улице.
– Стёпа, а правда, как хорошо! На лужи смотреть больно, солнце так и играет, искрами сверкает! Засиделись мы в классах, а на улице-то как дышится, чуешь?
– Чую, что на сапогах по пуду грязи.
– Ну и бог с ним, это чернозём. А птицы-то поют, и солнце, как повисло в небе, так и не уходит! Слышишь, бекас блеет?
– Этот бекас и у нашей школы играет.
– Зато здесь свобода и тишина. Кроме птичьих, никаких голосов. Да, вот слушай: кряковые полетели. А трясогузки-то смотри, как радуются! Голосочки у них, как колокольчики. От возбуждения даже взвизгивают. Музыка весны! Я вот смотрю на проталины, как кандычки выходят из земли, и нет для меня ничего приятнее. Ходил бы и ходил, смотрел бы и слушал.
– Ещё бы! Кандыки все любят. Может, больше жарков. Сибирский подснежник.
– И леонтьица, и ветреница – это всё наши подснежники. А то ещё медуницы и даже мать-и-мачеха, они тоже весенние первоцветы. Я на простую проталину и то наглядеться не могу. На непросохшей земле прошлогодняя трава, будто прикатанная, и росточки розовые, бордовые, будто натыканные, вылезают, и тут же муравьи зашевелились, забегали.
– Их солнышко пригревает – вот они и ожили. А ещё под берёзой жёлтая травяная ветошь, будто войлок, и тетеревиные каральки кучками лежат. Их от берёзовых серёжек не отличить. Значит, ночевали зимой тут под снегом. Как увижу – так перед глазами косачи на ветках сидят.
– Не береди душу, Степан! Ты говоришь, а мне уже хочется бежать на тетеревиный ток. Гляди-ка, старый Пахомыч нас уже поджидает.
– Скучает дед по людям, по людскому вниманию. Человеку много ли надо? Проявили интерес, вспомнили о нём – он уже и рад.
– Здравствуйте, Пахом Ильич!
– Привет, привет! Засиделись, небось, за партами – так и весну прозевать можно. А я вот старый, а как придёт март, апрель – в избе не могу усидеть. Про май уж и не говорю – в избу и заходить не хочется. Чувствую в груди какое-то томление и тоску, грусть и радость одновременно. Ну, насчёт тоски дело понятное – старость не даёт расправить крылья и полететь. А радость – это значит, что душа ещё жива. Чай нас подождёт – пойдём поглядим на могилки, пока солнце не село. Вишь, как Мохнатка нависла, – вот-вот солнышко за неё спрячется. У меня солнечный день короче на целый час из-за этой горы, но я на неё не обижаюсь – каженный год кислицу там беру, смородину, малину. Про косачей и глухарей промолчу – в последние годы стало мне жалко их убивать. Да и просто так из окна на Мохнатку гляжу – и вроде как душа успокаивается. Ну вот и пришли. Тут всё сразу вместе: могилки Анисьи, её отца и тот самый бугорок с кладом.
Совсем небольшой деревенский погост приютился близ речушки Столбоушки, негромкий шелест которой уже отчётливо слышался. Ему вторили голоса зябликов, овсянок, щеглов со стороны подступающего пихтача. Всхолмленная земля с кое-где торчащими кустами рябины, калины, боярки тут уже вся освободилась от снега, но северный склон горы, заросший пихтачом вперемежку с берёзой, был весь в снегу.
– Гляди-кось, птичками-то камешек обсижен. Они, будто ангелочки, могилку навещают. – Пахомыч показал на бугорок с торчащим на макушке большим булыжником.
– А что, правду говорят, будто пытались раскапывать клад?
– Это вы про Кольку Дерюгина прознали? Да где ему, забулдыге, добраться! Он же пытался ковырять могилку Карпея Афанасьича – отца Анисьи, значит. Так я его прогнал, из ружья стрелял для острастки. А что до клада, так Бог его уберёг. Пока никто не прознал, никто его не трогал.
– А вы этого купца знали, отца Анисьи?
– Карпея Афанасьича? Как не знать! Я же его знал ещё будучи мальчонкой и потом в молодости, когда его порешили. Степенный был мужичина, с большой окладистой бородой. Настоящий русский купец. Фамилия – Шашурин. Честно торговал, не обманывал, а что кокнули – так это, считаю, была почти уголовщина. И вершили эти дела лодыри и завистливые люди. И я, стыдно признаться, с ними вместе был. Потом уж задумался, когда хлеб отбирать стали, а после коллективизации и восстания Толстоухова совсем прозрел.
– Это кто такой Толстоухов?
– Официально – враг народа, а на деле всё наоборот. Известный командир, борец за советскую власть, его орденом Красного Знамени наградили, а он как увидел, что творят с народом, развернулся в обратную сторону. Во как!
– Как это? – не понял Роман.
– А так, что поднял народ против власти, и это уже в тридцатом году.
– Ну и чем всё кончилось?
– А чем иным может кончиться, как не расстрелами? Свояк свояка убивал, в Бухтарме красная вода текла… А вот и она! – вдруг живо встрепенулся Пахомыч.
«Кто “она”?» – подумал Роман и тут же увидел вылетающую из леса сову. С коротким, будто обрубленным впереди телом, неспешно махая широкими крыльями, она сделала круг над взирающими на неё людьми и, глухо прокричав: «В-вя-у!», уселась на макушку ближайшей пихты.
– Вот видите, что я вам говорил: сова, как вы её назвали?
– Неясыть.
– Вот-вот. Теперь она будет нас караулить и ждать, когда мы уйдём.
Словно подтверждая эти слова, неясыть сорвалась с места и снова пошла на новый круг. Но на этот раз она не ограничилась недовольным окриком, а ещё и хлопнула своими мохнатыми крыльями.
– Ну как? Теперь вы и сами видите, – негромко произнёс Пахомыч, – однако всё это неспроста. Она так тоскливо вякает, что мне всё кажется, будто это сама Анисья мается. Жизнь-то не сложилась – душа её мечется, никак не может успокоиться. У неё же, у Анисьи, и жениха тоже порешили. Он же у Кайгородова офицером служил. Анисья потому и уединилась, так и прожила ни на кого не глядя. Вот и сейчас сама в земле, а душа плачет. Душа-то живая! А ещё говорят, что души нет. Вот же она!
Стёпа хотел спросить: а может, это вовсе и не Анисьи душа, но смолчал.
– Что это я, совсем заговорился! – опомнился Пахомыч. – Тихо, тихо! Слышите, дрозд? Во-вот начал! Давайте помолчим. Ах ты ж, боже мой! – не говорил, бормотал себе под нос Пахомыч. – Какой чистый голос! И как выговаривает, как декламирует! Гордец! Аристократ! Это вам не соловей, что взахлёб, бурно выкладывает свою песню. Этот по строфам, по слогам выдаёт, зато какой звук! Арфа! Да кой чёрт человек не изобрёл такого инструмента, где ему, человеку, до лесного певца!
Пахомыч стоял в каком-то забытьи и, кажется, ушёл в какой-то нереальный мир. Ребята постояли так несколько минут, потом Роман тронул его за плечо:
– Пахом Ильич, уже поздно, простынете. Скоро совсем темно будет, и холодок пробирает.
– А-а, да-да, – опомнился старик. – Простите, ради бога, век бы стоял, слушал. Идёмте чай пить.
Клад
Ещё не рассвело, как, мучимый старческой бессонницей, Пахом Ильич уже будил братьев. Роман вскочил быстро, а Степан никак не хотел расставаться с тёплой постелью.
– Вставайте, граф, вас ждут великие дела! – теребил его Рома.
– Какой граф, какие дела? – Спросонья Стёпа ничего не соображал.
– Великие открытия, сокровища неведомой страны Гваделупы и Острова сокровищ. Мешок драгоценностей и золотые слитки.
– И куча ненужных черепков, – в тон ему ответил очнувшийся Степан, – да мешок сгнившего тряпья.
– Быстренько по чашке чая и за работу! – командовал Пахом Ильич.
Бодрящий ледяной воздух встретил их, едва они шагнули за порог. Занималась заря, птицы молча бегали по голому пустырю, усеянному редкими здесь ветреницами и кандыками, но со стороны леса уже начинал звучать пока ещё слабый птичий хор, где различались голоса дроздов, овсянок и зябликов.
– Проголодались, мои милые, – обращаясь к птицам, с теплотой в голосе проговорил Пахомыч. – Кормитесь, кормитесь на здоровье, вам ещё весь день петь и гнёзда вить. Да, стойте, – вдруг обратился он к ребятам: – Слышите, шумит? Шумит, родимый!
– Кто шумит? – не понял Степан.
– Хамир шумит, – пояснил Пахомыч. – до него пара километров, а слышно. И так всегда: как тихая погода, так этот ровный гул. Я его завсегда слушаю, и никогда не надоест. Ну, с богом, помолясь, как говорили наши предки, приступайте, – без всякого пафоса, буднично сказал он Роману со Степаном, рвущимся начать работу.
Отвалили вросший в почву валун, и ребята дружно заработали лопатами. Земля шла вперемешку с галькой и песком. На глубине примерно 75 сантиметров лопаты гулко стукнулись обо что-то твёрдое.
– Дерево! – сказал Степан, и это было понятно и без его слов.
Пахомыч достал из кармана большой складень, лёг на землю и поскоблил доску.
– Листвяк, – сообщил он внимательно наблюдавшим за ним Роману и Стёпе.– А это значит, что кладу ничего не сделалось. Вам, считай, повезло. Он, должно, хорошо сохранился. Листвяжные доски вечные, а от сырости они ещё крепче становятся. – И добавил: – Вы пока обкапывайте ящик со всех сторон, а я за выдергой сбегаю. Без неё нам туго придётся. Да, пожалуй, и топор не помешает, – сам себе добавил он.
Со скрипом отвалили крышку, и взору предстала картина, без трепета и волнения которую не мог бы видеть ни один кладоискатель. Среди полуистлевшей бумаги выступало что-то розово-красное, сложенное рядами.
– Чайные чашечки и блюдца! – с удивлением произнёс Стёпа, смахнув слой бумажной трухи сверху.
– Сервиз, – подтвердил Роман.
– Он и есть, что я вам говорил, – спокойно сказал Пахомыч. – Вынимайте всё до конца, а там уж и ящик надо вытащить.
– Красота! – Роман бережно держал, рассматривая ярко-красного цвета чайную чашечку с рельефными золотыми розочками на боках. – Ага, вот тут на донышке есть надпись, – вдруг заявил он. – Здесь написано: «Фарфоровый завод Кузнецова».
– Да-да, была такая знаменитая на весь мир фирма, – подтвердил Пахомыч. – Драгоценная посуда. На неё только смотреть можно, любоваться, а не чай пить. Глядите, стенки бумажной толщины. Вот ведь умели же люди!
Всего достали из ящика около сорока предметов, где были и сахарницы, и вазочки, и кофейницы, и всего несколько чайных серебряных ложечек. Лишь три чашечки оказались раздавленными, все остальные целы.
– До чего ж пригожа эта посуда!– восхищаясь, ходил вокруг всего этого добра, разложенного на земле, Пахомыч. – Надо же и как-то упаковать эту хрупкость, чтобы не побить.
– Побольше бумаги или ветоши, – советовал Рома.– Аккуратно завернуть.
Выгрузив всё до дна, с трудом подняли ящик, весивший не менее пуда, и тут всех ожидал ещё один сюрприз. Под деревянным ящиком лежал другой – небольшой, свинцовый.
– Крышка запаяна или заварена, – заявил Стёпа, внимательно рассматривая шкатулку. – Нигде ни щелочки, – наконец определил он.
– Неужели сам Карпей Афанасьич закладывал? – бормотал сбитый с толку Пахомыч. – Анисья-то до такого бы не додумалась. Да и где ей, девке-то! Давай ножом подрежем. Свинец-то, он мягкий.
– Мягкий и не ржавеет, – торжествующе согласился Роман.
Аккуратно сковырнули крышку, и из ларца посыпались бумажные царские ассигнации и николаевки.
– Карпей, Карпей! – машинально повторял Пахомыч. – Он, он деньги заложил. Да что толку-то от них? Только для музея. Успел-таки спрятать!
– Тут есть что-то ещё, – заявил Стёпа, развёртывая сложенные вчетверо бумаги.
Все трое склонились над развёрнутыми большими листами, красиво разрисованными картинками, где самыми важными были двуглавые царские орлы.
– Это похвальные грамоты, выданные гимназисту Алексею Карпеичу Шашурину, – бегло прочитав текст, заметил Роман.
– Вот как! – удивился Пахомыч. – Алексей – это сын Карпея Афанасьича, брат Анисьи, значит. А я, признаться, как-то и забыл о нём. Сгинул он совсем молодым, в Гражданскую воевал на стороне беляков.
– Одна выдана в 1912-м и посвящена Отечественной войне 1812 года. Да, тогда ведь отмечалось столетие этой войны, – продолжал Роман.– А другая – 300-летию царского дома Романовых. Кого тут только нет! Портреты всех царей и героев России.
– Чёрт побери, какой красивый почерк! – заметил Стёпа. – Мне бы так писать!
– И почерк хороший, а смотри, каковы картинки! – восхитился Роман. – Здорово сделано, а говорим «отсталая Россия». Нам бы такие грамоты!
– Что вы хотите, на самом деле Россия шла вровень со всеми европейскими странами, – заметил Пахомыч. – По крайней мере, старалась не отставать.
– А вот ещё шедевр. – Роман развернул следующую бумагу, как и первые две, размером не менее шести тетрадных листов.– Ого, какой орёл с двумя головами! И текст, за который можно залететь, куда не надо. Называется «Дарственная грамота». Вот, слушайте: «Божьей милостью мы, Николай Вторый, император и самодержец Всероссийский, Царь польский, Великий князь финляндский». Во как! И всё с ятями и ерами в конце слов. Читаешь – будто в сказку про царя Гороха попал.
– А как же, всё для важности, – отозвался Пахомыч, – для величия. Из-за этого, может, и революция произошла. Надоело людям слушать это державное величие бездарного человечка.
– Ты дальше читай, о чём речь, – поторопил Стёпа.
– «Проявляя милосердие и заботу о своих гражданах и памятуя о благополучии и процветании Родины, в урочище Дарственное близ заимки Кумашкино Зайсанского уезда Семипалатинской области дарую орошаемую проведенным каналом землю в количестве трех десятин мещанину Карпею Афанасьевичу Шашурину в бессрочное пользование».
– А-а, вот оно как открывается! – с удивлением произнёс Пахомыч. – Выходит, Карпеич сначала крестьянствовал. А место то мне на Курчуме знакомо. И село Дарственное так и прозывается по сию пору. Только рядом там теперь ещё большее село выросло, Кумашкино. Говорят, его ещё Курчумом прозывают.
– Вы мне, Пахом Ильич, растолкуйте, как это царь раздаёт землю, да ещё и орошаемую каналами, и всё бесплатно? – недоумевал Рома.
– Так это ж по реформе Столыпина. Для блага страны раздавали землю, чтобы не пустовала, а приносила пользу.
– Выходит, и царь о стране заботился, о народе?
– Выходит, что так.
Роман потряс шкатулку:
– Звона золотых пиастров нет, зато есть шелест ассигнаций. Ничего, для коллекционеров и бумажные деньги драгоценны, если они старинные.
– Вот вам и история, – заявил Пахомыч. – Хотя и не совсем местная. Считайте, что вам повезло.
– Повезло, повезло, – живо отреагировал Роман. – Прямо как в сказке: как задумали, так и вышло. У вас, Пахом Ильич, всё оставим, пока из музея не приедут и заберут всё это добро.
– Добро, да ещё какое! – подтвердил старик. – Всё сохраню, будьте спокойны. Народ должен знать свою историю, а где её увидишь, как не в музее?
Хан Алтай
– Пахом Ильич, а почему перевоз через Хамир называется калмыцким?
Через несколько дней после раскопки клада ребята Дементьевы пришли навестить старого охотника, а заодно проведать найденные сокровища.
– А тут вы и сами могли бы догадаться, что к чему, – начал Пахом Ильич. – Прозвище это давно появилось, когда – не знаю. Как пришли русские, так с ними стали торговать алтайцы. Алтайцы – это те же калмыки, ойротами их иногда называют. В старые годы их царские власти причисляли к бродячим, так как земледелием они не занимались, а кочевали по тайге в поисках пушного зверя. То есть охотились на соболя, белку, куницу, и на лося, марала тоже для пропитания. Приходили они из-за гор, из-за Холзуна, значит, приносили мягкую рухлядь – так русские издавна называли пушнину. Посиживали на колодах, принесённых рекой, дожидаясь русских купцов, а мы, детвора, тоже вертелись тут, прибегали посмотреть на диковинный народ. Калмыки покуривали свои трубки, обменивая с пацанами на хлеб листвяжную серку или кедровые орехи. Тёмный был народ. Как говорится, дикие сыны тайги. Страшные на вид, но добрые душой и сердцем, и наивные, как дети. Мне тогда часто приходилось общаться с ними, и кое-что я узнал о их богах и вере. Более всего они почитают свои горы, считая, что это владения хана Алтая, а гора Белуха – его резиденция, его трон. Ковырять землю – грех, земля – это святыня.
– Пожалуй, это мудро, – согласился Роман, – но как же тогда обойтись без пахоты, без хлеба?
– Так они сами, если потом и сеяли что, то обходились деревянной сохой. Так, только чуть-чуть поцарапав почву. Я тогда молодой был, говорю старику алтайцу: «Ну и где ваш этот хан Алтай? Где его большой чум стоит? Советская власть не только всех ханов и богачей, даже царя прогнала. Нет никакого вашего Алтай-хана».
А старик сидит так это спокойно, усмехнулся и свою трубку набивает махоркой. Потом говорит не спеша, неторопливо: «Глупый ты, урус, молодой, и много не понимаешь. Алтай-хан, может, и не человек вовсе, и ни прогнать, ни убить его нельзя. Это ты сейчас такой храбрый, а как попадёшь в переделку, под оплывину нарвёшься али под лёд провалишься на реке – вспомнишь тогда хана Алтая, с мольбой обратишься: ”Помоги, Хан Алтай!” И гневить Хана Алтая нельзя: рассердится, бурю, ураган напустит, Хамир разольётся. Сколько уже людей утопло!»
– Так это ж силы природы, и это каждому понятно! – не удержался Степан.
– Для тебя это так, а для алтайцев это Алтай-хан, – отвечал Пахом Ильич. – Раньше и я так же думал, а вот постарел, набрался ума-разума – и теперь, как увижу осенью, что Холзун снегом припорошило, думаю: «Вишь, седина упала на голову Хана». Холзун-то весь перед глазами. Смотрю на него: если чёрные тучи заклубятся над ним – хмурится Хан Алтай, сердится. И наоборот: сияет – значит, всё хорошо, доволен, и нам, людям опасаться нечего. То же и Хамир: спокойно катит свои волны – блажен, слава богу, Хан, и людям хорошо. Вот так-то, молодые люди, а это ваше право, как думать: есть ли Хан Алтай или его нет. Тут неволь или думай, как хошь – от судьбы не уйдёшь.
Борис Васильевич
В воскресенье вечером вернувшийся из Зыряновска Пётр Иванович делился впечатлениями со своими домочадцами:
– Был я у Бориса Васильевича, ночевал у него. Просил он, чтобы остался ещё на пару деньков, да сами понимаете, никак мне нельзя задерживаться. Пчёлы ведь ждать не будут. Душевный человек этот Борис Васильевич!
– И то верно, – подтвердила Марфа. – Очень интеллигентный. Хоть и начальник, а такой простой.
– Это правда, что простой, – согласился Пётр Иванович, – и слишком уж порядочный. С работягами разговаривает, как с равными, хотя и начальник рудника.
– Как это слишком порядочный? – не поняла Марфа. – Порядочности много не бывает. Чем больше, тем лучше.
– А вот так, в наше время, оказывается, что бывает. Хочешь жить – умей и покривить душой, а кое-где и наврать. А Борис Васильевич человек прямой, говорит то, что считает нужным, а такому в начальстве трудно удержаться. И не поддаётся он на нечестное дело.
– Так уж говори прямо, чем он там не угодил директору. Директор же комбината его начальник?
– Ну, Марфа, не нам с тобой разбираться в делах рудника, там всё сложно. С одной стороны коллектив, а это ни много, ни мало, почти тысяча человек, а с другой – управление комбината, а за ним Министерство. И все гнут свою линию. А всё сводится к одному: давай-давай! Давай план любой ценой. Работягам нужна зарплата, дирекции нужны ордена и повышение по службе. А не будет плана – стукнут по шапке. А Борис Васильевич как на передовой, и все давят на него. Другие что – выкручиваются, врут в отчётности, занимаются приписками, а наш ни в какую. Горой стоит за честность. Сама понимаешь: будет ли любить такого человека начальство?
– Да, тяжёлый случай, – согласилась Марфа.
Роман и Стёпа слушают отца и, хотя и не вникают в тонкости разговора, а и им понятно, что туго приходится Борису Васильевичу, с которым сдружились год назад, когда он проводил свой отпуск с женой Клавдией Николаевной у них на пасеке. Сколько было разговоров, сколько интересного услышали они от опытного горного инженера, хорошего рассказчика и собеседника! Немало они тогда побродили по тайге, а уж сколько раз на рыбалке бывали совместно – и не сосчитать. Словом, крепко они тогда сдружились, хотя по возрасту годятся Борису Васильевичу в сыновья, а то и во внуки.
– Но я ещё самое главное не сказал, – продолжал между тем Пётр Иванович. – Приглашают они с Клавдией Николаевной наших ребят с Надюшей к себе в гости. Пусть, говорят, поживут у нас в весенние каникулы. Там у них на руднике интересные вещи происходят. Как Борис Васильевич кое-что рассказал – так мне даже самому, как мальчишке, захотелось всё это посмотреть.
– Вот оно как выходит, – откликнулась Марфа, – так бы сразу и говорил! Значит, заскучали Борис Васильевич с Клавдией. Детей-то своих давно отправили вить свои гнёзда – видать, тоска стала заедать, – заключила она и тут же добавила: – А что же там такого занимательного может быть на руднике? Копают себе, руду добывают.
Мать спрашивает, а у ребят уши на макушке. Раз уж отец говорит – значит там, на руднике, случилось что-то чудесное, волшебство или открылась какая-то тайна.
– Ну не говори, – энергично возразил жене Пётр Иванович, – сама думай, они же карьер копают на месте старого города. Конечно, город небольшой, но ведь это рудник, которому скоро двести лет стукнет. Они историю копают, вот что они делают! – почти в сердцах произнес Пётр Иванович. – Там что ни копни, открывается какая-нибудь тайна. То на подвал наткнутся забытый, то на зарытый клад, спрятанный в годы Гражданской войны. А то ещё старые выработки, шахты вскрывают. Вот сто лет стояла шахта, никто в неё не лазил, а тут – на тебе: открылась вся картина, которая была в те забытые времена. Деревянные трубы для водоотлива, кайлушки старинные, да мало ли чего!
Роман и Стёпа при этих словах так и замерли, даже не в силах засыпать отца вопросами, на которые он, конечно, не смог бы ответить.
– А то ещё, – продолжал отец, – откопали старинное кладбище, о котором все давно уж позабыли и не знали о его существовании.
– Ну уж кладбище трогать не стоит, – обрезала мужа Марфа, – ты мне лучше об этом не говори.
– Оно бы, конечно, так, но куда денешься, не будешь же закрывать карьер из-за погоста, где похоронено два десятка человек сто пятьдесят лет назад, – оправдывался Пётр Иванович. – Борис Васильевич и так обеспокоился такой неожиданностью, распорядился, чтобы останки по-божески свезли на Зыряновское кладбище.
– Вот так-то оно и лучше, – подытожила Марфа, – а тебе бы не стоило и вообще упоминать об этом, тревожить души усопших.
– Это ещё не всё, – снова начал Пётр Иванович, – там у них в карьере обнаружилось ещё другое кладбище – мамонтов.
– Как это мамонтов? – тут уже мальчишки подключились к разговору. – Кто же это может хоронить мамонтов, уж не сами ли они? В то время и людей-то, поди, не было.
– А вот так, никто не знает почему, но в одном месте чьих только костей не находят. Борис Васильевич перечислял мне – там кроме мамонтов ещё и носороги были, и бизоны. Да что там говорить – съездите, своими глазами всё увидите, нам с матерью расскажете. Нам-то ведь тоже интересно.
– Ещё бы не съездить, конечно, поедем! – с воодушевлением отвечал Роман. – Вот Надюха уже от радости даже запрыгала. Такое и в музее не увидишь. Только бы до каникул дождаться, а там будь здоров – махнём в первый же день.
– Вот и хорошо, дождёмся тёплых дней, и поезжайте, – даже Марфа не возражала. – Развеетесь от школьной жизни. За партами сидеть как не надоест. Да и от тайги отдохнёте, городскую жизнь посмотрите.
Зыряновск менял своё лицо. Уходил в прошлое старый город со своими хибарами, почерневшими от старости деревянными копрами шахт, горами отвалов и непроходимой грязью на кривых улочках. Всё это сносилось развивающимся вширь карьером, рядом строился новый город с каменными двух- и трёхэтажными домами, с асфальтированной центральной улицей, получившей название Советской. На главной площади города строился вовсе не горсовет и не горком партии, как положено, а здание управления Свинцового комбината, и уже этот факт говорил о том, что настоящим хозяином в городе было горное производство – рудники и обогатительная фабрика.
Как и прежде, город утопал в грязи. Жирный чернозём расползался под ногами, стоило лишь взбрызнуть дождичку и уж тем более весной, когда только что сошёл снег и умолкли ручейки. По этой причине перед каждым домом стояло самодельное железное корыто с водой и веником для мытья обуви, почти единственной в это время, в виде резиновых сапог.
Квартиру Воронкова – начальника РОРа, как назвали рудник открытых работ, а проще – карьера, они нашли быстро и были радушно встречены хозяйкой Клавдией Николаевной. Вечером пришёл и Борис Васильевич – усталый, но довольный юным гостям.
– Вот вы, ребята, живёте там, в своём лесу, не замечая, что находитесь в раю, – начал он, хлебая щи, – а мне ваша Большая Речка до сих пор во сне снится. Рыбачу там в омуте под водопадами, а сам думаю: не бросить ли мне своё горное дело да заняться бы пчеловодством, как Пётр Иванович? Ну рассказывайте, что там нового на пасеке, как здоровье Петра Ивановича и вашей мамы. Всё в порядке – вот и хорошо. А мы с Клавдией Николаевной предлагаем вам пожить у нас с недельку, да сколько хотите. У нас тут на карьере такие дела интересные разворачиваются!
Борис Васильевич внимательно посмотрел на ребят: слушают ли они? Конечно, слушают, ждут дальнейшего рассказа, а что молчат – так это из приличия и чтобы не выдать своего волнения и радости.
– Так вот, ребятки, открылась у нас тут, как в Древнем Египте, долина захоронений. Ну не фараонов, конечно, а целый комплекс древних животных, хоть зоопарк не открывай. И кого только нет: мамонты, шерстистые носороги, бизоны, олени, лошади. Каждый день новые находки. Ну и кладбище старое. И откуда взялось? Нигде на карте не значилось. Просто беда. У меня тут женщины – рабочие, что чистят кузова самосвалов, – работать отказываются. Жалуются, что смрад идёт, спасу, говорят, нет от костей человеческих. Я уж противогазы заказал, договорился с городскими властями – будем свозить в коллективную могилу останки зыряновцев-первопоселенцев. И говорить про это неудобно, да куда денешься!
Борис Васильевич задумался и через минуту продолжил:
– Хотя нет. Хочешь не хочешь, а придётся поделиться. Дело тут деликатное. У нас уже были случаи раскопки богатых захоронений, даже клады находили. Тут ведь везде стояли каменные лавки купцов. Кошкины, Суровы, Верёвкин и там другие. Кто-то похоронен, кто-то клад закопал, когда пошла национализация. Так вот, работает экскаватор, бывает, ночью, даже зимой так парит, что ничего не видно. Выкопал, отгрузил, увёз на отвал и похоронил теперь уж навечно. А там бывают археологические предметы: монеты старинные, оружие, ордена. Про старинные бутыли мутного стекла и квадратного сечения, бусы кустарного производства с грязноватыми бусинами с дырочками я уж и не говорю. Штофы, кубышки стеклянные попадались. Этого добра было много. Кое-что мои ребята-экскаваторщики домой унесли. Потом оказалось, тут один шустряк, историк школьный, под видом открытия музея начал собирать золотые вещички. А что значит самодеятельный музей? Сегодня он есть, а назавтра школьный учитель уволился, и музея нет. Давно пора в Зыряновске открыть настоящий краеведческий музей со статусом государственного. Археологические артефакты должны находиться в надёжном музее, а не где попало, где они всё равно исчезнут. Вот я и подумал: на днях мы должны вскрывать место зыряновской церкви. А у церквей по русской традиции всегда есть погост, где хоронили священников, знатных людей. Значит, и у нас будут такие захоронения – вот я и пригласил специалистов из областного музея, чтобы находки собрать и сохранить для краеведческого музея в Усть-Каменогорске. Старинные монеты, бусы, разные ювелирные украшения давно находят прямо на поверхности, и всё это теряется. А даст бог, в Зыряновске когда-нибудь откроют музей. Давно бы пора, городу нашему скоро 200-летие будут отмечать. Зыряновск куда старше, чем, например, Алма-Ата.
– Я где-то читал, что перед строительством церквей под фундамент закладывали золотые монеты, – вставил Роман.
– Да, такая традиция была, даже закладные доски делали для этих целей, – согласился Борис Васильевич. – Медные, чтобы на века память о строителях осталась.
– А можно и нам присутствовать, когда будут церковь раскапывать? – робко спросила Надя. – Хоть я и боюсь мертвецов, но ведь там уже от них, наверное, ничего не осталось.
– Так я же вас для того и пригласил, – отвечал Борис Васильевич. – То есть, конечно, не для раскопки погоста, а для экскурсии по палеонтологическим объектам. Завтра пойдёте со мной на рудник, я вас познакомлю с нашим маркшейдером. Занятный человек, совсем молодой, недавно из института, звать Станислав Григорьевич Дорошинский. «Занятный» – не совсем точно, скорее необычный и интересный. Он совсем не такой, как все остальные наши горняки. С виду тихий, вроде как робкий, но дело знает, а главное, многим интересуется. Наши инженеры – что им надо? Выпить, побалагурить, как сейчас принято говорить, побалдеть. А этот Станислав, как ни уговаривай, на корпоратив не пойдёт, на собрание ходить не любит, в партию вступать отказался. Зато кроме работы фотоальбом карьера ведёт, макет объёмный карьера задумал сделать. И так это наглядно получается у него вместе с нашим художником. Из пенопласта вырезает каждый месяц выемку горной массы. Всё раскрашено: домики, деревья, наша контора. И всё в масштабе – очень наглядная получается касешка, как назвал карьер наш директор.
– А этот ваш директор хороший или плохой? – вдруг спросила Надя.
Борис Васильевич на минуту опешил, не зная, как лучше ответить.
– Надя, твой вопрос не совсем правильный. Надо рассуждать по-другому: полезный ли человек для производства, нужен ли он для общества? Если нужен, то и хороший. А так… он человек своего времени. На него давят, он давит на других. Так уж всё устроено в этом мире. По крайней мере, у нас в стране.
– А папа говорит, что он собирается вас съесть, – не унималась Надя.
– Съесть? Я что, съедобный? Как вы думаете, ребята?
– Надя среди нас самая смелая, – за всех ответил Роман, а Стёпа не совсем впопад добавил:
– Медведь вроде бы добрый, особенно в сказках, а человека, если голодный, съесть может.
– Ну, меня не съедят, – заверил Борис Васильевич. – Я ещё к вам на пасеку приеду рыбачить. Как, Стёпа, удочки готовы?
– Готовы, они у нас завсегда на месте. Ух, я и мушек наделал – сам бы съел, не то что хариус!
– Вот и хорошо. А со Станиславом вы сговоритесь. Он свою работу бегом делает. Закончит, а потом бежит в забой искать кости. Он уж в своем отделе целую кучу натаскал. Вызывали специалиста из Академии наук. Там кандидат наук Кожамкулова целых три ящика из-под взрывчатки отгрузила этих костей. И сама искала, и Станислав помогал собирать. У этого Станислава много увлечений. Мы его отправляли в барнаульский архив собирать дополнительную документацию по старинным горным выработкам, а он, кроме этого, привёз кучу материала по истории Зыряновского рудника. Заинтересовался, статьи в газеты пишет, и всем от этого польза.
– Да, нам тоже это интересно, – согласился Роман. – Вот бы посмотреть, а то живём и ничего не знаем про свою историю!
– Посмотрите, он вам всё покажет. Он ещё и камнями-самоцветами интересуется. Ему бы надо где-нибудь в исследовательском институте заниматься, а у нас на производстве грубая работа. Давят, требуют, надо огрызаться, а он чересчур деликатный для этого. Хорошо, я его поддерживаю, не даю в обиду.
– А что требуют? – не выдержал Стёпа. – Работу сделал, а что ещё надо?
– Как тебе сказать, Стёпа, чтобы ты понял? Есть такие люди, что им всегда мало. Маленькая зарплата, не так подсчитал, объегорил. Рабочему человеку часто кажется, что его обсчитывают. Не все люди такие, но их много, тем более что и мастера на стороне рабочих. Выдал замер, а плана нет – вот и начинаются катавасия и споры: маркшейдер плохо замерил, обсчитал. Скандалят, идут жаловаться. Словом, неприятная картина, тем более что и высокому начальству нужно обязательное выполнение плана. Приходится мне брать огонь на себя. Вот так и живём, воюем, а для этого нужны смелость и характер. Но я, кажется, говорю лишнее, и пора бы нам сменить тему разговора.
Станислав
Наутро все толпились у кабинета начальника рудника. Мастера, начальники участков, рабочие. У каждого своё дело, каждому надо слово и распоряжение начальника. Борис Васильевич только что был, и уже и нет его. На руднике десятки проблем, и тут уж не до ребят.
– Парни, вы с Борис Васильевичем? – к несколько растерявшимся мальчикам обратился молодой парень в светлой куртке.
– Угу, – буркнул Стёпа.
– Значит, ко мне. Идемте в маркшейдерский. Меня зовут Станислав, я как раз вас жду. Давайте знакомиться.
– Рома, – назвал себя Роман, – а это Надя и Стёпа. А вас как по отчеству?
– Лучше без отчества, мне это привычней, – отозвался Станислав. – В детстве звали Стасиком, потом Стасом, а теперь вот Станислав. С чего начнём? Давайте сначала посмотрим кости, палеонтологический материал.
В маркшейдерском отделе, большой комнате лежало несколько куч очень крупных костей, разложенных по видам животных: отдельно мамонты, носороги, бизоны, олени, лошади. Да, тут было что посмотреть: позвонок мамонта едва ли не с футбольный мяч, такие же, и даже больше, бабки. Станислав рассказывал:
– Это не самые крупные, их я уже и не беру, – пояснил он, видя удивление ребят. – Куда их денешь, например, ребро, если размером оно с две оглобли? Я его и не донесу. Или челюсть целую. Хотя, впрочем, целых костей почти не бывает. Пока до меня какая дойдёт, её уже порушат – хоть монитором, хоть экскаватором.
– А как вы всё это определяете?
– Да ведь видно же, где бык, а где олень, например. Кое-что я научился определять с помощью учебника палеонтологии. Вот, глядите, челюсть шерстистого носорога – в моём представлении похожая на свиную, но гораздо крупнее. Верхние коренные зубы, стираясь, с торца образуют рисунок, напоминающий греческую букву «пи». Эта кость рассыпалась, но я её укрепил и реставрировал с помощью специально приготовленной замазки. Такой же, как замазывают стёкла в оконных рамах. Олифа, мел – вот и всё, что нужно. Этот рецепт я ещё с детства помню, когда жил в отцовском доме.
А вот эта огромная лобовая кость с отростками рогов сразу видно, кому принадлежит. Быкам, а точнее – древним бизонам. И вот что удивительно: вместе с костями иногда попадались и пучки шерсти красноватого цвета – наверняка мамонтовой. Вот, смотрите, я тут набрал в спичечный коробок. Пролежавшая тысячи лет, она почти выцветшая.
– Да, и тонкая, как паутина, – с удивлением сказала Надя, разглядывая небольшие пучки очень ломкой рыжей шерсти.
– А это что за штуковина? – спросил Стёпа, показывая на массивный обломок желтоватого цвета. – Я бы сказал, что это зуб, но очень уж он большой, прямо-таки гигантский.
– Да, верно, это зуб мамонта, – отвечал Станислав, наблюдая, как вытянулись лица ребят в недоумении.
– Если это зуб, то его хозяин должен быть величиной с трёхэтажный дом, – вполне всерьёз сказал Стёпа.
– Ты, Степан, был бы прав, если бы у мамонтов было тридцать два зуба. Но у них, как и у слонов, их всего по восемь. Клыки превратились в бивни, а резцы оказались ненужными и атрофировались. Так как растительную пищу они срывают хоботом, то осталось лишь по два коренных зуба на каждой стороне челюсти, зато видите, какие мощные! Настоящие жернова для перетирания травы и веток. За жизнь – а слоны живут до восьмидесяти лет – они у них меняются три раза, истираясь до основания, ведь вместе с травой попадает и земля, и песок.
– А это что за фарфоровая труба? – спросил Степан, взяв в руки желтоватый предмет круглого сечения.
– Разве не узнал? Это же бивень мамонта. Вернее, его обломок.
– А, и правда. Только он что-то крошится.
– Да, бивни сохраняются хуже других костей, – подтвердил Станислав, добавив: – А лучше всех зубы. Видите, тут их целая коллекция от разных животных. Как вы думаете: почему так много зубов?
– Они крепче, из-за дентина, и потому лучше сохраняются, – сообразил Роман.
– Верно, – согласился Станислав. – А я тут ещё другую теорию толкаю, почему зубов много относительно других костей. Да потому, что кости вместе с падалью жрали гиены. У них такая специализация – именно кости. А зубы они не могли разгрызть – слишком твёрдые.
– Интересно, – протянул Стёпа. – Вот бы посмотреть,что тут было двадцать тысяч лет тому назад!
– Читай Обручева «Плутония» или Рони «Борьба за огонь», – посоветовал Станислав. – Особенно вторая книжка. Там автор изобразил так, что всё кишит от страшных хищников: пещерные медведи, львы, саблезубые тигры. И все голодные, а самая лёгкая добыча – человек. А тут ещё ледниковый период наступил, холод. Единственное спасение – забраться поглубже в какую-нибудь пещеру. Этих пещерных людей так и называли – троглодиты. У них выживал, наверное, из тысячи один.
– А, кстати, кости древнего человека не попадались?
– Слишком сложный для меня вопрос. У нас в карьере всё перемешалось, и не поймёшь, где древнее, а где современное. Я же говорил про старинное кладбище, а там где их разберёшь – древние или не очень.
Когда закончили беглый осмотр, Станислав сказал:
– А теперь в путь. Но сначала мне надо сделать свою работу, и это займёт часа два. Вот стоят ваши сапоги – надевайте, без них на участке гидромеханизации делать нечего.
– Хорошо, мы посмотрим вашу работу. А что такое маркшейдер? – не выдержала Надя. – Слово не очень нам знакомое.
– Маркшейдер? Если в переводе с немецкого – это человек, специалист, рисующий, определяющий марку. А что такое марка? Точка на местности, условная или отмеченная штырём, пирамидой. И главное – её местонахождение должно быть определено, то есть вычислены её координаты. А если знать координаты, то с этой точки можно делать геодезические съёмки и рисовать карту, план, считать объёмы, что хотите.
– А-а, понятно. Это как мореплаватели секстантом определяют широту и долготу.
– Там очень приблизительно, а нам нужно точно. От этого зависит многое, в том числе зарплата. В общем, маркшейдер – это то же, что геодезист в приложении к горному делу. А ещё это козёл отпущения.
– Как это?
– А так, что маркшейдера сделали человеком, отвечающим едва ли не за все цифровые данные на руднике. Но это долгий разговор, к нам не относящийся.
– А что сейчас вы будете делать?
– Замерю углы теодолитом, а в конторе вычислю координаты.
– В общем, сплошная математика?
– Да, можно сказать, тригонометрия. Кто в школе её освоил, тот легко может выучиться на топографа. А топография – это простейшая геодезия.
Когда Станислав поставил инструмент на штатив, все по очереди заглянули в окуляр.
– Ой, а там всё вверх ногами!– удивилась Надя. – Почему?
– Свойство оптики переворачивать. Но это не мешает в работе.
– Как это не мешает, неудобно же!
– Надя, ты как моя реечница! Увидела, что всё кверх ногами, – и теперь одной рукой держит рейку, а другой придерживает юбку. Я же её вижу кверх ногами. А ещё студенты рассказывают такие байки. Работают студенты-горняки с теодолитом. Подходит дряхлый старичок: «Ребятки, дайте взглянуть, что вы там всё смотрите, никогда не видел». – «Что ты, дед, сидел бы на своей печи и не рыпался! Иди своей дорогой». – «Жаль, ребятки, прожил жизнь, а в трубу не посмотрел». А дед-то был известный на весь мир профессор геодезии, знаменитый Келль. Горняки-то его не знали.
– Это анекдот? – спросил Роман.
– Нет, почему же, профессора, особенно умные, любили подшутить. Ну вот, теперь можно идти искать древние мослы. Знаете, хожу туда почти каждый день и всегда чувствую волнение: вдруг да сегодня попадётся что-то необыкновенное? Азарт кладоискателя, а в данном случае клад этот может оказаться куда значительнее, нежели пиастры или фунты стерлингов. Вот увижу белое пятно в забое – и так забьётся сердце: что там, какой зверь, в какой сохранности? А вдруг да такой, что и науке неизвестен? Хотя фауна четвертичного периода хорошо изучена и сюрпризов ждать нечего. Получается, сам себя обманываю.
– Вы, наверное, очень увлечённый человек? – заметил Степан. – Даже по интонации голоса это заметно.
– А как же иначе, быть равнодушным ко всему на свете? А для чего тогда и на свет родиться?!
– Ну, люди гонятся за богатством, за золотом, а тут всего-навсего кости.
– Кости, это верно, – согласился Станислав,– а бывает обломок кости дороже золота. Вы же знаете, по обломку черепа учёные определяют, как и когда появился человек, как он развивался. Это же страшно интересно. Сто раз повторюсь: это захватывающее и волнующее занятие, напоминающее кладоискательство.
– Стёпа, перестань ерундить! – одёрнула брата Надя. – Вы, Станислав, не слушайте его. На самом деле ему всё это безумно интересно и нравится ваш рассказ. Это он у нас бывает такой вредный, когда хочет узнать побольше.
Вдруг лицо Станислава озарила улыбка, он как-то оживился и с пафосом произнёс:
– Пиастры, дукаты, гульдены и фунты стерлингов! Что может быть слаще звуков, когда произносят эти слова? Знакомо ли вам, господа, волнение кладоискателя, когда лопата звонко стукается о заржавленную крышку ларца, сундука или глиняного кувшина, рассыпающегося от старости и хранящего тайны веков? Знаком ли вам трепет и стук собственного сердца, когда вы со скрипом открываете заржавленную крышку ларца, набитого золотыми монетами, тускло блестящими в ночном лунном свете? Ох уж эти кладоискатели! Одни мечтают найти своё сокровище, заключающееся в редкой бабочке, другой – в необычном растении или впервые увиденной птичке. И разве это плохо – восторгаться и радоваться чему-то необычному и всё время познавать неизведанное? Итак, если вы чувствуете волнение, тогда быстрее в путь, за поиском сокровищ!
Мамонты в карьере
По дороге Станислав продолжил свой рассказ:
– Четвертичный период, а в нём плейстоцен, – последний в геологической истории земли, закончившийся двенадцать тысяч лет назад. По всей Сибири, да и в Европе фауна плейстоцена хорошо известна. Тогда обитали крупные млекопитающие, обросшие густой шерстью, хорошо приспособленные к жизни в суровых условиях. На них охотились древние люди. Кроме упомянутых мамонтов, шерстистых носорогов и бизонов находятся останки гигантских оленей, верблюдов, пещерного медведя, ископаемых лошадей. Чаще всего костяки попадаются на глубине пятнадцати – двадцати пяти метров, – продолжал Станислав. – Я подсчитал: если предположить, что годовое наслоение наносов составляет один миллиметр, то и возраст находок соответствует примерно двадцати тысячам лет. Глубже тридцати метров в красных неогеновых глинах попадаются окаменелые, минерализованные кости, очень тяжёлые. Но таких мало. Одних только мамонтов в нашем карьере были десятки. Но сколько именно – один десяток, два – сейчас сказать невозможно. Почти всё вывезено в отвалы. Мне даже во сне иногда снятся сцены из прошлого. Слышу трубный рёв мамонтов, убегаю от саблезубых тигров и носорогов. Чаще же грезятся картинки с торчащими из земляных забоев костями невиданных, диковинных зверей. Я ковыряю глину, и обнажается огромный костяк: рёбра, позвонки, даже бабки, размером с котёл. Всё время интригует тайна: а что ещё хранится в глубине? Конечно, возникает вопрос: почему находок так много?
– Да, действительно, почему так много? – заинтригованный рассказом, спросил Рома.
– Я где-то читал, что существуют слоновые кладбища, – вставил Стёпа. – Когда слон чувствует свою смерть, он идёт и умирает там, где лежат останки его предков. Может, и у вас так?
– Это, скорее всего, красивая легенда, – отозвался Станислав. – В Зыряновске всё можно объяснить по-другому. Животные паслись на склоне горы, погибали, а кости их, смываясь водами в грозу или весной, накапливались по дну лога. Этот лог тянется через весь карьер метров на триста, здесь кости и находятся.
– Это же сколько было животных и как они выживали в нашу зиму, когда морозы под сорок и жрать нечего, вокруг один снег? – удивился Стёпа.
– Да, это верно, – согласился Станислав. – Я сам над этим задумываюсь. На одних древесных ветках, как зимуют лоси, мамонту не прожить. Да и мороз в сорок градусов, я думаю, ему не выдержать. Потому и вымерли, что климат изменился – стал более суровым.
– А что это за гидромеханизация и для чего она? – поинтересовался Роман, когда уже подходили к карьру.
– А тут история такая. В южной части карьера мощность рыхлых отложений доходит до пятидесяти – ста метров. В обводненных суглинках тяжёлые экскаваторы тонут, глина налипает в ковшах и кузовах самосвалов. Вроде бы ерунда, а очистка их стала настоящей проблемой – вот и придумали разрабатывать рыхлые отложения с помощью гидромеханизации. Суглинки и глины стали размывать из гидромониторов сильной струёй воды. Размываемая глина вместе с водой стекает в зумпф – это такая яма, – а отуда насосом по трубам подается в гидроотвал.
Брандспойт, вроде как у пожарных, называется гидромонитором. Представляете, один такой монитор делает работу за целый трёхкубовый экскаватор, и не надо самосвалов, чтобы вывозить породу, ни дорог, но вместо всего этого приходится прокладывать трубопроводы. В забоях гидромеханизации намного легче отыскивать и раскапывать кости – там всё на виду. Вот мы сейчас и идём всё это смотреть. Сами увидите, как всё это интересно!
– И как это вы успеваете вести участок и кости собирать? – спросил Роман.
– А вот как хочешь, так и успевай. Всё за счёт скорости и молодых ног. Выкроишь полчаса – и бегом в забой гидромеханизации. А там всюду вода, болото, целые озёра и реки. Вместе с пульпой кости несёт в водосборник, а оттуда насосом в гидроотвал. Не успеешь собрать – значит, потеряно безвозвратно. Но всё же я успел кое-что собрать, что вы и видели в конторе. Кроме того, много из мной собранного увезла сотрудница палеонтологического отдела Академии наук Казахстана Болдырган Кожамкулова. Несколько дней она ходила в карьер, набрала ещё и много такого, чего я и не замечал, в частности крохотных костей мелких грызунов. Всего видов ископаемых животных оказалось около двух десятков. Мамонта она назвала южным слоном и, с чем я не мог согласиться, возраст находок определила в десять тысяч лет. Я думаю, что им раза в два больше.
Потом сложила все находки наши и свои в деревянные ящики из-под взрывчатки и отправила в Алма-Ату. Одних зубов, к которым я был особенно неравнодушен, там была целая коллекция. Помнится, я всё любовался острым клыком, который приписывал пещерному медведю, а оказалось, что верблюжий. Было обещано почти всё вернуть назад. Как водится, ничто никто не возвратил. Ну вот мы и пришли, – Станислав переменил тему разговора. – Здорово, Тимофей! – приветствовал он рабочего. – Как, много костей сегодня намыл?
– На сурпу для бригады хватило, да кое-что ещё осталось, – отвечал тот, показывая на небольшую кучку белеющих предметов.
Все подошли, разглядывая ещё не просохшие костяные обломки.
– Так, вижу обломок лошадиной челюсти – кажется, их называют гиппарионами, – опять бизоньи лбы, мамонтов не видно.
– Мамонт не каждый день, – отвечал Тимофей, – лошадей поболе будет.
– Да, так получилось, что мамонтов в основном экскаваторами рыли, – рассказывал Станислав. – Вначале диковинно было. Когда брали суглинок в верхних слоях, экскаваторщик заметил в забое какой-то белый предмет. Камень не камень, а что-то высыпается. Вылез из кабины – кости, да ещё и какие: позвонок с хорошую кастрюлю, бабка из коленки – с чугунок. А когда попались белые, будто изогнутые фарфоровые трубы, бивни – поняли: мамонт.
Сначала удивлялись, потом надоело – работали, не обращая внимания. В общем, покрошили, погубили много и почти всё вывезли в отвалы. Рабочим план надо выполнять, им не до мамонтов. То, что осталось, то, что собрали, вы видели в конторе.
– Да оно и монитором не лучше, чем экскаватором, – сказал слышавший рассказ Станислава мониторщик. – Крошатся от воды кости. Шутка ли, пролежали в сырой земле тысячи лет.
– Жаль, – сказал Роман. – Даже в нашей школе показать всё это было бы интересно. В музее тем более – сколько людей могло бы всё это видеть!
– Да вот же они лежат, кости, бери любую, – предложил Тимофей. – Нам что, жалко, что ли?
– Берите, берите, что понравится и что можете унести, – поддержал его и Станислав, видя недоверчивые взгляды ребят. – Вот по зубу древней лошади, а Наде – медвежий клык. Пригодится – хоть для сувенира, хоть для школьного музея.
– А у меня уже есть ожерелье из медвежьих когтей, – похвалилась Надя. – Сосед по пасеке убил, сам еле спасся от того медведя.
– Ну вот видишь, как бывает. А я вот так почти каждый день прибегаю посмотреть: не нарыли ли чего интересного. Так и тянет сюда, ноги сами несут.
Хрустальные копи
– Станислав, нам Борис Васильевич рассказывал, что вы и минералы собираете, и старинные материалы по истории Зыряновска из Барнаула привезли, – осмелилась спросить Надя.
– Ну, это слишком громко сказано, – отозвался Станислав. – Коллекция моя очень скромная, да я её сам и не считаю коллекцией. Так, для памяти собранные образцы из поездок по разным рудникам во время летних институтских практик. Есть кучка горного хрусталя, кое-какие образцы кальцита из Хайдаркана да самородная медь из Джезказгана.
– Горный хрусталь? Это же драгоценный камень!
– Ну не совсем так. Скорее совсем не так. А камень действительно красивый, особенно если чистый и прозрачный. И верно, из него украшения делают, тем более что он бывает разных цветов. Броши, кулоны, запонки. Но мне больше нравится природная красота – то, что создала сама природа. Именно кристаллы.
– А можно это как-то посмотреть?
– Да никаких проблем. После работы я вам покажу дома.
Камешки, как сам Станислав называет свою коллекцию, сложены у него за стеклом серванта вперемешку с различными сувенирами, собранными во время поездок. Тут и причудливые растения с озера Зайсан, ракушки и раковины. Прозрачные, как льдинки, кристаллы гипса. Причудливой формы медный дендрит. Кристаллы кварца разных размеров, прозрачные и мутные. Есть сростки, называемые друзами.
– И где же вы такую красоту нашли? – вырвалось у Нади.
– Здесь совсем неподалёку, у деревушки Ландман, которую вы проезжали по пути в Зыряновск. Там есть заброшенные старые копи.
– Значит, когда-то этот хрусталь добывали? А как бы там побывать? Живём и не знаем, что под боком такие чудеса! – не удержался Степан.
– Если в выходной, то я могу составить вам компанию, – обещал Станислав. – Честно говоря, меня не оставляет надежда найти какой-нибудь необыкновенно красивый образец. Хорошую друзу с абсолютно чистыми и прозрачными кристаллами.
– А вот эта друза разве не хороша? – спросила Надя, держа в руках компактный образец.
– Согласен, друза неплоха, – согласился Станислав, – но ведь человек ненасытен, ему хочется всё лучше и лучше. К тому же азарт – без него и жизнь неинтересна. Вот, глядите, из Хайдаркана, это на юге Киргизии, белый ёжик. Правда, хорош образец?
– Да, я сразу обратила на него внимание, – призналась Надя. – Он как коралл, только гораздо лучше. Шипы во все стороны. Действительно, морской ёжик, только белого цвета.
– Это всё из карста, из подземных пустот, что промывает вода в известняках. В Хайдаркане добывают киноварь, руду на ртуть, и там постоянно встречаются карстовые пустоты в известняках. Это опасно, так как в них могут провалиться и люди, и оборудование. Но они невероятно красивы, эти пустоты. Как подземные беломраморные дворцы и даже лучше, чудесней. Там всё вокруг белоснежного цвета: стены, потолок, свисающие со всех сторон сталактиты, а снизу подпирают сталагмиты. И при освещении всё это сверкает, искрится, словно в волшебном дворце.
– Туда можно и экскурсии водить, чтобы любоваться этой красотой?
– Какие экскурсии! Всё это заваливалось пустой породой, и на этом безобразии рудник выполнял план, так как не было необходимости поднимать породу на поверхность. Вали себе под носом, а деньги получай, будто вывез в отвалы.
Станислав помолчал:
– Много красоты погубили, да, наверное, и сейчас это варварство продолжается. А взять для коллеции? Там самое трудное – отколоть образец так, чтобы его не поранить и не разломать. Это же всё кальцит, а он мягкий и хрупкий. Я чуть не плакал, когда видел, как эти дворцы засыпают породой.
– Да, – вздохнула Надя, – вряд ли мне доведётся когда-нибудь побывать в таком дворце.
– Зато мы завтра побываем на копях, – напомнил Стёпа.
Утром они сошли с автобуса в деревушке с несколько странным названием Ландман.
– «Страна мужчин», – перевёл Станислав. – Здесь живут немцы, и они называют себя лондонцами.
– А в Парыгино сельчане называют себя парижанами, – усмехнувшись, добавил Стёпа. – Сплошная Европа в стране Зырянии!
Они миновали зелёную улочку и стали подниматься в гору, поросшую диким миндалём, шиповником и караганой. По дороге Станислав рассказывал:
– Минералы, красивые камни я любил давно, можно сказать с детства, и даже немного собирал. Поиски их всегда казалось мне охотой за сокровищами, спрятанными в недрах земли. Вот и здесь, когда мне рассказали, что стоят брошенные хрустальные копи, я сразу же загорелся и в ближайший выходной отправился на разведку. Сначала ничего не мог найти, потом, порывшись в наваленных тут же кучах породы, обнаружил кристаллики кварца. Словно отполированные, грани их тускло мерцали стеклянным блеском. Настоящий горный хрусталь, полудрагоценный самоцвет в моих глазах был настоящим кладом. Тогда я видел себя то на «Острове сокровищ», то в изумрудных копях Медной Горы. На память приходили уральские сказы о горных кладовых. Тогда я нарыл почти рюкзак гранёных, полупрозрачных камней. Потом, спустившись к речке у подножия горы, долго отмывал их от белой и красной, очень липкой глины. Чистые и мокрые, они сверкали ещё красивей, но, к сожалению, почти все оказалось изъеденными рваными ранами, словно источенные какой-то неведомой болезнью. Из-за этого бóльшую часть собранного пришлось выбросить. Но всё равно много из собранного принёс домой, и кое-что из найденного вы видели у меня дома.
Позже я понял, где надо искать. Оказалось, что плохие кристаллы находятся в кварцевых трещинах, заполненных белой, рассыпчатой глиной, похожей на мелкий песок, а лучшие – в пустотах, заполненных красной глинкой.
Ну вот и пришли, – сказал Станислав, когда, выбравшись из кустарниково-травяных дебрей, они вышли на каменную площадку, выгрезенную на склоне горы. – Когда-то была государственная копь по добыче пьезокварца, теперь, считай, моя собственность, – добавил он с некоторой усмешкой, – поскольку никому не нужна, никто сюда не ходит и, как видите, всё здесь заброшено.
– Здесь хорошо, – оглядывая окружающий простор, сказала Надя. – И далеко всё видно. Город, отвалы вашего карьера, горы. Смотрите, виден Холзун и даже наша гора Громотуха.
– Да, и мне здесь нравится и в первую очередь тишина и полное уединение, – делился с ребятами Станислав. – Ничто здесь не мешает работе, люди сюда не ходят. И я, забыв обо всём на свете, могу по целому дню копаться, особенно если дело идёт на лад.
Едва ли не всё лето после того я ходил на эти заброшенные хрустальные копи – вот тогда и обнаружил в забое тонкую жилу, заполненную красной глиной. Именно в ней попадались лучшие кристаллы, а иногда и целые друзы – сростки нескольких кристаллов, чистые, ровные, не изъязвлённые отвратительной коррозией камня. Углубляясь с помощью длинной отвёртки, я прорыл длинную и очень узкую штольню, так, что наружу торчали лишь ноги. Измазанный глиной, я вылезал наружу лишь для того, чтобы осмотреть очередную находку, а затем торопливо возвращался в свою нору. Я не хотел терять ни минуты. А однажды вот так вылезаю из своей норы и глазам своим не верю: прямо напротив стоят две косули и смотрят на меня. Вот, наверное, удивились: откуда такой чудик взялся!
Как-то я пришёл сюда со своим другом. Он всё оглядел, а увидев мою закопушку, говорит: «Эх, сюда бы взрывчатки! Заложить бы в щель да трахнуть. Какой бы забой обнажился!»
Но я предпочитал работу без грохота взрывов и рёва механизмов. Моя жила была н чем иным, как занорышем – подземной пустотой, погребком, в котором выросли минералы, обволакивая стенки щёткой кристаллов. Занорыш, жеода, погребок – все эти слова пришли с Урала от старателей копей с самоцветами. Все они – всё равно что ларцы с драгоценностями. В моей жиле встречались лишь обломленные друзы и отдельные кристаллы, не сросшиеся со стенками погребка. Но это было даже удобнее, так как отколоть друзу бывает ох как нелегко! Все они были для меня сокровищем. Радостно ёкнет сердце, когда в монолите нащупаешь податливую мякоть, а рука вместе с орудием проваливается в пустоту. Лихорадочно ковыряешь, убирая накопившийся за тысячелетия ил, а в темноте уже проступает загадочный, стеклянный блеск камня. Сколько миллионов лет понадобилось, чтобы вырастить эти друзы? В хаотическом беспорядке торчали стрельчатые столбики, ромбики с коническими макушками, стеклянные «гвоздики», «спички» с заострёнными концами, чаще по отдельности, а иногда образуя так называемые «щётки».
– А ведь верно: когда-то в детстве мы говорили, что камни растут, – вспомнила Надя. – Значит, действительно растут.
– Да, кристаллы растут, вернее, большинство когда-то росли. Когда остывала расплавленная земная кора на заре существования нашей планеты Земля. Из растворов вырастали кристаллы.
Каждый нашёл здесь себе занятие по душе. Станислав, показав свою добычливую штольню, предоставил её в распоряжение ребят, а сам занялся заполнением своего дневника. Надя бродила вокруг, любуясь полевыми цветами и слушая пение птиц, а Роман и Степан по очереди, сменяя друг друга, работали в штольне, не замечая, как бегут часы. Время от времени они прерывали свое занятие возгласами радости, если случалась удачная находка.
Здесь привлекало всё: полное умиротворение природы, негромкое пение птиц, гнездящихся в море кустарника вокруг, азарт поиска и радость находок. А как приятно было после нескольких часов работы спуститься вниз к речке и, слушая плеск волн, отмывать гранёные обломки, с волнением всматриваясь в добытые сокровища! Разложив добычу на берегу, лучшие кристаллы завернули в обрывки газет, специально припасённых на этот счёт. Тело ломила приятная усталость. Рядом порхали роскошные большие бабочки с бархатными чёрными крыльями. Разморенные дневной жарой, они садились на влажный прибрежный песок и сидели там, лишь изредка шевеля крыльями. Домой шли, каждый обогащённый горсткой сияющих кристаллов и делились впечатлениями хорошо проведённого дня.
– Станислав, а что за архивные сведения вы привезли из Барнаула? – задал давно интересовавший его вопрос Роман.
– Да, ребята, было грешным делом такое, – не очень охотно признался Станислав.
– А почему грешным?
– Да потому, что больной это вопрос для меня. Можно сказать, даже рана. А история эта такая. Как известно, наш карьер разрабатывает самую старую часть Зыряновского месторождения, где подземные работы велись более ста пятидесяти лет. Понятное дело: всё тут пронизано подземными горными выработками, как пчелиными сотами. Где-то пустота заложена, где-то стоит, ждёт, когда в неё кто-то провалится. Естественно, для карьера эти пустоты представляют опасность. Их надо гасить, а для этого надо знать их месторасположение. Конечно, большинство подземных пустот нам было известно, и числилось их ни много, ни мало – целый миллион кубометров. И кроме этих были ещё и неизвестные. А так как центром горнорудной промышленности в то время был Барнаул, то туда посылались копии планов подземных работ. Вот за отысканием недостающих у нас графических и иных материалов я и поехал. Приезжаю: батюшки, архив в старой деревянной церкви! Такой дряхлой, что любая спичка, окурок, замыкание электрическое – и всё вспыхнет, ничего не спасёшь. Но это полбеды (а может, благо), хранителем там был не менее дряхлый старичок. Он над своим богатством трясся, как Кощей Бессмертный. И это понятно: архив богатейший, в отличие от российских, хорошо сохранившийся, а хранитель – человек неравнодушный. Болел за них, чуть ли не у себя за пазухой держал. Три дня я ходил за ним, а он ни в какую, меня не подпускает к своим сокровищам – не доверяет. Потом уж, куда денешься, пустил. А я, как увидел все эти кипы бумаг, переплетённые в кожаные обложки, прочитал некоторые из них и так весь и затрясся: это ж какое богатство! Хранилище истории с такими тайнами, перед которыми меркнет любая фантазия писателей, пишущих детективы.
Да, ребята, там настоящий клад, по сравнению с которым золото – ничто. Драгоценный металл – это фикция, условный материал, на самом деле имеющий ценность не бóльшую, чем бумажные купюры. А тут сокровища, хранящие тайны веков, дающие ответы на многие вопросы и истории, и нашей жизни.
– Здорово, интересно ты, Станислав, всё это рассказываешь, – похвалил Роман, – хоть книгу пиши.
– Ну что ты, какая книга! Я не писатель, я работник рудника, хотя история меня всегда интересовала. Это же куда увлекательнее выдуманных детективов. Жизнь вообще интереснее любой выдумки. Знаете, ребята, что мне ещё показалось интересным? Оказывается, у великого немецкогого поэта Гёте имелась коллекция зыряновских минералов и руд, и она до сих пор хранится в Веймарском музее поэта. А передал ему их работавший врачом в Барнауле Фридрих Геблер. Этот Геблер – интереснейший человек. С отличным образованием доктора медицины, в 1808 году приехал из Германии в Россию – можно сказать, на заработки. Устроился врачом на Колывано-Воскресенских заводах в далёком Барнауле. Алтай, местная природа, служба – всё здесь понравилось молодому Геблеру. Он показал себя отличным специалистом и так прижился, что остался здесь жить и работать до конца жизни. Женился на местной уроженке, и так увлёкся научными изысканиями, что вскоре стал известен всему научному миру как исследователь Алтая и энтомолог – специалист по жукам. В 1828 году он был утверждён инспектором медицины и фармакологии всего горного округа, и это было очень кстати, так как, объезжая подведомственные предприятия, он знакомился со многими уголками Алтая, и, конечно, это помогало ему изучать полюбившийся край.
Ребята, как зачарованные, слушали Станислава, а тот, видя это, предложил:
– Оставайтесь у меня ночевать – расскажу про Геблера более подробно.
– И откуда вы всё это берёте? – не выдержал Роман.
– Источники есть, жаль только, что на немецком языке и до сих пор не переведены. Книги Карла Ледебура, статьи того же Геблера. Интересная открывается картина, когда читаешь. Между прочим, история наших краёв.
– Вы знаете немецкий?
– В том-то и беда, что нет. Кое-как переводил с помощью словаря. Много и неясного осталось. А история такая.
Рассказ о барнаульском докторе, ставшем известным учёным
8 августа 1826 года на Нижней пристани в Усть-Каменогорске, куда на специальных судах привозили зыряновскую руду, царило оживление. Здесь собралась компания знатных людей, и прибыли они сюда с сугубо деловыми целями. Вовсе не вельможи, хотя один из них – Пётр Козьмич Фролов – был облечён большой властью: он занимал пост главного начальника Колывано-Воскресенских заводов и одновременно был Томским губернатором. Такое необычное совмещение доверено ему было царской властью за особо плодотворную хозяйственную деятельность на ниве горно-металлургической промышлености. Пётр Козьмич Фролов был яркой личностью, имевшей не только большие заслуги по развитию горнорудного производства, но, будучи высокообразованным человеком, уделял много сил развитию культуры края. Его интересовала история края, этнография, а собранные им предметы старины, вместе с коллекцией Геблера, стали основой организованного им музея. В Барнауле он основал горно-заводское училище, бумажную фабрику, библиотеку, метеостанцию. Местный поэт, перефразируя слова царя, выразился о Фролове так: «Там, где Фролов, закон не нужен. И не был край при нём сконфужен». Фролов отличался тем, что проводил неожиданные проверки на страх мздоимцам и казнокрадам, посему ими была сложена поговорка: «Не боюсь ни огня, ни меча, боюсь Петра Козьмича». По словам Ледебура, «он своим образованием и любовью к искусству дал жизни и вкусам барнаульцев совершенно иное направление». Имелись в виду прогрессивные нововведения в разных сферах жизни.
Кроме Фролова здесь были Павел Григорьевич Ярославцев – шихтмейстер, знатный барнаульский механик, служащий Колывано-Воскресенских заводов, имевший большие заслуги по конструированию и строительству сложных гидротехнических сооружений на рудниках и фабриках; Геблер, главный врач тех же заводов, к тому времени выполнявший и инспекторские функции заводских и рудничных госпиталей.
Это была деловая, плановая поездка по рассмотрению состояния дел на подведомственных предприятиях, и она же одновременно и инспекторская. Загруженный многими заботами, Пётр Козьмич мог позволить себе некоторую поблажку и короткий отдых на природе во время неспешного плавания по Иртышу, ведь тот же путь до Зыряновского рудника они могли проделать в два раза быстрее сухопутным путём по дороге.
– Господа! – обратился Фролов к собравшимся. – В нашем распоряжении четыре лодки. В каждой лодке размещаются по два пассажира. Мои коллеги знакомы с этим видом транспорта, а я поясню для нашего дорогого гостя господина Ледебура. Как вы знаете, он приехал из Петербурга путешествовать по Алтаю и изучать нашу флору. Карл Фёдорович, – обернулся он к высокому человеку явно нерусского вида, в высоких сапогах и походном сюртуке, – вы, наверное, читали про индейские пирóги, выдолбленные из цельного дерева? Так вот, мы поплывём на таких же больших лодках-пирогах из тополя, в каждой из которых размещаются целых восемь человек: два пассажира, пять гребцов с шестами и один кормчий.
– Где же нашлись такие великолепные деревья, что оказалось возможным сделать такие гигантские лодки? – спросил Ледебур, действительно удивлённый не только мастерством плотников, но и величиной тополей.
– Эти лодки выдолблены из стволов деревьев, растущих на берегах Бухтармы близ Зыряновского рудника. Лодки, в которых мы поедем, далеко не самые большие. Хорошие мастера могут делать лодки длиной в пятнадцать аршин. Называются они обнабоенными, то есть обделанными по бортам досками, и такие лодки свободно перевозят тарантасы даже через реку Обь. Чтобы лодка была пошире, при изготовлении борта её распирают подпорками, пока дерево сырое. Работа непростая, и стоимость такой лодки немалая: до семидесяти рублей. За эти деньги можно купить три лошади. Надеюсь, что тент над головами предохранит вас от солнца или дождя, и желаю всем счастливого плавания.
Ледебур не остался в долгу, в ответ сказав не только явный комплимент, но и искренне удивился:
– О-о, это великолепно! Вас можно поздравить, господин Фролов, с тем, что у вас есть такие искусные мастера и что в ваших краях растут такие замечательные деревья! В Европе мы ничего подобного не видели.
– А к вам, Фёдор Васильевич, – обратился Фролов к Геблеру, – у меня особая просьба. Препровождаю вам и вашим заботам господина Ледебура. Вы его знаете лучше меня – прошу любить и жаловать. В лодках на сиденьях как раз можно расположиться двум человекам, так что вдоволь наговоритесь о своём любимом царстве богини Флоры.
– Очень рад, Пётр Козьмич! – искренне отвечал Геблер. – Без всякого сомнения, мы найдём общий язык с господином Ледебуром.
И это была абсолютная правда. Они были знакомы: любитель-естествоиспытатель и путешествующий по Алтайским горам профессор ботаники из Дерптского университета. Для обоих это была редкая возможность так тесно общаться и говорить на родном для них немецком языке. На русском Геблер говорил свободно, хотя и с акцентом, а Ледебур его не знал.
Плавание оказалось необычайно приятным. Вначале молчаливые, а потом распевшись, дюжие молодцы, раздетые до пояса, толкали лодку шестами, всё время держась мели вдоль берега. Когда же позволяли местность и берег, гребцы становились бурлаками и тянули лодку на канате. Почти сразу за Пригонной сопкой близ окраины Усть-Каменогорска кончалась степь, и Иртыш входил в скалистые берега. Каменные стены стискивали реку, береговые утёсы, один другого выше, стояли по обе стороны Иртыша. Эта величественная картина реки с нависающими гранитными кручами была знакома большинству плывущих, Ледебур же с жадностью вглядывался в открывшуюся панораму, на глаз описывая геологическое строение берегов. По рассказам, об эти береговые скалы, называемые быками, разбилось немало сплавщиков. Иртыш, зажатый горами, течёт быстро и особенно стремителен там, где река, меняя направление, огибает выступающие скалы. Лучше всех знал Иртыш сам начальник Колывано-Воскресенских заводов, он же и организовавший здесь судоходное движение, и помнивший все названия быков, мелей, островов и опасных мест. Наибольшей известностью пользовалась отвесная скала чёрного цвета, получившая название Петух или Петушиный Гребень, наиболее же опасным местом считались Семибратские скалы, где имелось очень быстрое и сильное течение. Если лодка попадала в струю этого течения, то её несло от одной скалы до другой, и вырваться из-под власти его было невозможно. Ещё большей мрачной известностью пользовалась протока между берегом и островом уже вблизи Усть-Бухтарминска, получившая за узость прохода название Собачья нора.
– Самая коварная эта сучья нора, – комментировал Пётр Козьмич, – почему и прозвали её так. Сколько плауков, карбасов с рудой на ней разбилось! Но вы, господа, не тревожтесь, такое случается при плавании вниз. Зазевался кормовой – вот и тащит карбас или плот куда не надо.
По вечерам путники с комфортом устраивались на берегу, жгли костёр, ужинали, ночевали в специально устроенных палатках. На всём пути лишь в одном месте стояла изба, где сплавщики руды могли остановиться, переждать непогоду или переночевать. И разговоры, рассказы без конца. Фролов рассказывал, как, будучи совсем молодым, исследовал фарватер Иртыша на предмет сплава по нему зыряновской руды. Выигрыш в затратах на перевозку водным путём по сравнению с гужевым транспортом оказался огромным. Он же сконструировал суда,называемые карбасами, и вот уже 20 лет на них возят руду, преодолевая расстояние в 150 вёрст вниз по реке до Усть-Каменогорска за один, в худшем случае – за два дня. Ярославцев делился планами устройства водоотлива на Зыряновском руднике, являвшегося главной проблемой у заводского начальства.
– Уже заканчивается строительство шестивёрстного водоподводящего канала на реке Берёзовке, – хвалился он, – вода будет крутить трёхсаженные водоналивные колёса. Теперь думаем, как передать энергию колёс к шахтным насосам.
– Вы там поторопитесь, – вмешался Пётр Козьмич, – шахта ждать не будет, ей работать надо, а вода подпирает, людям уже по колено.
– Пётр Козьмич, вы же знаете, что даже в Европе подобные задачи решать не умеют, – отвечал Ярославцев. – Зело неудобно передать энергию на гору.