Читать онлайн Истории обыкновенного безумия бесплатно
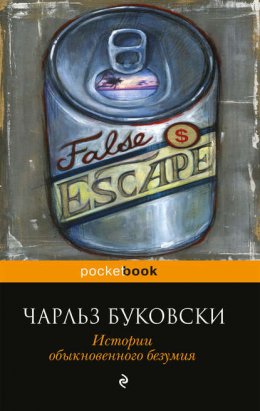
Charles Bukowski
TALES OF ORDINARY MADNESS
Copyright © 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1983 by Charles Bukowski
© 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1983
© В. Коган, перевод на русский язык, 2016
© М. Немцов, перевод на русский язык, 2016
© Издание на русском языке, оформление
* * *
Пушка ради квартплаты
у Дюка была дочка, ее назвали Лалой, и ей исполнилось четыре. она была его первым ребенком, а иметь детей он всегда боялся, ведь дети когда-нибудь могли бы его убить, но теперь он сошел с ума, и она его восхищала, она знала все, о чем думал Дюк, от нее к нему, от него к ней протянулась ниточка.
Дюк с Лалой ходили по магазину, они непрерывно болтали, безостановочно. говорили они обо всем, она рассказывала ему обо всем, что знала, а знала она очень много, инстинктивно, а Дюк многого не знал, но то, что мог, ей рассказывал, и не зря. им было очень хорошо вдвоем.
– что это? – спросила она.
– это кокос.
– а внутри что?
– молоко и жвачка.
– а зачем они там?
– просто им хорошо там, и жвачке, и молоку, им хорошо внутри этой скорлупы. они говорят себе: «до чего же нам здесь хорошо!»
– почему же им там хорошо?
– там всем было бы хорошо. и мне тоже.
– нет, тебе вряд ли. изнутри, оттуда, ты не мог бы водить машину, ты не мог бы видеть меня изнутри. изнутри ты не мог бы есть яичницу с грудинкой.
– яичница с грудинкой – это еще не все.
– а что – все?
– не знаю, может, нутро солнца, только замороженное.
– НУТРО СОЛНЦА?.. ЗАМОРОЖЕННОЕ?
– ага.
– а каким будет нутро солнца, если его заморозить?
– ну, солнце считается огненным шаром. ученые вряд ли со мной согласятся, но, по-моему, оно будет выглядеть примерно так.
Дюк взял с полки плод авокадо.
– здорово!
– ага, вот это и есть авокадо: замороженное солнце. мы едим солнце, а потом ходим, и нам тепло.
– а в том пиве, что ты пьешь, тоже есть солнце?
– конечно.
– а во мне солнце есть?
– больше, чем в ком-либо еще.
– а внутри тебя солнце, по-моему, БОЛЬШОЕ-ПРЕБОЛЬШОЕ!
– спасибо, любовь моя.
они еще походили и сделали все покупки. Дюк ничего не выбирал. Лала наполняла корзину всем, чего ей хотелось. попадалось и кое-что несъедобное: воздушные шары, цветные карандаши, игрушечный пистолет, космонавт с парашютом, который раскрывался у него за спиной, если зашвырнуть его в небо. космонавт просто классный.
кассирша Лале не понравилась. она смерила кассиршу весьма серьезным неодобрительным взглядом. бедная женщина: все лицо изрыто и опустошено – она была ходячим фильмом ужасов и сама об этом даже не догадывалась.
– здравствуй, милочка, – сказала кассирша. Лала не ответила. Дюк на этом и не настаивал.
они заплатили и направились к машине.
– они берут наши деньги, – сказала Лала.
– да.
– а потом ты должен ночью ходить на работу и зарабатывать новые деньги. я не люблю, когда ты ночью уходишь. я хочу играть в маму. я буду мамой, а ты сыном.
– годится, я уже сын. ну, что скажешь, мама?
– годится, сынок, а ты машину водить умеешь?
– попробую.
потом они сели в машину, поехали. какой-то сукин сын задел Дюков дроссель, а когда они поворачивали налево, попытался их протаранить.
– сынок, почему люди хотят ударить нас своими машинами?
– это потому, что они несчастливы, мама, а несчастным людям нравится портить вещи.
– а счастливые люди бывают?
– есть много людей, которые притворяются счастливыми.
– зачем?
– просто им стыдно и страшно, но не хватает духу в этом признаться.
– а тебе страшно?
– у меня хватает духу признаться в этом только тебе – я так адски напуган, мама, что каждую минуту боюсь умереть.
– может, тебе нужна твоя бутылка, сынок?
– нужна, мама, но давай потерпим до дома.
они поехали дальше, на Норманди свернули направо. когда сворачиваете направо, им вас труднее ударить.
– ночью тебе опять на работу, сынок?
– да.
– почему ты работаешь по ночам?
– ночью темнее. люди меня не видят.
– почему ты не хочешь, чтобы люди тебя видели?
– если увидят, меня могут схватить и посадить в тюрьму.
– что такое тюрьма?
– всё – тюрьма.
– я – не тюрьма.
они поставили машину и внесли в дом продукты.
– мама! – сказала Лала. – мы привезли продукты! замороженные солнца, космонавтов, все-все-все!
мама (они ее называли «Мэг») – мама сказала:
– отлично.
потом Дюку:
– черт побери, жаль, что сегодня тебе нужно идти. у меня нехорошее предчувствие. не уходи, Дюк.
– это у тебя-то предчувствие? голубушка моя, у меня это предчувствие каждый раз. без него никогда не обходится. я должен идти. иначе нам крышка. малышка все подряд побросала в корзину, от икры до мясных консервов.
– боже мой, ты что, не можешь присмотреть за ребенком?
– я хочу, чтобы она была счастлива.
– она не будет счастлива, если ты угодишь в каталажку.
– слушай, Мэг, при моей профессии приходится учитывать и такую возможность. никуда не денешься. и не о чем тут говорить. я ведь уже оттянул один срок. и мне еще повезло куда больше, чем многим.
– а может, заняться честным трудом?
– у штамповочного пресса, детка, стоять не подарок. к тому же честного труда не бывает. все равно дело кончается смертью. а я уже ступил на собственную дорожку – я, можно сказать, дантист, удаляю обществу зубы. больше я ничего не умею. уже слишком поздно. а ты знаешь, как относятся к тем, кто сидел. знаешь, как с ними поступают, я тебе уже говорил, я…
– да знаю я, что ты говорил, но…
– но, но, но-о, но-о-о-о! – сказал Дюк. – дай мне договорить, черт тебя подери!
– договаривай.
– эти хуесосы-промышленники, что живут в Беверли-Хиллз и Малибу, паразитируют на рабах. эти парни специализируются на «перевоспитании» преступников, бывших заключенных. оттого и кажется, будто эта дерьмовая система условно-досрочного освобождения пахнет розами. это же надувательство, рабский труд. в советах по надзору за условно освобожденными это знают, они это знают, знаем и мы. экономим деньги для штата, работаем на чужого дядю. дерьмо. всё – дерьмо. всё. они заставляют тебя трудиться втрое больше обычного работяги, а сами обкрадывают всех и каждого в рамках закона – продают всякий хлам в десять, а то и в двадцать раз дороже фактической стоимости. но все в рамках закона, их закона.
– черт побери, я уже столько раз это слышала…
– и черт тебя побери, если ты СНОВА этого не услышишь! думаешь, я ничего не вижу, не чувствую? думаешь, мне не стоит об этом говорить? даже собственной жене? ты ведь, в конце концов, мне жена? мы ведь ебемся? живем-то мы вместе, верно?
– тебя-то наебали, это точно. а теперь ты плачешься.
– отъебись! я совершил ошибку, допустил техническую погрешность! я был молод и не разбирался в их дерьмовых трусливых законах…
– а теперь пытаешься оправдать собственную глупость!
– вот это здорово! мне это НРАВИТСЯ, женушка. да ты просто пизда. пизда. всего лишь пизден-ка на ступенях белого дома, настежь распахнутая, заразная…
– ребенок слушает, Дюк.
– прекрасно. я все-таки договорю. ты – пизда. ПЕРЕВОСПИТАНИЕ. ну и словечко, ну и кровопийцы эти хуесосы из Беверли-Хиллз. их жены слушают в Музыкальном центре Малера и занимаются благотворительностью, не облагаемой налогом. и при этом «Лос-Анджелес таймс» включает их в десятку лучших женщин года. а известно тебе, что с тобой делают их МУЖЬЯ? выматывают тебя на своем паршивом заводике, как собаку. урезают тебе зарплату, прикарманивают разницу, и попробуй возникни! кругом сплошь дерьмо, неужели никто не видит? неужели никто НЕ ВИДИТ?
– я…
– ЗАТКНИСЬ! Малер, Бетховен, СТРАВИНСКИЙ! заставляют тебя работать сверхурочно за гроши. то и дело, черт подери, подгоняют, пинки под твой исхлестанный зад так и сыплются. а стоит тебе проронить хоть СЛОВЕЧКО, как они тут же бросаются звонить инспектору по надзору: «сожалею, Дженсен, но я должен сказать, что ваш поднадзорный украл в кассе двадцать пять долларов. а мы ведь тоже начали было ему доверять».
– так какой же справедливости хочешь ты? господи, Дюк, прямо не знаю, что делать. тебе бы только пустословием заниматься. напьешься и твердишь мне, что Диллинджер был величайшим человеком на свете. откинешься в своем кресле-качалке, пьяный в стельку, и орешь что-то про Диллинджера. а я, между прочим, тоже живой человек. выслушай меня…
– да ебал я этого Диллинджера! он умер. справедливость? нет в Америке справедливости. существует только одна справедливость. спроси семью Кеннеди, спроси мертвых, да любого спроси!
Дюк встал с кресла-качалки, подошел к стенному шкафу, порылся под коробкой с елочными игрушками и достал пушку. сорок пятого калибра.
– вот она. это и есть единственная справедливость в Америке. это единственное, что понятно любому.
он помахал треклятой штуковиной.
Лала играла с космонавтом. парашют раскрывался плохо. все было ясно: надувательство. очередное надувательство. как и чайка с мертвенным взором. как шариковая авторучка. как Христос, пытающийся докричаться до Папы по оборванным проводам.
– слушай, – сказала Мэг, – убери эту дурацкую пушку. я устроюсь на работу. устроюсь, ладно?
– ТЫ устроишься на работу! который раз я уже это слышу? да ты только и умеешь, что ебаться почем зря да лежать на диване с журналами и набивать рот шоколадками.
– боже мой, вовсе не почем зря – я ЛЮБЛЮ тебя, Дюк, правда люблю.
он уже устал.
– ладно, отлично. тогда убери хотя бы продукты. и приготовь мне что-нибудь до ухода.
Дюк положил пушку обратно в шкаф. сел и закурил сигарету.
– Дюк, – спросила Лала, – как ты хочешь, чтобы я тебя называла, – Дюком или папой?
– как хочешь, любимая. как тебе больше нравится.
– а почему на кокосе волосы?
– о господи, откуда я знаю! а на яйцах у меня волосы почему?
пришла из кухни Мэг с банкой гороха.
– я не позволю тебе так разговаривать с моим ребенком.
– с твоим ребенком. да послушай, как она говорит! совсем как я. видишь эти глаза? чувствуешь эту душу? все как у меня. твой ребенок – только потому, что она вылезла из твоей щели и твою сиську сосала? она ничейный ребенок. разве что свой собственный.
– я требую, – сказала Мэг, – чтобы ты прекратил так разговаривать при ребенке!
– ты требуешь… требуешь…
– вот именно! – она поставила банку гороха на левую ладонь и медленно подняла. – требую.
– клянусь, если ты не уберешь с глаз моих эту банку, я, да поможет мне Бог, если он есть, ЗАПИХНУ ЕЕ ТЕБЕ В ЖОПУ НА ГЛУБИНУ, РАВНУЮ РАССТОЯНИЮ ОТ ДЕНВЕРА ДО АЛЬБУКЕРКЕ!
Мэг унесла горох на кухню. на кухне она и осталась.
Дюк подошел к шкафу, взял пальто и пушку. он поцеловал свою девочку на прощанье. она была приятней декабрьского загара, красивей шестерки белых коней, скачущих по низкому зеленеющему холму. такие мысли пришли ему в голову. они начали причинять ему боль. он поспешно улизнул. но дверь закрыл очень тихо.
Мэг вышла из кухни.
– Дюк ушел, – сказала малышка.
– знаю.
– я хочу спать, мама. почитай мне книжку.
они уселись рядышком на кушетку.
– мама, а Дюк вернется?
– конечно, никуда этот сукин сын не денется.
– что такое сукин сын?
– это Дюк. я люблю его.
– любишь сукина сына?
– ага, – рассмеялась Мэг. – ага. иди ко мне, красавица. на колени.
она крепко обняла малышку.
– ой, какая ты теплая, как горячая грудинка, горячие пончики!
– ничего я и не грудинка и не ПОНЧИКИ! САМА ТЫ грудинка и пончики!
– сегодня полнолуние. слишком, слишком светло. я боюсь, боюсь. господи, как я люблю этого парня, о боже…
Мэг порылась в картонной коробке и достала детскую книжку.
– мама, а почему на кокосе волосы?
– волосы на кокосе?
– да.
– слушай, я же кофе поставила. кажется, он сейчас выкипит. пойду выключу кофе.
Мэг ушла на кухню, а Лала осталась ждать на кушетке.
а Дюк стоял в это время у входа в винный магазин на углу Голливудского и Ломбарди и думал: что за черт что за черт что за черт.
что-то там было не так, что-то дурно попахивало. в глубине магазина вполне мог сидеть и смотреть в щелку какой-нибудь козел с люгером. именно так пристрелили Луи. разнесли его в клочья, точно глиняную утку в парке с аттракционами. убийство, дозволенное законом. весь ебучий мир потонул в дерьме дозволенных законом убийств.
что-то в магазинчике было не так. может, сегодня какой-нибудь маленький бар? притон гомиков? что-нибудь простенькое. чтоб хватило на квартплату за месяц.
я делаюсь слабовольным, подумал Дюк. того и гляди, не успеешь опомниться, как останется только сидеть да Шостаковича слушать.
он снова сел в свой черный «Форд-61».
и поехал на север. три квартала. четыре квартала. шесть кварталов. двенадцать кварталов в глубь ледяного мира. а Мэг сидела с малышкой на коленях и читала ей книжку, «Жизнь в лесу»…
«горностай со своим семейством, норка, пекан и куница – звери дикие, проворные, гибкие. между этими плотоядными животными идет непрерывная кровопролитная борьба за…»
потом маленькая красавица уснула, и наступило полнолуние.
За решеткой вместе
С главным врагом общества
в 1942-м я слушал в Филадельфии Брамса. у меня был маленький проигрыватель. это была брамсовская вторая часть. в то время я жил один. я не торопясь отхлебывал из бутылки портвейн и курил дешевую сигару. комнатка была небольшая и чистая. как говорится в подобных случаях, раздался стук в дверь. я решил, что кто-нибудь явился вручить мне Нобелевскую или Пулитцеровскую премию. два туповатых, деревенского вида громилы.
Буковски?
ага.
они показали мне бляху: ФБР.
пойдете с нами. лучше надеть пальто. это ненадолго.
я знать не знал, что я натворил. спрашивать я не стал. я рассудил, что в любом случае все пропало. один из них выключил Брамса. мы спустились вниз и вышли на улицу. в окнах торчали головы, как будто все были в курсе дела.
потом всегдашний женский голос: ага, вот и он, этот жуткий тип! попался наконец!
все дело в том, что с этими дамочками я не сплю.
я все пытался сообразить, что я такого натворил, и, кроме убийства, которое я вполне мог совершить по пьяни, в голову мне ничего не приходило, однако я не мог понять, при чем тут ФБР.
положите ладони на колени и не шевелите руками!
двое были на переднем сиденье и двое на заднем, вот я и решил, что моей жертвой наверняка стала некая важная птица.
по дороге я забылся и попытался почесать нос.
РУКУ НА МЕСТО!!
когда мы вошли в кабинет, один из агентов показал на ряд фотографий, занимавший все четыре стены.
видите эти снимки? строго спросил он.
я оглядел фотографии. они были вставлены в изящные рамки, но лица мне ни о чем не говорили.
да, снимки я вижу, сказал я.
это агенты ФБР, которые погибли при исполнении служебного долга.
я не знал, каких слов он от меня ждет, и поэтому не сказал ни слова.
меня привели в другой кабинет. за столом сидел человек.
ГДЕ ВАШ ДЯДЯ ДЖОН? заорал он, обращаясь ко мне.
что? переспросил я.
ГДЕ ВАШ ДЯДЯ ДЖОН?
что он хочет этим сказать, я не знал. сначала я решил, что он имеет в виду некое секретное оружие, которое я ношу с собой, дабы по пьяни убивать людей, нервишки у меня пошаливали, и все казалось чистейшим вздором.
я имею в виду ДЖОНА БУКОВСКИ!
а-а, он умер.
черт подери, НЕУДИВИТЕЛЬНО, что мы никак не можем его найти!
меня отвели вниз, в желто-оранжевую камеру. был субботний день. в окно камеры было видно, как прогуливаются люди. счастливчики! на другой стороне улицы был магазин грампластинок. до меня доносилась усиленная динамиком музыка. казалось, на свободе царит всеобщее веселье. я стоял, пытаясь сообразить, что я такого натворил. мне хотелось заплакать, но ничего не вышло. была лишь страшная досада. досадный страх, когда хуже чувствовать себя уже невозможно. думаю, вам это чувство знакомо. думаю, время от времени его испытывает каждый. но я, по-моему, испытываю его довольно часто, даже слишком часто.
тюрьма «Мойаменсинг» напоминала мне старый замок. двое больших деревянных ворот распахнулись, впустив меня внутрь. удивительно, что еще через ров с водой переходить не пришлось.
меня посадили к толстяку, который смахивал на дипломированного аудитора.
я Кортни Тейлор, главный враг общества, сообщил он мне.
за что попал? спросил он.
(я уже знал, так как по дороге спросил.)
уклонение от призыва.
двух вещей мы здесь на дух не переносим: уклонение от призыва и публичную демонстрацию непристойностей.
воровская честь, что ли? пускай страна крепнет и богатеет, дабы было чем поживиться.
и все-таки тех, кто уклоняется от призыва, мы не любим.
вообще-то я невиновен. я переехал и забыл дать призывной комиссии новый адрес. почту я известил. уже здесь, в городе, я получил из Сент-Луиса повестку на медкомиссию. я сообщил им, что не могу приехать в Сент-Луис и готов пройти комиссию здесь. а они пришили мне дело и упрятали сюда. одного не могу понять: если я хотел уклониться от призыва, зачем тогда я дал им свой адрес?
все вы невиновны. я-то знаю, что все ваши оправдания – чушь собачья.
я растянулся на койке.
подошел надзиратель.
А НУ, ПОДНИМАЙ СВОЮ ТУХЛУЮ ЗАДНИЦУ! прикрикнул он на меня.
я поднял свою тухлую, уклоняющуюся от призыва задницу.
хочешь покончить с собой? спросил меня Тейлор.
да, сказал я.
тогда отогни трубу, которая держит лампу на потолке. налей вон в то ведро воды и сунь туда ногу. выверни лампочку и сунь палец в патрон. тебя здесь сразу как не бывало.
я уставился на лампочку и долго на нее смотрел.
спасибо, Тейлор, твоя помощь неоценима.
свет погас, я лег, и за дело взялись они. клопы.
это еще что за чертовщина?! заорал я.
клопы, сказал Тейлор. у нас клопы.
готов спорить, у меня клопов больше, чем у тебя, сказал я.
спорим.
десять центов? десять центов.
я принялся ловить и убивать своих. трупы я складывал на деревянный столик.
наконец мы решили, что на первый раз хватит. мы поднесли клопов к двери камеры, где горел свет, и сосчитали их. у меня оказалось тринадцать. у него – восемнадцать, я дал ему десятицентовик. лишь впоследствии я выяснил, что своих клопов он разрывал пополам, а потом расплющивал. он оказался мошенником, профессиональным, сукин сын.
в прогулочном дворике мне везло в кости. я выигрывал и день ото дня богател. богател по-тюремному. я наживал пятнадцать – двадцать долларов в день. в кости играть не разрешалось, и охранники наводили на нас с вышек автоматы и орали: НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ! но нам всегда удавалось вновь вернуться к игре. кости пронес один тип, сидевший за демонстрацию непристойностей. этого демонстратора непристойностей я невзлюбил. вообще-то ни один из них мне не нравился, у всех у них были слаборазвитые подбородки, слезящиеся глаза, маленькие задницы, гнусные привычки. мужчины лишь на одну десятую. допускаю, что это не их вина, но глазеть на них мне не нравилось. этот тип подходил после каждой игры. тебе везет, ты все время выигрываешь, дай и мне хоть немного. я бросал в его лилейные ручонки несколько монеток, и он крадучись удалялся – елда свинячья ползучая, мечтающая показывать трехлетним девочкам член. это все, что я мог сделать, дабы сдержаться и не обломать ему рога, ведь за избиение кого бы то ни было сажали в одиночку, а в карцере тоскливо, но еще хуже сидеть на хлебе и воде. я повидал тех, кто оттуда выходил, требовалось не меньше месяца, прежде чем они вновь становились похожими на себя. но все мы были чудилами. и я был чудилой, я был чудилой. я был к нему слишком строг. когда я на него не смотрел, мне удавалось мыслить логично.
я был богат. когда выключали свет, приходил повар с тарелками еды, вкусной еды, причем в избытке: мороженое, торт, пирог, хороший кофе. Тейлор велел никогда не давать ему больше пятнадцати центов, этого, мол, хватит с лихвой. повар шепотом благодарил и спрашивал, приходить ли ему на следующий вечер.
сделай одолжение, говорил я.
это была пища, которую ел начальник тюрьмы, и начальник явно питался неплохо. все заключенные помирали с голоду, а мы с Тейлором разгуливали, точно две бабы на девятом месяце беременности.
это хороший повар, сказал Тейлор, он убил двоих. сначала прикончил одного, а потом вышел и тут же прикончил второго. теперь ему отсюда не выбраться, разве что сумеет сбежать. недавно ночью он набросился на одного морячка и отдрючил его в жопу. насквозь этого морячка пропорол. морячок неделю ходить не мог.
повар мне нравится, сказал я, по-моему, он славный малый.
он славный малый, согласился Тейлор.
мы то и дело жаловались надзирателю на клопов, а надзиратель орал нам:
ЧТО ЭТО, ПО-ВАШЕМУ? ГОСТИНИЦА? А КЛОПОВ ВЫ САМИ СЮДА ПРИНЕСЛИ!
что мы, разумеется, расценивали как оскорбление.
надзиратели были подлюгами, надзиратели были придурками, надзиратели были трусами. мне их было жаль.
в конце концов нас с Тейлором раскидали по разным камерам, а в нашей устроили дезинфекцию.
я встретился с Тейлором в прогулочном дворике.
меня угораздило попасть к одному малышу, сказал Тейлор, совсем зеленый юнец, совсем тупой, ничего не знает. страшное дело.
мне достался старик, который не говорил по-английски, он весь день сидел на параше и бубнил: ТАРА БУББА ЖРАТЬ, ТАРА БУББА СРАТЬ! он без конца твердил одно и то же. весь жизненный путь его был предначертан: жрать и срать. по-моему, он говорил об одном из мифических героев своей родной страны. может быть, о Тарасе Бульбе? не знаю. как только я впервые ушел на прогулку, старик распорол мою простыню и сделал из нее бельевую веревку; на ней он развесил свои носки и трусы, и когда я вошел, все потекло на меня. из камеры старик никогда не выходил, даже в душ. я слыхал, что он не совершил никакого преступления, а просто хотел там жить, и ему разрешили. доброе дело? я разозлился на него, потому что не люблю, когда кожу мне натирают шерстяные одеяла. у меня очень нежная кожа.
ну ты, старый разъебай, заорал я на него, одного человека я уже прикончил, а если будешь себя плохо вести, их станет двое!
а он знай себе сидел на параше, посмеивался надо мной и говорил: ТАРА БУББА ЖРАТЬ, БУББА СРА-АТЬ!
пришлось махнуть на него рукой. но зато мне никогда не приходилось мыть пол, его треклятое жилище было вечно сырым и отмытым. у нас была самая чистая камера в Америке. в мире. и еще он полюбил дополнительное питание по ночам, полюбил всей душой.
ФБР решило, что в умышленном уклонении от призыва я невиновен, и меня перевели в призывной медицинский центр, туда перевели многих из нас, я прошел общий осмотр, а потом предстал перед психиатром.
вы верите в войну? спросил он меня.
нет.
вы готовы идти на войну?
да.
(меня обуревала безумная идея подняться когда-нибудь из окопа и шагать вперед на орудийный огонь, пока меня не ухлопают.)
он долго не произносил ни слова и все писал что-то на листе бумаги. потом он поднял голову.
между прочим, в следующую среду мы собираем врачей, художников и писателей на вечеринку. хочу вас пригласить. придете?
нет.
ладно, сказал он, можете не ходить.
куда?
на войну.
я молча смотрел на него.
не думали, что мы поймем, верно?
не думал.
отдайте эту бумажку человеку за соседним столом.
идти пришлось долго. бумажка была сложена и пришпилена к моей карточке скрепкой. я приподнял краешек и заглянул: «…за бесстрастным лицом скрывает повышенную возбудимость…» ну и умора, подумал я, господи помилуй! это я-то – возбудимый!
так я и простился с «Мойаменсингом». так я и выиграл войну.
Сцены из тюремного спектакля
I
Убирать голубиное говно всегда заставляли новичков, а пока убираешь голубиное говно, голуби слетаются и вдобавок слегка засерают тебе волосы, лицо и одежду. Мыла нам не выдавали – только воду и щетку, и говно счищалось с трудом. Потом заключенных переводили в механическую мастерскую за три цента в час, но новичкам сперва приходилось отрабатывать на уборке голубиного говна.
Я был с Блейном, когда Блейна осенило. Он увидел в углу одного голубя, а птица не могла взлететь.
– Слушай, – сказал Блейн, – я знаю, эти птицы умеют друг с другом разговаривать. Давай кое-что внушим этой птахе, чтобы она передала остальным. Мы ее накажем и забросим вон на ту крышу, а она расскажет обо всем другим птицам.
– Годится, – сказал я.
Блейн подошел к птице и взял ее в руки. У него был маленький коричневый «Жиллетт». Он огляделся по сторонам. Все происходило в тенистом углу прогулочного дворика. День был жаркий, и там столпилось полно заключенных.
– Кто-нибудь хочет ассистировать мне во время операции, господа? – спросил Блейн.
Ответа не последовало.
Блейн принялся отрезать первую лапку. Сильные мужчины отвернулись. Я увидел, как один, а то и двое подносят ближайшую к птице руку к виску, отгораживаясь от этого зрелища.
– Что за чертовщина с вами творится, ребята? – прикрикнул я на них. – Нам надоело голубиное дерьмо в волосах и глазах! Мы накажем эту птичку так, что, когда зашвырнем ее обратно на крышу, она наверняка все другим птичкам расскажет: «Там внизу какие-то подлые распиздяи! Не приближайтесь к ним!» Этот голубь обязательно скажет другим голубям, чтобы те больше на нас не срали!
Блейн зашвырнул птицу на крышу. Я уже не помню, подействовало это или нет. Но помню, во время уборки моя щетка наткнулась на две голубиные лапки. Без приделанной к ним птицы они смотрелись очень странно. Я смел их вместе с говном.
II
Большинство камер было переполнено, и там иногда происходили расовые беспорядки. Однако охранники были садистами. Они перевели Блейна из моей камеры в камеру, битком набитую чернокожими. Войдя, Блейн услышал, как один черный говорит:
– Ага, вот и мой малолеток! Да, сэр, из этого сопляка я сделаю своего малолетка! Да чего уж там, всем по кусочку хватит! Давай, крошка, раздевайся, или тебе помочь?
Блейн разделся и вытянулся плашмя на полу. Он слышал, как они ходят вокруг.
– Боже! Да я такого большеглазого УРОДА отродясь не видывал, ну и очко!
– Что-то не стоит у меня, помоги, никак не выходит!
– Господи, она похожа на тухлый пончик!
Все отошли, и тогда Блейн встал и снова оделся. В прогулочном дворике он сказал мне:
– Мне повезло. Они могли меня в клочья разорвать!
– Благодари свою уродливую задницу, – сказал я.
III
Еще там был Сирз. Сирза запихнули в камеру к банде чернокожих, и он, оглядевшись, затеял драку с самым здоровенным из них. Тот укладывался спать. Сирз высоко подпрыгнул и обоими коленями опустился здоровяку на грудь. Они подрались. Сирз его отметелил. Остальные просто смотрели.
Казалось, Сирза вообще ничего не волнует. В прогулочном дворике он, мерно покачиваясь, сидел на корточках и дымил окурком. Он взглянул на одного чернокожего. Улыбнулся. Выпустил дым.
– Знаешь, откуда я? – спросил он чернокожего.
Чернокожий не ответил.
– Я из Ту-Риверса, Миссисипи. – Он затянулся, задержал дыхание, выдохнул, покачиваясь на корточках.
– Тебе бы там понравилось.
Потом он щелчком бросил окурок, встал, повернулся и зашагал через дворик…
IV
Задирался Сирз и к белым. У Сирза были престранные волосы: они, грязно-рыжие, казались приклеенными к голове и стояли торчком. На щеке шрам от ножа, а глаза большие, очень большие.
Нед Линкольн выглядел лет на девятнадцать, хотя было ему двадцать два – с вечно разинутым ртом, горбатый, с бельмом, наполовину закрывавшим левый глаз. Сирз заприметил малыша во дворике в его первый тюремный день.
– ЭЙ, ТЫ! – окликнул он малыша. Малыш обернулся.
Сирз нацелил на него указующий перст.
– ТЫ! Я ТЕБЯ ЗАМОЧУ, ПРИЯТЕЛЬ! ЛУЧШЕ ГОТОВЬСЯ, ЗАВТРА Я ТЕБЯ ПРИХЛОПНУ! Я ТЕБЯ ЗАМОЧУ, ПРИЯТЕЛЬ!
Нед Линкольн так и остался стоять, почти ничего не поняв. Сирз, словно обо всем позабыв, разговорился с другим заключенным. Но мы-то знали, что он все помнит. Таков уж был его метод. Заявление свое он сделал, и точка.
В тот вечер один из сокамерников сказал малышу:
– Лучше готовься, малыш, он не шутит. Лучше что-нибудь себе раздобудь.
– Что?
– Ну, если отодрать ручку от водопроводного крана и наточить острие о цемент, может получиться маленькая заточка. А хочешь, могу продать тебе за двушник настоящую классную заточку.
Заточку малыш купил, но на другой день остался в камере, на прогулку он не вышел.
– А сосунок-то испугался, – сказал Сирз.
– Я бы и сам испугался, – сказал я.
– Ты бы вышел, – сказал он.
– Я бы остался в камере, – сказал я.
– Ты бы вышел, – сказал Сирз.
– Ну ладно, я бы вышел.
На следующий день Сирз прирезал его в душевой.
Никто ничего не видел, разве что вместе с мыльной водой по водостоку текла чистая алая кровь.
V
Есть люди, которых вообще не сломаешь. Даже карцером их не проймешь. Таким был и Джо Стац. Казалось, он сидит в карцере вечно.
В конюшне начальника тюрьмы он был самой необъезженной лошадью. Сумей тот сломать Джо, его власть над остальными стала бы куда более ощутимой.
Как-то раз начальник привел двоих своих людей, те отодвинули крышку, начальник опустился на колени и сверху окликнул Джо.
– ДЖО! ДЖО, ТЕБЕ ЕЩЕ НЕ НАДОЕЛО? ХОЧЕШЬ ВЫЙТИ ОТТУДА, ДЖО? ЕСЛИ НЕ ЗАХОЧЕШЬ ВЫЙТИ СЕЙЧАС, ДЖО, ТОГДА Я ВЕРНУСЬ ОЧЕНЬ НЕ СКОРО!
Ответа не последовало.
– ДЖО! ДЖО! ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?
– Слышу, слышу.
– ТОГДА КАКОВ ТВОЙ ОТВЕТ, ДЖО?
Джо взял свое ведро с мочой и дерьмом и выплеснул содержимое в физиономию начальнику. Люди начальника задвинули крышку на место. Насколько я знаю, Джо до сих пор сидит внизу, живой или мертвый. О том, что он сделал с начальником, стало известно. Мы частенько думали о Джо, особенно ночами, после отбоя.
VI
Когда я вышел, я решил, что надо немного обождать, а потом вернуться на это место, надо посмотреть на него снаружи и, точно зная, что за дела творятся там внутри, как следует разглядеть эти стены и дать себе слово никогда больше туда не попадать.
Но, выйдя оттуда, я так туда и не вернулся. Я так и не взглянул на те стены снаружи. Они как скверная баба. Возвращаться нет смысла. Даже смотреть на нее не хочется. Но о ней можно поговорить. Именно этим я сегодня какое-то время и занимался. Удачи тебе, друг, внутри ты или снаружи.
Дурдом немного восточнее Голливуда
Мне показалось, я слышу стук, посмотрел на часы – было всего лишь час тридцать дня, господи боже мой, я влез в старый халат (я всегда спал нагишом, пижамы мне казались нелепыми) и открыл одно из разбитых боковых окошек у двери.
– Ну что еще? – спросил я. Это был Безумец Джимми.
– Ты что, спал?
– Да, а ты?
– Нет, я стучал.
– Заходи.
Он приехал на велосипеде. И имел на голове новую панаму.
– Нравится моя новая панама? Тебе не кажется, что я просто красавец?
– Нет.
Он уселся на мою кушетку и давай смотреться в высокое зеркало позади моего кресла, то так, то сяк дергая свою шляпу. Он принес два бумажных пакета. В одном была непременная бутылка портвейна. Другой он опорожнил на низкий столик – ножи, вилки, ложки; маленькие куклы – за коими последовала металлическая птичка (бледно-голубая, со сломанным клювом и облупившейся краской) и прочие, не менее разнообразные виды хлама. Этим дерьмом – сплошь краденым – он торговал в разных хипповых и торчковых лавчонках на бульварах Сансет и Голливуд – то есть в бедняцких кварталах этих бульваров, где жил и я, где жили мы все. Точнее, мы жили поблизости – в полуразрушенных дворах, гаражах, на чердаках, а то и ночевали на полу у временных друзей.
Между тем Безумец Джимми считал себя художником, а я считал, что его картины никуда не годятся, и ему об этом сказал. К тому же он сказал, что и мои картины никуда не годятся. Не исключено, что правы были мы оба.
Но дело в том, что Безумец Джимми был и впрямь какой-то заебанный. Его глаза, уши и нос сплошь состояли из недостатков. В обоих ушных отверстиях какая-то сера; слизистая оболочка носа слегка воспалена. Безумец Джимми точно знал, что надо красть для продажи в этих лавчонках. Воришка из него вышел насколько превосходный, настолько же и мелкий. Но его дыхательная система: верхняя граница как правого, так и левого легкого – какие-то хрипы и гиперемия. Когда он не курил сигарету, он скручивал косяк или присасывался к своей бутылке вина. Систола на диастолу у него составляли 112 на 78, что давало сердечное давление в размере 34. С женщинами он был хорош, но содержание гемоглобина у него было очень низкое; кажется, 73, нет – 72 грамма на литр. Как и все мы, выпивая, он не закусывал, а выпить любил.
Безумец Джимми непрестанно возился перед зеркалом с панамой, издавая отрывистые благоговейные звуки. Он улыбался самому себе. Зубы его сплошь состояли из недостатков, а слизистые оболочки рта и гортани были воспалены.
Потом он отхлебнул вина из-под своей идиотской шляпы, а это заставило меня пойти и взять два пива для себя.
Когда я вернулся, он сказал:
– Ты дал мне новое имя – теперь я не «Сумасшедший Джимми», а «Безумец Джимми». Я думаю, ты прав – Безумец Джимми намного лучше.
– Но ты ведь и вправду сумасшедший, – сказал я ему.
– Откуда у тебя на правой руке эти две большие дыры? – спросил Безумец Джимми. – Похоже, все мясо сгорело. Даже кости почти видны.
– Я был под мухой, лежал в постели и пытался читать «Кенгуру» Д. Г. Лоуренса. Рука у меня запуталась в шнуре, я дернул, и прямо на руку свалился светильник. Пока я эту поебень отдирал, лампочка меня едва заживо не сожгла. Это была стоваттная лампа «Дженерал электрик».
– А к своему доктору ты ходил?
– Мой доктор плевать на меня хотел. Я только и делаю, что сижу у него, ставлю себе диагноз, назначаю лечение, а потом выхожу и расплачиваюсь с сестрой. Он меня просто бесит. Знай себе стоит и рассказывает о том, как служил в нацистской армии. Его, видишь ли, взяли в плен французы, а пленных нацистов они возили в лагерь в товарных вагонах, вот гражданское население и поливало ни в чем не повинных бедолаг бензином, забрасывало вонючими химическими гранатами и использованными презервативами с муравьиным ядом. Осточертели мне его россказни…
– Смотри! – воскликнул Безумец Джимми, показывая на столик. – Смотри, какое столовое серебро! Настоящая старина!
Он протянул мне ложку.
– Слушай, – сказал он, – твой халат обязательно должен так распахиваться?
Я швырнул ложку на столик.
– В чем дело? Ты что, никогда мужского члена не видел?
– А яйца?! Они у тебя такие большие и волосатые! Жуть!
Я не стал запахивать халат. Не люблю, когда мне приказывают.
Опять он уселся и принялся теребить свою панаму. Ох уж эта его идиотская панама и его учащенная пульсация в точке Мак-Берни (как при аппендиците). К тому же под ребрами прощупывается мягкая нижняя граница печени. В селезенке сплошь недостатки. Воплощение недостатков и учащенной пульсации. Учащенно пульсирует даже треклятый желчный пузырь.
– Слушай, можно от тебя позвонить? – спросил Безумец Джимми.
– Звонок местный?
– Местный.
– Смотри у меня. А то прошлой ночью я едва четверых не прикончил. По всему городу за ними в машине гонялся. Наконец они подъехали к тротуару. Я остановился сзади и заглушил мотор. А у них двигатель так и работал, только до меня это не дошло. Когда я вышел, они поехали. Весьма огорчительно.
– Они что, звонили от тебя в другой город?
– Нет. Я их и знать не знал. Дело было совсем в другом.
– У меня разговор по местной линии.
– Тогда звони, мать твою.
Я прикончил первое пиво и с размаху зашвырнул пустую бутылку в большой деревянный ящик (размером с гроб), стоявший посреди комнаты. Хотя домовладелица выдавала мне два помойных ведра в неделю, вместить туда весь мусор можно было, лишь разбив все бутылки. Я был единственным в округе обладателем двух помойных ведер, но ведь, как говорится, в своем деле каждый талантлив.
Одна неувязочка: я всегда любил ходить босиком, а часть стекла от битых бутылок все-таки летела на ковер, и осколки впивались мне в ноги. Это моего доброго доктора тоже бесило – каждую неделю приходилось выковыривать эту гадость, пока в приемной какая-нибудь милая старая дама помирала от рака, – вот я и научился самолично вырезать большие осколки, а тем, что помельче, предоставлял полную свободу действий. Конечно, если ты не слишком навеселе, ты чувствуешь, как они впиваются, и тут же их достаешь. Это лучший вариант. Тотчас же выдергиваешь осколок, кровь бьет тонкой струйкой, как сперма, и ты чувствуешь, как в тебе начинает просыпаться герой – то есть во мне.
Безумец Джимми держал в руке телефонную трубку и с удивлением ее разглядывал.
– Она не отвечает.
– Тогда положи трубку, засранец!
– А телефон звонит себе и звонит.
– Последний раз говорю, положи трубку!
Он положил.
– Вчера ночью одна бабенка у меня на физиономии сидела. Двенадцать часов. Когда я из-под ее задницы выглянул, уже солнце вставало. Старина, у меня такое чувство, будто язык пополам разорван, такое чувство, будто язык раздвоен.
– Вот было бы классно!
– Ага. Я мог бы обрабатывать сразу две мох-натки.
– Вот именно. И Казанова бы в гробу обосрался.
Он возился со своей панамой. Что до прямой кишки, то у него обнаружились некоторые симптомы геморроя. Очень плотный ректальный сфинктер. Панамский Малыш. Простата несколько увеличена и мягкая на ощупь.
Потом бедный разъебай встрепенулся и вновь набрал тот же номер.
Он возился со своей панамой.
– Звонит себе и звонит, – сказал он.
Так он и сидел, вслушиваясь в гудки, скелетно-мышечная система напрочь заебана – я имею в виду дерьмовую осанку (кифоз). Не исключена аномалия на уровне пятого позвонка (поясничного).
Он возился со своей панамой.
– Звонит себе и звонит.
Я подошел и положил трубку. Потом я вскрикнул:
– А, черт!
– В чем дело, старина?
– Стекло! Всюду стекло на этом ебучем полу! Я стоял на одной ноге и выковыривал из другой стекло. На сей раз стеклышко было со вкусом. Оно задело фурункулы. Тут же хлынула кровь.
Я добрался до кресла, взял старую, заляпанную красную тряпку, которой обычно вытирал кисти, и перевязал ею свою кровоточащую пятку.
– Тряпка-то грязная, – сказал Безумец Джимми.
– Мозги у тебя грязные, – сказал я.
– Прошу тебя, запахни халат!
– Смотри, – сказал я. – Видишь?
– Вижу, вижу. Потому и прошу тебя его запахнуть.
– Ну ладно, черт с тобой.
Весьма неохотно я набросил халат на свои гениталии. По ночам гениталии может выставлять напоказ любой. В два часа дня пополудни для этого требовалась некоторая наглость.
– Слушай, – сказал Безумец Джимми, – тебе известно, что на днях в Уэствуд-виллидже ты обоссал полицейскую машину?
– А они-то где были?
– Ярдах в пятидесяти оттуда, о чем-то там договаривались.
– А может, дрочили друг другу?
– Может быть. Но этого тебе показалось мало. Тебе понадобилось вернуться и нассать на машину еще раз.
Бедняга Джимми. И впрямь заебанный. Первый, пятый и шестой шейные смещены.
К тому же наблюдалось ослабление связки правого пахового кольца.
А он еще был недоволен тем, что я обоссал полицейскую машину.
– Ну ладно, Джимми, по-твоему, ты выше всякого там дерьма, да? Со своим мешочком краденых безделушек. Так вот, я должен тебе кое-что сказать!
– Что? – спросил он, глядя в зеркало и вновь теребя панаму. Потом он присосался к своей бутылке вина.
– Тебя разыскивает суд! Может, ты и не помнишь, но ты сломал Мэри ребро, а через пару дней вернулся и вмазал ей по физиономии.
– Меня разыскивает? СУД? Э, нет, старина, ты же не хочешь сказать, что меня и вправду разыскивает СУД?
Я швырнул вторую бутылку в стоявший посреди комнаты огромный деревянный ящик.
– Да, мой мальчик, ты совсем спятил, тебе нужна помощь. А Мэри подала на тебя в суд за изнасилование и оскорбление действием…
– Что такое «оскорбление действием»?
Я засеменил за двумя новыми бутылками пива, вернулся.
– Слушай, засранец, ты прекрасно знаешь, что такое «оскорбление действием»! Ты же не всю жизнь катался на велосипеде!
Я посмотрел на Джимми. Кожа у него была немного суховата и утратила природную эластичность. К тому же я знал, что на левой ягодице (в центре) у него небольшая опухоль.
– Но я не могу понять, при чем тут СУД! Что за чертовщина?! Да, мы немного повздорили. Вот я и уехал к Джорджу в пустыню. Мы тридцать дней пили портвейн. Когда я вернулся, она принялась на меня ОРАТЬ! Видел бы ты ее! Ничего плохого я не хотел. Просто надавал ей по толстой заднице да по сиськам…
– Она боится тебя, Джимми. Ты больной человек. Я тебя хорошо изучил. Сам знаешь, когда я не дрочу и не валяюсь в отрубе, я читаю книги, самые разные книги. Ты умалишенный, друг мой.
– Но мы так с ней дружили! Она даже хотела поебаться с тобой, но с тобой она ебаться не стала бы, потому что любила меня. Так она мне сказала.
– Но, Джимми, когда это было! Ты не представляешь себе, как все меняется. Мэри – превосходная женщина. Она…
– Ради бога! Запахни халат! ПОЖАЛУЙСТА!
– Ого! Извини.
Бедняга Джимми. Его генитальная система – левый семенной канатик, да отчасти и правый – напоминают некий шрам или спайку. Вероятно, результат какой-то старой патологии.
– Я позвоню Анне, – сказал он. – Анна – лучшая подруга Мэри. Она должна знать. Зачем Мэри понадобилось подавать на меня в суд?
– Тогда звони, мать твою.
Джимми поправил перед зеркалом панаму, потом набрал номер.
– Анна? Джимми. Что? Нет, этого не может быть! Хэнк мне только что рассказал. Слушай, я в эти игры не играю. Что? Нет, ребро я ей не сломал! Я только надавал ей по толстой заднице и по сиськам. Ты хочешь сказать, она действительно идет в суд? Ну а я не пойду. Я уезжаю в Джером, в Аризону. Снял жилье. Двести двадцать пять в месяц. Я только что нажил двенадцать тысяч долларов на продаже большого участка земли… Да заткнись ты, черт тебя подери, опять ты про этот СУД! Знаешь, что я сейчас сделаю? Я прямо СЕЙЧАС пойду к Мэри! Я поцелую ее и изжую ей все губы! Я один за другим съем все волоски на ее лобке! Плевать я хотел на суд! Я запихну ей в жопу, под мышки, промеж сисек, в рот, в…
Джимми взглянул на меня.
– Положила трубку.
– Джимми, – сказал я, – тебе надо промыть уши. У тебя обнаруживаются явные симптомы эмфиземы. Начни делать зарядку и бросай курить. Тебе необходимо лечить позвоночник. У тебя ослаблено паховое кольцо, поэтому старайся не поднимать тяжестей и не напрягаться при дефекации…
– Что за бред?
– Опухоль у тебя на ягодице напоминает веррукулез.
– Что это за веррукулез?
– Бородавка, мать твою.
– Сам ты бородавка, мать твою.
– Кстати, – сказал я, – где ты взял велосипед?
– У Артура. У Артура полно дряни. Пойдем к Артуру, курнем дряни.
– Не люблю я Артура. Он весь такой тонкий, обидчивый. Некоторые тонкие, обидчивые люди мне нравятся. Артур к ним не относится.
– На будущей неделе он едет в Мексику, на шесть месяцев.
– Многие из этих тонких, обидчивых типов вечно куда-нибудь едут. А что на этот раз? Субсидия?
– Да, субсидия. Но рисовать он не умеет.
– Знаю. Зато он лепит статуи, – сказал я.
– Не нравятся мне его статуи, – сказал Панамский Малыш.
– Слушай, Джимми, Артур мне, может, не нравится, но его статуи мне были очень близки.
– Но это же сплошь старье… дерьмо греческое… тетки с большими сиськами и толстыми жопами, в ниспадающих одеждах. Борцы, хватающие друг друга за члены и бороды. Что в этом хорошего, черт подери?
Итак, читатель, забудем на минутку о Безумце Джимми и займемся Артуром – что особого труда не составит, – я имею в виду еще и манеру, в которой пишу: я могу перескакивать с темы на тему, а вы можете скакать за мной, и все это не будет иметь никакого значения, сами увидите.
Так вот, секрет Артура состоял в том, что он лепил их слишком большими. Просто величественными. Весь этот ебучий цемент. Самые маленькие его мужчины и женщины маячили над вами на высоте восьми футов в солнечном или лунном свете, а то и в смоге – в зависимости от того, когда вы приходили.
Как-то ночью я пытался попасть к нему с черного хода, а кругом были все эти цементные люди, все эти огромные цементные люди стояли себе во дворе. Некоторые ростом футов двенадцать, а то и четырнадцать. Громадные груди, мохнатки, яйца, болты – по всему участку. Как раз перед этим я дослушал «Любовный напиток» Доницетти. Это не помогло. Все равно я казался себе кем-то вроде пигмея в аду. Я принялся орать: «Артур, Артур, помоги!» Но он тащился под травкой или чем-то еще, а может, это я тащился. Как бы то ни было, меня охватывает адский ужас.
Ну что ж, во мне шесть футов и 232 фунта, поэтому я попросту выполняю блокировку против самого здоровенного сукина сына.
Я напал на него сзади, когда он меня не видел. И он рухнул лицом вниз, я не шучу – он УПАЛ! Это слышал весь город.
Потом, просто из любопытства, я его перевернул и, само собой, отломал ему болт и яйцо, а другое яйцо аккуратно раскололось пополам; отвалился еще кусок носа и почти полбороды.
Я чувствовал себя убийцей.
Потом Артур вышел и сказал: «Хэнк, рад тебя видеть!»
А я сказал: «Извини за шум, Арт, но я наткнулся там на одного из твоих маленьких любимчиков, а у разъебая заплетались ноги, он рухнул и развалился на части».
А он сказал: «Ничего страшного».
Короче, я вошел, и мы всю ночь курили дрянь. А следующее, что я помню, – это встало солнце и я еду в своей машине – часов в девять утра, – причем ехал я, не обращая внимания ни на стоп-сигналы, ни на красный свет. Обошлось без происшествий. Мне даже удалось поставить машину в полутора кварталах от дома, где я жил.
Но, добравшись до своей двери, я обнаружил в кармане тот самый цементный член. Треклятая штуковина была не меньше двух футов длиной.
Я спустился вниз и сунул ее в почтовый ящик домовладелице, но при этом большая часть осталась торчать наружу – непреклонная и бессмертная, увенчанная громадной залупой елда ждала, как поступит с ней почтальон.
Ну ладно, вернемся к Безумцу Джимми.
– Но я серьезно, – сказал Безумец Джимми. – Я что, действительно нужен в СУДЕ? В СУДЕ?
– Слушай, Джимми, тебе действительно нужна помощь. Я отвезу тебя в Паттон или в Камарилло.
– Ах, надоела мне эта шокотерапия… Бррррр!!! Бррррр!!!
Безумец Джимми всем телом задергался в кресле, вновь проходя курс лечения.
Потом он поправил перед зеркалом свою новую панаму, улыбнулся, встал и опять подошел к телефону.
Он набрал номер, посмотрел на меня и сказал:
– Звонит себе и звонит.
Он просто положил трубку и набрал номер еще раз.
Все они приходят ко мне. Даже доктор мой мне звонит. «Христос был величайшим психоаналитиком, величайшей личностью – утверждал, что он Сын Божий. Вышвырнул из храма менял. Конечно, это было Его ошибкой. Его таки схватили за жопу. Даже ноги сдвинуть попросили, чтобы гвоздь сэкономить. Какое дерьмо».
Все они приходят ко мне. Есть один малый по фамилии то ли Ренч, то ли Рейн – нечто в этом роде, – так он всегда приходит со спальным мешком и грустной историей. Он кочует между Беркли и Новым Орлеаном. Туда и обратно. Раз в два месяца. И еще он сочиняет скверные, старомодные рондо. Каждый раз, как он приезжает (или, как у них принято говорить, «вламывается»), я попадаю на пятерку и (или) пару зелененьких, если не считать того, что он выпьет и съест. Я не против, но эти люди должны понять, что мне тоже нелегко оставаться в живых.
Вот вам, короче, Безумец Джимми и вот вам, короче, я.
Или вот вам Макси. Макси – борец за народное дело, поэтому он намерен перекрыть все канализационные трубы в Лос-Анджелесе. Ну что ж, следует признать, это чертовски благородный жест. Но, Макси, дружище, говорю я, сообщи мне, когда ты намерен перекрыть все сточные трубы. Я всей душой за Народ. Мы же старые друзья. Неделей раньше я уеду из города.
Макси никак не может понять одного: Дела и Говно – разные вещи. Морите меня голодом, но не перекрывайте путь моему говну, не отключайте говнопровод. Помню, как-то раз мой домовладелец уехал из города, решив провести чудесный двухнедельный отпуск на Гавайях. Прекрасно!
На другой день после его отъезда у меня засорился туалет. Поскольку я очень боялся говна, я завел собственную личную пробивалку. Я пробивал, пробивал, но ничего не вышло.
Тогда я обзвонил моих личных друзей, а я из тех, у кого личных друзей не так уж много, и даже если они есть, то у них нет туалетов, не говоря уж о телефоне… чаще всего у них вообще ничего нет.
Короче, я позвонил одному-двоим из тех, кто имел туалет. Они были очень любезны.
– Конечно, Хэнк, в любое время можешь посрать у меня.
Их приглашениями я не воспользовался. Возможно, дело было в том, как они это сказали. Короче, домовладелец мой отправился любоваться гавайскими танцовщиками, а эти ебучие какашки кружили себе по поверхности воды и смотрели на меня.
И вот каждый вечер мне приходилось срать, а потом вылавливать из воды говно, заворачивать его в вощеную бумагу, засовывать в бумажный пакет, садиться в машину и ездить по городу, подыскивая место, куда бы его выбросить.
Чаще всего, поставив машину с работающим двигателем посреди дороги, я попросту швырял треклятые какашки через стену, любую стену. Я старался действовать непредвзято, однако самым тихим местом мне показался один дом престарелых, и, если не ошибаюсь, я по меньшей мере трижды одаривал их своим коричневым мешочком с говном.
А иногда я предпочитал, не останавливаясь, попросту открывать окошко и швырять говно на дорогу, как другие, допустим, стряхивают пепел или выбрасывают парочку сигарных окурков.
Если уж говорить о говне, то запора я всегда боялся куда больше, чем рака. (К Безумцу Джимми мы еще вернемся. Слушайте, я же говорил, что пишу в такой манере.) Стоит мне один день не посрать, и я уже никуда не могу пойти, ничего не в состоянии делать – когда это случается, меня охватывает такое отчаяние, что с целью прочистить организм и вновь заставить его работать я пытаюсь отсосать собственный хуй. Если вы когда-нибудь пытались отсосать собственный хуй, вам должно быть знакомо чудовищное напряжение в спине, шейных позвонках, в каждой мышце, во всем. Вы поглаживаете член, пока он не достигнет максимального размера, потом в прямом смысле складываетесь вдвое, точно вас вздернули на дыбу, при этом ноги вы забрасываете за голову и обхватываете ими прутья кроватной спинки, задний проход бьется, как подыхающий на морозе воробушек, все подтянуто к вашему огромному пивному животу, все мышечные ткани разорваны в хлам, но больно делается оттого, что не хватает вам не фута-другого – вам не хватает одной восьмой дюйма, – кончик вашего языка так близок к кончику вашего хуя, но с тем же успехом он мог бы быть удален на целую вечность или на сорок миль. Бог или кто там, черти его раздери, знал, что Он делал, когда нас лепил.
Но вернемся к душевнобольным.
Джимми только и делал, что без конца набирал один и тот же номер – с часу тридцати до шести, когда я не выдержал. Нет, когда я не выдержал, было шесть тридцать. Да и какая разница? Короче, после семьсот сорок девятого звонка я, наплевав на распахнувшийся халат, подошел к Безумцу Джимми, вырвал у него из рук трубку и сказал:
– Хватит.
Я слушал Сто вторую симфонию Гайдна. Пива мне вполне хватило бы до утра. А Безумец Джимми начинал мне надоедать. Он был невеждой. Назойливой мухой. Крокодильим хвостом. Дерьмом собачьим на сене.
Он посмотрел на меня.
– Суд? По-твоему, она хочет притащить меня в суд? Нет, я не верю в те игры, в которые играют люди…
Пошлятина. И сера в ушах.
Тогда я зевнул и позвонил Иззи Стайнеру, его лучшему другу, который сбагрил его мне. Иззи Стайнер считал себя писателем. Я сказал, что он писать не умеет. Он сказал, что я писать не умею. Не исключено, что один из нас был прав. Или не прав. Вам судить.
Иззи был упитанным молодым евреем, весившим фунтов двести при росте в пять футов пять дюймов на цыпочках, – толстые руки, толстые запястья, подергивающаяся голова на бычьей шее; крошечные глазки и очень неприятный рот – всего лишь маленькое отверстие в голове, свистом прославлявшее Иззи Стайнера и непрерывно поглощавшее пищу: куриные крылышки, лапки индейки, длинные батоны хлеба, паучий помет – все, что угодно, все, что лежало неподвижно достаточно долго, чтобы он успел заграбастать.
– Стайнер?
– Э-э?
Он готовился стать раввином, но становиться раввином ему не хотелось. Хотелось ему лишь есть и делаться толще и толще. Отлучись вы на минутку поссать, вернувшись, вы застали бы свой холодильник пустым, а он стоял бы себе и, бросая на вас жадные, виноватые взгляды, подъедал последние крошки. Лишь одно спасало от полного разгрома при появлении Иззи: он не ест сырого мяса – недожаренное он любит, даже очень, но сырого не ест.
– Стайнер?
– Ням…
– Слушай, доедай свой кусок. Мне надо тебе кое-что сказать.
Я слушал, как он жует. Звук был такой, точно в соломе еблась дюжина кроликов.
– Послушай, старина. У меня Безумец Джимми. Это твой приятель. Он приехал на велосипеде. Приходи сюда. Скорей. Мое дело – предупредить. Он твой друг. Ты его единственный друг. Лучше приходи скорей. Убери его отсюда, убери его прочь с глаз моих. Еще немного, и я за себя не ручаюсь.
Я положил трубку.
– Ты звонил Иззи? – спросил Джимми.
– Ага. Он твой единственный друг.
– О господи! – сказал Безумец Джимми, после чего он принялся запихивать в мешок свои ложки с побрякушками и деревянными куклами, а потом рванул к велосипеду и прицепил мешок на багажник.
Бедняга Иззи уже был в пути. Танк. Маленькое воздушно-ротовое отверстие, всасывающее небо. Заебан он был главным образом на Хемингуэе, Фолкнере и второстепенной смеси Мейлера с Малером.
И вот внезапно возник Иззи. Он никогда не входил. Казалось, он попросту плавно влетает в дверь. Я хочу сказать, что он приносился на маленьких воздушных подушках – голодный и почти, черт возьми, неукротимый.
И тут он узрел Безумца Джимми и его бутылку вина.
– Мне нужны деньги, Джимми! Встань!
Иззи вывернул карманы Джимми и порвал их, но ничего не нашел.
– Ты чего, старина? – спросил Безумец Джимми.
– Когда мы прошлый раз подрались, Джимми, ты порвал мне рубашку, старина. Ты порвал мне брюки. Ты должен мне пять долларов за брюки и три доллара за рубашку.
– Отъебись, старина, не рвал я твоей ебучей рубашки.
– Заткнись, Джимми, предупреждаю тебя! Иззи помчался к велосипеду и принялся рыться в мешке, который висел на багажнике. Он вернулся с бумажным пакетом. Вывалил его содержимое на столик.
Ложки, ножи, вилки, резиновые куклы… резные деревянные фигурки…
– Эта дрянь ни черта не стоит!
Иззи опять умчался к велосипеду и еще немного покопался в бумажных пакетах.
Безумец Джимми подошел к столику и принялся запихивать свой хлам обратно в пакет.
– Одно серебро стоит двадцать зелененьких! Видишь, какой он засранец?
– Ага.
В этот момент примчался Иззи.
– Джимми, на велосипеде у тебя нет ни черта! Ты должен мне восемь зелененьких, Джимми. Слушай, когда в прошлый раз я набил тебе морду, ты порвал мне одежду!
– Еб твою мать!
Джимми еще раз поправил перед зеркалом свою новую панаму.
– Посмотри на меня! Смотри, какой я красавец!
– Ага, вижу, – сказал Иззи, после чего подошел к Джимми, взял панаму и порвал ее, проделав с одной стороны полей большую дыру. Потом он сделал узкую прореху с другой стороны и вновь водрузил панаму на голову Джимми. Джимми уже не смотрелся красавцем.
– Дай мне липкую ленту, – сказал Джимми. – Мне надо починить шляпу.
Иззи походил, отыскал липкую ленту, запихнул ее ошметки в дыру, потом целую кучу ленты извел на прореху, но почти ничего не заклеил, а длинный кусок повис через край, болтаясь перед самым носом у Джимми.
– Зачем я нужен в суде? Я в игры не играю! Что за чертовщина!
– Ну ладно, Джимми, – сказал Иззи, – я отвезу тебя в Паттон. Ты больной человек! Тебе нужна помощь! Ты должен мне восемь долларов, ты сломал Мэри ребро, ты ударил ее в лицо… ты болен, болен, болен!
– Еб твою мать!
Безумец Джимми встал и попытался с размаху ударить Иззи, но промазал и рухнул на пол. Иззи приподнял его и начал делать ему «ласточку».
– Не надо, Иззи, – сказал я, – ты его в клочья изрежешь. На полу слишком много стекла.
Иззи бросил его на кушетку. Безумец Джимми выбежал, прихватив свой бумажный пакет, впихнул его в багажник, а потом принялся ныть.
– Иззи, ты украл у меня бутылку вина! У меня в бумажном мешке была еще одна бутылка! Ты украл ее, сволочь! Ну отдай, она обошлась мне в пятьдесят четыре цента. У меня было шестьдесят центов, когда я ее покупал. Теперь у меня только шесть.
– Слушай, Джимми, зачем Иззи твоя бутылка вина? Кстати, что это у тебя под боком? На кушетке?
Джимми взял бутылку. Он заглянул в горлышко.
– Нет, это другая. Есть еще одна, ее Иззи взял.
– Слушай, Джимми, Иззи вина не пьет. Ему не нужна твоя бутылка. Садись-ка ты на велосипед и кати отсюда ко всем чертям вместе со своим воображаемым шестицентовиком.
– Мне ты тоже надоел, Джимми, – сказал Иззи.
– Вали отсюда. Ты свое получил.
Джимми стоял перед зеркалом, поправляя то, что осталось от панамы. Потом он вышел, сел на Артуров велосипед и укатил в лунном свете. Он пробыл у меня много часов. Уже наступила ночь.
– Совсем спятил, бедолага, – сказал я, глядя, как он крутит педали. – Жаль мне его.
– Мне тоже, – сказал Иззи.
Потом он нагнулся и достал из-под куста бутылку вина. Мы вошли в дом.
– Пойду принесу пару стаканов, – сказал я. Я вернулся, мы сели и принялись за вино.
– Пробовал когда-нибудь отсосать собственный болт? – спросил я Иззи.
– Вернусь домой и попробую.
– Не думаю, что это возможно, – сказал я.
– Я тебе сообщу.
– Я не дотягиваю примерно на одну восьмую дюйма. Обидно.
Мы допили вино, а потом пошли к Шейки, где выпили крепкого темного пива и посмотрели бои прежних времен – мы видели, как Голландец нокаутировал Луиса; видели третий бой Зейла и Роки Джи; бой Брэддока с Баером; Демпси с Фирпо, – мы видели всех, а потом нам показали какой-то старый фильмец с Лорелом и Харди… там еще была сцена, где эти ублюдки передрались из-за одеял в купе пульмановского вагона. Только я один и смеялся. Народ на меня уставился. А я знай себе колол орешки и хохотал до упаду. Потом начал смеяться Иззи. Потом все принялись хохотать над тем, как они дерутся из-за одеял в пульмановском вагоне. Я позабыл о Безумце Джимми и впервые за много часов почувствовал себя человеком. Жить стало легче – оказывается, надо было лишь выбросить все из головы. И иметь немного денег. Пускай другие сражаются на войне, пускай садятся в тюрьму.
Мы с Иззи прикрыли лавочку и разошлись по домам.
Я разделся, привел себя в возбуждение, зацепился пальцами ног за прутья кровати и свернулся колесом. Все осталось по-прежнему – не хватало одной восьмой дюйма. Ну конечно, полного счастья не бывает. Я улегся поудобнее, взял «Войну и мир» Толстого, раскрыл на середине и принялся читать. Ничего не изменилось. Книжонка так и осталась премерзкой.
Стоит ли избирать себе карьеру писателя?
Бар. Ну конечно. Окно выходило на летное поле. Мы сидели у стойки, но буфетчик нас замечать не желал. В аэропортах все бармены снобы, решил я, как некогда снобами были проводники в поездах. Я намекнул Гарсону, что вместо того, чтобы орать на бармена, чего он (бармен) и добивался, неплохо бы сесть за столик. Мы сели за столик.
Кругом разодетые воры, с довольным и глуповатым видом потягивающие выпивку, негромко переговаривающиеся, ждущие своего рейса. Мы с Гарсоном сидели и разглядывали официанток.
– Черт подери, – сказал Гарсон, – смотри, платьица-то у них так укорочены, что видны трусики.
– Гм-гм, – сказал я.
Потом мы принялись обсуждать их с критических позиций. У одной не было жопы. У другой были слишком тонкие ножки. К тому же обе были явными дурами, но важничали, как последние суки. Подошла та, что без жопы. Я велел Гарсону сделать его заказ, а потом попросил виски с водой. Она сходила за выпивкой и вернулась. Спиртное было не дороже, чем в обычном баре, но мне пришлось отвалить ей щедрые чаевые за разглядывание трусиков – так близко они маячили перед глазами.
– Боишься? – спросил Гарсон.
– Да, – сказал я. – Но чего?
– Все-таки летишь первый раз.
– Я думал, что испугаюсь. Но теперь, глядя на этих… – я махнул рукой в направлении других столиков, – теперь мне все равно…
– А как насчет публичных чтений?
– Публичные чтения я не люблю. Дурацкое занятие. Точно траншею копаешь. Лишь бы выжить.
– По крайней мере, ты делаешь то, что тебе нравится.
– Нет, – сказал я, – делаю то, что нравится тебе.
– Ну ладно, по крайней мере, люди оценят то, что ты делаешь.
– Надеюсь. Я бы очень не хотел, чтобы меня линчевали за чтение сонета.
Я поставил свою дорожную сумку себе между ног, порылся в ней и вновь наполнил стакан. Выпив, я заказал себе и Гарсону еще по порции.
Насчет той, что без жопы и в кружевных трусиках: мне стало интересно, носит ли она под кружевными еще одни трусики. Мы допили. Я отдал Гарсону пятерку или десятку за такси и поднялся в самолет. Не успел я сесть на свое последнее место в последнем ряду, как самолет покатил вперед. Едва не опоздал.
Казалось, самолет никак не может оторваться от земли. Рядом со мной, у окна, сидела бабуля. Вид у нее был невозмутимый, даже скучающий. Наверняка летала не меньше четырех-пяти раз в неделю – заведовала сетью борделей. Мне не удалось как следует затянуть привязной ремень, но поскольку никто из пассажиров на ремни не пожаловался, я решил, пускай себе болтается. Было бы не так стыдно вылетать из кресла, как просить стюардессу затянуть мне ремень.
Мы уже были в воздухе, а я так и не закричал. Полет проходил спокойнее, чем поездка на поезде. Никакой тряски. Тоска зеленая. Казалось, мы летим со скоростью тридцать миль в час; ни горы, ни облака и не думали уноситься вспять. Две стюардессы сновали туда-сюда и улыбались, улыбались. Одна из них оказалась весьма ничего, только вены на шее у нее были толстые, как веревки. Очень скверно. У другой стюардессы не было жопы.
Мы поели, а потом появились напитки. Один доллар. Выпить захотели не все. Чудилы дерьмовые. И тут у меня затеплилась надежда на то, что у самолета отвалится крыло и тогда я увижу, какие на самом деле лица у стюардесс. Я знал, что та, с веревками, наверняка примется очень громко орать. А та, что без жопы, – трудно было представить. Я схватил бы ту, что с веревками, и изнасиловал ее на пути к смерти. В спешке. Оцепенев наконец в обоюдной эякуляции перед самым ударом о землю.
Мы не разбились. Я выпил второй из положенных мне стаканов, после чего увел еще один из-под самого носа у бабули. Она не шевельнулась. Зато меня передернуло. Полный стакан. Залпом. Без воды.
Потом мы приземлились. Сиэтл…
Я всех пропустил вперед. Мне пришлось это сделать. Теперь я не мог выбраться из своего привязного ремня.
Я позвал девицу с толстыми венами на шее.
– Стюардесса! Стюардесса!
Она вернулась.
– Извините, но… как бы мне… расстегнуть эту треклятую штуковину?
Она ни до ремня не дотронулась, ни ко мне не приблизилась.
– Переверните его, сэр.
– Да?
– Теперь отожмите эту скобочку сзади…
Она удалилась. Я отжал скобочку. Безрезультатно. Я давил на нее и давил. О господи!.. Наконец она подалась.
Я схватил свою сумку для авиапутешествий и попытался вести себя нормально.
Стюардесса улыбнулась мне у трапа.
– Всего хорошего, сэр, будем рады видеть вас снова!
Я пошел по взлетно-посадочной полосе. Там стоял паренек с длинными светлыми волосами.
– Мистер Чинаски? – спросил он.
– Да. Это вы, Белфорд?
– Я вглядывался в лица… – сказал он.
– Все нормально, – сказал я, – хорошо бы отсюда выбраться.
– До начала чтений еще несколько часов.
– Отлично, – сказал я.
Весь аэропорт перекопали. До автостоянки можно было добраться только на автобусе. Ждать разрешалось. В ожидании автобуса собралась большая толпа. Белфорд направился туда.
– Подождите! Подождите! – крикнул я. – Я не могу стоять вместе со всеми этими гнусными типами!
– Но они не знают, кто вы такой, мистер Чинаски.
– Так-то оно так. Зато я знаю, кто они такие. Лучше здесь постоим. Кстати, не хотите немного выпить?
– Нет, спасибо, мистер Чинаски.
– Слушайте, Белфорд, зовите меня Генри.
– Я тоже Генри, – сказал он.
– Ах да, а я и забыл…
Мы остановились, и я выпил.
– Генри, автобус идет!
– Отлично, Генри!
Мы бросились к автобусу.
Впоследствии мы решили, что я – Хэнк, а он – Генри.
В руке у него была бумажка с адресом. Домик одного из друзей. Там мы с ним могли перевести дух перед выступлением. Друга не было дома. Чтения начинались только в девять вечера. Но домик Генри почему-то так и не нашел. Места там были чудесные. Нет, правда, места были чудесные. Сосны, сосны, озера и сосны. Свежий воздух. Никаких машин. Мне стало тоскливо. Красоты на меня не действовали. Я решил, что не такой уж я славный малый. Вот она, жизнь, такая, какой ей надлежит быть, а мне кажется, будто я угодил в тюрьму.
Белфорд остановился у бара. Мы вошли. Бары я ненавидел. Я написал слишком много стихов и рассказов о барах. Белфорд думал, что делает мне одолжение.
В барах можно многое почерпнуть, но потом от них нельзя отвязаться. Они возникают на каждом шагу. Посетители баров похожи на посетителей грошовых лавчонок: они убивают время и все остальное.
Я вошел вслед за Генри. За одним из столиков сидели его знакомые. Смотрите-ка, вот профессор того-то. А вот профессор еще чего-то. А это такой, а это сякой. Целое застолье. Несколько женщин. Женщины почему-то были похожи на маргарин. Все сидели и большими кружками пили зеленую отраву в виде пива.
Передо мной поставили кружку с зеленым пивом.
Я поднял ее, затаил дыхание и сделал глоток.
– Мне всегда нравились ваши произведения, – сказал один из профессоров. – Вы напоминаете мне…
– Извините меня, – сказал я. – Я сейчас вернусь…
Я рванул в сортир. Разумеется, там была жуткая вонь. Милое, причудливое заведеньице.
Бары… на каждом шагу!
У меня не было времени открывать дверь кабинки. Пришлось воспользоваться писсуаром. Рядом со мной стоял местный дурачок. «Мэр» города. В своей красной шапочке. Шут гороховый. Дерьмо.
Я проблевался и окинул его самым похабным взглядом, на какой только был способен, после чего он вышел.
Потом вышел я и уселся перед своим зеленым пивом.
– Вечером вы читаете в … …..? – спросил меня кто-то.
Я не ответил.
– Мы все придем.
– Не исключено, что я тоже приду, – сказал я. У меня не было выхода. Деньги по их чеку я уже получил и истратил. Еще выступление, еще денек, и я мог оттуда линять.
Все, чего я хотел, – это вновь очутиться в своей комнате в Лос-Анджелесе, задернуть все шторы и попивать «Уайлд тёрки», закусывая сваренными вкрутую яйцами и дожидаясь, когда по радио передадут что-нибудь из Малера…
Девять часов… Белфорд привел меня в зал. Там стояли круглые столики, за которыми сидели люди. Там была сцена.
– Хотите, чтобы я вас представил? – спросил Белфорд.
– Нет, – сказал я.
Я отыскал ступеньки, которые вели на сцену. Там были столик и кресло. Я поставил на столик дорожную сумку и принялся извлекать оттуда свои пожитки.
– Я Чинаски, – объявил я, – а это – пара трусов, вот носки, вот рубашка, вот пинта виски, а вот и несколько сборников стихов.
Виски и стихи я оставил на столике. Содрал с бутылки целлофан и отхлебнул из горлышка.
– Вопросы есть? Они молчали.
– Ну что ж, тогда начнем.
Сначала я прочел им кое-что из старых вещей. С каждым глотком стихи становились лучше – для меня. Так или иначе, студенты вели себя хорошо. Они попросили лишь об одном: чтобы не было никакого вранья. Я решил, что это справедливо.
Я продержался первые тридцать минут, попросил десятиминутный перерыв, спустился, прихватив бутылку, со сцены и подсел за столик к Белфорду и четырем или пяти другим студентам. Подошла девчушка с одной из моих книжек. Бога ради, крошка, подумал я, я оставлю автограф на всем, что у тебя имеется.
– Мистер Чинаски?
– Он самый, – сказал я, взмахнув рукой гения. Я спросил, как ее зовут. Потом что-то написал.
Нарисовал парня, голышом гоняющегося за голой бабой. Поставил дату.
– Большое спасибо, мистер Чинаски.
И это все, на что они способны? Сплошь дерьмо собачье.
Я вырвал свою бутылку изо рта у какого-то типа.
– Слушай, мать твою, ты уже второй раз к ней присасываешься. А мне еще полчаса там потеть. Не смей больше трогать бутылку!
Я уселся на стол, отхлебнул глоток и опять сел на место.
– Стоит ли избирать себе карьеру писателя? – спросил меня один из юных студентов.
– Ты что, хочешь всех насмешить? – сказал я.
– Нет, я серьезно. Вы бы посоветовали человеку стать профессиональным писателем?
– Не ты выбираешь писательское ремесло, а оно тебя.
После этих слов он от меня отстал. Я выпил еще и вновь поднялся на сцену. Любимые вещи я всегда оставлял напоследок. В колледже я читал впервые, но предварительно, в качестве разминки, я два вечера подряд выступал по пьяни в одном лос-анджелесском книжном магазине. Лучшее надо оставлять напоследок. Так всегда поступают дети. Я дочитал до конца и закрыл книжки.
Аплодисменты меня удивили. Бурные и продолжительные. Я был сбит с толку. Стихи были не настолько хороши. Они аплодировали по какому-то другому поводу. Наверное, по поводу того, что я наконец закончил.
Один из профессоров устроил у себя вечеринку. Профессор этот был очень похож на Хемингуэя. Конечно, Хемингуэй умер. Но и профессор едва ли был жив. Он бесконечно рассуждал о литературе и писательском ремесле – обо всех этих гнусных ебучих вещах. Куда бы я ни пошел, он плелся за мной. Он сопровождал меня повсюду, кроме уборной. Стоило мне обернуться, и он был тут как тут…
– А, Хемингуэй! Я думал, ты умер.
– Вы знаете, что Фолкнер тоже был пьяницей?
– Ага.
– А что вы думаете о Джеймсе Джонсе? Старик был явно болен: он прочно зациклился.
Я разыскал Белфорда.
– Слушай, малыш, холодильник пуст. Хемингуэй ни черта не припас.
Я дал ему двадцатку.
– Слушай, ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы сходить хотя бы за пивом?
– Кое-кого знаю.
– Отлично. И пару сигар.
– Каких?
– Любых. Дешевых. По десять или пятнадцать центов. Заранее благодарен.
Там было человек двадцать или тридцать, а я уже один раз набил холодильник. И это все, на что способно это дерьмо собачье?
Я высмотрел самую привлекательную женщину в доме и решил заставить ее меня ненавидеть. Она в одиночестве сидела за столиком в кухонном уголке.
– Крошка, – сказал я, – этот чертов Хемингуэй – больной человек.
– Знаю, – сказала она.
– Я знаю, ему хочется быть славным малым, но он никак не может выбросить из головы Литературу. Господи, что за гнусная тема! Знаешь, я никогда не встречал писателя, который бы мне понравился. Все они – шиш на постном масле, худшие из людских отбросов…
– Знаю, – сказала она. – Знаю…
Я грубо схватил ее за голову и поцеловал. Она не сопротивлялась. Хемингуэй увидел нас и вышел в другую комнату. Ого! Старик обладал хладнокровием! Невероятно!
Вернулся Белфорд с покупками, я бросил упаковки пива на стол, а потом еще несколько часов болтал с ней, целовал ее и ласкал. Лишь на следующий день я узнал, что она – жена Хемингуэя…
Проснулся я в постели, один, где-то на втором этаже. Возможно, я так и остался у Хемингуэя.
Похмелье было тяжелее обычного. Я отвернулся от солнечного света и закрыл глаза.
Кто-то принялся меня трясти.
– Хэнк! Хэнк! Вставайте!
– Черт подери! Убирайся!
– Нам пора. Вы в полдень читаете. А нам еще долго ехать. Мы едва успеваем.
– Тогда давай не поедем.
– Нельзя. Вы подписали контракт. Вас ждут. Они хотят транслировать ваше выступление по телевидению.
– По телевидению?
– Да.
– О господи, я же могу сблевать перед камерой…
– Хэнк, мы должны ехать.
– Ладно, ладно.
Я встал с кровати и посмотрел на него.
– Молодец, Белфорд, что присматриваешь за мной и подбираешь за мной дерьмо. Почему ты не злишься и не посылаешь меня ко всем чертям?
– Вы мой любимый современный поэт.
Я рассмеялся.
– Боже мой, да я сейчас вытащу болт и обоссу тебя…
– Нет, – сказал он, – меня интересуют ваши слова, а не ваша моча.
Ну вот, он совершенно правильно поставил меня на место, и я почувствовал к нему симпатию. В конце концов я облачился в соответствующую случаю одежду, и Белфорд помог мне спуститься по лестнице. Внизу были Хемингуэй с женой.
– Господи, да у вас ужасный вид! – сказал Хемингуэй.
– Извини за вчерашнее, Эрни. Я не знал, что она твоя жена…
– Забудьте, – сказал он, – как насчет чашечки кофе?
– Отлично, – сказал я. – Не повредит.
– Съедите что-нибудь?
– Благодарю. Я не ем.
Мы сели и молча выпили кофе. Потом Хемингуэй что-то сказал. Не помню, что именно. Кажется, что-то о Джеймсе Джойсе.
– Черт возьми! – сказал его жена. – Ты можешь когда-нибудь заткнуться?
– Послушайте, Хэнк, – сказал Белфорд, – нам пора. Еще долго ехать.
– Пошли, – сказал я.
Мы встали и направились к машине. Я пожал руку Хемингуэю.
– Я провожу вас до машины, – сказал он.
Белфорд и X. направились к выходу. Я повернулся к ней.
– До свиданья, – сказал я.
– До свиданья, – сказала она, а потом поцеловала меня. Так меня еще никогда не целовали. Она попросту сдалась, отдала себя целиком. Мне еще никто так не отдавался.
Потом я вышел из дома. Мы с Хемингуэем еще раз пожали друг другу руки. Потом мы поехали, а он вернулся в дом к жене…
– Он преподает Литературу, – сказал Бел-форд.
– Ага, – сказал я.
Меня страшно тошнило.
– Не знаю, как я буду читать. Что за идиот устраивает поэтические чтения днем!
– В это время вас может послушать большая часть студентов.
Пока мы ехали, я понял, что спасения ждать неоткуда. Вечно приходится что-то делать, иначе о тебе попросту забудут. Факт весьма неприятный, но я принял его к сведению и начал обдумывать возможные пути спасения.
– Похоже, вам и вправду придется туго, – сказал Белфорд.
– Останови где-нибудь. Купим бутылку виски.
Он подрулил к одной из странных с виду вашингтонских лавчонок. Я купил полпинты водки, чтобы прийти в себя, и пинту шотландского виски для публичных чтений. Белфорд сказал, что публика в следующем заведении весьма консервативная и для виски лучше раздобыть термос. Поэтому я купил термос.
По дороге мы остановились позавтракать. Славное заведеньице, только трусиков девчушки не демонстрировали.
Боже мой, всюду были женщины, и больше половины из них вполне годились для ебли, но ничего нельзя было поделать – разве что смотреть на них. Кто выдумал эту страшную пытку? Правда, все они были похожи друг на друга: тут буграми жир выпирал, там не было жопы, – ни дать ни взять поле маковых цветов. Какой цветочек сорвать? Какой сорвет тебя? Это не имело значения, и поэтому все было так грустно. И когда подбирался букет, это тоже не помогало, никому и никогда это не помогало, кто бы ни утверждал обратное.
Белфорд заказал нам оладьи и по порции яичницы. Болтуньи.
Официантка. Я посмотрел на ее груди и бедра, губы и глаза. Бедняжка. Бедняжка, черт побери. Наверняка ее голову не обременяла ни одна мысль, кроме желания насиловать какого-нибудь бедного сукина сына до тех пор, пока у того не останется ни гроша…
Мне удалось впихнуть в себя почти все оладьи, после чего мы вновь сели в машину.
Белфорда занимали только предстоящие чтения. Целеустремленный молодой человек.
– Тот малый, что в перерыве дважды отхлебнул из вашей бутылки…
– Ага. Он нарывался на неприятности.
– Его все боятся. Он исключен из университета, но все еще там ошивается. Постоянно торчит под ЛСД. Он сумасшедший.
– Мне на это глубоко наплевать, Генри. Ты можешь увести у меня бабу, но виски мое не трожь.
Мы остановились заправиться, потом поехали дальше. Я перелил виски в термос и теперь пытался заставить себя выпить водки.
– Подъезжаем, – сказал Белфорд, – вон университетские башни. Смотрите!
Я посмотрел.
– Господи помилуй! – сказал я.
При виде университетских башен я высунул голову в окошко и принялся блевать. Блевота растекалась, заляпав бок красной машины Бел-форда. А он ехал дальше, целеустремленно. Ему почему-то казалось, что я смогу читать, что блевал я лишь в качестве шутки. Тошнота не проходила.
– Извини, – с трудом вымолвил я.
– Ничего страшного, – сказал он. – Уже почти полдень. У нас есть минут пять. Хорошо, что мы успели.
Мы поставили машину. Я схватил свою дорожную сумку, вышел и принялся блевать на стоянке. Белфорд потопал вперед.
– Одну минутку, – сказал я.
Я оперся о столб и вновь начал блевать. На меня смотрели идущие мимо студенты: ну и старик, чем это он занимается?
Я последовал за Белфордом одной дорогой, другой… по той тропинке, по этой. Американский университет – полно кустов, тропинок и дерьма собачьего. Я увидел свое имя: ГЕНРИ ЧИНАСКИ. ПОЭТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ.
Это же я, подумал я. Я едва не расхохотался. Меня втолкнули в комнату. Кругом были люди.
Маленькие белые личики. Маленькие белые блинчики.
Меня усадили в кресло.
– Сэр, – сказал парень за телекамерой, – когда я подниму руку, можете начинать.
Сейчас начну блевать, подумал я. Я пытался отыскать какие-нибудь книжки стихов. Я тянул время. Белфорд принялся рассказывать им, кто я такой… как роскошно мы с ним провели время на великом Северо-Западе, у Тихого океана…
Парень поднял руку.
Я начал.
– Моя фамилия Чинаски. Первое стихотворение называется…
После третьего или четвертого стихотворения я приложился к термосу. Народ смеялся. Мне было все равно, над чем. Я еще несколько раз приложился к термосу и слегка разомлел. На сей раз никакого перерыва. Я заглянул в боковой телемонитор и увидел, что уже полчаса читаю с висящим посреди лба одним длинным волосом, который загибался кверху над самым носом. Почему-то это меня рассмешило. Потом я зачесал его вбок и вновь приступил к работе. Кажется, все обошлось. Аплодисменты были бурными, хотя и не такими, как в прошлый раз. Да и кому какое дело? Главное – выбраться оттуда живым. Те, у кого были мои книжки, подошли за автографами.
Ага, ага, подумал я, вот и все, на что способно это дерьмо собачье.
Не больше. Я расписался в получении своей сотни долларов и был представлен начальнице кафедры Литературы. Она была воплощением секса. Я решил ее изнасиловать. Она сказала, что попозже могла бы приехать в тот домик – к Бел-форду, – но, послушав мои стихи, она, разумеется, не приехала. Все было кончено. Я возвращался в свой пропахший плесенью двор, возвращался к безумию, но зато к безумию моего пошиба. Бел-форд с приятелем отвезли меня в аэропорт, и мы уселись в баре. Я купил выпивку.
– Странно, – сказал я. – Кажется, я схожу с ума. Я все время слышу свое имя.
Я не ошибся. Когда мы добрались до летного поля, мой самолет уже укатил и как раз поднимался в воздух. Пришлось вернуться и зайти в специальную комнату, где со мной принялся беседовать какой-то тип. Я чувствовал себя школьником.
– Хорошо, – сказал он, – мы отправим вас следующим рейсом. Но на сей раз постарайтесь не опаздывать.
– Благодарю вас, сэр, – сказал я.
Он произнес что-то в телефонную трубку, а я вернулся в бар и заказал еще выпивку.
– Все нормально, – сказал я. – Лечу следующим рейсом.
И тут мне почудилось, что, опоздав на следующий рейс, я опоздаю навечно. И буду вечно ходить к тому типу. С каждым разом все хуже: он будет все больше злиться, а я – все глубже раскаиваться. Такое вполне могло бы случиться. Исчезли бы Белфорд с приятелем. Пришли бы другие. Был бы учрежден небольшой фонд помощи мне…
– Мамуля, а что с папой случилось?
– Он умер за столиком в баре сиэтлского аэро порта, когда пытался не опоздать на самолет в Лос-Анджелес.
Можете не верить, но на второй рейс я все-таки не опоздал. Не успел я сесть, как самолет тронулся с места.
Я не мог ничего понять. Почему это оказалось так трудно? Так или иначе, я был на борту. Я откупорил бутылку. Меня засекла стюардесса. Строго запрещено.
– Вы знаете, сэр, что вас могут высадить? Командир только что объявил, что мы летим на высоте 50 000 футов.
– Мамуля, а что с папой случилось?
– Он был поэтом.
– А что такое поэт, мамуля?
– Он говорил, что не знает. Ну ладно, иди мыть руки, обед на столе.
– Не знает?
– Вот именно, не знает. Ну ладно, я же сказала, иди мыть руки…
Грандиозная дзэнская свадьба
Я сидел сзади, в компании румынского хлеба, ливерной колбасы, пива, прохладительных напитков; с зеленым галстуком на шее – первым галстуком за десять лет, с тех пор как умер отец. Ныне же мне предстояло стать шафером на дзэн-буддистской свадьбе. Холлис вела машину со скоростью 85 миль в час, а четырехфутовая борода Роя, развеваясь, лезла мне прямо в лицо. Это была моя «Комета» шестьдесят второго года, только сесть за руль я не мог: отсутствие страховки, два попадания за езду в пьяном виде и неминуемое новое опьянение. Холлис и Рой три года прожили вместе, не заключая брака, причем Рой жил у Холлис на содержании. Я сидел сзади и посасывал пивко. Рой по порядку описывал мне всех членов Холлисовой семьи. Рою лучше всех давалась интеллектуальная чушь. Или трепотня языком. Стены их квартиры были увешаны фотографиями уставившихся в объектив жующих парней.
Был там и снимок дрочащего Роя в преддверии оргазма. Этот снимок Рой сделал сам. То есть перехитрил камеру. Без посторонней помощи. Бечевка. Провод. Некое приспособление. Рой утверждал, что для получения безупречного снимка ему пришлось дрочить шесть раз подряд. Работенка на целый день. И вот она возникла: эта млечная капелька – произведение искусства. Холлис свернула с автострады. Ехать предстояло недолго. Кое-кто из богатеев имеет подъездные аллеи в милю длиной. С этой дело обстояло попроще – четверть мили. Мы вышли из машины. Тропический сад. Четыре или пять собак. Черные мохнатые зверюги, бестолковые и слюнявые. До двери мы так и не добрались – там, на веранде, со стаканом в руке, глядя на нас свысока, стоял он, богатей. И Рой вскричал:
– Харви, сволочь ты этакая, как я рад тебя видеть!
Харви едва заметно улыбнулся:
– Я тоже рад тебя видеть, Рой.
Одна из черных мохнатых зверюг вцепилась мне в левую ногу.
– Убери своего пса, Харви, сволочь ты этакая, рад тебя видеть! – завопил я.
– Аристотель, немедленно ПРЕКРАТИ!
Аристотель убрался восвояси, как раз вовремя.
Потом.
Мы поднимались и спускались по лестнице, перетаскивая в дом салями, соленых венгерских зубаток, креветок. Хвосты омаров. Глазированные булочки. Рубленые голубиные жопки.
Наконец мы перетащили все. Я сел и схватился за пиво. В галстуке был я один. Кроме того, только я один купил свадебный подарок. Я спрятал его между стеной и ногой, изжеванной Аристотелем.
– Чарльз Буковски… Я встал.
– Ах, Чарльз Буковски!
– Угу. Потом:
– Это Марта.
– Привет, Марта.
– А это Элси.
– Привет, Элси.
– А правда, – спросила она, – что, когда вы напьетесь, вы ломаете мебель, бьете окна и распускаете руки?
– Угу.
– Для этого вы староваты.
– Слушайте, Элси, перестаньте молоть чепуху…
– А это Тина.
– Привет, Тина.
Я сел.
Имена! Я полтора года прожил со своей первой женой. Как-то вечером пришли гости. Я сказал жене: «Это Луи, полудурок, это Мари, Королева Скоростного Отсоса, а это Ник, недоумок». Потом я повернулся к ней и сказал: «Это моя жена… моя жена… это…» Наконец мне пришлось взглянуть на нее и спросить: «А ТЕБЯ-ТО КАК ЗВАТЬ, ЧЕРТ ПОДЕРИ?!»
«Барбара».
«Это Барбара», – сообщил я им…
Дзэн-учитель еще не прибыл. Я сидел и посасывал пивко.
Потом появились новые люди. Они все поднимались и поднимались по лестнице. Все Холлисово семейство. Рой, похоже, семьи не имел. Бедняга Рой. В жизни ни дня не работал. Я взял себе еще пива.
А они все поднимались в дом: бывшие арестанты, шулера, инвалиды, мастера всевозможных темных делишек. Родные и близкие. Целыми толпами. Без свадебных подарков. Без галстуков.
Я забился в свой угол.
Один малый был совсем заебанный. Ему потребовалось двадцать пять минут, чтобы подняться по лестнице. У него были специальные костыли, очень мощные с виду штуковины с круглыми ободками для рук. Там и сям особые зажимы. Резина и алюминий. Деревяшек малыш не признавал. Я напряг воображение: разбавленная водой наркота или денежный долг. Его продырявили пулями, когда он сидел в старом парикмахерском кресле, с горячим и влажным полотенцем на лице. Но смертельных ран ему нанести не сумели.
Были там и другие. Кто-то преподавал в Лос-Анджелесском университете. Кто-то еще плавал в дерьме среди китайских рыболовных суденышек с заходом в порт Сан-Педро.
Я был представлен величайшим убийцам и жуликам нашего века.
Что до меня, то я временно не работал.
Потом подошел Харви.
– Буковски, хотите немного виски с водой?
– Конечно, Харви, конечно.
Мы направились на кухню.
– А галстук зачем?
– У меня на брюках сломана молния. А трусы слишком тесные. Конец галстука прикрывает вонючие волосы прямо над хуем.
– По-моему, вы лучший из современных мастеров короткого рассказа. С вами никто не сравнится.
– Конечно, Харви. Где же виски?
Харви показал мне бутылку шотландского виски.
– Я пью только этот сорт, поскольку вы всегда упоминаете его в своих рассказах.
– Но я уже сменил марку, Харви. Я нашел кое-что получше.
– Как называется?
– Разрази меня гром, если я помню.
Я отыскал высокий стакан и налил туда виски пополам с водой.
– Снимает нервозность, – сказал я ему. – Знаете?
– Конечно, Буковски.
Я залпом выпил до дна.
– Хотите еще?
– Конечно.
Я взял вторую порцию, пошел в комнату и уселся в свой угол. Тем временем опять поднялся шум: Дзэн-учитель уже ПРИБЫЛ!
Дзэн-учитель носил весьма причудливую одежду и все время щурил глаза. А может, они у него от рождения были такие.
Дзэн-учителю понадобились столы. Рой бегал по всему дому в поисках столов.
Между тем Дзэн-учитель был очень спокоен, очень любезен. Я допил виски и отправился за новой порцией. Вернулся.
Вбежал ребенок с золотистыми волосами. Лет одиннадцати.
– Буковски, мне знакомы некоторые ваши рассказы. По-моему, вы самый великий из всех писателей, которых я знаю!
Длинные белокурые локоны. Очки. Стройное тело.
– Отлично, крошка. Ты уже большая. Мы поженимся. Будем жить на твои деньги. Я уже начинаю уставать. Ты можешь попросту выставлять меня напоказ в какой-нибудь стеклянной клетке с вентиляционными отверстиями. Я разрешу тебе спать с мальчишками. Я даже буду смотреть.
– Буковски! Только потому, что у меня длинные волосы, вы решили, что я девчонка! Меня зовут Пол! Нас же знакомили. Вы что, не помните?
Отец Пола, Харви, смотрел на меня. Я увидел его глаза. После чего я понял, что он уже не считает меня таким уж хорошим писателем. Может, даже считает плохим. Ну что ж, вечно притворяться нельзя.
Но мальчишка ничуть не смутился.
– Все нормально, Буковски! Вы все равно величайший писатель из всех, кого я читал. Папа разрешил мне прочесть некоторые ваши рассказы…
И тут погас свет. Именно этого малыш и заслуживал за свою трепотню…
Но всюду были свечи. Все искали свечи – ходили в поисках свечей и зажигали их.
– Черт подери, это пробки. Замените пробки, – сказал я.
Кто-то сказал, что это не пробки, это нечто другое, поэтому я махнул на всех рукой и, пока зажглись все эти свечи, пошел на кухню за новой порцией виски. Черт возьми, там стоял Харви.
– У вас чудесный сынишка, Харви. Ваш мальчик, Питер…
– Пол.
– Извините. Эти библейские имена…
– Понимаю.
(Богатеи все понимают; они только ни черта не делают.)
Харви откупорил новую бутылку. Мы поболтали о Кафке. О Досе. О Тургеневе, Гоголе. Обо всей этой тягомотине. Потом повсюду появились свечи. Дзэн-учитель вознамерился взяться за дело. Еще раньше Рой вручил мне два кольца.
Я пощупал. Они были на месте. Все ждали нас. Я ждал, когда Харви рухнет на пол от такого количества виски. Но ждал я напрасно. Он сумел выпить вдвое больше моего и все еще стоял на ногах. Такое бывает нечасто. Пока зажигались свечи, мы уговорили половину литровой бутылки. Мы вышли к гостям. Я сбагрил кольца Рою. Днями раньше Рой сообщил Дзэн-учителю, что я пьяница… не заслуживаю доверия… либо слабовольный, либо испорченный тип – по этой причине во время церемонии не надо просить у Буковски кольца, ведь Буковски может вообще не прийти. А может и потерять кольца, или сблевать, или потерять Буковски.
Наконец церемония началась. Дзэн-учитель принялся вертеть в руках свою черную книжечку. С виду она казалась не очень толстой. Страниц этак сто пятьдесят.
– Прошу, – сказал Дзэн, – во время церемонии не пить и не курить.
Я осушил свой стакан. Я стоял справа от Роя. Все принялись допивать свое спиртное.
Потом Дзэн-учитель выдавил из себя робкую улыбку.
Христианские церемонии бракосочетания были мне хорошо знакомы по собственному печальному опыту. А дзэн-буддистская церемония очень напоминала христианскую с небольшим добавлением бреда сивой кобылы. В какой-то момент были зажжены три маленькие палочки. У Дзэна их была целая коробка – две или три сотни. После зажжения одну палочку воткнули в центр банки с песком. Это была дзэн-палочка. Роя попросили воткнуть его горящую палочку с одной стороны дзэн-палочки, Холлис попросили воткнуть свою с другой.
Но палочки стояли не совсем правильно. Едва заметно улыбнувшись, Дзэн-учитель придал палочкам новую глубину и величие.
Потом Дзэн-учитель извлек откуда-то коричневые бусы.
Он протянул бусы Рою.
– А теперь? – спросил Рой.
Черт возьми, подумал я, вечно он изучает всякую чепуху. А к собственной свадьбе не мог подготовиться.
Дзэн наклонился вперед и положил правую руку Холлис на левую ладонь Роя. Таким образом бусы охватили обе руки.
– Согласны ли вы…
– Да…
(И это дзэн-буддизм? – подумал я.)
– А вы, Холлис…
– Да…
Тем временем, при свечах, какой-то засранец не меньше сотни раз сфотографировал церемонию. Это действовало мне на нервы. Не исключено, что это был агент ФБР.
Щелк! Щелк! Щелк!
Никакого преступления мы, конечно, не совершали. Но все равно это раздражало, поскольку делалось внаглую.
И тут я обратил внимание на то, как выглядят при свечах уши Дзэн-учителя. Свет струился сквозь них так, как будто они были сделаны из тончайшей туалетной бумаги.
Человека с такими тонкими ушами, как у Дзэн-учителя, я еще никогда не видел. Так вот что сделало его святым! Я должен был заполучить эти уши! Чтобы носить их в бумажнике, приделать коту. Или чтобы держать под подушкой.
Конечно, я знал, что во мне говорит все выпитое виски с водой заодно с выпитым пивом, и все-таки, с другой стороны, я этого вовсе не знал.
Я не мог отвести глаз от ушей Дзэн-учителя.
А между тем звучали новые речи.
– …а вы, Рой, обещаете не употреблять никаких наркотиков во время совместной жизни с Холлис?
Наступила неловкая пауза. Потом они сжали друг другу руки в коричневых бусах.
– Обещаю, – сказал Рой, – не употреблять… Вскоре все было кончено. Или так показалось.
Дзэн-учитель встал во весь рост, изобразив некое подобие улыбки.
Я коснулся плеча Роя:
– Поздравляю.
Потом я нагнулся. Взял Холлис за голову и поцеловал ее в прекрасные губки.
А все так и остались сидеть. Нация полоумных. Никто не пошевелился. Свечи горели как полоумные.
Я подошел к Дзэн-учителю. Пожал ему руку: – Благодарю вас. Вы прекрасно провели церемонию.
Он казался весьма довольным, отчего я почувствовал себя немного лучше. Но все эти бандиты – вся эта мафия из Таммани-холла, – они были слишком глупы и высокомерны, чтобы пожимать руку уроженцу Востока. Лишь один поцеловал Холлис. Лишь один пожал руку Дзэн-учителю. А может, это была вынужденная женитьба? Ну и семейка! Конечно, я бы узнал последним, я был бы последним, кому бы все рассказали.
После окончания церемонии мне показалось, что в комнате очень холодно. Все сидели и глазели друг на друга. Род человеческий для меня всегда оставался загадкой, но ведь кто-то должен был играть роль шута. Я сорвал с шеи зеленый галстук и подбросил его к потолку:
– ЭЙ! ВЫ, ХУЕСОСЫ! РАЗВЕ НИКТО НЕ ГОЛОДЕН?
Я подошел к столу и принялся уплетать сыр, ножки маринованных поросят и куриную пиздятину. Некоторые с трудом оживились, подошли и от нечего делать стали хватать еду.
Я довел их до того, что они превратились в ку-сочников. Потом я удалился и взялся за виски с водой.
Наливая себе на кухне очередную порцию, услышал, как Дзэн-учитель сказал:
– Мне пора.
– Ах, не уходите… – из глубины самого крупного за три года сборища воротил преступного мира до меня донесся визгливый старческий женский голос. К тому же звучал он отнюдь не искренне. Какого черта я с ними связался? А лосанджелесский профессор? Нет, лос-анджелесский профессор был из той же компании.
Требовалось раскаяние. Или нечто подобное. Некий поступок для придания происходящему хоть толики благородства.
Услышав, как Дзэн-учитель закрывает парадную дверь, я осушил полный стакан виски. Потом я пронесся через комнату, битком набитую шушукающимися при свечах ублюдками, отыскал дверь (для чего пришлось как следует потрудиться), открыл ее, закрыл и очутился там… ступеньках в пятнадцати позади мистера Дзэна. Чтобы добраться до стоянки, нам предстояло спуститься еще ступенек на сорок пять или пятьдесят. Я бросился за ним, пошатываясь и шагая через ступеньку. Я крикнул:
– Эй, учитель! Дзэн обернулся:
– Что, старик?
– Старик?
Мы оба остановились и уставились друг на друга на этой винтовой лестнице в освещенном луной тропическом саду. Казалось, настало время наладить более тесные отношения. И тогда я сказал ему:
– Мне нужны либо оба твоих ебучих уха, либо твой ебучий наряд – этот светящийся неоном купальный халат, что на тебе!
– Старик, ты спятил!
– Я думал, у дзэнов хватает мужества не делать бесцеремонных, заведомо очевидных заявлений. Я разочарован в тебе, учитель!
Дзэн сложил ладони домиком и воздел очи горе. Я сказал ему:
– Мне нужны либо твои ебучие уши, либо твой ебучий наряд!
Не разжимая ладоней, он продолжал пялиться в небо.
Я ринулся вниз по лестнице, разом перемахнув через несколько ступенек, но понесся дальше, благодаря чему и не проломил себе башку, а кубарем катясь к его ногам, я попытался развернуться, однако превратился в сгусток кинетической энергии, словно только что сорвался с цепи и потерял управление. Дзэн поймал меня и водрузил на ноги.
– Сын мой, сын мой…
Мы стояли совсем рядом. Я ударил сплеча. Вмазал ему неплохо. Я услышал, как он зашипел. Он отступил на шаг. Я ударил еще раз. Промахнулся. Удар пришелся намного левее. Я упал в какие-то саженцы, завезенные из преисподней. Встал. Вновь двинулся на него. И в лунном свете я узрел фасад собственных брюк – заляпанный кровью, свечным воском, блевотиной.
– Сейчас узнаешь, ублюдок, кто здесь учитель! – уведомил я его, приближаясь.
Он ждал. Благодаря многолетней работе мастером на все руки, мышцы были еще не совсем дряблыми. Вложив в удар все двести тридцать фунтов своего веса, я врезал ему одиночным в живот.
Дзэн издал нечленораздельный звук, еще разок обратил молитвенный взор к небесам, промолвил что-то по-восточному, нанес мне резкий рубящий удар из арсенала каратэ и удалился, а я остался лежать, свернувшись калачиком среди идиотских мексиканских кактусов и кустов, которые, на мой взгляд, явно были растениями-людоедами из непролазных бразильских джунглей. Я отдыхал в лунном свете до тех пор, пока мне не почудилось, что один из лиловых цветков подбирается к моему носу и начинает перекрывать мне дыхание.
Черт возьми, понадобилось не меньше ста пятидесяти лет, чтобы усвоить гарвардский курс античной литературы. Выбора не было: я отделался от цветка и принялся ползком подниматься по лестнице. Наверху я встал на ноги, открыл дверь и вошел. Меня никто не заметил. Они по-прежнему несли всякую ахинею. Я плюхнулся в свой угол. От каратистского удара у меня над левой бровью образовалась открытая рана. Я нашел свой носовой платок.
– Черт подери! Мне необходимо выпить! – воскликнул я.
Подошел Харви со стаканом. Чистое виски. Я осушил стакан. Как вышло, что гул людских голосов оказался таким бессмысленным? Я заметил, что женщина, которую мне представили как мамашу невесты, ныне щедро демонстрирует ножки, причем смотрелись они неплохо – все эти длинные нейлоновые чулки, дорогие туфли на шпильках плюс внизу, у мысков, маленькие драгоценные камушки. Все это возбудило бы и идиота, а я был идиотом только наполовину.
Я встал, подошел к невестиной мамаше, задрал ей юбку до самых бедер, наскоро расцеловал ее прелестные коленки и принялся с поцелуями продвигаться вверх.
– Эй! – Внезапно она встрепенулась. – Ты что делаешь?
– Я тебя насквозь проебу! Буду ебать, пока у тебя из жопы говно не полезет! Хочешь?
Она толкнула меня, и я повалился спиной на ковер. Потом я вытянул ноги и задергался, пытаясь встать.
– Мужеподобная тварь! – заорал я на нее.
Наконец, минуты через три или четыре, мне удалось подняться на ноги. Кто-то рассмеялся. Потом, обнаружив, что ноги меня еще держат, я направился на кухню. Наполнил стакан, осушил его. После чего, наполнив еще один, вышел.
Они были там – все эти проклятущие родственники.
– Рой, Холлис! – сказал я. – Почему вы не разворачиваете свадебный подарок?
– Правда, – сказал Рой, – почему?
Подарок был завернут в сорок пять ярдов оловянной фольги. Рой принялся ее разматывать. Наконец фольга кончилась.
– Желаю счастья в семейной жизни! – воскликнул я.
Это был маленький, ручной работы гробик, изготовленный лучшими мастеровыми Испании. В нем даже имелось розовато-алое войлочное донышко. Он был точной копией настоящего гроба, разве что был сделан с большей любовью.
Рой окинул меня взглядом убийцы, оторвал ярлычок с указаниями по поводу того, как сохранять полировку дерева, бросил его в гробик и закрыл крышку.
Воцарилась полная тишина. Единственный подарок был отвергнут. Но вскоре они взяли себя в руки и вновь принялись нести ахинею.
Я умолк. Я и вправду гордился своим маленьким ларчиком. Я искал подарок часами. Я едва не сошел с ума. Потом я увидел его на полке, в полном одиночестве. Потрогал снаружи, перевернул вверх дном, потом заглянул внутрь. Цена была немалая, но я платил за тонкую, безупречную работу. Дерево. Маленькие петельки. Все прочее. Одновременно мне был нужен пульверизатор с ядом от муравьев. В глубине магазина я отыскал «Черный флаг». Муравьи соорудили под моей входной дверью гнездо. Я понес покупки к прилавку. Там была девчушка, я выложил товар перед ней. Я показал на гробик.
– Знаете, что это такое?
– Что?
– Это гроб!
Я открыл его и показал ей.
– От этих муравьев я скоро рехнусь. Знаете, что я намерен сделать?
– Что?
– Я намерен убить всех муравьев, положить их в этот гроб и похоронить!
Она рассмеялась:
– Вы скрасили мне весь день!
Молодым нынче палец в рот не клади; их поколению нет равных. Я расплатился и вышел из магазина…
Но там, на свадьбе, никто не смеялся. Их осчастливила бы перевязанная красной ленточкой скороварка. Да и то вряд ли.
В конце концов самым доброжелательным из всех оказался богатей Харви. Может быть, потому, что доброжелательность была ему по карману? Потом мне вспомнилось кое-что из моих публичных чтений, кое-что из древних китайцев:
«Кем бы ты хотел стать, богачом или художником?»
«Богачом, потому что художник, похоже, вечно сидит на крылечке у богача».
Я приложился к бутылке, и мне стало на все наплевать. Так или иначе, все как-то незаметно кончилось. Я очутился на заднем сиденье моей машины, Холлис вновь была за рулем, Роева борода опять развевалась и лезла мне прямо в лицо. Я приложился к бутылке.
– Слушайте, вы что, выбросили мою шкатулочку? Вы же знаете, я люблю вас обоих! Зачем вы вы бросили мой гробик?
– Смотри, Буковски! Вот он, твой гробик!
Рой поднес его ко мне поближе, показал его мне.
– Ага, чудненько!
– Хочешь забрать его назад?
– Нет! Нет! Это мой подарок вам! Единственный ваш подарок! Храните его! Прошу вас!
– Хорошо.
Остаток пути мы проделали в полном молчании. Я жил в выходившем на улицу дворе, неподалеку от Голливуда (естественно). Стоянка была тесная. Им с трудом удалось найти место примерно в полуквартале от моего дома. Они поставили машину, отдали мне ключи. Потом я увидел, как они переходят улицу, направляясь к своей машине. Я посмотрел на них, повернулся, чтобы пойти в сторону дома, и, все еще глядя на них и сжимая в руке бутылку с остатками взятого у Харви виски, я зацепился башмаком о брючный отворот и упал. Когда я падал на спину, инстинкт подсказал мне, что первым делом надо спасать остатки чудесного виски, не дать бутылке разбиться о бетон (мамаша с ребенком), и, падая, я попытался удариться плечами, подняв повыше голову и бутылку. Бутылку я спас, но грохнулся затылком о тротуар – ШМЯК!
Они оба стояли и смотрели, как я падаю.
Я был оглушен почти до потери сознания и все-таки сумел крикнуть им через улицу:
– Рой! Холлис! Проводите меня до дома, прошу вас, я сильно ушибся!
Они постояли немного, глядя на меня. Потом они сели в машину, завели мотор, откинулись на спинку сиденья и преспокойненько тронулись в путь.
Со мной рассчитались сполна, но за что? За гробик? Что бы это ни было – вождение моей машины, я сам в роли шута и (или) шафера, – к дальнейшему употреблению я был не годен. Род человеческий я всегда считал омерзительным. Но что делало его особенно мерзким – так это болезнь внутрисемейных уз, в том числе и брак, подмена силы и взаимопомощи, болезнь, которой, точно кожной язве или проказе, подвержены все: сначала ближайший сосед, потом ближайший квартал, район, город, округ, штат, вся страна… каждый в своей ячейке хватается за жопу ближнего, пытаясь выжить в атмосфере животного страха и тупости.
Да, свое я получил сполна, я понял это, когда они бросили меня там, не вняли моей мольбе.
Еще пять минут, подумал я. Если никто не помешает мне полежать здесь еще пять минут, я встану и доберусь до дома, я попаду домой. Я оказался самым последним изгоем. Билли Кид в подметки мне не годился. Еще пять минут. Дайте мне только добраться до моей пещеры. Если они еще хоть раз позовут меня на свое торжество, я сообщу им, куда его стоит засунуть. Пять минут. Это все, что мне нужно.
Мимо шли две женщины. Они обернулись и посмотрели на меня.
– Ой, смотри. Что с ним?
– Он пьян.
– А может, болен?
– Да нет, смотри, как он вцепился в бутылку. Точно это ребенок.
А, черт! Я принялся на них орать:
– Я ВАМ МОЧАЛКИ-ТО ОТСОСУ! НАСУХО ОТСОСУ ОБЕ ВАШИ МОЧАЛКИ, ПИЗДЕНКИ СТАРЫЕ!
Обе вбежали в многоэтажный стеклянный дом. Скрылись за стеклянной дверью. А я лежал на улице, не в силах подняться, – лучший шафер на чьей-то свадьбе. Мне надо было лишь добраться до дома – одолеть тридцать ярдов, так же мало, как три миллиона световых лет. Тридцать ярдов до арендованной парадной двери. Еще две минуты, и я сумел бы встать. Каждая новая попытка подняться придавала мне силы. Любому старому пьянчуге это всегда удается, надо лишь дать ему время. Одна минута. Еще одна минута. Я вполне мог бы встать.
И тут появились они. Частица бессмысленной мировой семейной структуры. Безумцы, едва ли задающие себе вопрос о том, что именно заставляет их поступать так, как они поступают. Подъехав, они оставили гореть свой удвоенной яркости красный свет. Они вышли из машины. У одного был карманный фонарик.
– Буковски, – сказал тот, с фонариком, – похоже, ты вечно напрашиваешься на неприятности, а?
Он откуда-то знал мою фамилию, я ему уже попадался.
– Послушайте, – сказал я, – я просто споткнулся. Ударился головой. Я никогда не теряю рассудка и способности связно мыслить. Я не опасен. Может, проводите меня домой, ребята? Это в тридцати ярдах отсюда. Дайте мне только рухнуть в кровать и проспаться. Право же, вам не кажется, что это был бы поистине благородный поступок?
– Сэр, две дамы сообщили, что вы пытались их изнасиловать.
– Господа, я никогда не сделал бы попытки изнасиловать одновременно двух дам.
Один полицейский все время светил мне в лицо своим идиотским фонариком. Это вселяло в него колоссальное чувство превосходства.
– Всего тридцать ярдов до Свободы. Ну как вы не поймете!
– Ты самый уморительный клоун в городе, Буковски. Только найди себе оправдание посерьезней.
– Ну что ж, давайте подумаем… То, что лежит перед вами, развалившись на мостовой, является конечным продуктом свадьбы, дзэнской свадьбы.
– Ты хочешь сказать, что нашлась женщина, которая и вправду пыталась выйти за тебя замуж?
– Да не за меня, засранец…
Полицейский с фонариком нагнулся и врезал мне фонариком по носу.
– Мы требуем уважения к представителям закона.
– Извините. Я на минутку забылся.
Кровь стекала по шее и капала на рубашку. Я очень устал – от всего на свете.
– Буковски, – спросил тот, который только что употребил фонарик, – почему ты все время напрашиваешься на неприятности?
– Забудьте весь этот бред, – сказал я. – Везите меня в тюрьму.
Они защелкнули наручники и швырнули меня на заднее сиденье. Все та же грустная старая история.
Ехали они медленно, болтая о всевозможных лишенных смысла вещах – к примеру, о том, как бы расширить веранду или бассейн или о дополнительной комнате в глубине дома для бабушки. А потом дело дошло до спорта – они ведь были настоящими мужчинами, – у «Доджеров» оставались шансы, даже при том, что на первое место претендовали еще две или три команды. Все та же семейственность: если выигрывали «Доджеры», выигрывали и они. Если человек совершал посадку на Луну, совершали посадку на Луну и они. Но стоит умирающему с голоду попросить у них монетку – ага, нет документов, уебывай, недоносок. То есть это когда они в штатском. Еще ни один умирающий с голоду никогда не просил монетку у полицейского. Наша репутация безупречна.
Потом меня запустили в обычную мясорубку. После того, как я был в тридцати ярдах от дома. После того, как я был единственным живым человеком в доме, где собралось пятьдесят девять гостей.
И вот я вновь очутился в этой особой длинной очереди из людей, в чем-нибудь да виновных. Те, кто был помоложе, знать не знали, что их ждет. Они впутались в темное дело, называемое КОНСТИТУЦИЕЙ и их основными ПРАВАМИ. Молодые полицейские, как в городской каталажке для пьяных, так и в окружной, проходили обучение на алкашах. Они должны были демонстрировать свои успехи. Пока я смотрел, они посадили одного малого в лифт и принялись возить его вверх и вниз, вверх и вниз, а когда он оттуда выбрался, уже едва ли можно было понять, кто он такой, да и кем он был прежде, – чернокожим, что-то орущим о правах человека. Потом они принялись за белого, крикнувшего что-то о КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВАХ; на него набросились четверо или пятеро, они так крепко его отделали, что он был не в силах ходить, и, когда его приволокли назад, то попросту прислонили к стене, он стоял, а его трясло, все тело было исполосовано багровыми рубцами, он стоял и дрожал крупной дрожью.
Меня снова сфотографировали, уже в который раз. В который раз сняли отпечатки пальцев.
Меня отвели в камеру для пьянчуг, открыли мне дверь. После чего еще нужно было найти местечко на полу, среди ста пятидесяти человек. Одна параша на всех. Всюду блевотина и моча. Я отыскал себе место среди собратьев. Я был Чарльзом Буковски, фигурировавшим в литературных архивах Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Кое-кто там считал меня гением. Я растянулся на досках. Услышал молодой голос. Голос мальчишки.
– Мистер, за четверть доллара могу у вас отсосать!
Полицейские обязаны были отбирать всю мелочь, все купюры, документы, ключи, ножи и так далее, плюс сигареты, после чего вы получали квитанцию. Которую либо теряли, либо продавали, либо у вас ее попросту крали. Но в камере все равно водились деньги и сигареты.
– Извини, паренек, – сказал я ему, – у меня выгребли все до последнего цента.
Четыре часа спустя я ухитрился уснуть.
Там.
Лучший шафер на дзэнской свадьбе. Причем готов биться об заклад, что в ту ночь жених и невеста даже не поеблись. А вот кое-кому это удалось.
Примирение
На Рэмпарт я вышел из автобуса, потом прошел один квартал обратно до Коронадо, взобрался на небольшой пригорок, поднялся по ступенькам к тропинке, дошел по тропинке до входа в мой верхний двор. Довольно долго я стоял у двери, чувствуя, как солнце греет мне руки. Потом отыскал ключ, открыл дверь и начал подниматься по лестнице.
– Кто там? – услышал я голос Мэдж.
Я не ответил. Я медленно топал наверх. Я был очень бледен и немного ослаб.
– Кто там? Кто пришел?
– Не дергайся, Мэдж, это всего лишь я.
Одолев лестницу, я остановился. Мэдж сидела на кушетке, в старом зеленом шелковом платье. В руке она держала стакан портвейна, портвейна с кубиками льда – так, как она любила.
– Малыш! – Она вскочила. Целуя меня, она выглядела обрадованной. – Ах, Гарри, неужто ты и вправду вернулся?
– Может быть. Если сейчас не сдохну. В спальне кто-нибудь есть?
– Не дури! Хочешь выпить?
– Говорят, мне нельзя. Надо есть вареную курицу, яйца всмятку. Мне дали целый список.
– Вот сволочи! Садись. Может, примешь ванну? Съешь что-нибудь?
– Нет, просто посижу.
Я подошел к креслу-качалке и сел.
– Сколько осталось денег? – спросил я ее.
– Пятнадцать долларов.
– Быстро же ты тратишь.
– Я…
– Сколько уплачено за квартиру?
– За две недели. Я не сумела найти работу.
– Знаю. Слушай, а где машина? Что-то я ее там не заметил.
– О господи, новости скверные. Я ее кое-кому одолжила. Они разбили весь передок. Я надеялась, что ее отремонтируют до твоего возвращения. Она в гараже на углу.
– Но машина еще на ходу?
– Да, но я хотела, чтобы отремонтировали передок.
– С помятым передком можно ездить. Главное, чтобы уцелел радиатор и фары были на месте.
– Боже мой! Я же просто хотела все сделать как надо!
– Сейчас вернусь, – сказал я ей.
– Гарри, ты куда?
– Взгляну на машину.
– Может, подождешь до завтра, Гарри? Ты плохо выглядишь. Останься. Давай поговорим.
– Я вернусь. Ты же меня знаешь. Терпеть не могу незаконченных дел.
– Ах, черт возьми, Гарри!
Я начал спускаться по лестнице. Потом поднялся опять.
– Дай мне эти пятнадцать долларов.
– Ах, черт возьми, Гарри!
– Слушай, кто-то должен удерживать этот корабль на плаву. Ты этого делать не будешь, мы с тобой это знаем.
– Видит бог, Гарри, я уже с ума схожу. Пока тебя не было, я каждое утро искала работу. И ни черта не нашла.
– Дай мне эти пятнадцать долларов.
Мэдж взяла свою сумочку и заглянула в нее.
– Слушай, Гарри, оставь мне денег на бутылку вина, эта уже почти пустая. Я хочу отпраздновать твое возвращение.
– Не сомневаюсь, Мэдж.
Порывшись в сумочке, она протянула мне десятку и четыре купюры по одному доллару. Я выхватил сумочку, перевернул и высыпал содержимое на кушетку. Вывалилось все ее дерьмо. Плюс мелочь, маленькая бутылочка портвейна, долларовая купюра и еще одна, пятидолларовая. Мэдж потянулась за пятеркой, но я опередил ее, выпрямился и влепил ей затрещину.
– Ах ты, ублюдок! Как был прижимистым сукиным сыном, так и остался!
– Ага, именно поэтому я и не умер.
– Опять ты меня ударил, я ухожу.
– Ты же знаешь, детка, что мне не нравится тебя бить.
– Ага, меня-то ты бьешь, а мужчину ни за что не ударишь.
– При чем тут это, черт подери?
Я взял пятерку, снова спустился по лестнице. Гараж был за углом. Когда я вошел на стоянку, японец красил новую решетку в серебристый цвет. Я остановился рядом.
– Господи, да у вас выйдет похлеще Рембрандта, – сказал я ему.
– Это ваша машина, мистер?
– Ага. Сколько с меня?
– Семьдесят пять долларов.
– Что?
– Семьдесят пять долларов. Ее сюда пригнала дама.
– Ее сюда пригнала шлюха. А теперь слушайте. На семьдесят пять долларов вся машина не тянула. И до сих пор не тянет. Вы же эту решетку за пятерку на свалке купили.
– Слушайте, мистер, дама сказала…
– Кто?
– Ну, та женщина…
– Я за нее не отвечаю, старина. Я только что вышел из больницы. Так вот, я заплачу вам сколько смогу и когда смогу, но пока что я не работаю, а чтобы устроиться на работу, мне нужна эта машина. Она нужна мне прямо сейчас. Если устроюсь на работу, смогу расплатиться. Если не устроюсь, не смогу. Но если вы мне не верите, вам придется оставить машину у себя. Я отдам вам права. Вы знаете, где я живу. Если хотите, я схожу домой и принесу их.
– Сколько вы можете дать мне сейчас?
– Пятерку.
– Маловато.
– Я же сказал, что только что вышел из больницы. Как найду работу, смогу расплатиться. Либо такой вариант, либо машина остается у вас.
– Ладно, – сказал он, – я вам верю. Давайте свою пятерку.
– Вы даже не представляете, как много мне пришлось потрудиться за эти пять долларов.
– Что вы имеете в виду?
– А, пустяки.
Он взял пятерку, а я взял машину. Она завелась. В ней даже оказалось полбака бензина. Ни масло, ни вода меня не волновали. Пару раз я объехал квартал, чтобы вновь почувствовать себя уверенно за рулем. Уверенность пришла. Потом я подъехал к винному магазину.
– Гарри! – сказал старикан в грязном белом переднике.
– Ах, Гарри! – сказала его жена.
– Где ты пропадал? – спросил старикан в грязном белом переднике.
– В Аризоне. Проворачивал одну земельную сделку.
– Видишь, Сол, – сказала старушенция, – я всегда говорила, что он парень толковый. Котелок у него явно варит.
– Так вот, – сказал я, – мне нужны две шестерные упаковки бутылочного «Миллера», в долг.
– Нет, подожди минутку, – сказал старикан.
– В чем дело? Я что, не всегда отдаю долги? Что за чушь?
– Да нет, Гарри, к тебе никаких претензий. Все дело в ней. Она задолжала уже… сейчас посмотрю… тринадцать семьдесят пять.