Читать онлайн Отсрочка бесплатно
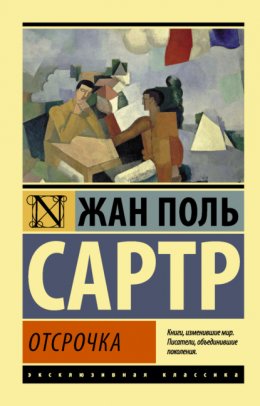
Jean-Paul Sartre
LE SURSIS (LES СHEMINS DE LA LIBERTE II)
Перевод с французского Д. Вальяно, Л. Григорьяна
Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.
© Editions Gallimard, Paris, 1945
© Перевод. Л. Григорьян, наследники, 2015
© Перевод. Д. Вальяно, наследники, 2015
© Издание на русском языке АSТ Publishers, 2017
Пятница, 23 сентября
Шестнадцать тридцать в Берлине, пятнадцать тридцать в Лондоне. Отель скучал на своем холме, пустынный и торжественный, со стариком внутри. В Ангулеме, Марселе, Генте, Дувре думали: «Чем он там занят? Ведь уже четвертый час, почему он не выходит?» Старик сидел в гостиной с полузакрытыми жалюзи, взгляд его под густыми бровями был неподвижен, рот полуоткрыт, как будто он вспоминал о чем-то стародавнем. Старик больше не читал, его дряхлая пятнистая рука, еще держащая листки, повисла вдоль колен. Он повернулся к Горацию Вильсону и спросил: «Который час?», и тот сказал: «Приблизительно половина пятого». Старик поднял большие глаза, добродушно засмеялся и сказал: «Жарко». Рыжая, потрескивающая, усыпанная блестками жара спустилась на Европу; жара была у людей на руках, в глубине глаз, в легких; измученные пеклом, пылью, тревогой, все ждали. В холле отеля ждали журналисты. Во дворе ждали три шофера, неподвижно сидя за рулем своих машин; по другую сторону Рейна неподвижно ждали в холле отеля «Дрезен» долговязые пруссаки, одетые во все черное. Милан Глинка больше ничего не ждал. Не ждал с позавчерашнего дня. Позади был этот тяжелый черный день, пронзенный молниеносной догадкой: «Они нас бросили!» Потом время снова начало течь как попало, нынешних дней как бы не было. Они стали только завтрашним днем, остались только завтрашние дни.
В пятнадцать тридцать Матье еще ждал на кромке устрашающего будущего; одновременно с ним, начиная с шестнадцати тридцати, Милан лишился будущего. Старик встал и благородным подпрыгивающим шагом с негнущимися коленями пересек комнату. Он сказал «Господа!» и приветливо улыбнулся, потом положил документ на стол и пригладил листки кулаком; Милан стоял у стола; развернутая газета покрывала всю ширину клеенки; он прочел в седьмой раз:
«Президенту республики и правительству ничего не оставалось, как принять предложения двух великих держав по поводу будущего положения. Мы вынуждены были смириться, ибо остались в одиночестве». Невилл Гендерсон и Гораций Вильсон подошли к столу, старик повернулся к ним, у него был беззащитный и обреченный вид, он сказал: «Больше ничего не осталось». Смутный шум проникал через окно, и Милан подумал: «Мы остались одни».
Тонкий мышиный голосок пискнул на улице: «Да здравствует фюрер!»
Милан подбежал к окну: «Ну-ка подожди! – закричал он. – Подожди, пока я выйду!»
За окном кто-то улепетывал, шлепая галошами; в конце улицы мальчишка обернулся, порылся в переднике и поднял руку, размахиваясь. Потом послышались два резких удара в стену.
– Маленький бродячий Либкнехт, – усмехнувшись, сказал Милан.
Он высунулся в окно: улица была пустынной, как по воскресеньям. Шёнхофы на своем балконе вывесили красно-белые флаги со свастикой. Все ставни зеленого дома были закрыты. Милан подумал: «А у нас нет ставен».
– Нужно открыть все окна, – сказал он.
– Зачем? – спросила Анна.
– Когда окна закрыты, то бьют стекла.
Анна пожала плечами:
– Как бы то ни было… – начала она.
Их пение и вопли доносились невнятными волнами.
– Эти всегда тут как тут, – сказал Милан.
Он положил руки на подоконник и подумал: «Все кончено». На углу улицы появился тучный мужчина. Он нес рюкзак, тяжело опираясь на палку. У него был усталый вид, за ним шли две женщины, сгибаясь под огромными тюками.
– Егершмитты возвращаются, – не оборачиваясь, сказал Милан.
Они бежали в понедельник вечером и, видимо, пересекли границу в ночь со вторника на среду. Теперь они возвращались с высоко поднятой головой. Егершмитт подошел к зеленому дому и поднялся по ступенькам крыльца. На сером от пыли лице играла странная улыбка. Он стал рыться в карманах куртки и извлек ключ. Женщины поставили тюки на землю и следили за его движениями.
– Возвращаешься, как только опасность миновала! – крикнул ему Милан.
Анна живо остановила его:
– Милан!
Егершмитт поднял голову. Он увидел Милана, и глаза его сверкнули.
– Возвращаешься, как только опасность миновала?
– Да, возвращаюсь! – крикнул Егершмитт. – А вот ты теперь уйдешь!
Он повернул ключ в замке и толкнул дверь; женщины пошли за ним. Милан обернулся.
– Подлые трусы! – буркнул он.
– Не надо их провоцировать, – сказала Анна.
– Это трусы, – повторил Милан. – Подлое немецкое отродье. Еще два года назад они нам сапоги лизали.
– Не важно. Не стоит их провоцировать.
Старик кончил говорить; его рот оставался полуоткрытым, как будто он молча продолжал излагать свои суждения по поводу сложившейся ситуации. Его большие круглые глаза наполнились слезами, он поднял брови и вопросительно посмотрел на Горация и Невилла. Те молчали. Гораций резко отвернулся; Невилл подошел к столу, взял документ, некоторое время рассматривал его, а затем недовольно оттолкнул. У старика был сконфуженный вид; в знак бессилия и чистосердечности он развел руками и в пятый раз сказал: «Я оказался в совершенно неожиданной ситуации; я надеялся, что мы спокойно обсудим имевшиеся у меня предложения». Гораций подумал: «Хитрая лиса! Откуда у него этот тон доброго дедушки?» Он сказал: «Хорошо, ваше превосходительство, через десять минут мы будем в отеле «Дрезен».
– Приехала Лерхен, – сказала Анна. – Ее муж в Праге; она беспокоится.
– Пусть она придет.
– Ты считаешь, что ей будет спокойнее с таким сумасшедшим, оскорбляющим людей из окна, как ты… – усмехнулась Анна.
Он посмотрел на ее тонкое спокойное осунувшееся лицо, на ее узкие плечи и огромный живот.
– Сядь, – сказал он. – Не люблю, когда ты стоишь.
Она села, сложив на животе руки; человечек потрясал газетами, бормоча: «Последний выпуск «Пари-суар». Покупайте, осталось два экземпляра!» Он так кричал, что осип. Морис купил газету. Он прочел: «Премьер-министр Чемберлен направил рейхсканцлеру Гитлеру письмо, на которое, как предполагают в британских кругах, последний должен ответить. Вследствие этого встреча с господином Гитлером, назначенная на сегодняшнее утро, перенесена на более позднее время».
Зезетта смотрела в газету через плечо Мориса. Она спросила:
– Есть новости?
– Нет. Все одно и то же.
Он перевернул страницу, и они увидели темную фотографию, изображавшую что-то вроде замка: средневековая штуковина на вершине холма, с башнями, колоколами и множеством окон.
– Это Годесберг, – сказал Морис.
– Это там находится Чемберлен? – спросила Зезетта.
– Кажется, туда послали полицейское подкрепление.
– Да, – сказал Милан. – Двух полицейских. Итого шесть. Они забаррикадировались в участке.
В комнате опрокинулась целая тележка криков. Анна вздрогнула; но лицо ее оставалось спокойным.
– А если позвонить? – предложила она.
– Позвонить?
– Да. В Присекнице.
Милан, не отвечая, показал ей на газету:
«Согласно телеграмме Германского информационного агентства, датированной четвергом, немецкое население Судетской области занято наведением порядка, включая вопросы, связанные с употреблением немецкого и чешского языков».
– Может, это неправда, – сказала Анна. – Мне сказали, что такое происходит только в Эгере.
Милан стукнул кулаком по столу:
– Сто чертей! И еще просить о помощи!
Он протянул руки, огромные и узловатые, в коричневых пятнах и шрамах – вплоть до того несчастного случая он был лесорубом. Милан смотрел на руки, растопырив пальцы. Он сказал:
– Они могут заявиться. По двое, по трое. Ну ничего, посмеемся минут пять, и все.
– Они будут появляться человек по шестьсот, – сказала Анна.
Милан опустил голову, он почувствовал себя одиноким.
– Послушай! – сказала Анна.
Милан прислушался: теперь шум доносился более отчетливо, должно быть, они двинулись в путь. Он в бешенстве задрожал; перед глазами все плыло, голова болела. Тяжело дыша, он подошел к комоду.
– Что ты делаешь? – спросила Анна.
Милан склонился над ящиком, прерывисто дыша. Склонившись еще ниже, он, не отвечая, выругался.
– Не надо, – сказала она.
– Что?
– Не надо. Дай его мне.
Он обернулся: Анна встала, она опиралась на стул, у нее был вид праведницы. Милан подумал о ее животе; он протянул ей револьвер.
– Хорошо, – сказал он. – Я позвоню в Присекнице.
Он спустился на первый этаж в школьный зал, открыл окна, потом снял трубку.
– Соедините с префектурой в Присекнице. Алло?
Его правое ухо слышало сухое прерывистое потрескивание. А левое – их. Одетта смущенно засмеялась. «Никогда точно не знала, где эта самая Чехословакия», – сказала она, погружая пальцы в песок. Через некоторое время раздался щелчок:
– Да? – произнес голос.
Милан подумал: «Я прошу помощи!» Он изо всех сил стиснул трубку.
– Говорит Правниц, – сказал он, – я учитель. Нас двадцать чехов и еще три немецких демократа, они прячутся в погребе, остальные в Генлейне; их окружили пятьдесят членов Свободного корпуса, которые вчера вечером перешли границу, они согнали их на площадь. Мэр с ними.
Наступило молчание, потом голос нагло произнес:
– Bitte! Deutsch sprechen[1].
– Schweinеkopf![2] – крикнул Милан.
Милан повесил трубку и, хромая, поднялся по лестнице. У него болела нога. Он вошел в комнату и сел.
– Они уже там, – сказал он.
Анна подошла к нему и положила руки ему на плечи:
– Любовь моя.
– Мерзавцы! – прорычал Милан. – Они все понимали, они смеялись на том конце провода.
Он привлек ее, поставив меж колен. Ее огромный живот касался его живота.
– Теперь мы совсем одни, – сказал он.
– Не могу в это поверить.
Он медленно поднял голову и посмотрел на нее снизу вверх: она была серьезная и прилежная в деле, но у нее, как и у всех женщин, было все то же в крови: ей всегда нужно было кому-то доверять.
– Вот они! – сказала Анна.
Голоса слышались совсем близко: должно быть, они уже были на главной улице. Издалека радостные клики толпы походили на крики ужаса.
– Дверь забаррикадирована?
– Да, – сказал Милан. – Но они могут влезть в окна или обойти дом через сад.
– Если они поднимутся сюда… – сказала Анна.
– Тебе не нужно бояться. Они могут все разметать, я не пошевелю и пальцем.
Вдруг он почувствовал теплые губы Анны на своей щеке.
– Любовь моя, я знаю, что ты это сделаешь ради меня.
– Не ради тебя. Ты – это я. Это ради малыша.
Они вздрогнули: в дверь позвонили.
– Не подходи к окну! – крикнула Анна.
Он встал и направился к окну. Егершмитты открыли все ставни; над их дверью висел нацистский флаг. Нагнувшись, он увидел крошечную тень.
– Спускаюсь! – крикнул он.
Он пересек комнату.
– Это Марика, – сказал он.
Он спустился по лестнице и пошел открывать. Грохот петард, крики, музыка над крышами: праздничный день. Он посмотрел на пустынную улицу, и сердце его сжалось.
– Зачем ты пришла сюда? – спросил он. – Уроков не будет.
– Меня послала мама, – сказала Марика. Она держала корзиночку, в ней были яблоки и бутерброды с маргарином.
– Твоя мать с ума сошла. Сейчас же возвращайся домой.
– Она просит, чтобы вы меня не отсылали.
Марика протянула вчетверо сложенный листок. Он развернул его и прочел: «Отец и Георг совсем потеряли голову. Прошу вас оставить Марику до вечера у себя».
– Где твой отец? – спросил Милан.
– Они с Георгом стали за дверью. У них топоры и ружья. – Она серьезно добавила: – Мама провела меня через двор, она говорит, что с вами мне будет лучше, потому что вы человек благоразумный.
– Да, – сказал Милан. – Это верно. Я человек благоразумный. Заходи.
Семнадцать тридцать в Берлине, шестнадцать тридцать в Париже. Легкая растерянность на севере Шотландии. Господин фон Дернберг появился на лестнице «Гранд-отеля», журналисты окружили его, Пьерриль спросил: «Он выйдет?» Господин фон Дернберг держал в правой руке бумагу, он поднял левую руку и сказал: «Еще не решено, встретится ли сегодня вечером господин Чемберлен с фюрером».
– Это здесь, – проговорила Зезетта. – Здесь я продавала цветы с маленькой зеленой тележки.
– Я знаю, ты старалась, – сказал Морис.
Он послушно смотрел на тротуар и мостовую, они ведь для этого сюда и пришли. Но все это ни о чем ему не говорило. Зезетта выпустила его руку и тихо смеялась, глядя на пробегающие машины. Морис спросил:
– Ты сидела на стуле?
– Иногда. На складном, – ответила Зезетта.
– Наверно, нелегко было.
– Весной тут славно, – сказала Зезетта.
Она говорила с ним вполголоса, не оборачиваясь, как говорят в комнате больного; уже некоторое время она манерно двигала плечами и спиной, выглядела она ненатурально. Морис томился скукой; у витрины было по меньшей мере двадцать человек, он подошел и стал смотреть поверх их голов. Возбужденная Зезетта осталась на краю тротуара; вскоре она присоединилась к нему и взяла за руку… На граненой стеклянной пластинке было два куска красной кожи с красным украшением вокруг, похожим на пуховку для пудры. Морис засмеялся.
– Ты веселишься? – прошептала Зезетта.
– Туфли смешные, – сказал Морис.
На него стали оборачиваться. Зезетта шикнула на Мориса и увела его.
– А что такого? – удивился Морис. – Мы же не на мессе.
Но все же он понизил голос: люди, крадучись, шли гуськом, казалось, они друг с другом знакомы, но никто не разговаривал.
– Я уже лет пять сюда не приходил, – прошептал он.
Зезетта с гордостью показала на ресторан «Максим».
– Это «Максим», – прошептала она ему на ухо.
Морис посмотрел на ресторан и быстро отвернулся: ему о нем рассказывали, это была мерзость, в 1914 году здесь буржуа пили шампанское, в то время как рабочие погибали. Он процедил сквозь зубы:
– Подонки!
Но он чувствовал себя смущенным, сам не зная почему. Он неторопливо шагал, чуть раскачиваясь; люди казались ему хрупкими, и он опасался их толкнуть.
– Возможно, – сказала Зезетта, – но все равно красивая улица, правда?
– Я от нее не в восторге, – буркнул Морис. – Ничего особенного.
Зезетта пожала плечами, и Морис стал думать о бульваре Сент-Уан. Когда он утром уходил из гостиницы, его обгоняли, посвистывая, какие-то люди с рюкзаками за спиной, склонившись над рулем велосипедов. Они чувствовали себя счастливыми: одни остановились в Сен-Дени, другие продолжали свой путь, все шли в одном направлении – рабочий класс действовал. Морис сказал Зезетте:
– Здесь мы в краю буржуа.
Они сделали несколько шагов среди запаха ароматизированного табака, потом Морис остановился и перед кем-то извинился.
– Что ты сказал? – спросила Зезетта.
– Ничего, – смущенно ответил Морис.
Он толкнул еще кого-то; все остальные преспокойно шли, опустив глаза, все равно им удавалось в последний момент разминуться, вероятно, в силу привычки.
– Ты идешь?
Но ему больше не хотелось продолжать путь, он боялся что-нибудь разбить, и потом, эта улица никуда не вела, она не имела направления, одни прохожие шли к Бульварам, другие спускались к Сене, третьи уткнулись носом в витрины, это были отдельные водовороты, а не совместное движение, здесь как нигде чувствуешь себя одиноким. Морис протянул руку и положил ее на плечо Зезетты, стиснув сквозь ткань упругую плоть. Зезетта ему улыбнулась, она была довольна, со светским видом она жадно поглядывала окрест, мило вертела маленькими ягодицами. Он пощекотал ей шею, она захихикала.
– Морис, – сказала она, – хватит!
Он любил яркие краски, которые она накладывала себе на лицо: белую, похожую на сахар, и красивые красные румяна. Вблизи от нее пахло вафлями. Он тихо спросил у нее:
– Тебе нравится?
– Я узнаю тут все, – сказала Зезетта, блестя глазами.
Он отпустил ее плечо, и они снова пошли молча: она знала этих буржуа, они покупали у нее цветы, она им улыбалась, были и такие, кто пытался ее пощупать. Морис посмотрел на ее белую шею, и ему стало не по себе: хотелось смеяться и злиться одновременно.
– «Пари-суар»! – выкрикнул голос.
– Купим? – спросила Зезетта.
– Это тот же номер.
Люди окружили продавца и молча расхватывали газеты. Из толпы вышла женщина на высоких каблуках и в громоздкой умопомрачительной шляпке. Она развернула газету и на ходу стала читать. Лицо ее сразу осунулось, она издала глубокий вздох.
– Посмотри на нее, – сказал Морис.
Зезетта взглянула и сказала:
– Наверное, ее муж уходит.
Морис пожал плечами: казалось нелепым, что можно быть действительно несчастной в такой шляпке и в таких туфлях – как у проститутки.
– Ну и что? – сказал он. – Видать, ее муж офицер.
– Даже если и офицер, – сказала Зезетта, – его могут там прикончить, как и наших товарищей.
Морис покосился на нее:
– Сдохнуть можно с твоими офицерами. Посмотрела бы ты на них в четырнадцатом году, кого из них там прикончили?
– Может, и нет, – сказала Зезетта. – Но я думала, и среди них было много убитых.
– Убивали крестьян и таких, как мы, – ответил Морис.
Зезетта прижалась к нему:
– Морис, ты действительно думаешь, что будет война?
– Откуда мне знать? – сказал Морис.
Еще утром он был в этом уверен, и его товарищи были уверены в том же. Они бродили по берегу Сены, смотрели на вереницу подъемных кранов и землечерпалку, там были парни без пиджаков, крепыши из Женневилье, рывшие траншею для электрокабеля, и было очевидно, что скоро разразится война. В конечном счете для этих парней из Женневилье мало что изменится: они будут рыть траншеи где-нибудь на севере, под палящей жарой, под свист пуль, снарядов, гранат, как и сегодня, им грозят обвалы, падения и все прочее, сопутствующее их работе, они будут ждать конца войны, как ждали конца своей нищеты. Сандр тогда сказал: «Мы пойдем на войну, ребята. Но когда вернемся, оставим винтовки у себя».
Теперь он был больше не уверен ни в чем: в Сент-Уане война была безотлучно, но не здесь. Здесь был мир: витрины, предметы роскоши, яркие ткани, зеркала, чтобы смотреться в них, разнообразный комфорт. У людей был грустный вид, но это у них с рождения. За что они будут сражаться? Они ничего не ждут, у них все есть. В этом было что-то зловещее – ни на что не надеяться, а только ждать, чтобы жизнь бесконечно текла, как это было с самого начала.
– Буржуазия не хочет войны, – вдруг сказал Морис. – Она боится победы, потому что это будет победа пролетариата.
Старик встал и проводил Невилла Гендерсона и Горация Вильсона до дверей. Он растроганно посмотрел на них, в эту минуту он был похож на тех стариков с изнуренными лицами, которые окружали продавца газет на улице Руаяль и газетные киоски на улице Пелл-Мелл и ничего больше не желали, кроме как конца своей жизни. Думая об этих стариках, о детях этих стариков, он сказал:
– Помимо всего прочего, вы спросите у господина фон Риббентропа, считает ли рейхсканцлер Гитлер нужным, чтобы у нас состоялась завершающая беседа перед моим отъездом, и обратите его внимание на то, что наше принципиальное согласие предусматривает для господина Гитлера необходимость ставить нас в известность о своих предложениях. Особо подчеркните мою решимость сделать все, что в человеческих силах, чтобы урегулировать спор путем переговоров, ибо мне кажется недопустимым, чтобы народы Европы, не желающие войны, были втянуты в кровавый конфликт из-за вопроса, по которому согласие в основном достигнуто. Удачи.
Гораций и Невилл поклонились, они спустились по лестнице, и церемонный, боязливый, надтреснутый интеллигентный голос еще звучал у них в ушах, Морис смотрел на нежную, дряхлую, цивилизованную плоть стариков и женщин и с отвращением думал, что нужно будет пустить им кровь.
Нужно будет пустить им кровь, это будет более отвратительно, чем раздавить улитку, но это необходимо. Пулеметы обстреляют продольным огнем улицу Руаяль, затем на несколько дней она останется в запустении: разбитые окна, звездчатые отверстия в стеклах, опрокинутые столики на террасах кафе среди осколков стекла; самолеты будут кружить в небе над трупами. Потом уберут мертвых, поставят на место столики, вставят стекла, и возобновится жизнь, крепкие люди с мощными красными затылками в кожаных тужурках и фуражках вновь заполнят улицу. Во всяком случае, так было в России, Морис видел фотографии Невского проспекта; пролетарии завладели этим роскошным проспектом; они прогуливались по нему, и их больше не ошеломляли дворцы и большие каменные мосты.
– Простите, – смущенно извинился Морис.
Он сильно толкнул локтем в спину старую даму, которая возмущенно посмотрела на него. Он почувствовал себя усталым и обескураженным: под большими рекламными стендами, под золотыми почерневшими буквами, прикрепленными к балкону, среди кондитерских и обувных магазинов, перед колоннами церкви Св. Магдалины можно было представить только такую толпу со множеством семенящих старых дам и детей в матросских костюмчиках. Грустный золотистый свет, запах бензина, громоздкие здания, медовые голоса, тревожные и сонные лица, безнадежное шуршание подошв по асфальту – все шло вперемёт, все было реальным, а Революция была всего лишь мечтой. «Я не должен был сюда приходить, – подумал Морис, зло посмотрев на Зезетту. – Место пролетария не здесь». Чья-то рука коснулась его плеча; он покраснел от удовольствия, узнав Брюне.
– Здорово, паренек, – улыбаясь, сказал Брюне.
– Привет, товарищ, – откликнулся Морис.
Рукопожатие мозолистой руки Брюне было крепким, и Морис ответил ему таким же. Он посмотрел на Брюне и радостно засмеялся. Он чувствовал себя пробудившимся от спячки, он ощутил всюду вокруг себя товарищей: в Сент-Уане, в Иври, в Монтрейе, даже в Париже – в Белльвиле, в Монруже, в Ла-Вилетте; они прижимались друг к другу локтями и готовились к тяжелым испытаниям.
– Что ты здесь делаешь? – спросил Брюне. – Ты безработный?
– Просто у меня оплаченный отпуск, – объяснил, немного смутившись, Морис. – Зезетта захотела сюда прийти, она здесь когда-то работала.
– А вот и Зезетта, – сказал Брюне. – Привет, товарищ Зезетта.
– Это Брюне, – сказал Морис. – Ты сегодня утром читала его статью в «Юманите».
Зезетта открыто посмотрела на Брюне и протянула ему руку. Она не боялась мужчин, будь то буржуа или ответственные товарищи из партии.
– Я его знал, когда он был вот такой, – сказал Брюне, показывая на Мориса, – он был в «Красных соколах», в хоровом кружке, я в жизни не слышал, чтобы кто-нибудь так же фальшиво пел. В конце концов договорились, что во время демонстраций он будет только рот открывать.
Они засмеялись.
– Так что? – спросила Зезетта. – Будет война? Вы-то должны знать, вы занимаете такое высокое положение.
Это был по-женски глупый вопрос, но Морис был ей благодарен за то, что она его задала. Брюне посерьезнел.
– Не знаю, будет ли война, – сказал он. – Но ее не нужно бояться: рабочий класс должен знать, что ее не избежать, идя на уступки.
Он говорил хорошо. Зезетта подняла на него полные доверия глаза, она нежно улыбалась, слушая его. Морис разозлился: Брюне изъяснялся газетным языком, и он не говорил больше того, о чем пишут в газетах.
– Вы считаете, что Гитлер сдрейфит, если ему дадут острастку? – спросила Зезетта.
Брюне стал официальным, казалось, он не понимал, что у него спрашивают его личное мнение.
– Вполне возможно, – сказал он. – Но что бы ни произошло, СССР с нами.
«Конечно, – подумал Морис, – партийные шишки не станут снисходить до того, чтобы сообщить свое мнение какому-то механику из Сент-Уана». И все-таки он был разочарован. Он посмотрел на Брюне, и радость его совсем угасла: у Брюне были сильные крестьянские руки, тяжелая челюсть, глаза умного, уверенного человека; но у него были белый воротничок и галстук, фланелевый костюм, и он не так уж выделялся среди буржуа.
Темная витрина отражала их силуэты: Морис увидел женщину без шляпки и высокого детину в куртке и в заломленной фуражке, ведущего беседу с респектабельным господином. Однако он продолжал стоять, засунув руки в карманы, и не решался покинуть Брюне.
– Ты по-прежнему в Сен-Манде? – спросил Брюне.
– Нет, – ответил Морис, – в Сент-Уане. Работаю у Флева.
– Да? Я думал, что ты в Сен-Манде! Слесарем?
– Механиком.
– Хорошо, – сказал Брюне. – Хорошо, хорошо, хорошо. Что ж!.. Привет, товарищ.
– Привет, товарищ, – отозвался Морис, он чувствовал себя неловко и был несколько разочарован.
– Привет, товарищ, – широко улыбаясь, сказала Зезетта.
Брюне смотрел, как они уходили. Толпа поглотила их, но огромные плечи Мориса высились над шляпами. Видимо, он держал Зезетту за талию: его фуражка касалась ее прически, и они раскачивались – голова к голове – среди прохожих. «Славный паренек, – подумал Брюне. – Но мне не нравится его шлюха». Он продолжал свой путь, он был серьезен, но его слегка мучили угрызения совести. «Что я мог ей ответить?» – подумал он. В Сен-Дени, в Сент-Уане, в Сошо, в Крезо ждали сотни тысяч людей с таким же тревожным и доверчивым взглядом. Сотни тысяч лиц, похожих на это, добрые, округлые и грубоватые лица, неловко скроенные, лица грубой заточки, настоящие мужские лица, обращенные на восток, к Годесбергу, к Праге, к Москве. И что можно им ответить? Защитить их: сейчас это все, что можно для них сделать. Защитить их вязкую и медлительную мысль от негодяев, которые пытаются сбить ее с пути. Сегодня мамаша Боненг, завтра Доттен, секретарь профсоюза учителей, послезавтра пивертисты[3] – таков его жребий; он пойдет от одних к другим, он попытается заставить их замолчать. Мамаша Боненг будет мягко смотреть на него, она ему будет говорить об «ужасе кровопролития», размахивая идеалистическими руками. Толстая женщина лет пятидесяти: белый пушок на щеках, короткие волосы и мягкий взгляд священника за очками; она носила мужской пиджак с орденской лентой Почетного легиона. «Я ей скажу: женщины должны попридержать языки; в четырнадцатом году они заталкивали своих мужей в вагоны, тогда как нужно было лечь на рельсы и не дать тронуться поезду, а сегодня, когда есть смысл сражаться, вы образуете лиги за мир, вы делаете все, чтобы уничтожить в людях чувство долга». Перед ним вновь предстало лицо Мориса, и Брюне с раздражением передернул плечами: «Одно слово, одно-единственное слово иногда им открывает глаза, а я не смог его найти». Он с обидой подумал: «Все из-за его девки, они умеют задавать дурацкие вопросы». Нарумяненные щеки Зезетты, ее похабные глаза, ее отвратительные духи; такие бабы пойдут повсюду собирать подписи, эти упорные и кроткие, тучные радикальные голубки, еврейки-троцкистки, оппозиционерки из разных фракций, они будут соваться повсюду с дьявольским нахальством, они набросятся на старую крестьянку, доящую корову, прижмут к ее широкой влажной ладони ручку: «Подпишите, если вы против войны». Необходимы переговоры. Мир прежде всего. Нет войне. А что сделает Зезетта, если ей вдруг протянут ручку? Сохранила ли она классовую закваску в достаточной мере, чтобы рассмеяться в лицо этим толстым доброжелательным дамам? Она потащила Мориса в фешенебельные кварталы. Она возбужденно смотрит на витрины, накладывает на щеки густой слой румян… Бедный паренек, будет некрасиво, если она повиснет у него на шее и не даст ему уехать; им этого не нужно… Интеллектуал. Буржуа. «Она мне противна, потому что у нее штукатурка на лице и обгрызенные ногти». Однако не каждый товарищ может быть холостяком. Брюне почувствовал себя усталым и отяжелевшим, он подумал: «Я порицаю ее за то, что она мажется, потому что не люблю дешевую косметику». Интеллектуал. Буржуа. Надо любить их. Надо любить их всех, каждого и каждую без различия. Он подумал: «Я не должен даже хотеть их любить, это должно происходить само собой, естественно, как дыхание». Интеллектуал. Буржуа. Раз и навсегда обособленный. «Напрасно я буду стараться, у нас никогда не будет общих воспоминаний». Жозеф Мерсье, тридцати трех лет, с врожденным сифилисом, преподаватель естественной истории в лицее Бюффон и в коллеже Севинье, поднимался по улице Руаяль, шмыгая носом и периодически кривя рот и влажно причмокивая; его не оставляла боль в левом боку, он чувствовал себя несчастным и временами думал: «Заплатят ли жалованье мобилизованным служащим?» Он смотрел себе под ноги, чтобы не видеть все эти беспощадные лица, он случайно толкнул высокого рыжего человека в сером фланелевом костюме, который отшвырнул его к витрине; Жозеф Мерсье поднял глаза и подумал: «Какой шкаф!» Это и в самом деле был шкаф, целая стена, один из тех типов, бесчувственных и жестоких животных, вроде здоровяка Шамерлье, преподавателя арифметики, который насмехался над ним при учениках, один из тех типов, которые никогда не сомневаются ни в себе самих, ни в чем-то еще, никогда не болеют, у них нет нервных тиков, они хапают жизнь и женщин загребущими руками и идут прямиком к своей цели, отшвыривая других к витрине. Улица Руаяль плавно текла к Сене, и Брюне тек вместе с ней, кто-то его толкнул, он увидел, как удирает тощая личинка с провалившимся носом, в котелке и с большим пристежным, словно фарфоровым, воротничком, он подумал о Зезетте и Морисе и вновь ощутил застарелую привычную тревогу, стыд перед этими неискупимыми воспоминаниями: белый дом на берегу Марны, библиотека отца, длинные душистые руки матери, воспоминания о том, что навсегда отделило его от товарищей.
Был прекрасный золотистый вечер, воистину сентябрьский спелый плод. Стивен Хартли, перегнувшись через перила балкона, шептал: «Огромные медлительные водовороты вечерней толпы». Шляпы, шляпы, целое фетровое море, несколько непокрытых голов плыли меж волн, он подумал: «как чайки». Он подумал, что так и напишет: «как чайки», две светлые головы и одна седая, красивая рыжая шевелюра поверх остальных, с наметившейся плешинкой; Стивен подумал: «типичная французская толпа» и был тронут. Небольшое скопление героических и стареющих человечков. Он напишет: «французская толпа спокойно и достойно ожидает развития событий». В одном из номеров «Нью-Йорк геральд» будет напечатано жирными буквами: «Я прислушивался к французской толпе». Маленькие люди, не слишком чистые на вид, большие женские шляпы, молчаливая, безмятежная, грязноватая толпа, позолоченная тихим парижским вечером между церковью Св. Магдалины и площадью Согласия под лучами заходящего солнца. Он напишет «лицо Франции», он напишет «вечное лицо Франции». Скольжение, шепот, которые можно назвать уважительными и восхищенными, нет «восхищенными» будет слишком; высокий рыжий француз, лысоватый, спокойный, как солнце на закате, несколько солнечных бликов на стеклах автомобилей, несколько оживленных голосов; мерцание голосов, подумал Стивен. И решил: «Моя статья готова».
– Стивен! – позвала у него за спиной Сильвия.
– Я работаю, – не оборачиваясь, сухо произнес Стивен.
– Но ты должен мне ответить, мой дорогой, – сказала Сильвия, – на «Лафайете» остался только первый класс.
– Возьми первый класс, возьми люкс, – ответил Стивен. – Возможно, «Лафайет» – последний пароход в Америку на много дней вперед.
Брюне шел медленно, вдыхая запах ароматизированного табака, затем он поднял голову, посмотрел на почерневшие, позолоченные буквы, прикрепленные к балкону; война началась: она была здесь, внутри этой светящейся зыбкости, начертанная, как очевидность, на стенах этого прекрасного хрупкого города; это был застывший взрыв, надвое раскалывавший улицу Руаяль; люди проходили сквозь войну, до времени не видя ее; Брюне ее видел. Она всегда была здесь, но люди этого пока не знали. Брюне подумал: «Небо обрушится нам на голову». И все начало обрушиваться, он увидел дома такими, какие они были наяву: замершее падение. Этот изысканный магазин заключал в себе тонны камней, и каждый камень, скрепленный с остальными, уже пятьдесят лет упрямо напирал на основу; несколькими килограммами больше, и падение свершится; колонны, дрожа, округлятся и покроются безобразными рваными трещинами; витрина разлетится вдребезги; массы камней обрушатся на подвал, расплющив тюки с товарами. У немцев есть бомбы в четыре тонны. У Брюне сжалось сердце: еще недавно на этих хорошо выровненных фасадах цвела человеческая улыбка, смешанная с золотистой вечерней пылью. Она угасла: сотни тонн камней; люди, бродящие среди застывших руин. Солдаты среди развалин, сам он, возможно, убит. Он увидел черноватые полосы на наштукатуренных щеках Зезетты. Пыльные стены, поверхности стен с большими зияющими дырами в квадратах голубой или желтой бумаги, в пятнах проказы; красный каменный пол среди обломков, плитки, проросшие сорняками. Затем дощатые бараки военного лагеря. Впоследствии построят большие однообразные казармы, как на внешних бульварах. Сердце Брюне сжалось: «Я люблю Париж», – с волнением подумал он. Очевидность вдруг исчезла, и город вокруг него преобразился. Брюне остановился; он почувствовал подслащенность трусливой доброты и подумал: «Если б не было войны! Если б можно было избежать войны!» И жадно оглядел большие подъезды, сверкающую витрину «Дрисколла», голубые обои пивной Вебера. Через какое-то время ему стало стыдно, он зашагал снова, он подумал: «Я слишком люблю Париж». Как Пильняк в Москве, слишком любивший старые церкви. Партия права, что не доверяет интеллектуалам. Смерть вписана в человека, а разрушение – в предметы; придут другие люди, которые восстановят Париж, восстановят мир. Я ей скажу: «Значит, вы хотите мира любой ценой?» Я буду говорить с ней мягко, пристально глядя ей в глаза, я скажу ей: «Пусть женщины оставят нас в покое. Сейчас не время приставать к мужчинам со своими глупостями».
– Я хотела бы быть мужчиной, – сказала Одетта.
Матье приподнялся на локте. Теперь он был бронзовый от загара. Улыбаясь, он спросил:
– Чтобы играть в солдатики?
Одетта покраснела.
– Нет, нет! – живо возразила она. – Но мне кажется, что глупо быть сейчас женщиной.
– Да, это не слишком-то удобно, – согласился он.
Она опять, в который раз, была похожа на попугайчика; слова, которые она употребляла, всегда оборачивались против нее. Однако ей казалось, что Матье не смог бы ее порицать, если б она умела выразиться правильно; надо было бы сказать ему, что мужчины всегда ставили ее в неловкое положение, когда в ее присутствии говорили о войне. Они выглядели неестественными, они выказывали слишком много уверенности, как будто хотели убедить ее, что это мужское дело, и все-таки у них был вид, будто они чего-то от нее ждали: нечто вроде третейского суда, потому что она женщина и не уйдет на войну, а останется парить над схваткой. А что она могла им сказать? Оставайтесь? Отправляйтесь? Она не могла решать за них именно потому, что она была женщиной. Или нужно им сказать: «Делайте что хотите». А если они ничего не хотят? Она уходила в тень, притворялась, будто не слышит их, она подавала им кофе или ликеры, окруженная раскатами их решительных голосов. Она вздохнула, набрала в руку песок и стала ссыпать его, теплый и белый, на свою загорелую ногу. Пляж был пустынным, море говорливым и мерцающим. На деревянном понтоне «Провансаля» три молодые женщины в пляжных костюмах пили чай. Одетта закрыла глаза. Она лежала на песке в серёдке надвременного, надвозрастного зноя: это был зной ее детства, когда она закрывала глаза, лежа на этом же песке, и представляла себя саламандрой, окруженной огромным красно-голубым пламенем. Тот же зной, та же влажная ласка купальника; кажется, что чувствуешь, как он дымится на солнце, тот же жар песка на затылке, дальние годы, она сливалась с небом, морем и песком, она больше не отличала настоящее от прошлого. Она выпрямилась, широко открыв глаза: сегодня ее окружала подлинная реальность; была эта тревога под ложечкой, был обнаженный и загорелый Матье, сидящий по-турецки на белом халате. Он молчал. Одетте тоже хотелось бы молчать. Но когда она не понуждала его непосредственно обращаться к ней, она его теряла: он предупредительно давал себе время произнести маленькую речь четким, хрипловатым голосом, а потом уходил, оставив в залог свое вежливое холеное тело. Если бы можно было предположить, что он хотя бы погружается в приятные мысли: но он смотрел прямо перед собой с видом, от которого сжималось сердце, в то время как его большие руки машинально лепили из песка пирожки. Пирожок тут же разваливался, руки без устали его восстанавливали; Матье никогда не смотрел на свои руки; в конце концов это раздражало.
– Пирожки не делают из сухого песка, – проговорила Одетта. – Это знают даже малыши.
Матье засмеялся.
– О чем вы думаете? – спросила Одетта.
– Нужно написать Ивиш, – сказал он. – Это меня тяготит.
– Не сказала бы, что это вас тяготит, – промолвила Одетта, усмехнувшись. – Вы ей послали уже целые тома.
– Да. Но какие-то идиоты нагнали на нее страху. Она стала читать газеты, хотя ничего в них не понимает: она хочет, чтобы я ей все объяснил. Это будет не слишком сложно: она путает чехов с албанцами и думает, что Прага находится на берегу моря.
– Это очень по-русски, – сухо заметила Одетта.
Матье, нахмурившись, не ответил, и Одетта почувствовала досаду. Он с усмешкой сказал:
– Все усложняется тем, что она меня яростно возненавидела.
– Почему?
– Потому что я француз. Она спокойно жила среди французов, и вдруг они захотели сражаться. Она считает это возмутительным.
– Очень мило! – вскинулась Одетта.
Матье принял добродушный вид:
– Но поставьте себя на ее место, – мягко сказал он. – Она злится на нас, потому что мы готовимся быть убитыми или ранеными! Она считает, что раненым недостает такта, потому что они вынуждают других думать об их теле. Она называет это физиологичным. А физиологию и у себя, и у других она ненавидит.
– Экая милашка, – усмехнулась Одетта.
– И все это совершенно искренне, – сказал Матье. – Она целыми днями не ест, потому что процесс еды вызывает у нее омерзение. Когда ночью ей хочется спать, она пьет кофе, чтобы взбодриться.
Одетта не ответила; она подумала: «Хорошая порка – вот что ей нужно». Матье ворошил руками песок с поэтичным и глуповатым видом. «Она не ест на людях, но я уверена, что она прячет в своей комнате огромные банки с вареньем. Мужчины – круглые дураки». Матье снова принялся лепить пирожки; он опять отбыл бог знает куда и насколько. «А я ем мясо с кровью и сплю когда хочу», – с горечью подумала Одетта. На понтоне «Провансаля» музыканты наигрывали «Португальскую серенаду». Их было трое. Итальянцы. Скрипач был неплох; играя, он закрывал глаза. Одетта почувствовала себя растроганной; это всегда так волнует, когда слушаешь музыку на свежем воздухе, таком разреженном, таком пустом. Особенно сейчас: тонны зноя и войны давили на море, на песок, и еще этот комариный писк, вздымавшийся прямо к небу. Она повернулась к Матье и хотела ему сказать: «Мне очень нравится эта музыка», но промолчала: возможно, Ивиш ненавидит «Португальскую серенаду». Руки Матье замерли, пирожок рассыпался.
– Мне очень нравится эта музыка, – сказал он, поднимая голову. – Что это?
– «Португальская серенада», – ответила Одетта.
Восемнадцать десять в Годесберге. Старик ждет. В Ангулеме, в Марселе, в Генте, в Дувре думают: «Что он делает? Спустился ли? Разговаривает ли с Гитлером? Может, они в этот самый момент все полюбовно уладили». И они ждут. Старик в гостиной с полуопущенными жалюзи тоже ждет. Он один, он отрыгнул и подошел к окну. Бело-зеленый холм спускается к реке. Рейн совсем черный, он похож на асфальтовую дорогу после дождя. Старик отрыгнул еще раз, во рту у него кислый привкус. Он барабанит по оконному стеклу, и испуганные мухи кружатся вокруг него. Белая и пыльная жара, чопорная, скептическая, устаревшая, жара воротничков эпохи Фридриха II; внутри этой жары скучает старый англичанин времен Эдуарда VII, а весь остальной мир в 1938 году. В Жуан-ле-Пене 23 сентября 1938 года в семнадцать часов десять минут полнотелая женщина в белом полотняном платье садится на складной стул, снимает солнцезащитные очки и начинает читать газету. Это «Пти Нисуа». Одетта Деларю видит крупный заголовок: «Хладнокровие» и, напрягшись, разбирает подзаголовок: «Господин Чемберлен адресует послание Гитлеру». Она задумывается: «Действительно ли я боюсь войны?» и сама себе отвечает: «Нет. Нет, не на самом деле». Если бы она боялась ее на самом деле, она бы вскочила, побежала на вокзал, закричала бы, простирая руки: «Не уезжайте! Останьтесь дома!» На мгновение она воображает себя: выпрямившаяся, со скрещенными руками, кричащая – и у нее кружится голова. Потом она с облегчением думает, что не способна к такой грубой бестактности. Во всяком случае, не вполне. Благопристойная женщина, француженка, благоразумная и сдержанная, с большим количеством запретов, с правилом: ничего не додумывать до конца. В Лаоне, в темной комнате, ожесточенная, возмущенная девочка изо всех сил отвергает войну, отвергает упрямо и слепо. Одетта говорит: «Война ужасна!»; она говорит: «Я постоянно думаю о несчастных, уходящих на войну». Но она еще толком ни о чем не думает, она терпеливо ждет: она знает, что ей скоро скажут, что именно следует думать, говорить и делать. Когда ее отец был убит в 1917 году, ей сказали: «Все в порядке, нужно быть мужественной», и она очень скоро научилась носить траурный креп и с отважной грустью устремлять на людей ясный взгляд военной сироты. В 1924 году ее брат был ранен в Марокко, он вернулся хромым, и Одетте снова сказали: «Все в порядке, не надо его так уж жалеть»; и Жак через несколько лет ей сказал: «Любопытно, я считал Этьена более сильным, он так и не смирился со своим увечьем и порядком ожесточился». Жак уйдет на войну, Матье уйдет на войну, и это тоже будет «все в порядке», она была в этом уверена. В данный момент газеты еще колебались; Жак говорил: «Это будет глупая война», и в крайне правом «Кандиде» писали: «Мы не будем воевать из-за того, что судетские немцы хотят носить белые чулки». Но очень скоро страна станет сплошным единодушным одобрением, палата депутатов единогласно одобрит политику правительства, «Жур» будет прославлять наших отважных фронтовиков. Жак скажет: «Рабочие великолепны», прохожие будут улыбаться друг другу на улице благоговейно и понимающе: это война, Одетта тоже ее одобрит и примется вязать шерстяные шлемы. Матье здесь, он как будто слушает музыку, он знает, что действительно следует думать, но не говорит. Он пишет Ивиш письма на двадцати страницах, чтобы растолковать ей ситуацию. Одетте же он ничего не объясняет.
– О чем вы думаете?
Одетта вздрогнула:
– Я… ни о чем.
– Вы не совсем честны, – сказал Матье. – Я же вам ответил.
Она, улыбаясь, наклонила голову; но ей не хотелось говорить. Матье казался совершенно проснувшимся: он смотрел на нее.
– Что случилось? – смущенно спросила она.
Он не ответил, а только удивленно засмеялся.
– Вы заметили, что я существую? – сказала Одетта. – И это вас удивило. Так?
Когда Матье смеялся, вокруг глаз собирались морщинки, и он становился похож на китайчонка.
– Вы воображаете, что вас можно не заметить? – спросил он.
– Я не слишком подвижна, – сказала Одетта.
– Верно. И к тому же не слишком разговорчивы. Более того, вы делаете все возможное, чтобы о вас забыли. Так вот, это вам не удается: даже когда вы совсем смирная и благопристойная и смотрите на море, производя не больше шума, чем мышь, знаешь, что вы здесь. Это так. В театре это называется эффектом присутствия; есть актеры, у которых это есть, а у других нет. У вас есть.
У Одетты прилила кровь к щекам:
– Вы испорчены русскими, – живо сказала она. – Эффект присутствия, должно быть, очень славянское качество. Но я сомневаюсь, что это в моем стиле.
Матье серьезно посмотрел на нее.
– А что в вашем стиле? – спросил он.
Одетта почувствовала, что ее глаза заметались, забегали в глазницах. Она справилась со взглядом и направила его на свои обнаженные ноги с накрашенными ногтями. Одетта не любила, когда о ней говорили.
– Я обывательница, – весело сказала она, – простая французская обывательница, в этом нет ничего интересного.
Она почувствовала, что кажется ему недостаточно убедительной, и, чтобы закончить спор, добавила:
– Какая разница, кто я.
Матье не ответил. Одетта искоса поглядела на него: его руки снова просеивали песок. Одетта спросила себя, какую оплошность она допустила. Во всяком случае, он мог бы хотя бы из вежливости что-то возразить.
Через некоторое время она услышала его мягкий хрипловатый голос:
– Трудно чувствовать себя невесть кем, а?
– Привыкаешь, – сказала Одетта.
– Верно. А вот я так и не привык.
– Но вы-то не невесть кто, – живо возразила она.
Матье рассматривал пирожок, который он только что соорудил. На сей раз получился красивый, не рассыпающийся пирожок. Он смахнул его движением руки.
– Все мы невесть кто, – сказал Матье и рассмеялся. – Это так глупо.
– Какой вы печальный, – проговорила Одетта.
– Не больше других. Все мы немного выбиты из колеи опасностью войны.
Она подняла глаза, намереваясь заговорить, но встретила его взгляд, прекрасный, спокойный и нежный взгляд. Она промолчала. Невесть кто – мужчина и женщина смотрят друг на друга на пляже; война была здесь, вокруг них; она засела в них самих и сделала их похожими на прочих, всех прочих. «Он чувствует себя невесть кем, он смотрит на меня, он улыбается, он улыбается не мне, а невесть кому». Он ничего у нее не просил, кроме молчания, кроме того, чтобы она оставалась никем как обычно. Нужно было молчать; скажи она ему: «Вы не невесть кто, вы красивы, сильны, романтичны, вы ни на кого не похожи», и поверь он ей, он ускользнул бы от нее сквозь пальцы, он бы снова ушел в свои мечты, возможно, он бы еще больше полюбил другую, к примеру, ту русскую, которая пьет кофе, когда ей хочется спать. Одетта почувствовала укол самолюбия и быстро проговорила:
– На этот раз все будет ужасно.
– Скорее, глупо, – отозвался Матье. – Они уничтожат все, до чего смогут добраться. Париж, Лондон, Рим… То-то будет картина!
Париж, Рим, Лондон. И белую роскошную виллу Жака на берегу. Одетта вздрогнула; она посмотрела на море. Море было всего лишь мерцающим маревом; обнаженный и коричневатый, слегка выгнутый вперед, лыжник, влекомый моторной лодкой, быстро скользил по этому мареву. Нет, никто на свете не сможет уничтожить это светящееся мерцание.
– Но это, во всяком случае, останется, – сказала она.
– Что?
– Море.
Матье покачал головой:
– Даже этого не останется, – сказал он. – Даже этого.
Одетта удивленно посмотрела на него: она всегда не до конца понимала, что он хочет сказать. Она решила расспросить его, но ей вдруг нужно было уйти. Она вскочила, надела босоножки и завернулась в халат.
– Что вы делаете? – спросил Матье.
– Мне нужно идти, – сказала она.
– Так вдруг?
– Я вспомнила, что обещала Жаку к ужину чесночную похлебку. Мадлен одна не управится.
– Вы редко долго остаетесь на одном месте, – сказал Матье. – Что ж, я пойду купаться.
Она поднялась по усыпанным песком ступенькам и уже на террасе оглянулась. Она увидела Матье, бегущего к морю. «Он прав, – подумала она, – мне не сидится на месте». Всегда уходить, всегда спохватываться, всегда убегать. Как только ей хоть немного где-то нравилось, ее охватывало смущение и чувство вины. Она смотрела на море и думала: «Я всегда чего-то боюсь». В ста метрах сзади была вилла Жака, приготовление чесночной похлебки, толстая Мадлен, трапеза. Одетта отправилась в путь. Она спросит у Мадлен: «Как здоровье вашей матушки?» и Мадлен, немного сопя, ответит: «Да все так же», и Одетта ей скажет: «Ей нужно сварить немного бульону, и потом отнесите ей белого мяса, перед тем как подать на стол, оторвите крылышко, увидите, она съест его с аппетитом», и Мадлен ответит: «Ах, мадам, она ни к чему не притрагивается». Одетта скажет: «Дайте-ка мне». Она возьмет цыпленка, собственноручно отрежет крылышко и почувствует себя оправданной. «Даже этого!» Она бросила прощальный взгляд на море. «Он сказал: «Даже этого». Однако море было таким легким, как небо наизнанку; что у них могло быть против него? Оно было густое и сине-зеленое, или цвета кофе с молоком, такое гладкое, монотонное, каждодневное, оно пахло йодом и лекарствами, их море, их морской бриз, они за него платят сто франков в день; он приподнялся на локтях и посмотрел на детей, игравших на сером песке, маленькая Симона Шассье бегала и смеялась, подволакивая левую ногу в ортопедическом ботинке. У лестницы был мальчик, которого он не знал, бесспорно, новенький, устрашающе худой, с огромными ушами, он засунул палец в нос и серьезно смотрел на трех девочек, лепивших пирожки. Он горбил острые плечи и подгибал колени, но крупное туловище было неподвижно, как камень. Корсет. Туберкулезный сколиоз. «Помимо этого, он скорее всего дебил».
– Ложитесь, – сказала Жаннин. – Лягте ровно. Какой вы сегодня беспокойный.
Он повиновался и увидел небо. Четыре белых облачка. Он услышал скрип коляски на дороге: «Что-то его рано везут назад, кто это может быть?»
– Привет, харя! – произнес грубый голос.
Он быстро поднял обе руки и повернул зеркальце над головой. Они уже прошли, но он узнал тяжелый зад санитарки: это была Даррье.
– Ты когда сбреешь свою бороду? – крикнул он ей.
– Как только ты отрежешь свои шары! – ответил удаляющийся голос Даррье.
Он радостно засмеялся: Жаннин не любила грубости.
– Скоро меня увезут назад?
Он увидел руку Жаннин, рука порылась в кармане белого халата и извлекла оттуда часы.
– Еще минут пятнадцать. Вам скучно?
– Нет.
Он никогда не скучал. Цветочные горшки не скучают. Когда светит солнце, их выставляют наружу, а потом с наступлением вечера возвращают обратно. У них никогда не спрашивают их мнения, они ничего не должны решать, ничего не должны ждать. Как захватывающе впитывать воздух и свет всеми порами! Небо загремело, как гонг, и он увидел пять маленьких аспидных точек в форме треугольника, поблескивавших меж двух облаков. Он вытянулся, и у него задвигались большие пальцы ног: звук приходил большими медными слоями, это было приятно и ласкающе, это походило на запах хлороформа, когда усыпляют на большом операционном столе. Жаннин вздохнула, и он исподтишка посмотрел на нее; она подняла голову и казалась встревоженной, определенно, что-то ее беспокоило. «А! Вспомнил: скоро будет война». Он улыбнулся.
– Значит, – сказал он, немного повернув шею, – ходячие решились начать свою войну.
– Напоминаю, – сухо ответила она. – Если вы будете так говорить, я больше не буду вам отвечать.
Он замолчал, у него было много времени, самолет гудел в его ушах, он себя хорошо чувствовал, молчание его не раздражает. Она не могла сопротивляться, ходячие всегда обеспокоены, им нужно говорить, двигаться: наконец она не выдержала:
– Боюсь, что вы правы: скоро будет война.
Она выглядела, как в операционные дни, – одновременно разнесчастным ребенком и старшей медсестрой. Когда она вошла в самый первый день и сказала ему: «Приподнимитесь, я уберу судно», у нее был именно такой вид. Он потел, чувствовал собственный запах, отвратительный запах кожевенного завода, а она стояла, все понимающая и незнакомая, она протягивала к нему роскошные руки и выглядела именно так, как сегодня.
Он слегка облизнул губы: с тех пор он попортил ей немало крови. Он сказал ей:
– У вас такой взволнованный вид…
– Еще бы!
– А вам-то что до этой войны? Вас это не касается.
Она отвернулась и с раздражением похлопала по краю фиксатора. К чему ей расстраиваться из-за войны? Ее профессия – ухаживать за больными.
– А мне плевать на войну, – сказал он.
– Зачем вы притворяетесь злым? – мягко сказала она. – Вы же не хотите, чтобы Францию разгромили.
– Мне это безразлично.
– Месье Шарль! Когда вы такой, вы меня пугаете.
– Я же не виноват, что я нацист, – ухмыльнулся он.
– Нацист! – обескураженно повторила она. – Что это вы на себя наговариваете! Нацист! Они убивают евреев и всех, кто с ними не согласен, они их сажают в тюрьму, и священников тоже, они подожгли Рейхстаг, это бандиты. Такое нельзя говорить; такой юноша, как вы, не имеет права говорить, что он нацист, даже в шутку.
Он сохранил на губах понимающую провоцирующую улыбочку. Он не испытывал антипатии к нацистам. Они были мрачными и свирепыми, казалось, они хотят все уничтожить: посмотрим, до каких пределов они дойдут, увидим. У него появилась забавная мысль:
– Если будет война, все станут горизонтальными.
– И он доволен! – возмутилась Жаннин. – Что еще взбредет ему на ум?
Он сказал:
– Стоячие устали стоять, они лягут плашмя в ямы. Я на спине, они на животе: все станут горизонтальными.
Уже много времени они склонялись над ним, мыли, чистили, обтирали ловкими руками, а он оставался неподвижным под этими руками, он смотрел на их лица, начиная с подбородка, на запекшиеся ноздри над выступом губ, на черную линию ресниц чуть выше. «Теперь их очередь лечь». Жаннин не реагировала: она была не так оживлена, как обычно. Она мягко положила руку ему на плечо.
– Злюка! – сказала она. – Злюка, злюка, злюка!
Это был миг примирения. Он сказал:
– Что сегодня вечером дадут лопать?
– Рисовый суп и картофельное пюре, а потом – вы будете довольны – налима.
– А на десерт? Сливы?
– Не знаю.
– Наверное, сливы, – сказал он. – Вчера был абрикосовый компот.
Оставалось еще пять минут; он вытянулся и надулся, чтобы еще больше ими насладиться, он посмотрел на свой кусочек мира, отраженный в его третьем глазу, в зеркальце. Пыльный и неподвижный глаз с коричневыми трещинами: он немного искажал движения, и это было забавно, они становились одеревенелыми и механическими, как в довоенных фильмах. Вот в нем проскользнула женщина в черном, лежащая на фиксаторе, проскользнула и исчезла: мальчик толкал коляску.
– Кто это? – спросил он у Жаннин.
– Я ее не знаю, – сказала Жаннин. – Кажется, она с виллы «Монрепо», вы ее знаете, тот большой рыжеватый дом на берегу моря.
– Это там оперировали Андре?
– Да.
Он глубоко вздохнул. Свежее, шелковистое солнце текло ему в рот, в ноздри, в глаза. А что здесь делает этот солдат? Зачем ему дышать воздухом, предназначенным для больных? В зеркальце прошел солдат, негнущийся, как изображение в волшебном фонаре, вид у него был озабоченный, Шарль приподнялся на локте и с любопытством проследил за ним взглядом: «Он ходит, ощущает свои ноги и бедра, все его тело давит на ступни». Солдат остановился и стал разговаривать с медсестрой. «А, это кто-то здешний», – с облегчением подумал Шарль. Солдат говорил серьезно, покачивая головой и не меняя печального выражения лица. «Он умывается и одевается сам, он идет куда хочет, ему необходимо все время заниматься собой, он чувствует себя чудны´м, потому что стоит: я это знал раньше. Что-то с ним скоро произойдет. Завтра будет война, и что-то произойдет со всеми. Но не со мной. Я – просто вещь».
– Уже пора, – сказала Жаннин. Она грустно посмотрела на него, глаза ее наполнились слезами. Какая она противная. Он ей сказал:
– Вы любите меня, свою игрушку?
– Да, да!
– Не трясите меня, как при ходьбе.
– Хорошо.
Слезы брызнули и покатились по бледным щекам. Он недоверчиво посмотрел на нее.
– Что с вами?
Она не ответила и, всхлипывая, склонилась над ним, поправляя ему одеяло: он видел ее ноздри.
– Вы что-то от меня скрываете…
Она не отвечала.
– Что вы от меня скрываете? Вы поссорились с мадам Гуверне? Ну? Не люблю, когда со мной обращаются как с ребенком!
Жаннин выпрямилась и посмотрела на него с отчаянной нежностью.
– Вас собираются эвакуировать, – плача, сказала она.
Шарль не понял. Он спросил:
– Меня?
– Всех больных из Берка. Мы слишком близко от границы.
Шарль задрожал. Он поймал руку Жаннин и сжал ее:
– Но я хочу остаться!
– Здесь никого не оставят, – сказала она хмуро.
Он изо всех сил сжал ей руку:
– Я не хочу! – сказал он. – Я не хочу!
Она, не отвечая, высвободила руку, прошла за коляску и стала ее толкать.
Шарль наполовину приподнялся и затеребил уголок одеяла.
– Но куда нас отправят? Когда отъезд? Сестры поедут с нами? Скажите же что-нибудь!
Она не отвечала, и он услышал, как она вздохнула над его головой. Он снова лег и в бешенстве сказал:
– Они меня доконают.
Я не хочу смотреть на улицу. Милан встал у окна, он смотрит, он мрачен. Их еще здесь нет, но они уже шаркают по всему кварталу. Я их слышу. Я нагибаюсь над Марикой и говорю:
– Стань здесь.
– Где?
– У стены между окнами.
Она меня спрашивает:
– Почему меня сюда отослали?
Я не отвечаю; она спрашивает:
– Кто это кричит?
Я молчу. Шаркающие сапоги, это их звуки: шушушу-шу-у-у-шу. Я сажусь на пол рядом с ней. Я тяжелая. Я ее обнимаю. Милан стоит у окна, он отрешенно грызет ногти. Я ему говорю:
– Милан! Иди к нам; не стой у окна.
Он ворчит, перевешивается через подоконник, нарочно перевешивается. Шаркающие сапоги. Через пять минут они будут здесь. Марика хмурит брови:
– Кто это идет?
– Немцы.
Она произносит: «А?», и ее лицо снова становится безмятежным. Она смирно слушает шаркающие сапоги, как слушает мой голос во время урока, или дождь, или ветер в листве: потому что эти звуки слышны. Я смотрю на нее, и она мне отвечает ясным взглядом. Именно этот взгляд, надо быть только этим взглядом, ничего не понимающим, ничего не ждущим. Я хотела бы стать глухой, быть зачарованной этими глазами, читать в этих глазах шум. Мягкий шум, лишенный смысла, как шум листвы. Но я знаю, что означают эти шаркающие сапоги. Они мягкие, они мягко придут, эти люди будут его бить, пока он не станет в их руках совсем мягким. Он здесь, пока еще крепкий и твердый, он смотрит в окно: они будут держать его на вытянутых руках, он станет дряблым, с тупым выражением на разбитом лице; они будут его бить, они опрокинут его на землю, и завтра ему будет стыдно передо мной. Марика вздрагивает в моих объятиях, я у нее спрашиваю:
– Ты боишься?
Она отрицательно качает головой. Она не боится. Она серьезная, как в те моменты, когда я пишу на черной доске, а она, открыв рот, следит за моей рукой. Она старается: она уже поняла, что такое деревья и вода, потом животные, которые самостоятельно ходят, потом люди, потом буквы алфавита. Теперь же было вот что: молчание взрослых людей и эти шаркающие сапоги на улице; вот что нужно осмыслить. Все это потому, что мы – маленькая страна. Они придут, они пустят танки по нашим полям, они будут стрелять в наших мужчин. Потому что мы – маленькая страна. Боже мой! Сделай так, чтобы французы пришли к нам на помощь, Боже, сделай так, чтобы они не оставили нас в беде.
– Вот они, – сказал Милан.
Я не хочу смотреть на его лицо, только на лицо Марики, потому что она ничего не понимает. Они рядом: они приближаются, они шаркают сапогами по нашей улице, они выкрикивают наши имена, я их слышу. Я здесь, я сижу на полу, тяжелая и неподвижная, револьвер Милана в кармане моего передника. Он смотрит на Марику, она приоткрывает рот; ее глаза чисты, она все еще ничего не понимает.
Он шел вдоль рельсов, он смотрел на лавки и смеялся от удовольствия. Он смотрел на рельсы, он смотрел на лавки; он смотрел на лежащую перед ним белую улицу, щуря глаза, и думал: «Я в Марселе». Лавки были закрыты, железные жалюзи опущены, улица пустынна, но он в Марселе. Он остановился, поставил мешок, снял кожаную куртку и перебросил ее через руку, затем вытер лоб и снова вскинул мешок на спину. Ему хотелось с кем-нибудь поболтать. Он сказал себе: «У меня в носовом платке двенадцать окурков сигарет и один окурок сигары». Рельсы блестели, длинная белая улица слепила его, он сказал: «У меня в мешке бутылка красного». Было жарко, и он бы с удовольствием выпил, но он предпочел бы выпить рюмочку полынной водки в забегаловке, если только они не все закрыты. «Никогда бы не подумал», – сказал он себе. Он опять зашагал между рельсами, улица промеж черных домиков сверкала, как река. Слева было много лавок, но невозможно узнать, что там продавалось, потому что железные жалюзи закрыты; справа тянулись пустые, открытые всем ветрам дома, похожие на вокзалы, время от времени возникала кирпичная стена. Но зато это был Марсель. Большой Луи спросил себя:
– Где они могут быть?
Кто-то выкрикнул:
– Быстро сюда!
На углу переулка была открытая забегаловка. На пороге стоял крепыш с торчащими усами, он кричал: «Быстро сюда!», и люди возникли разом, как из-под земли, и побежали к забегаловке. Большой Луи побежал тоже; он хотел зайти вслед за парнями, но усатый тип ладонью толкнул его в грудь и рявкнул:
– А ну, вали отсюда!
Мальчик в переднике нес круглый стол больше, чем он сам, и пытался занести его в кафе.
– Ладно, папаша, – сказал Большой Луи, – ухожу. У тебя, случаем, нет полынной водки?
– Я тебе сказал: сматывайся.
– Ухожу, – сказал Большой Луи. – Не надо бояться; я не лезу в компании, где меня не хотят.
Крепыш повернулся к нему спиной, одним толчком снял наружный засов и вошел в кафе, закрыв за собой дверь. Большой Луи посмотрел на дверь: на месте засова осталась маленькая круглая дыра с неровными краями. Он почесал затылок и повторил: «Ухожу, не надо бояться». И все-таки он подошел к окну и попытался заглянуть в кафе, но кто-то изнутри задернул шторы, и он ничего не увидел. Он пробормотал: «Никогда бы не подумал». Улица шла обочь его, рельсы блестели, на рельсах стояла брошенная черная вагонетка. «Я бы хотел куда-нибудь зайти», – подумал Большой Луи. Ему хотелось выпить полынной водки в бистро и поболтать с хозяином. Он объяснил себе, почесывая голову: «Я привык торчать на улице». Когда он бывал на улице, то обычно и другие были там же, овцы и прочие пастухи, и это все-таки была компания, а когда не было никого, то не было никого, вот и все. Сейчас он был на улице, а все остальные – внутри, за своими стенами и дверьми без засовов. Он был на улице совсем один, на пару с вагонеткой. Большой Луи побарабанил в окно кафе и подождал. Никто не ответил: если бы он собственными глазами не видел, как туда вошли люди, он бы поклялся, что в кафе никого не было. Он сказал себе: «Я ухожу» и действительно ушел; ему чертовски захотелось пить; он представлял себе Марсель не таким. Он шел, и ему казалось, что улица пахнет затхлым. Он спросил себя: «Где бы мне присесть?», и услышал сзади гул: так гудит стадо овец, когда его перегоняют в горы. Он обернулся и увидел вдалеке небольшую толпу со знаменами. «Что ж, посмотрю на них», – сказал он и обрадовался. С другой стороны рельсов было что-то вроде площади, ярмарочного поля с двумя зелеными лачугами, прилепившимися к высокой стене; он сказал: «Там и присяду, чтобы поглядеть, как они проходят». Одна из лачуг оказалась лавкой, около нее пахло колбасой и жареной картошкой. Большой Луи увидел старика в белом переднике, ворошившего в печке. Он сказал ему:
– Папаша, дай жареной картошки.
Старик обернулся.
– А этого не хотел?! – рявкнул он.
– У меня есть деньги, – сказал Большой Луи.
– А этого не хотел?! Плевал я на твои деньги. Я закрываюсь.
Он вышел и начал вертеть ручку. Железные жалюзи с грохотом стали опускаться.
– Еще семи нет! – крикнул Большой Луи, чтобы перекричать грохот.
Старик не ответил.
– Я подумал, что ты закрываешься, потому что уже семь! – крикнул Большой Луи.
Железные жалюзи опустились. Старик вынул ручку, выпрямился и плюнул.
– Ты что, придурок, не видел, что они идут, а? Я не собираюсь отдавать жареную картошку задарма, – сказал он, возвращаясь в лачугу.
Большой Луи еще с минуту посмотрел на зеленую дверь, затем сел на землю посреди ярмарочного поля, положил под спину мешок и стал греться на солнце. Он подумал, что у него есть буханка круглого хлеба, бутылка красного вина, двенадцать окурков от сигарет и один от сигары, он сказал себе: «Ну что ж, заморим червячка». По другую сторону рельсов двинулись люди, они размахивали знаменами, пели и вопили; Большой Луи вынул из кармана нож и смотрел на них, пережевывая свой харч. Одни поднимали кулаки, другие кричали ему: «Пошли с нами!», и он, смеясь, приветствовал их, он любил шум и движение, это его малость развлекало.
Он услышал шаги и обернулся. К нему приближался высокий негр, на нем была выцветшая розовая рубашка с короткими рукавами; голубые брюки болтались при каждом шаге на длинных худых икрах. Как видно, он не торопился. Негр остановился и стал выкручивать коричнево-розовыми руками плавки. Вода капала в пыль и свертывалась в шарики. Негр завернул плавки в полотенце и, равнодушно посвистывая, стал смотреть на демонстрацию.
– Эй! – крикнул Большой Луи.
Негр посмотрел на него и улыбнулся.
– Что они делают?
Негр подошел к нему, раскачивая плечами: как видно, он не торопился.
– Это докеры, – сказал он.
– Они что, бастуют?
– Забастовка закончилась, – сказал негр. – Но эти хотят начать ее снова.
– А-а, вот оно что! – протянул Большой Луи.
Негр с минуту молча смотрел на него, казалось, он подыскивает слова. В конце концов он сел на землю, положил полотенце на колени и начал свертывать сигарету. Он продолжал насвистывать.
– Откуда идешь? – спросил он.
– Из Прад, – ответил Большой Луи.
– Не знаю, где это, – сказал негр.
– Как так не знаешь? – засмеялся Большой Луи. Они оба посмеялись, потом Большой Луи пояснил: – Мне там разонравилось.
– Ты пришел искать работу? – спросил негр.
– Я был пастухом, – пояснил Большой Луи. – Я пас овец на Канигу. Но это мне разонравилось.
Негр покачал головой.
– Тут работы больше нет, – строго сказал он.
– Э-э, я найду! – заверил его Большой Луи. Он показал свои руки. – Я умею делать все, что угодно.
– Тут работы больше нет, – повторил негр.
Они замолчали. Большой Луи смотрел на орущих демонстрантов. Они кричали: «К стенке! Сабиани к стенке!» С ними были женщины; простоволосые и раскрасневшиеся, они разевали рты, как будто хотели все съесть, но не было слышно, о чем они говорят, так как мужчины горланили громче их. Большой Луи был доволен: теперь у него есть компания. Он подумал: «Здорово». Среди других прошла толстая женщина, ее груди болтались. Большой Луи подумал, что неплохо было бы с ней позабавиться как-нибудь после еды, руки были бы полны ее грудью. Негр захохотал. Он хохотал так сильно, что задохнулся дымом от сигареты. Он хохотал и кашлял одновременно. Большой Луи постучал кулаком ему по спине.
– Ты чего смеешься? – смеясь, спросил он.
Негр посерьезнел.
– Просто так, – ответил он.
– Выпей глоток, – предложил ему Большой Луи.
Негр взял бутылку и отхлебнул из горлышка. Большой Луи тоже выпил. Улица вновь опустела.
– Где ты спал? – спросил негр.
– Не знаю, – ответил Большой Луи. – На какой-то площади с вагонетками под брезентом. Там воняло углем.
– У тебя есть деньги?
– Может, и есть, – сказал Большой Луи.
Дверь кафе открылась, вышла группа людей. Некоторое время они оставались на улице; затеняя глаза руками, они смотрели туда, куда ушли забастовщики. Потом одни, закурив, медленно уходили, другие маленькими группками толклись на улице. Среди них был бурно жестикулирующий багровый пузатый мужчина. Он гневно крикнул молодому тщедушному парню:
– Нам война уже в затылок дышит, а ты нам что-то толкуешь о синдикализме!
Пузатый взмок, он был без куртки, рубашка расстегнута, под мышками мокрые круги. Большой Луи повернулся к негру.
– Война? – спросил он. – Какая война?
– Скамейка! – сказал Даниель. – Она-то нам и нужна!
Это была зеленая скамейка у стены фермы, под открытым окном. Даниель толкнул перекладину и вошел во двор. К нему с лаем бросилась собака, волоча за собой цепь, на пороге дома появилась старуха, она держала кастрюлю.
– Пошла, пошла! – сказала она, размахивая кастрюлей. – Заткнись!
Собака, немного порычав, легла на живот.
– Моя жена немного устала, – снимая шляпу, сказал Даниель. – Вы ей позволите посидеть на этой скамейке?
Старуха недоверчиво сощурила глаза: может, она не понимала по-французски?
Даниель громко повторил:
– Моя жена немного устала.
Старуха повернулась к Марсель, припавшей к перекладине, и ее недоверие растаяло.
– Конечно, ваша жена может сесть. Для того и скамейки. Она ее не просидит. Вы идете из Пейреорада?
Марсель вошла во двор и, улыбаясь, села.
– Да, – сказала она. – Мы хотели дойти до утеса; но теперь это для меня далековато.
Старуха понимающе подмигнула.
– Еще бы! – сказала она. – В вашем положении нужно быть осторожной.
Марсель прислонилась к стене, полузакрыв глаза, она счастливо улыбалась. Старуха поглядела с понимающим видом на ее живот, затем повернулась к Даниелю, покачала головой и уважительно осклабилась. Даниель сжал набалдашник трости и тоже улыбнулся. Все улыбались, живот был здесь в безопасности. Из дома, спотыкаясь, вышел ребенок, он замер и удивленно уставился на Марсель. Он был без штанов, его красные ягодицы покрывали болячки.
– Я хотела увидеть утес, – с шаловливым видом повторила Марсель.
– Но в Пейреораде есть такси, – сказала старуха. – Оно принадлежит Ламблену-сыну, последний дом по дороге на Бидасс.
– Знаю, – кивнула Марсель.
Старуха повернулась к Даниелю и погрозила ему пальцем:
– Ах, месье, нужно быть к своей жене внимательным; сейчас надо ей во всем потакать.
Марсель улыбнулась.
– Он ко мне внимателен, – заверила она. – Я сама захотела пройтись пешком.
Она вытянула руку и погладила мальчика по голове. Вот уже недели две, как она интересовалась детьми; это пришло внезапно. Она трогала и щупала их, как только они оказывались в пределах ее досягаемости.
– Это ваш внук?
– Нет, сын моей племянницы. Ему около четырех.
– Хорошенький, – сказала Марсель.
– Да, когда послушный. – Старуха понизила голос: – У вас будет мальчик?
– Не знаю, – сказала Марсель, – я бы очень этого хотела!
Старуха засмеялась.
– Каждое утро нужно молиться святой Маргарите.
Наступила округлая, населенная ангелами тишина. Все смотрели на Даниеля. Он склонился над тростью, смиренно по-мужски сурово потупив глаза.
– Простите за беспокойство, мадам, – мягко сказал он. – Не соблаговолите ли принести для моей жены чашку молока? – Он повернулся к Марсель: – Вы выпьете чашку молока?
– Сейчас принесу, – отозвалась старуха. Она исчезла в кухне.
– Сядьте рядом со мной, – предложила Марсель.
Он опустился на скамейку.
– Как вы предупредительны! – воскликнула Марсель, беря его за руку.
Он улыбнулся. Она растерянно смотрела на него, а Даниель продолжал улыбаться, подавляя зевоту, растянувшую ему рот до ушей. Он думал: «Недопустимо выглядеть до такой степени беременной». Воздух был влажным, слегка горячечным, запахи плавали неуклюжими сгустками, как водоросли; Даниель пристально смотрел на зелено-рыжее мерцание кустарника по другую сторону изгороди, его ноздри и рот были полны листвой. Еще две недели. Две зеленые мерцающие недели, две недели в деревне. Деревню он ненавидел. Робкий палец прогуливался по его руке с неуверенностью ветки, колеблемой ветром. Он опустил глаза и посмотрел на палец – белый, пухловатый, на нем было обручальное кольцо. «Она меня обожает», – подумал Даниель. Обожаемый. День и ночь это покорное и вкрадчивое обожание втекало в него, как живительные ароматы полей. Он прикрыл глаза, и обожание Марсель слилось с шумящей листвой, с запахом навозной жижи и эспарцета.
– О чем вы думаете? – спросила Марсель.
– О войне, – ответил Даниель.
Старуха принесла чашку пенящегося молока. Марсель взяла ее и стала пить медленными глотками. Верхняя губа глубоко погрузилась в чашку и шумно втягивала молоко, с певучим звуком проникавшее ей в горло.
– Как приятно, – вздохнула она. Над ее верхней губой обозначились белые усики.
Старуха с выражением добросердечия смотрела на нее.
– Сырое молоко, вот что нужно для малыша, – сказала она. Обе женщины понимающе рассмеялись, и Марсель встала, опираясь о стену.
– Я чувствую себя совсем отдохнувшей, – промолвила она, обращаясь к Даниелю. – Если хотите, пойдемте.
– До свидания, мадам, – сказал Даниель, опуская купюру в руку старухи. – Мы вам признательны за любезный прием.
– Спасибо, мадам, – задушевно улыбаясь, сказала Марсель.
– До свидания, – ответила старуха. – На обратном пути идите потихоньку.
Даниель поднял перекладину и уступил дорогу Марсель; она споткнулась о большой камень и пошатнулась.
– Ай! – издалека вскрикнула старуха.
– Обопрись на мою руку, – сказал Даниель.
– Я такая неловкая, – сконфуженно проговорила Марсель.
Она взяла его за руку; он почувствовал ее рядом, теплую и уродливую; он подумал: «Как только Матье мог ее хотеть?»
– Идите медленно, – сказал он.
Темные изгороди. Тишина. Поля. Черная линия сосен на горизонте. Мужчины тяжелыми неторопливыми шагами возвращались на фермы, сейчас они сядут за длинный стол и молча съедят свой суп. Стадо коров перешло дорогу. Одна из них чего-то испугалась и, подпрыгивая, шарахнулась в сторону. Марсель прижалась к Даниелю.
– Представьте себе, я боюсь коров, – сказала она вполголоса.
Даниель нежно сжал ее руку. «Пошла бы ты к черту!» – мысленно ругнулся он. Марсель глубоко вздохнула и замолчала. Он покосился на нее и увидел мутные глаза, сонную улыбку, блаженный вид: «Готово! – подумал он с удовлетворением. – Она снова отключилась». Это временами на нее находило, когда ребенок шевелился в животе, или когда ее охватывало какое-то незнакомое ощущение; должно быть, она чувствовала себя до упора заселенной, переполненной – Млечный Путь. Так или иначе, он выиграл минут пять. Даниель подумал: «Я гуляю в деревне, мимо проходят коровы, эта тучная женщина – моя жена». Ему захотелось смеяться: за всю жизнь он не видел столько коров. «Ты этого хотел! Ты этого хотел! Ты загодя желал катастрофы, что ж, ты ее получил!» Они шли медленно, как двое влюбленных, под руку, вокруг жужжали мухи. Какой-то старик, опершись на лопату, неподвижно стоял на краю своего поля, он смотрел, как они проходили, и улыбнулся им. Даниель почувствовал, что густо краснеет. В этот момент Марсель вышла из оцепенения.
– Вы верите, что война будет? – быстро спросила она.
Ее движения потеряли агрессивную напряженность, они были грузными и томными. Но она сохранила грубоватый категоричный тон. Даниель смотрел на поля. Что это за поля? Он не отличал кукурузного поля от свекольного. До него донесся голос Марсель, повторившей:
– Вы в это верите?
Даниель подумал: «Если б разразилась война!» Марсель стала бы вдовой. Вдова с ребенком и с шестьюстами тысячами франков наличности. Не считая благоговейных воспоминаний о несравненном муже: чего она могла еще хотеть? Даниель резко остановился, потрясенный своим желанием; он изо всех сил сжал набалдашник трости и подумал: «Господи, хоть бы началась война! Сумасшедшая молния, которая взорвет эту мягкую тишину, чудовищно вспашет эти деревни, изроет воронками эти поля, преобразует эти ровные и монотонные земли в беспокойное море, война, повальная гибель людей доброй воли, мясорубка для невинных. Они искромсают это чистое небо собственными руками. Как они будут ненавидеть друг друга! Как они будут содрогаться от ужаса! А сам я буду трепетать в этом море ненависти». Марсель удивленно смотрела на него. Он едва не рассмеялся.
– Нет. Я в это не верю.
Дети на дороге, их звонкие беззащитные голоса, их смех. Мир. Солнце рябит в изгородях, как вчера, как завтра; на повороте дороги показалась колокольня Пейреорада. Каждая вещь на свете имеет свой запах, свою вечернюю тень, бледную и длинную, свое неповторимое будущее. И совокупность всех этих будущих – мир: до него можно дотронуться, коснувшись трухлявого дерева этой изгороди, нежной шейки этого мальчугана, его можно прочесть в его пытливых глазах, он поднимается из согретой дневным солнцем крапивы, он слышен в перезвоне этих колоколен. Повсюду люди собрались вокруг дымящихся супниц, они ломают хлеб, наливают в стаканы вино, вытирают ножи, их повседневные движения образуют мир. Он здесь, сотканный из всех будущих, в нем есть изменчивое упорство природы, он – вечное возвращение солнца, дымчатый покой полей, суть трудов человеческих. Нет ни одного движения, которое его не призывает и не реализует, даже тяжелая походка Марсель рядом со мной, даже нежная хватка моих пальцев на ее руке. Град камней в окно: «Вон отсюда! Вон отсюда!» Милан едва успел отскочить назад. Резкий голос выкрикивал его имя: «Глинка! Милан Глинка, вон отсюда!» Кто-то запел: «Чехи, как блохи в немецкой шубе!» Камни покатились по полу. Булыжник разбил каминное зеркало, другой упал на стол и размолотил чашку с кофе. Кофе разлился по клеенке и медленно закапал на пол, под окном все горланили по-немецки. Он подумал: «Они разлили мой кофе!» и схватил стул за спинку. Он покрылся испариной. Он поднял стул над головой.
– Что ты делаешь? – закричала Анна.
– Я швырну его им в морду.
– Милан, не смей! Ты не один.
Он поставил стул и с удивлением поглядел на стены. Это была больше не его комната. Они ее разворотили; красный туман заволок ему глаза; он засунул руки в карманы и мысленно повторял: «Я не один. Я не один». Даниель думал: «Я один». Один со своими кровавыми мечтами в этом беспредельном безмятежном мире. Танки и пушки, самолеты, грязные воронки, обезобразившие поля, – это был всего лишь маленький шабаш в его голове. Никогда это небо не расколется; будущее осеняло эти селения; Даниель был внутри, как червь в яблоке. Будущее всех этих людей: они его творили собственными руками, медленно, годами, и они мне в нем не оставили крохотного местечка, самого скромного шанса. Слезы бешенства навернулись на глаза Милану, Даниель повернулся к Марсель: «Моя жена, мое будущее, единственное, что мне осталось, потому что мир уже распорядился своим спокойствием».
Как крыса! Он приподнялся на локтях и смотрел, как мимо пробегали лавки.
– Ложитесь! – плачущим голосом взмолилась Жаннин. – И не вертитесь во все стороны: у меня уже голова кружится.
– Куда нас отправят?
– Я же вам сказала, что не знаю.
– Вы знаете, что нас собираются эвакуировать, и не знаете куда? Так я вам и поверил!
– Но клянусь, этого мне не сказали. Не мучьте меня!
– Прежде всего кто вам об этом сказал? Может, все это враки? Вы готовы проглотить все, что угодно.
– Главный врач клиники, – с сожалением призналась Жаннин.
– И он не сказал куда?
Коляска катилась вдоль рыбного магазина Кюзье; он, начиная с ног, погрузился в резкий и пресный запах свежей рыбы.
– Быстрее! Здесь пахнет немытой девчонкой!
– Я… я не могу идти быстрее. Я вас умоляю, моя куколка, не волнуйтесь, вы нагоните себе температуру.
Она вздохнула и добавила про себя:
– Я не должна была вам этого говорить.
– Естественно! А в день отъезда мне дали бы хлороформ или сказали бы, что везут на пикник.
Он снова лег, потому что они должны были проходить мимо книжного магазина Наттье. Он ненавидел этот книжный магазин с его грязно-желтой витриной. И потом, старуха всегда стояла на пороге и сплетала руки, когда видела, как его провозят мимо.
– Вы меня трясете! Осторожно!
Как крыса! Есть люди, которые могут вскочить, побежать, спрятаться в погребе или на чердаке. Я же мешок, им достаточно прийти и взять меня.
– Вы будете наклеивать этикетки, Жаннин?
– Какие этикетки?
– Этикетки для отправки: верх, низ, бьется, будьте осторожны. Одну наклеите мне на живот, другую – на задницу.
– Злюка! – возмутилась она. – Злюка! Злюка!
– Ладно! Нас, естественно, повезут на поезде?
– Да. А как же еще?
– На санитарном поезде?
– Но я не знаю! – закричала Жаннин. – Я не хочу выдумывать, я вам уже сказала, что не знаю!
– Не кричите – я не глухой.
Коляска резко остановилась, и он услышал, что Жаннин сморкается.
– Что с вами? Вы меня остановили посреди улицы…
Коляска снова покатилась по неровной мостовой. Он продолжал:
– Однако нам часто говорили, что следует избегать поездок на поезде.
Над его головой слышалось тревожное сопение, и он замолчал: он опасался, что она разревется. В этот час улицы кишели больными; хороша же будет картина: взрослого парня везет плачущая медсестра… Но тут ему пришла в голову мысль, и он, не сдержавшись, процедил сквозь зубы:
– Ненавижу переезжать.
Они все решили за него, они берут на себя все, у них здоровье, сила, свободное время; они проголосовали, выбрали своих вождей, они стояли с важным и озабоченным видом, они бегали по всей земле, они договорились между собой о судьбах планеты, и в том числе о судьбе несчастных больных – тех же взрослых детей. И вот результат: война, доигрались. Почему я должен расплачиваться за их глупости? Я больной, никто не спросил моего мнения! Теперь они вспомнили, что я существую, и хотят увлечь меня за собой, в свое дерьмо. Меня возьмут за подмышки и щиколотки, скажут мне: «Извини, брат. Но мы воюем», сунут меня в угол, как помет, чтобы я не осмелился помешать их кровавым стрельбищам. Вопрос, от которого он долго удерживался, едва не сорвался с губ. Он ей причинит боль, ну и пусть: он все равно спросит.
– А вы… а сестры будут нас сопровождать?
– Да, – сказала Жаннин. – Некоторые.
– А… а вы?
– Нет, – ответила Жаннин. – Я – нет.
Он, задрожав, прохрипел:
– Вы нас бросаете?
– Меня направляют в госпиталь в Дюнкерке.
– Ладно, ладно! – сказал Шарль. – Все сестры стоят друг друга, а?
Жаннин не ответила. Он привстал и осмотрелся. Его голова вертелась сама по себе слева направо и справа налево, это было утомительно, и в глазах у него сухо пощипывало. Навстречу им катилась коляска, которую толкал высокий элегантный старик. На фиксаторе лежала молодая женщина с худым лицом и золотистыми волосами; на ноги ей набросили роскошное меховое манто. Она мельком взглянула на Шарля, откинула голову и пробормотала несколько слов в склоненное лицо пожилого господина.
– Кто это? – спросил Шарль. – Я уже давно ее вижу.
– Не знаю. Кажется, артистка мюзик-холла. Ей ампутировали ногу, потом руку.
– Она знает?
– Что?
– Я хочу сказать, больные, они знают?
– Никто не знает, доктор запретил об этом распространяться.
– Жаль, – проговорил он с усмешкой. – Может, она не так чванилась бы.
– Побрызгайте инсектицидом, – сказал Пьер перед тем, как сесть в фиакр. – Здесь пахнет насекомыми.
Араб послушно распылил немного жидкости на белые чехлы и подушки сиденья.
– Готово, – сказал он.
Пьер нахмурил брови:
– Гм!
Мод закрыла ладонью его рот.
– Не надо, – умоляюще сказала она. – Не надо! И так сойдет.
– Как хочешь. Но если наберешься блох, потом не жалуйся.
Он подал ей руку, чтобы помочь подняться в фиакр, и уселся рядом. Худые пальцы Мод оставили на его ладони сухой лихорадочный жар: у нее всегда была небольшая температура.
– Повезите вокруг крепостных стен, – распорядился Пьер.
Что ни говори, бедность делает человека вульгарным. Мод была вульгарна, он ненавидел ее панибратство по отношению к кучерам, носильщикам, гидам, официантам: она постоянно принимала их сторону, и если их заставали на месте преступления, всегда старалась найти им извинения.
Кучер стегнул лошадь, и фиакр, скрипя, тронулся.
– Ну и колымага! – смеясь, сказал Пьер. – Того и гляди, ось сломается.
Мод высунулась из окошка и посмотрела окрест большими, серьезными и совестливыми глазами.
– Это наша последняя прогулка.
– Да! – ответил он. – Последняя.
Она настроена на лирический лад, так как это последний день, и завтра мы сядем на пароход. Это его раздражало, но он лучше переносил ее задумчивость, нежели веселость. Она была не очень красива, и когда хотела выказать любезность или живость, это сразу превращалось в бедствие. «Вполне достаточно», – подумал он. Будет завтрашний день, три дня плавания, а потом, в Марселе, до свидания, каждый пойдет своей дорогой. Он был доволен, что заказал себе место в первом классе: в третьем путешествовали четыре женщины, он пригласит ее в свою каюту, когда захочет, но, будучи робкой, она никогда не осмелится подняться в первый класс, если он сам за ней не придет.
– Вы заказали себе место в автобусе? – спросил он.
Мод немного смутилась.
– Мы не поедем автобусом. Нас подвезут на автомобиле в Касабланку.
– Кто?
– Один знакомый Руби, солидный господин, совершенно обворожительный, нам придется сделать крюк через Фес.
– Жаль, – вежливо отозвался он.
Фиакр выехал из Марракеша и теперь катил среди европейского города. Перед ними всухую гнил огромный участок с развороченными бидонами и пустыми консервными банками. Фиакр проезжал меж большими белыми кубами со сверкающими стеклами; Мод надела темные очки, Пьер немного морщился из-за солнца. Аккуратно расположенные бок о бок, кубы не давили на пустыню; подуй ветер – и они, казалось, улетели бы. На одном из них повесили указатель: «Улица Маршала Лиоте». Но улицы не было: совсем маленький рукав асфальтированной пустыни между зданиями. Три туземца глазели на проезжающий фиакр; у самого молодого было на глазу бельмо. Пьер приосанился и строго посмотрел на них. Всегда следует показать свою силу, чтобы не быть вынужденным ею воспользоваться, – эта формула не имела смысла только для военных властей, но она предписывала нормы поведения колонистам и даже обычным туристам. Не нужно демонстрировать свое могущество: надо лишь не забываться и просто держаться прямо. Тревога, угнетавшая его с утра, испарилась. Под тупыми взглядами этих арабов он чувствовал, что представляет Францию.
– Что будет, когда мы вернемся? – вдруг спросила Мод.
Он, не отвечая, стиснул кулаки. Дура – она внезапно возродила его тревогу. Мод настаивала:
– Возможно, будет война. Ты уедешь, а я стану безработной.
Он терпеть не мог, когда она говорила о безработице с серьезным видом работяги. Тем не менее она была второй скрипкой в женском оркестре «Малютки», гастролировавшем по Средиземноморью и Ближнему Востоку: это могло сойти за артистическую профессию. Он раздраженно дернулся:
– Прошу тебя, Мод, давай не говорить о политике. Хотя бы один раз, а? Это наш последний вечер в Марракеше.
Она прижалась к нему:
– Действительно, это наш последний вечер.
Он погладил ее по волосам; но во рту у него оставался горький привкус. Это был не страх – вовсе нет; ему было с кого брать пример, он знал, что никогда не испугается. Это было скорее… разочарование.
Теперь фиакр ехал вдоль крепостных стен. Мод показала на красные ворота, над которыми зеленели верхушки пальм:
– Пьер, ты помнишь?
– Что?
– Сегодня ровно месяц, как мы встретились – именно здесь.
– Ах, да…
– Ты меня любишь?
У нее было худощавое личико, немного костистое, с огромными глазами и красивыми губами.
– Да, я люблю тебя.
– Скажи повыразительней!
Он наклонился и поцеловал ее.
У старика был сердитый вид, хмуря брови, он смотрел им прямо в глаза. Он отрывисто произнес: «Меморандум! Вот и все их уступки!» Гораций Вильсон покачал головой, он подумал: «К чему он ломает комедию?» Разве Чемберлен не знал, что будет меморандум? Разве все не было решено еще накануне? Разве они не согласились со всем фарсом, когда остались наедине с этим двуличным доктором Шмидтом?
– Обними свою маленькую Мод, у нее сегодня вечером скверное настроение.
Он обнял ее, и она заговорила детским голоском:
– Ты не боишься войны?
Он почувствовал неприятную дрожь, пробежавшую по затылку.
– Моя бедная девочка, нет, не боюсь. Мужчина не должен бояться войны.
– А я точно могу сказать, что Люсьен боится! Это меня и отвратило от него. Он слишком труслив.
Он нагнулся и поцеловал ее в волосы: он недоумевал, почему у него вдруг возникло желание дать ей пощечину?
– Прежде всего, – продолжала она, – как мужчина может защищать женщину, если он все время дрейфит?
– Это не мужчина, – мягко сказал он. – А я – мужчина.
Она взяла его лицо в свои руки и начала говорить, обнюхивая его:
– Да, вы были мужчиной, месье, да, вы были мужчиной. Черные волосы, черная борода – вам можно было дать двадцать восемь лет.
Он высвободился; он чувствовал себя податливым и пресным; тошнота поднималась от желудка к горлу, и он не знал, от чего его больше тошнило – от этой мерцающей пустыни, от этих красных стен или от этой женщины, которая съежилась в его объятиях. «Как же я устал от Марокко!» Он хотел бы оказаться в Туре, в родительском доме, и чтобы было утро, и мать принесла ему в постель завтрак! «Итак, вы спуститесь в салон для журналистов, – сказал он Невилу Гендерсону, – и сообщите, что в соответствии с просьбой рейхсканцлера Гитлера я прибуду в отель «Дрезен» приблизительно в двадцать два тридцать».
– Кучер! – сказал он. – Кучер! Возвращайтесь в город через эти ворота!
– Что с тобой? – удивилась Мод.
– Мне надоели крепостные стены! – вскинулся он. – Мне надоела пустыня и Марокко тоже.
Но он сразу же совладал с собой и двумя пальцами взял ее за подбородок.
– Будешь умницей, – сказал он ей, – купим тебе мусульманские туфли.
Войны не было в музыке манежей, не было в кишащих забегаловках улицы Рошешуар. Ни дуновения ветра. Морис истекал потом, он чувствовал у своего бедра теплое бедро Зезетты, сыграть в белот – и все в порядке, войны не было в полях, в неподвижном дрожании теплого воздуха над изгородями, в звонком, чистом щебете птиц, в смехе Марсель, она возникла в пустыне вокруг стен Марракеша. Поднялся горячий, красный ветер, он вихрем закружился вокруг фиакра, пробежал по волнам Средиземного моря, ударил в лицо Матье; Матье обсыхал на пустынном пляже, он думал: «Даже этого не останется», и ветер войны дул ему прямо в лицо.
Даже этого! Немного похолодало, но ему не хотелось сразу возвращаться. Один за другим люди уходили с пляжа; наступило время ужина. Само море обезлюдело, оно лежало, пустынное и одинокое, большой лежачий свет, и черный трамплин для лыжников дырявил его, как верхушка кораллового рифа.
«Даже этого не останется», – думал Матье. Она вязала у открытого окна, ожидая писем Жака. Время от времени она со смутной надеждой поднимала голову, она искала взглядом свое море. Ее море: буек, ныряльщик, плещущая о теплый песок вода. Тихий садик, столь подходящий для людей, садик с несколькими широкими аллеями и бесчисленными тропинками. И каждый раз она возобновляла свое вязание с тем же разочарованием: ей изменило ее море. Территория страны, ощетинившаяся штыками и перегруженная пушками, втянет в себя это побережье; вода и песок будут вовлечены в эту воронку и продолжат свою сумрачную жизнь каждый сам по себе. Колючая проволока избороздит белые каменные лестницы звездчатыми тенями; пушки на бульварах между соснами, часовые у вилл; офицеры вслепую будут шагать по этому городу скорбных вод. Море вернется к своему одиночеству. Купаться будет запрещено: вода, охраняемая военными, примет у кромки пляжа казенный вид; вышка для прыжков и буйки не будут больше заманчиво маячить вдалеке; все маршруты, которые Одетта прочертила на волнах со времен своего детства, будут стерты. Но открытое море, наоборот – открытое море, неспокойное и бесчеловечное, с морскими сражениями в пятидесяти милях от Мальты, с гроздьями потопленных кораблей у Палермо, с глубинами, изборожденными железными рыбами, открытое море ополчится против нее, повсюду, во всем будет обнаруживаться его ледяное присутствие, открытое море поднимется на горизонте стеной безнадежности. Матье встал; он уже высох и стал ладонью очищать плавки. «Война, как это омерзительно!» – подумал он. А после войны? Это будет уже другое море. Но какое? Море победителей? Море побежденных? Через пять, через десять лет он, возможно, снова будет здесь, быть может, таким же сентябрьским вечером, в тот же самый час, он будет сидеть на том же песке перед этой огромной желатиновой массой, и те же золотистые лучи будут скользить по поверхности воды. Но что он увидит?
Матье встал, завернулся в халат. Сосны на террасе чернели на фоне неба. Он бросил последний взгляд на море: война еще не разразилась; люди спокойно ужинали на виллах; ни одной пушки, ни одного солдата, нет колючей проволоки, флот стоит на рейде в Бизерте, в Тулоне; еще дозволено видеть море в цвету, море одного из последних мирных вечеров. Но оно останется спокойным и нейтральным: огромное пространство соленой воды, слегка потревоженное, но молчаливое. Он пожал плечами и поднялся по каменным ступеням: уже несколько дней все поочередно покидало его. Он не ощущал запахов, всех южных запахов, не ощущал вкуса. А теперь – море. «Как крысы бегут с тонущего корабля». Когда наступит день отъезда, он будет совсем пуст, ему будет не о чем сожалеть. Он медленно пошел к вилле, а Пьер выпрыгнул из фиакра.
– Идем, – сказал он, – ты заслужила пару туфель.
Они вошли на рынок. Было поздно; арабы спешили добраться до площади Джемаа-эль-фна до захода солнца. Пьеру стало веселее; волнение толпы его приободрило. Он смотрел на женщин в чадрах, и когда они отвечали на его взгляд, он наслаждался своей красотой, отраженной в их глазах.
– Смотри, – сказал он, – вот и туфли.
Прилавок был переполнен: целая груда дешевых тканей, ожерелий, вышитых туфель.
– Как красиво! – сказала Мод. – Остановимся.
Она запустила руки в этот пестрый беспорядок, и Пьер немного отодвинулся: он не хотел, чтобы арабы видели, как европеец поглощен созерцанием женских безделушек.
– Выбирай, – рассеянно сказал он, – выбирай, что хочешь.
За соседним прилавком продавали французские книги; он, от нечего делать, стал их перелистывать. Тут была уйма детективов и кинороманов. Он слышал, как справа от него под пальцами Мод звякали кольца и браслеты.
– Нашла туфли своей мечты? – спросил он через плечо.
– Я ищу, ищу, – ответила она. – Надо выбрать.
Он вернулся к книгам. Под стопкой «Джека из Техаса» и «Буйвола Билла» он обнаружил книгу с фотографиями. Это было произведение полковника Пико о ранениях лица; первых страниц не хватало, другие были загнуты. Он хотел быстро положить ее на место, но было слишком поздно: книга открылась сама собой; Пьер увидел ужасное лицо, от носа до подбородка зияла дыра, дыра без губ и зубов; правый глаз вырван, широкий шрам прорезал правую щеку. Изувеченное лицо сохранило человеческое выражение – отвратительно насмешливый вид. Пьер почувствовал ледяные покалывания по всей коже головы и подумал: как эта книга сюда попала?
– Хороший книга, – сказал торговец. – Не скучаешь.
Пьер принялся листать ее. Он увидел людей без носов, без глаз или без век, с выпученными, как на анатомических плакатах, глазными яблоками. Он был загипнотизирован, он просматривал фотографии одну за другой и повторял про себя: «Как она попала сюда?» Самым ужасным было лицо без нижней челюсти; на верхней челюсти не было губы, открылись десны и четыре зуба. «Он жив, – подумал Пьер. – Этот человек жив». Он поднял глаза – облезлое зеркало в позолоченной раме отразило его собственное лицо, он с ужасом посмотрел на него…
– Пьер, – сказала Мод, – посмотри-ка, я нашла.
Он замешкался: книга жгла ему руки, но он не мог решиться отшвырнуть ее в общую кучу, отойти от нее, повернуться к ней спиной.
– Иду, – сказал он.
Он указал торговцу пальцем на книгу и спросил:
– Сколько?
Юноша метался, как хищный зверь в клетке, по небольшой приемной. Ирен печатала на машинке любопытную статью о преступлениях военщины. Она остановилась и подняла голову:
– У меня от вас голова кружится.
– Я не уйду, – упорствовал Филипп. – Не уйду, пока он меня не примет…
Ирен засмеялась:
– В чем же дело! Вы хотите его видеть? Что ж, он там, за дверью; вам нужно только войти – и вы его увидите.
– Прекрасно! – сказал Филипп.
Он сделал шаг вперед и остановился:
– Я… это будет неловко, я его потревожу. Ирен, пожалуйста, спросите его! В последний раз, клянусь вам, в последний раз.
– Какой вы надоедливый, – сказала она. – Оставьте все это. Питто – подлец; неужели вы не понимаете: вам повезло, что он не хочет вас видеть! Вам же только хуже будет.
– А, куда уж хуже! – иронично сказал он. – Разве мне можно повредить? Сразу видно, что вы не знаете моих родителей: они – сама добродетель, а мне оставили только водить компанию со Злом.
Ирен посмотрела ему в глаза:
– Вы думаете, я не знаю, чего он от вас хочет?
Юноша покраснел, но ничего не ответил.
– И потом, после всего, – сказала она, пожимая плечами.
– Пойдите спросите еще, Ирен, – умоляюще повторил Филипп. – Пойдите спросите еще. Скажите ему, что я на пороге кардинального решения.
– Ему на это плевать.
– И все-таки пойдите и скажите.
Она толкнула дверь и вошла, не постучав. Питто поднял голову и скривился.
– Что такое? – прорычал он.
Ирен его не боялась.
– Все в порядке, – сказала она. – Не надо так кричать. Там этот мальчик. Мне надоело с ним нянчиться. Вас не очень затруднит, если я вам подброшу его на минутку?
– Я сказал нет! – рявкнул Питто.
– Он говорит, что собирается принять кардинальное решение.
– Какое мне до этого дело, черт побери!
– Ну вас! Разбирайтесь сами, – нетерпеливо сказала она. – Я ваша секретарша, а не его нянька.
– Ладно, – сказал он, сверкнув глазами. – Пусть войдет! Так он собирается принять кардинальное решение! Кардинальное решение! Что ж, а я собираюсь его кардинально прикончить.
Она рассмеялась ему в лицо и вернулась к Филиппу.
– Идите.
Юноша так и бросился, но на пороге кабинета благоговейно застыл, и она вынуждена была его подтолкнуть, чтобы заставить войти. Она закрыла за ним дверь и вернулась к своему столу. Почти тотчас же по ту сторону двери послышалась громкая брань. Ирен, не обращая внимания, продолжала печатать: она знала, что для Филиппа партия проиграна. Он корчил из себя человека, стоящего над общественной моралью, и преклонялся перед Питто; Питто хотел воспользоваться этим, чтобы приголубить его, и все это из чистой порочности: он даже не был педерастом. В последний момент малыш струсил. Он был как все мальчишки – хотел иметь все, не давая ничего взамен. Теперь он умолял Питто сохранить с ним дружбу, но Питто еще раньше послал его к черту. Она слышала, как он кричал: «Пошел вон! Ты маленький трус, маленький буржуа, маменькин сынок, корчишь из себя сверхчеловека!» Она засмеялась и напечатала еще несколько строк статьи. «Можно ли представить себе более гнусных животных, чем высшие офицеры, осудившие капитана Дрейфуса?» «Как он их приложил», – развеселившись, подумала она.
Дверь с шумом распахнулась и захлопнулась. Филипп стоял перед ней. Лицо у него было заплаканное. Он склонился над столом, направив указательный палец в грудь Ирен:
– Он довел меня до крайности, – сказал он со свирепым видом. – Никто не имеет права доводить людей до крайности. – Он запрокинул голову и засмеялся. – Вы обо мне еще услышите!
– Не забивай себе голову чепухой, – вздохнув, сказала Ирен.
Санитарка закрыла крышку чемодана: двадцать две пары туфель, он, видно, не часто обращался к сапожникам, когда пара изнашивалась, он бросал ее в чемодан и покупал другую; более сотни пар носков с дырами на пятке и большом пальце, в шкафу шесть поношенных костюмов, и везде грязь, настоящее логово холостяка. Ничего не случится, если она оставит его на пять минут; она прошмыгнула в коридор, вошла в туалет, подняла юбки, оставив на всякий случай дверь приоткрытой. Она быстро облегчилась, внимательно прислушиваясь к малейшему шуму; но Арман Вигье продолжал послушно лежать, совсем один в своей комнате, его желтые руки покоились на простыне, худое лицо с седой бородой и впавшими глазами запрокинулось, он отстраненно улыбался. Маленькие ноги вытянулись под простыней, а ступни образовывали одна с другой угол в восемьдесят градусов, его ногти остро торчали – ужасные ногти больших пальцев ног, подрезаемые перочинным ножиком каждые три месяца, они-то в течение двадцати пяти лет и дырявили все носки. На ягодицах у него были пролежни, хотя под него и подкладывали резиновый круг, но они больше не кровоточили: он был мертв. На ночной столик положили его пенсне и вставную челюсть в стакане.
Мертв. А его жизнь была здесь повсюду, неощутимая, законченная, суровая и полная, как яйцо, до того заполненная, что все силы на свете не смогли бы просунуть в нее и скрупул, до того пористая, что Париж и мир проходили сквозь нее, разбросанная по четырем сторонам Франции и полностью сконцентрированная в каждой точке пространства, большая, неподвижная и крикливая ярмарка; здесь были крики, смех, свистки локомотивов и взрывы шрапнели, 6 мая 1917 года, эта кровавая бомбежка в его голове, когда он падал между двумя траншеями, здесь были окоченевшие шумы, и настороженная санитарка слышала лишь журчание под своими юбками. Она выпрямилась, из уважения к смерти не спустила воду и вернулась к изголовью Армана, проходя через большое неподвижное солнце, навеки освещающее лицо женщины в лодке 20 июля 1900 года. Арман Вигье умер, жизнь его плавала, вобрав в себя неподвижные горести, большой полосатый узор, который от одного до другого конца пересекает март 1922 года, его межреберную боль, нерушимые маленькие сокровища, радугу над набережной Берси субботним вечером, когда шел дождь, и мостовые блестели, смеясь, промчались два велосипедиста, удушливым мартовским полднем шум дождя на балконе, цыганский напев, исторгнувший из глаз слезы, капли блестевшей в траве росы, взлет голубей на площади Святого Марка. Она развернула газету, поправила на носу очки и прочла: «Последние новости. Встреча господина Чемберлена с рейхсканцлером Гитлером сегодня в полдень не состоялась». Она подумала о своем племяннике, которого, безусловно, мобилизуют, положила газету рядом с собой и вздохнула. Мир был еще здесь, как радуга, как солнце, как светлый рукав реки, осиянный светом. Мир 1939, а потом и 1940, и 1980 года, огромный мир людей; санитарка сжала губы, она подумала: «Это война». Она посмотрела вдаль, и взгляд ее проходил мир насквозь. Чемберлен покачал головой, он сказал: «Естественно, я сделаю, что смогу, но особых надежд у меня нет». Гораций Вильсон почувствовал, как неприятная дрожь пробежала по спине, он сказал себе: «Искренен ли он?», а санитарка подумала: «Муж в четырнадцатом году, племянник в тридцать восьмом: я жила между двумя войнами». Но Арман Вигье знает: только что родился мир, Шанталь у него спрашивает: «Почему ты воевал, с твоими-то убеждениями?», и он отвечает: «Чтобы эта война была последней». 27 мая 1919 года. Отныне и во веки веков. Он слушает Бриана, совсем крошечного на трибуне под прозрачным небом, он затерялся в толпе паломников, мир спустился на них, они касаются его, они его видят, они кричат: «Да здравствует мир!» Отныне и во веки веков. Он сидит на железном стульчике в Люксембургском саду, отныне он будет всегда смотреть на эти цветущие каштаны, война стала достоянием прошлого, он вытягивает изящные ноги, смотрит на бегающих детей, он думает, что они никогда не узнают ужасов войны. Предстоящие годы будут безмятежной столбовой дорогой, время распускается веером. Он смотрит на свои старые руки, согретые солнцем, он улыбается, он думает: «Это благодаря нам. Войны больше не будет. Ни в моей жизни, ни после меня». 22 мая 1938 года. Отныне и во веки веков. Арман Вигье умер, и никто не может больше признать, прав он или не прав. Никто не может изменить нерушимое будущее его остывшего тела. Днем больше, одним-единственным днем, и все его надежды, возможно, рухнули бы, он вдруг обнаружил бы, что вся его жизнь была расплющена между двумя войнами, как между молотом и наковальней. Но он умер 23 сентября 1938 года в четыре часа утра после семи дней агонии. Он унес с собой мир. Мир, весь мир планеты, казалось, нерушимый. В дверь позвонили, санитарка вздрогнула, должно быть, это кузина из Анжера, его единственная родственница, вчера ее известили телеграммой. Санитарка отворила маленькой женщине в черном, с крысиной мордочкой, полузакрытой волосами.
– Я – мадам Вершу.
– Очень хорошо, проходите, пожалуйста.
– Его еще можно увидеть?
– Да. Он здесь.
Мадам Вершу подошла к кровати, посмотрела на впалые щеки и ввалившиеся глаза.
– Он очень изменился, – сказала она.
Двадцать часов тридцать минут в местечке Жуан-ле Пен, двадцать один тридцать в Праге.
– Не выключайте радио. В ближайшие минуты последует очень важное сообщение. Не выключайте радио. В ближайшие минуты…
– Ушли, – сказал Милан.
Он стоял в оконном проеме. Анна не ответила. Она нагнулась и начала собирать осколки стекла, самые большие камни положила в передник и выбросила в окно. Лампа была разбита, комната стала темно-синей.
– А сейчас, – сказала она, – я хорошенько подмету.
Она повторила «подмету» и задрожала.
– Они у нас заберут все, – плача, сказала она, – все разломают, нас отсюда выгонят.
– Замолчи, – оборвал ее Милан. – Ради Бога, не плачь!
Он подошел к приемнику, повернул ручки, и внутри засветились лампы.
– Работает, – удовлетворенно сказал он.
Внезапно комнату заполнил суховатый механический голос:
– Не выключайте радио. В ближайшие минуты последует важное сообщение. Не выключайте радио. В ближайшие минуты последует важное сообщение…
– Слушай, – изменившимся голосом сказал Милан, – слушай!
Пьер шел широкими шагами. Мод трусила рядом с ним, прижимая рукой туфли. Она была довольна.
– Какие красивые, – лепетала она. – Руби умрет от зависти; она купила себе туфли в Фесе, но куда им до этих. И потом, это так удобно, надеваешь их, едва выпрыгнув из постели, не нужно даже притрагиваться к ним руками, а с обычными туфлями столько возни. Тут же всего одно движение, чтобы не потерять их, нужно просто выгнуть стопу, ставя большие пальцы вот так; я расспрошу у горничной в отеле, она арабка.
Пьер продолжал хранить молчание. Мод бросила на него беспокойный взгляд и продолжала:
– Тебе нужно купить себе такие же, а то ты всегда ходишь по комнате босиком; знаешь, они подходят и женщинам, и мужчинам…
Пьер резко остановился посередине улицы.
– Хватит! – прорычал он.
Она в недоумении тоже остановилась.
– Что с тобой?
– «Подходят и женщинам, и мужчинам!» – передразнил он Мод. – Сколько можно? Ты прекрасно знаешь, о чем я думал, пока ты болтала! Ты ведь тоже об этом думала, – в бешенстве добавил Пьер. Он облизал губы и язвительно усмехнулся. Мод хотела что-то сказать, но посмотрела на него и осеклась.
– Просто никто не хочет смотреть правде в глаза, – продолжал он. – Особенно женщины: когда они о чем-то думают, тут же начинают говорить о другом. Разве не так?
– Но, Пьер, – растерянно сказала Мод, – ты совсем сошел с ума! Я не понимаю, что ты говоришь. О чем, по-твоему, я думаю? И о чем думаешь ты?
Пьер вынул из кармана книгу, открыл ее и сунул ей под нос:
– Об этом.
Это была фотография обезображенного лица: носа не было, на глазу белела повязка.
– Ты… ты это купил? – изумилась она.
– Да, – сказал Пьер, – ну и что? Я мужчина, и я ничего не боюсь: я просто хочу видеть, какое лицо у меня будет через год.
Он помахал фотографией у нее перед носом.
– Ты будешь меня любить, когда я стану таким?
Ей стало страшно от такой мысли, она все отдала бы, лишь бы он замолчал.
– Отвечай! Будешь любить такого?
– Хватит, – сказала она, – умоляю тебя, хватит.
– Эти люди, – сказал Пьер, – живут в приюте Вальде-Грас. Они выходят только по ночам, да и то с маской на лице.
Она хотела взять у него книгу, но он вырвал ее и сунул в карман. Мод посмотрела на него, губы у нее дрожали, она боялась разрыдаться.
– Пьер, – прошептала она. – Так, значит, ты боишься?
Он резко умолк и недоуменно уставился на нее. Оба на минуту замерли, затем он протянул:
– Все люди боятся. Все. Не боятся только дураки; храбрость тут ни при чем. И ты не имеешь права осуждать меня, потому что воевать будешь не ты.
Они молча зашагали дальше. Мод думала: «Он трус!» Она смотрела на его высокий загорелый лоб, на флорентийский нос, на его красивые губы и думала: «Он трус. Как Люсьен. Как же мне не везет».
Силуэт Одетты плавал в световом мареве, тень ее уходила в сумрак гостиной; облокотившись о перила балкона, Одетта смотрела на море; Большой Луи думал: «Какая еще война?» Он шел, и красноватый свет заката плясал на его руках и бороде; Одетта чувствовала спиной уютную полутемную комнату, уютное прибежище, белую скатерть, слабо светившуюся в темноте, но Одетта была на свету, свет, знание и война входили в нее через глаза, она думала, что скоро он снова уйдет на войну, электрический свет сгущался пучками в зыбкости уходящего дня, пучками яично-желтого цвета, Жаннин повернула выключатель, руки Марсель двигались в желтизне под лампой, она попросила соли, ее руки отбрасывали тени на скатерть, Даниель сказал: «Это блеф, нужно только немного продержаться, скоро он откроет карты». Жесткий свет царапает глаза, как наждак, на юге всегда так, до последней минуты. Сейчас полдень, но потом внезапно кубарем скатывается ночь, Пьер болтал, он хотел заставить ее поверить, что он снова обрел спокойствие, но Мод молча шла рядом с ним с таким же жестким, как этот свет, взглядом. Когда они пришли, Мод испугалась, что он предложит ей вместе провести ночь, но Пьер снял шляпу и холодно сказал: «Нам завтра рано вставать, и тебе еще вещи собирать, думаю, тебе лучше сегодня переночевать с подругами». Она ответила: «Я тоже думаю, что так лучше». И он сказал ей: «До завтра». «До завтра, – ответила она, – до завтра на пароходе».
«Не выключайте радио, в ближайшие минуты последует важное сообщение». Он лежал, положив руки под голову, и чувствовал себя как во хмелю, он сказал: «Мы любим нашу маленькую куколку». Она вздрогнула и ответила: «Да…» Как и каждый вечер, она боялась. «Да, я вас очень люблю!» Иногда она соглашалась, иногда говорила «нет», но сегодня вечером не посмела. «Значит, куколка получит маленькую ласку, маленькую вечернюю ласку?» Жаннин вздохнула, ей было стыдно, и это было забавно. Она сказала: «Не сегодня». Он отдышался и проговорил: «Бедная куколка, она так волнуется, это ее так успокоило бы. Это ей поможет уснуть, разве вы этого не хотите? Не хотите? Ты же знаешь, это меня всегда успокаивает…» Она напустила на себя вид старшей медсестры, как в минуты, когда сажала его на судно, голова ее одеревенела, глаза она не закрыла, но старалась ничего не видеть, а ее руки профессионалки быстро расстегивали его, лицо ее стало совсем грустным, и это было ужасно забавно, она запустила ему под одежду руку, мягкую, как миндальное тесто, Одетта вздрогнула и сказала: «Вы меня испугали. Жак с вами?» Шарль вздохнул, Матье сказал: нет. «Нет, – сказал Морис, – нужно то, что нужно». Он снял ключ со щита. «Пахнет мочой, фу, как противно». «Это малыш мадам Сальвадор, – ответила Зезетта, – она его выгоняет, когда принимает мужчин, а он развлекается: по всем углам спускает штанишки».
Они поднялись по лестнице: «Не выключайте радио, важное сообщение…» Милан и Анна склонились над приемником, победный гул врывался через окна. «Сделай немного потише, – сказала Анна, – не нужно их провоцировать», рука, нежная, как миндальное тесто, Шарль распускался, расцветал, огромный плод набух, стручок вот-вот лопнет, плод, направленный прямо в небо, сочный плод, удушающе-нежная весна; молчание, стук вилок и долгие атмосферные помехи в приемнике, ласка ветра на большом бархатистом плоде, Анна вздрогнула и сжала руку Милана.
«Сограждане,
Чехословацкое правительство объявляет всеобщую мобилизацию; все мужчины в возрасте до сорока лет и специалисты всех возрастов должны немедленно собраться. Все офицеры, унтер-офицеры и солдаты запаса и резерва всех степеней, все отпускники должны немедленно собраться в мобилизационных пунктах. Все должны быть одеты в поношенную гражданскую одежду, иметь при себе военные билеты и сухой паек на двое суток. Крайний срок прибытия на соответствующие пункты сбора – четыре тридцать утра.
Весь транспорт, автомобили и самолеты временно конфискуются. Продажа бензина дозволена только с разрешения военных властей. Сограждане! Наступил решающий момент. Успех зависит от каждого из нас. Пусть каждый отдаст все силы на благо родины. Будьте отважны и верны. Наша борьба – борьба за справедливость и свободу!
Да здравствует Чехословакия!»
Милан выпрямился, он весь пылал, он положил руки на плечи Анны и сказал ей:
– Наконец-то! Анна, началось! Началось!
Женский голос повторил обращение на словацком, они больше ничего не понимали, кроме некоторых слов, но это звучало, как боевая музыка. Анна повторила: «Наконец-то! Наконец-то!», и слезы потекли по ее щекам. «Die Regierung hat entschlossen» – это уже по-немецки, Милан повернул ручку до упора, и радио завопило, этот голос разобьет о стены их отвратительные песни, их праздничный гвалт, он выйдет через окна, он разобьет оконные стекла Егершмиттов, он найдет их в мюнхенских гостиных, в их маленьком семейном кругу, и нагонит на них страху. Запах мочи и прокисшего молока подстерегал его, он его глубоко вдохнул, запах вошел в него, как от взмаха веника, очищая его от золотистых опрятных ароматов улицы Руаяль, это был запах нищеты, это был его запах. Морис стоял у двери, пока Зезетта вставляла ключ в замочную скважину, а Одетта весело твердила: «К столу, к столу, Жак, тебя ждет сюрприз»; он чувствовал себя сильным и бодрым, он снова обрел ощущение гнева и бунта; на третьем этаже выли дети: их отец вернулся домой пьяным; в соседней комнате слышались мелкие шажки Марии Прандзини, ее муж, кровельщик, упал с крыши в прошлом месяце, звуки, цвета, запахи – все казалось таким подлинным, он очнулся, подступала реальность войны.
Старик повернулся к Гитлеру; он посмотрел на эту злую детскую мордочку, мордочку мухи, и почувствовал себя до глубины души потрясенным. Вошел Риббентроп, он сказал несколько слов по-немецки, и Гитлер подал знак доктору Шмидту: «Мы узнали, – сказал по-английски доктор Шмидт, – что правительство господина Бенеша объявило всеобщую мобилизацию». Гитлер молча развел руками, как бы сожалея, что события подтвердили его правоту. Старик любезно улыбнулся, и в его глазах зажегся багровый огонек. Огонек войны. Ему оставалось только насупиться, как фюрер, развести руками, как бы говоря: «Ну что? Стало быть, так!» – и стопка тарелок, которую он удерживал в равновесии в течение семнадцати дней, обрушится на паркет. Доктор Шмидт с любопытством смотрел на него, думая, что, должно быть, заманчиво расставить руки, когда в течение семнадцати дней несешь стопку тарелок, в голове у него промелькнуло: «Вот исторический момент», он подумал, что они наконец-то причалили к последней гавани, и старый лондонский коммерсант угодил в ловушку. Теперь фюрер и старик молча смотрели друг на друга, и никакой переводчик был им не нужен. Доктор Шмидт слегка отступил.
Он сел на скамейку на площади Желю и положил рядом банджо. Под платанами стоял темно-синий сумрак, слышалась музыка, был вечер, мачты рыболовецких судов чернели у кромки суши, а с другой стороны порта сверкали сотни окон. Какой-то мальчик баловался водой в фонтане, на соседнюю скамейку уселись другие негры и поздоровались с ним. Он не хотел ни есть, ни пить, он искупался за дамбой, он встретил высокого, заросшего человека, казалось, свалившегося с луны, и тот дал ему выпить, все было прекрасно. Он вынул банджо из футляра, ему захотелось петь. Секунду-другую он кашляет, прочищает горло, сейчас он запоет, Чемберлен, Гитлер и Шмидт молча ожидали войну, она разразится через мгновение, нога отекла, но это пройдет, через мгновение он высвободит ее из ботинка, Морис, сидя на кровати, стягивал его изо всех сил, через мгновение Жак доест бульон, Одетта больше не услышит этот легкий раздражающий шелест, фейерверк, кишение снарядов, готовых выскочить из орудий, через мгновение солнца скопом ударят вверх, ее куколка через мгновение запахнет полынной водкой, и нечто теплое, обильное, клейкое зальет его парализованные бедра, в это мгновение звучный и нежный голос взмоет через платановую листву; в то же мгновение Матье ел, ела Марсель, ел Даниель, ел Борис, ел Брюне; у всех у них мгновенные души, заполненные до краев маленьким вязким наслаждением, мгновение – и она войдет, закованная в сталь, устрашающая Пьера, принятая Борисом, алкаемая Даниелем, война, большая война ходячих, безумная война белых. Мгновение – и она разразилась в комнате Милана, она вышла наружу через все окна, она с грохотом обрушилась на Егершмиттов, она бродила у крепостной стены Марракеша, она дула на море, она заставляла проседать здания на улице Руаяль, она наполнила ноздри Мориса своим запахом мочи и прокисшего молока; в полях, на конюшнях, в фермерских дворах ее еще не было, она разыгрывалась в орла и решку между двумя зеркалами трюмо в лепных салонах отеля «Дрезен». Старик провел рукой по лбу и беззвучно произнес: «Что ж, если угодно, мы обсудим одну за другой статьи вашего меморандума». И доктор Шмидт понял, что переводчикам следует вновь приступить к работе.
Гитлер подошел к столу, и прекрасный низкий голос взмыл в воздух; на шестом этаже гостиницы «Массилиа» женщина, отдыхавшая на балконе, услышала его и сказала: «Гомес, иди послушай негра, это восхитительно!» Милан вспомнил о своей ноге, и радость его померкла, он стиснул плечо Анны и проговорил: «Меня не призовут, я больше ни на что не гожусь». А негр пел. Арман Вигье мертв, его бледные руки вытянуты на простыне, две женщины бдели у его одра, обсуждая события, они сразу же прониклись взаимной симпатией, Жаннин взяла махровое полотенце и вытерла руки, затем стала вытирать ему бедра, Чемберлен сказал: «Что касается первого параграфа, то я позволю себе два замечания», а негр пел: «Bei mir, bist du schon», что значит: «Для меня вы самая красивая».
Остановились две женщины, он их знал, Анина и Долорес, две потаскушки с улицы Ласидон, Анина сказала: «Ты поешь?», и он не ответил, он пел, и женщины улыбнулись ему, а Сара нетерпеливо позвала: «Гомес, Пабло, идите же! Чем вы там заняты? Здесь негр поет, это прелестно!»
Суббота, 24 сентября
В Кревильи в шесть часов папаша Крулар вошел в жандармерию и постучал в дверь кабинета. Он подумал: «Они меня разбудили». Он им так и скажет: «Зачем меня разбудили?» Гитлер спал, Чемберлен спал, его нос посвистывал, как флейта, Даниель, покрытый испариной, сидел на кровати и думал: «Это был всего лишь кошмар!»
– Войдите! – крикнул жандармский лейтенант. – А, это вы, папаша Крулар? Нужно будет постараться.
Ивиш тихо застонала и повернулась на бок.
– Меня разбудил малыш, – сказал папаша Крулар. Он с обидой посмотрел на лейтенанта и промолвил: – Это, должно быть, что-то важное…
– Ну, папаша Крулар, настало время смазывать сапоги!
Папаша Крулар не любил лейтенанта. Он удивился:
– При чем тут сапоги? У меня нет сапог, у меня сабо.
– Настало время смазывать сапоги, – повторил лейтенант, – смазывать сапоги: ну и влип же я!
Без усов он был похож на девушку. У него было пенсне и розовые щеки, как у учительницы. Он наклонился вперед и расставил руки, опершись на стол кончиками пальцев. Папаша Крулар смотрел на него и думал: «Это он приказал меня разбудить».
– Вас предупредили, что нужно принести пузырек с клеем? – спросил лейтенант.
Папаша Крулар держал клей за спиной; он молча показал его.
– А кисточки? – осведомился лейтенант. – Все нужно сделать быстро! Домой возвращаться уже некогда.
– Кисточки у меня в кармане, – с достоинством ответил папаша Крулар. – Меня разбудили неожиданно, но все же я не забыл кисточки.
Лейтенант протянул ему рулон:
– Одно объявление повесите на фасаде мэрии, два – на главной площади и одно – на доме нотариуса.
– Мэтра Бельомма? Но там запрещено вешать объявления, – возразил папаша Крулар.
– Плевать! – отрезал лейтенант. Вид у него был беспокойный и веселый. – Я беру это на себя, я все беру на себя.
– Значит, и вправду мобилизация?
– Вправду! – крикнул лейтенант. – Все мы пойдем вр-р-рукопашную, папаша Крулар, мы пойдем вр-р-ру-копашную!
– Какое там! – вздохнул папаша Крулар. – Мы-то с вами, наверное, останемся здесь.
В дверь постучали, и лейтенант торопливо пошел открывать. На пороге стоял мэр. Он был в сабо, с перевязью поверх рубашки.
– Так за чем вы прислали ко мне малыша?
– Вот плакаты, – ответил лейтенант.
Мэр надел очки и развернул рулоны. Он вполголоса прочел: «Всеобщая мобилизация» и быстро положил объявления на стол, как будто боялся обжечься. Он сказал:
– Я был в поле, забежал только взять свою перевязь.
Папаша Крулар протянул руку, свернул плакаты и засунул рулон под рубашку. Он обратился к мэру:
– Я удивился: с чего бы это меня в такую рань разбудили?
– Я забежал только взять свою перевязь, – повторил мэр. Он с беспокойством посмотрел на лейтенанта: – Там ничего нет о реквизиции.
– Это на другом плакате, – пояснил лейтенант.
– Боже мой! – воскликнул мэр. – Боже мой! Снова все начинается!
– Я воевал, – сообщил папаша Крулар. – Четыре с лишним года, и без единой царапины! – Он сощурил глаза, развеселившись от этого воспоминания.
– Хорошо, – сказал мэр. – Вы воевали на той войне, но не будете воевать на этой. И потом, вам плевать на реквизиции.
Лейтенант властно ударил по столу:
– Надо что-то делать! Нужно как-то отреагировать.
У мэра был растерянный вид. Он просунул руки под перевязи и выгнул спину.
– Барабанщик болен, – сказал он.
– Я умею бить в барабан, – ввернул папаша Крулар. – Могу его заменить. – Он улыбнулся: вот уже десять лет, как он мечтал стать барабанщиком.
– Барабанщик? – переспросил лейтенант. – Вы пойдете бить в набат. Вот что вы будете делать!
Чемберлен спал, Матье спал, кабил приставил лестницу к автобусу, взвалил на плечи чемоданы и стал подниматься, держась за поручни, Ивиш спала, Даниель спустил ноги с кровати, в голове его вовсю гремел колокол, Пьер посмотрел на черно-розовые ступни кабила, он думал: «Это чемодан Мод». Но Мод здесь не было, она уедет позже с Дусеттой, Франс и Руби в автомобиле богатого старика, влюбленного в Руби; в Париже, в Нанте, в Маконе клеили на стены белые плакаты, в Кревильи бил набат, Гитлер спал, Гитлер еще ребенок, ему четыре года, на него надели красивое платьице, прошла черная собака, он хотел поймать ее сачком; бил набат, мадам Ребулье внезапно проснулась и сказала:
– Где-то пожар.
Гитлер спал, он маникюрными ножничками кромсал на полосы брюки своего отца. Вошла Лени фон Рифеншталь, она подняла фланелевые полосы и сказала: «Я заставлю тебя их съесть в салате».
Набат бил, бил, бил, Моблан сказал жене:
– Наверняка лесопилка загорелась.
Он вышел на улицу. Мадам Ребулье, стоя в розовой рубашке за ставнями, видела, как он прошел, видела, как он окликнул бегущего мимо почтальона. Моблан кричал:
– Эй! Ансельм!
– Мобилизация! – прокричал в ответ почтальон.
– Что? Что он говорит? – спросила мадам Ребулье подошедшего к ней мужа. – Разве это не пожар?
Моблан посмотрел на два плаката, вполголоса прочел их, потом развернулся и пошел домой. Его жена стояла на пороге, он велел ей: «Скажи Полю, пусть запрягает двуколку». Он услышал шум и обернулся: это Шапен на тележке; он спросил у него: «Куда так спешишь?» Шапен молча взглянул на него и не ответил. Моблан посмотрел вслед тележке: два вола медленно шли следом, привязанные за подуздки. Он вполголоса сказал: «Красивые животные!» «Да, красивые! – разозлился Шапен. – Красивые, черт возьми!» Набат бил, Гитлер спал, старик Френьо говорил сыну: «Если у меня заберут двух лошадей и тебя, как я работать буду?» Нанетта постучала в дверь, и мадам Ребулье спросила ее: «Это вы, Нанетта? Узнайте, почему бьет набат», и Нанетта ответила: «Разве мадам не знает? Всеобщая мобилизация».
Как и каждое утро, Матье думал: «Все, как каждое утро». Пьер прильнул к стеклам: он смотрел через окно на арабов – те сидели на земле или на разноцветных сундуках и ждали автобуса из Уарзазата; Матье открыл глаза, глаза новорожденного, еще незрячие, и, как каждое утро, подумал: «Зачем?» Утро ужаса, огненная стрела, выпущенная на Касабланку, на Марсель, автобус сотрясался у него под ногами, мотор вращался, шофер, высокий мужчина в фуражке из бежевого драпа с кожаным козырьком, докуривал, не спеша, сигарету. Пьер думал: «Мод меня презирает». Утро, как всякое утро, стоячее и пустое, ежедневная помпезная церемония с медью и фанфарами, с прилюдным восходом солнца. Когда-то были другие утра: утра-начала – звонил будильник, Матье одним махом вскакивал с постели с суровыми глазами, совсем свежий, как при звуках горна. Теперь больше не было начал, нечего было начинать. И однако же, надо было вставать, участвовать в церемониале, пересекать по этой жаре дороги и тропинки, делать все культовые жесты, подобно утратившему веру священнику. Он спустил с кровати ноги, встал, снял пижаму. «Зачем?» И снова упал на спину, совершенно голый, положив под голову руки, сквозь белесый туман он начал различать потолок. «Пропащий человек. Абсолютно пропащий. Когда-то я носил дни на хребте, заставлял их переходить с одного берега на другой; теперь они несут меня». Автобус сотрясался, он бился, трясся под ногами, пол горел, Пьеру казалось, что его подошвы плавятся, его большое трусливое сердце билось, стучало, колотилось о теплые подушки спинки, стекло было горячим, но он заледенел, он думал: «Начинается». А кончится в окопе под Седаном или Верденом, но пока это только начало. Презрительно глядя на него, она сказала: «Значит, ты трус». Он представил ее разгоряченное серьезное личико, темные глаза, тонкие губы и почувствовал толчок в сердце, автобус тронулся. Было еще очень прохладно; Луизон Корней, сестра дежурной на переезде, приехавшая в Лизье помогать своей больной сестре вести хозяйство, вышла на дорогу, чтобы поднять шлагбаум, и сказала: «Как прохладно, даже покалывает». У нее было хорошее настроение – она была обручена. Уже два года она была обручена, но каждый раз, когда она об этом думала, это приводило ее в хорошее настроение. Она стала крутить ручку и вдруг остановилась. Луизон чувствовала, что за ее спиной на дороге кто-то был. Выйдя из дому, она и не подумала оглянуться, но теперь она была в этом уверена. Она обернулась, и у нее перехватило дыхание: более сотни тележек, двуколок, телег с быками, старых колясок неподвижно ждали у шлагбаума, выстроившись в нескончаемую очередь. На козлах продрогшие парни с кнутами в руках сидели молча, со злым видом. Кое-кто был верхом, иные пришли пешком, таща на веревке волов. Это было так странно, что она испугалась. Луизон быстро повернула ручку и отскочила на обочину. Парни стегнули лошадей, и повозки двинулись мимо, автобус катился по долгой красной пустыне, повсюду были арабы. Пьер подумал: «Чертовы козлы, я всегда неспокоен, когда чувствую их за спиной, я всегда думаю: что они замышляют?» Пьер бросил взгляд в глубину автобуса: они молча скучились, посеревшие и позеленевшие, с закрытыми глазами. Женщина в чадре пробиралась между мешками и тюками против движения, под чадрой виднелись ее опущенные веки. «Однако это неприятно, – подумал он. – Через пять минут они начнут блевать, у этих людей никудышные желудки». Пока они проезжали, Луизон узнавала их; это были парни из Кревильи, все из Кревильи, она могла каждого назвать по имени, но у них были какие-то странные лица, рыжий здоровяк – это сын Шапена, как-то она танцевала с ним на празднике Сен-Мартен, она ему крикнула: «Эй, Марсель, какой ты бравый!» Он обернулся и сердито посмотрел на нее. Она сказала: «Вы что, на свадьбу едете?» Он буркнул: «Черт бы все побрал. Угадала: на свадьбу». Телега, раскачиваясь, пересекла рельсы, за ней брели два вола, два красивых животных. Прошли другие телеги, она смотрела на них, держа ладонь козырьком. Она узнала Моблана, Турню, Кошуа, они не обращали на нее внимания, они проезжали, выпрямившись на козлах, держа свои кнуты как скипетры, они походили на развенчанных королей. Ее сердце сжалось, она крикнула им: «Это война?» Но никто ей не ответил. Они проезжали в раскачивающихся, подпрыгивающих колымагах, волы с потешным благородством брели за ними, повозки одна за другой исчезли, Луизон еще с минуту постояла, держа руку козырьком и глядя на восходящее солнце, автобус летел, как ветер, поворачивал и, рыча, делал виражи, она думала о Жане Матра, своем женихе, который служил в Ангулеме в саперном полку, повозки снова появились, как мухи на белой дороге, приклеенные к склону холма, автобус катил между бурыми валунами, поворачивал, при каждом вираже арабы падали друг на друга и жалобно восклицали: «Уех!» Женщина в чадре порывисто встала, и ее невидимый под белым муслином рот исторг ужасные проклятия; она потрясала над головой руками, толстыми, как ляжки, на конце рук танцевали легкие и пухленькие пальцы с накрашенными ногтями; в конце концов она скинула с себя чадру, высунулась в окошко, и ее начало рвать, она стонала. «Готово, – сказал себе Пьер, – готово; сейчас они нас обблюют». Повозки не продвигались, они как будто приклеились к дороге. Луизон долго смотрела на них: они двигались, они все же двигались, одна за другой они подъезжали к вершине холма и исчезали из виду. Луизон уронила руку, ее ослепленные глаза моргали, затем она пошла домой заниматься детьми. Пьер думал о Мод, Матье думал об Одетте, он накануне видел ее во сне, они держали друг друга за талию и пели баркаролу из «Сказок Гофмана» на понтоне «Провансаля». Теперь Матье был гол и весь в поту, он смотрел в потолок, и Одетта незримо присутствовала рядом с ним. «Если я еще не умер от скуки, то этим я обязан только ей». Белесая влага еще подрагивала в его глазах, остатняя нежность еще подрагивала в его сердце. Белая нежность, грустная легкая нежность пробуждения, удобный предлог, чтобы еще несколько минут полежать на спине. Через пять минут холодная вода потечет по его затылку и попадет в глаза, мыльная пена будет потрескивать у него в ушах, зубная паста обклеит его десны, у него не останется нежности ни к кому. Цвета, свет, запахи, звуки. И потом слова – вежливые, серьезные, искренние, смешные – слова, слова, слова – до самого вечера. Матье… фу! Матье – это будущее. Но будущего больше не было. Не было больше и Матье, кроме как во сне, между полуночью и пятью часами утра. Шапен думал: «Два таких красивых животных!» На войну ему было плевать: еще поглядим. Но за этими животными он ухаживал пять лет, он их сам кастрировал, ему разрывало сердце расставанье с ними. Он ударил хлыстом лошадь и направил ее налево; его двуколка медленно объехала телегу Сименона. «Ты чего это?» – спросил Сименон. – «Мне надоело, – сказал Шапен, – хочу поскорее добраться до места!» «Ты загонишь своих животных», – пытался его урезонить Сименон. «Теперь мне плевать», – ответил Шапен. Ему хотелось всех обогнать; он встал, зацокал языком и, крича «Но! Но!», проскользнул мимо телеги Пополя, мимо телеги Пуляйя. «Ты что, скачки устраиваешь?» – спросил Пуляй. Шапен не ответил, и Пуляй крикнул вдогонку: «Осторожно с животными! Ты же их загонишь!», и Шапен подумал: «Пусть хоть околеют». Все стегали лошадей, но Шапен был теперь впереди, остальные следовали за ним и скорее из соперничества настегивали своих лошадей; стучали, Матье встал и потер глаза; стучали; автобус сделал резкий поворот, чтобы не сбить велосипедиста-араба, который вез на раме толстую мусульманку в чадре; СТУЧАЛИ, Чемберлен вздрогнул, он спросил: «Кто там? Кто стучит?», и ему ответили: «Уже семь часов, ваше превосходительство». У входа в казарму был деревянный шлагбаум. Шапен натянул вожжи и крикнул: «Эй! Эй! Черт возьми!» «Что? – спросил часовой. – Что? Откуда вы заявились?» «Давай! Поднимай эту штуку», – распорядился Шапен, показывая на шлагбаум. «У меня нет приказа, – возразил солдат. – Откуда вы?» «Кому я сказал, подними эту штуку». Из караульного помещения вышел офицер. Телеги остановились; он с минуту смотрел на них, потом прошипел: «Какого черта вы сюда явились?» «Как? Мы мобилизованные, – удивился Шапен. – Мы что, вам не нужны?» «У тебя есть мобилизационное предписание?» – спросил офицер. Шапен начал рыться в карманах, офицер смотрел на всех этих молчаливых и мрачных парней, неподвижных на козлах, с видом рядовых, и он почувствовал гордость, не зная почему. Он приблизился на шаг и крикнул: «А остальные? У вас тоже есть мобилизационные предписания? Предъявите ваши военные билеты!» Шапен вынул свой военный билет. Офицер взял его и полистал. «Ну и что? – сказал он. – У тебя же билет № 3, осел. Ты поторопился, твоя очередь в следующий раз». «Говорю вам, я мобилизован», – настаивал Шапен. «Ты что, лучше меня знаешь?» – изумился офицер. «Да, знаю! – запальчиво ответил Шапен. – Я сам читал плакат». За их спиной парни заволновались. Пуляй кричал: «Ну что? Все, что ли? Мы заезжаем?» «Плакат? – переспросил офицер. – Вот он, твой плакат. Полюбуйся на него, если умеешь читать». Шапен отложил кнут, спрыгнул на землю и подошел к стене. Там было три плаката. Два цветных: «Вступайте в колониальные войска, оставайтесь на сверхсрочную службу в колониальной армии» и третий совсем белый: «Немедленный призыв некоторых категорий резервистов». Он медленно вполголоса прочел и сказал, качая головой: «У нас там другой». Моблан, Пуляй, Френьо сошли на землю. «Это не наше объявление». «Откуда вы?» – спросил офицер. «Из Кревильи», – ответил Пуляй. «Не знаю, – сказал офицер, – но, наверное, в жандармерии в Кревильи сидит набитый дурак. Хорошо, дайте ваши билеты и пошли к лейтенанту». На главной площади в Кревильи, у церкви, женщины окружили мадам Ребулье, которая сделала столько хорошего для округи, там были Мари, Стефани, жена сборщика налогов и Жанна Френьо. Мари тихо плакала, на мадам Ребулье была большая черная шляпа, и мадам говорила, размахивая зонтиком: «Не надо плакать, сейчас нужно держаться. Да! Да! Нужно стиснуть зубы. Вот увидите, ваш муж вернется с благодарностями в приказе и медалями. Как знать, может, ему и повезет! На этот раз все мобилизованы, все: женщины, как и мужчины».
Она ткнула зонтиком на восток и почувствовала себя помолодевшей на двадцать лет. «Вот увидите, – сказала она. – Вот увидите! Может, именно гражданские и выиграют войну». Но вид у Мари был глуповато-скаредный, ее плечи сотрясали рыдания, сквозь слезы она смотрела на памятник павшим, храня раздражающее молчание. «Слушаюсь, – сказал лейтенант, прижимая трубку к уху, – слушаюсь». А ленивый раздраженный голос неистощимо тек: «Так вы говорите, они уехали? Да-а, мой бедный друг, ну, вы и натворили дел! Не скрою, это вам может стоить должности!» Папаша Крулар пересекал площадь с клеем и кисточками, под мышкой он нес белый рулон. Мари крикнула: «Что это? Что это?», и мадам Ребулье с досадой отметила, что ее глаза загорелись глупой надеждой. Папаша Крулар смеялся в свое удовольствие, он показал белый рулон и сказал: «Ничего. Лейтенант перепутал плакаты!» Лейтенант положил трубку, ноги его подкосились, и он сел. В ушах еще звучал голос: «Это вам может стоить должности!» Он встал и подошел к открытому окну: на стене напротив красовался плакат, совсем свежий, еще влажный, белый как снег: «Всеобщая мобилизация». Его горло сжал гнев; он подумал: «Я же ему сказал: надо сначала снять этот плакат, но он нарочно снимет его последним». Внезапно он перепрыгнул через подоконник, помчался к плакату и начал его сдирать. Папаша Крулар окунул кисточку в клей, мадам Ребулье с сожалением следила за его действиями, лейтенант царапал, царапал стену, под ногтями у него появились белые шарики; Бломар и Кормье остались в казарме; остальные вернулись к повозкам и неуверенно переглядывались; им хотелось смеяться и злиться, они чувствовали себя опустошенными, как на следующий день после ярмарки. Шапен подошел к своим волам и погладил их. Морды и грудь у них были в пене, он грустно подумал: «Если б знать, я бы их так не загнал». «Что будем делать?» – спросил у него за спиной Пуляй. «Сразу возвращаться нельзя, – сказал Шапен. – Нужно дать отдохнуть животным». Френьо посмотрел на казарму, и она вызвала у него некие воспоминания, он толкнул локтем Шапена и сказал, посмеиваясь: «Ну что? Может, пойдем?» «Куда ты хочешь пойти, парень?» – спросил Шапен. «В бордель», – ответил Френьо. Ребята из Кревильи окружили его, хлопали по плечу и ржали, они говорили: «Чертов Френьо! Он всегда что-нибудь придумает!» Даже Шапен повеселел: «Парни, я знаю, где это. Садитесь в двуколки, я вас отвезу». Восемь часов тридцать минут. Уже вертелся лыжник вокруг трамплина, влекомый моторной лодкой; временами до Матье доносилось урчание мотора, а потом лодка удалялась, лыжник становился черной точкой, и больше не было слышно ни звука. Море – гладкое, белое и суровое – походило на пустынный каток. Скоро оно заголубеет, заплещется, станет текучим и глубоким, превратится в море для всех, усеется черными головами, заполнится криками. Матье пересек террасу, некоторое время шел по бульвару. Кафе были еще закрыты, проехали две машины. Он вышел без определенной цели: купить газету, вдохнуть терпкий запах морских водорослей и эвкалиптов, витающий в порту, вышел, чтобы как-то убить время. Одетта еще спала, Жак работал до десяти часов. Матье свернул на торговую улицу, поднимавшуюся к вокзалу, навстречу ему, смеясь, прошли две молодые англичанки; у плаката стояло четыре человека. Матье подошел: это поможет ему скоротать еще минутку. Маленький господин с бородкой качал головой. Матье прочел:
«По приказу министра обороны офицеры, унтер-офицеры и резервисты, имеющие предписание или военный билет белого цвета с цифрой «2», обязаны незамедлительно явиться на мобилизационные пункты, не ожидая индивидуальной повестки.
Все должны явиться в места сбора, указанные в предписании или в военном билете в соответствии с указаниями.
Суббота, 24 сентября 1938 г., 9 часов.
Министр обороны».
«Э-хе-хе!» – осуждающе произнес какой-то господин. Матье улыбнулся ему и внимательно перечитал плакат – один из тех скучных, но полезных для ознакомления документов, которые с некоторого времени заполняли газеты под заголовками «Заявление британского министерства иностранных дел» или «Сообщение с Кэ д’Орсе[4]». Их нужно было всегда перечитывать дважды, чтобы ухватить суть. Матье прочел: «… обязаны явиться в места сбора» и подумал: «Но ведь у меня как раз военный билет № 2!» Плакат вдруг нацелился на него; как будто кто-то мелом написал на стене его имя с оскорблениями и угрозами. Мобилизован – это было здесь, на стене, а возможно, это читалось и на его лице. Он покраснел и поспешно удалился. «Военный билет № 2. Готово. Я становлюсь интересным». Одетта будет смотреть на него со сдержанным волнением, Жак примет воскресный вид и скажет: «Старик, мне нечего тебе сказать». Но Матье ощущал себя человеком скромным и не хотел становиться интересным. Он свернул налево в первый попавшийся переулок и ускорил шаг: справа на тротуаре у плаката галдела темная группка людей. И так было по всей Франции. По двое. По четверо. Перед тысячами плакатов. И в каждой группе был по крайней мере один человек, который нащупывал бумажник и военный билет через ткань пиджака и чувствовал, что становится интересным. Улица де ля Пост. Два плаката, две группки людей, говорящих об одном и том же. Матье двинулся по длинному темному переулку. Тут он был, во всяком случае, спокоен: клейщики плакатов его пощадили. Он был один и мог поразмышлять о себе. Он подумал: «Готово». Этот круглый заполненный день, который должен был мирно скончаться от старости, внезапно вытянулся в стрелу, он с грохотом вонзился в ночь, помчался в темноте, в дыму, по пустынным полям, сквозь скопление осей и платформ, и скользил внутри, как спортивные сани, он остановится только на исходе ночи, в Париже, на перроне Лионского вокзала. Искусственный свет уже сопутствовал дневному: будущий свет ночных вокзалов. Смутная боль уже угнездилась в глубине его глаз, резкая боль его будущих бессонниц. Это его не огорчало: это или что-либо другое… Но и не радовало; в любом случае в этом было что-то от забавной истории, что-то красочное. «Нужно узнать расписание поездов на Марсель», – подумал он.
Переулок незаметно привел его к горной дороге. Внезапно он очутился в ярком свете и уселся за столиком только что открывшегося кафе. «Кофе и расписание поездов». Господин с серебристыми усами сел рядом. С ним была почтенная женщина. Господин раскрыл «Эклерер де Нис», дама повернулась к морю. Матье с минуту смотрел на нее и погрустнел. Он подумал: «Нужно привести в порядок свои дела. Поселить Ивиш в моей парижской квартире, дать ей доверенность на получение моего жалованья». Лицо господина возникло над газетой: «Это война», – сказал он. Дама, не отвечая, вздохнула; Матье посмотрел на лоснящиеся гладкие щеки господина, на его твидовый пиджак, на его сорочку в фиолетовую полоску и подумал: «Это война».
Это война. Что-то, едва-едва державшееся за него, отделилось, осело и запало назад. Это была его жизнь; она скончалась. Скончалась. Он обернулся и посмотрел на нее. Вигье скончался, его руки вытянуты на белой простыне, на его лбу жила муха, а будущее его простиралось за горизонт, беспредельное, находившееся вне игры, застывшее, как его застывший под мертвыми веками взгляд. Его будущее: мир, будущее планеты, будущее Матье. Будущее Матье было здесь, обнаженное, застывшее и стекловидное, тоже находившееся вне игры. Матье сидел за столиком кафе, он пил, он был за пределами своего будущего, он смотрел на него и думал: «Мир». Госпожа Вершу показала санитарке на Вигье, ее мучили ревматические боли в шее, в глазах покалывало, она сказала: «Он был славным человеком». Она подыскивала немного более торжественное слово, чтобы оценить покойника; она была самой близкой его родственницей, и ей следовало дать ему завершающее определение. Ей пришло на ум слово «кроткий», но оно не показалось ей достаточно убедительным. Она сказала: «Это был мирный человек». Мирное будущее: он любил, ненавидел, страдал, и будущее было вокруг него, над его головой, повсюду, как океан, и каждое его возмущение, каждое несчастье, каждая его улыбка питались его невидимым и присутствующим здесь будущим. Улыбка, простая улыбка была залогом завтрашнего мира, следующего года, века; иначе я не посмел бы никогда улыбнуться. Годы и годы грядущего мира заранее наложились на все и сделали все созревшим и золотистым; взять свои часы, ручку двери, руку женщины – значит взять в руки мир. Послевоенное время было началом. Началом мира. Эти мирные годы протекут не торопясь, как проживают утро. «Джаз был началом, и кино, которое я так любил, тоже было началом. И сюрреализм. И коммунизм. Я сомневался, я долго выбирал, у меня было достаточно времени. Время и мир были одним и тем же. Теперь будущее здесь, у моих ног, оно мертво. Это было ложное будущее, обман». Он смотрел на эти двадцать лет, которые он прожил, штилевые, залитые солнцем, настоящее морское прибрежье, теперь он видел их такими, какими они были на самом деле: определенное количество дней, спрессованных меж двух высоких стен безнадежности, каталогизированный период с началом и концом, который будет фигурировать в учебниках истории под названием: «Период между двумя войнами». «Двадцать лет: 1918–1938. Только двадцать лет! Вчера это казалось одновременно и короче, и длиннее: во всяком случае, и в голову не приходило подсчитывать, потому что это все еще не завершилось. Теперь поставлена точка. Будущее было ложным. Все, что прожито за двадцать лет, прожито ложно. Мы были старательными и серьезными, мы пытались понять, и вот результат: эти прекрасные дни имели тайное черное будущее, они нас дурачили, сегодняшняя война, новая Великая война, исподтишка крала у нас эти дни. Мы были рогоносцами, не зная этого. Теперь пришла война, и моя жизнь мертва; моя жизнь была тем: теперь нужно все начинать сначала». Он поискал в памяти любое воспоминание, все равно какое, то, которое возникает первым, тот вечер, проведенный в Перудже, когда он сидел на террасе и ел абрикосовый джем, глядя вдаль, на дымку безмятежного Ассизского холма. Что ж, это была война, которую следовало разглядеть в алом пыланье заката. «Если бы я мог в золотистом свете, который окрашивал стол и парапет, заподозрить предстоящие бури и кровь, этот свет по крайней мере теперь принадлежал бы мне, я сохранил хотя бы это. Но во мне не было недоверия, лед таял у меня на языке, я думал: «Старое золото, любовь, мистическая слава». А теперь я все потерял». Между столами сновал официант, Матье подозвал его, заплатил, встал, не очень-то сознавая, что делает. Он оставил за собой свою жизнь, я полинял. Он перешел через мостовую и облокотился о балюстраду, лицом к морю.
Он чувствовал себя зловещим и легким: он был, у него все украли. «У меня больше нет ничего своего, даже своего прошлого. Но это было ложное прошлое, и я о нем не сожалею». Он подумал: «Меня избавили от моей жизни. Это жалкая, неудавшаяся жизнь, Марсель, Ивиш, Даниель, неудавшаяся жизнь, мерзкая жизнь, но сейчас мне все равно, потому что она мертва. Начиная с этого утра, с того времени, как на стенах расклеили эти белые плакаты, все жизни не удались, все жизни мертвы. Если бы я сделал что хотел, если бы я смог хоть раз, хоть один-единственный раз быть свободным, и все-таки это был бы мерзкий обман, потому что я был бы свободен для мира, я и сейчас в этом обманчивом мире, я стою, облокотившись о балюстраду, с лицом, обращенным к морю, а за спиной у меня эти белые плакаты. И все они говорят обо мне со всех стен Франции, они утверждают, что жизнь моя мертва и что мира никогда не было: и ни к чему было так терзаться и испытывать такие угрызения совести». Море, пляж, тенты, балюстрада: все выглядело холодным, обескровленным. Они потеряли свое будущее, а нового им еще не дали; они плавали в настоящем. Плавал и Матье. Оставшийся в живых, на пляже, голый, среди каких-то тряпок, набрякших от воды, среди развороченных ящиков, предметов без определенного назначения, выброшенных морем на берег. Загорелый молодой человек вышел из палатки, вид у него был спокойный и праздный, в нерешительности смотрел он на море: «Он остался в живых, все мы случайно остались в живых», немецкие офицеры улыбались и приветствовали друг друга, вращался мотор, вращался винт, Чемберлен здоровался и улыбался, потом резко повернулся и поставил ногу на трап.
Вавилонское изгнание, проклятие, тяготеющее над Израилем, и Стена Плача – ничто для еврейского народа не изменилось с тех пор, как вереницы плененных, скованных цепями, проходили меж красными башнями Ассирии под жестоким взглядом победителей с бородами, завитыми в кольца. Шалом семенил среди этих людей с черными, вьющимися, жесткими шевелюрами. Он размышлял о том, что ничто не изменилось, Шалом размышлял о Жорже Леви. Он думал: «Мы утратили былое чувство еврейской солидарности, вот в чем истинное Господнее проклятие!» Он ощущал торжественность минуты, он был отнюдь не в скверном настроении, так как повсюду видел на стенах эти белые плакаты. Он попросил помощи у Жоржа Леви, но Жорж Леви был эльзасским евреем, черствым человеком, он ему отказал. Нет, не то чтобы отказал, но принялся ныть, ломать руки, непрерывно твердил о своей старой матери, о кризисе. Хотя всем было известно, что он ненавидел мать и что в скорняжном деле не было никакого кризиса. Шалом тоже принялся стонать, он воздевал к небесам дрожащие руки, он говорил о новом исходе и бедных еврейских эмигрантах, плоть которых страдает за всех остальных. Леви был жестоковыйный человек, скаредный богатей, он застонал еще пуще и стал подталкивать Шалома к двери тучным животом, сопя ему прямо в лицо. Шалом стонал и пятился, воздевая руки, но ему захотелось улыбнуться, когда он подумал о глумливом хохоте служащих, стоящих по другую сторону двери. На углу улицы Катр-Септамбр сверкала богатая колбасная; Шалом остановился и зачарованно смотрел на сосиски в желе, паштеты с корочкой, связки колбас в лоснящихся шкурках, на пузатые сморщенные сардельки с маленькими розовыми анусами и думал о колбасных Вены. По мере возможности он избегал есть свинину, но неимущие эмигранты вынуждены питаться чем попало. Когда он вышел из колбасной, на пальце у него висел на розовой ленточке пакетик, такой белый, такой хрупкий, что его можно было принять за пакет с пирожными. Шалом был возмущен. Он подумал: «Французы, экие гнусные богачи». Самый богатый народ Европы. Он пошел по улице Катр-Септамбр, призывая гнев небес на гнусных богачей, и небо его словно услышало: краем глаза он увидел у белого плаката группу неподвижных и безмолвных французов. Шалом опустил глаза и прошел рядом с ними, поджав губы, так как в подобный момент бедному еврею не следовало улыбаться на улицах Парижа. Бирненшатц, ювелир: это здесь. Он замешкался и, прежде чем войти, положил пакет с сардельками в портфель. Моторы, рыча, вращались, пол трясся, пахло бензином и эфиром, автобус углублялся в пламя. «Пьер, значит, ты трус!» Самолет плыл в солнечном свете, Даниэль постукивал по плакату концом трости и говорил: «Я спокоен, не такие мы дураки, чтобы воевать без самолетов». Самолет пролетал над деревьями, прямо над ними, доктор Шмидт поднял голову, мотор рычал, он увидел самолет сквозь листву, сверкание слюды в небесах, он подумал: «Доброго пути! Доброго пути!» и улыбнулся: побежденные, отчаявшиеся, бледные арабы вповалку лежали в автобусе, негритенок вышел из хижины, помахал рукой и долго смотрел вслед автобусу; вы видели: маленький еврей купил у меня фунт сосисок и больше ничего, а я-то думала, что они не едят свинины! Негритенок и переводчик медленно возвращались, в голове у них еще гудел шум моторов. Это был круглый железный стол, покрашенный зеленой краской, с отверстием посередине для тента, он был в коричневых пятнах, как груша, на столе лежала сложенная пополам газета «Ле пти нисуа». Матье кашлянул, Одетта сидела у стола, она уже позавтракала в саду, как я скажу ей об этом? Без осложнений, только бы без осложнений, если бы она могла промолчать, нет, промолчать – это уж слишком, просто встать и сказать: «Что ж, я велю приготовить вам в дорогу бутерброды». Просто. Одетта была в халате, она читала свою почту. «Жак еще не вышел, – сказала она ему. – Сегодня ночью он допоздна работал». Каждый раз, когда они снова встречались, прежде всего она говорила о Жаке, потом речь о нем больше не шла. Матье улыбнулся и кашлянул. «Садитесь, – сказала она, – для вас есть два письма». Он взял письма и спросил:
– Вы читали газету?
– Еще нет, Мариетта принесла ее с почтой, и я пока не решилась ее открыть. Я и раньше не слишком любила читать газеты, а теперь я их просто возненавидела.
Матье улыбался и одобрительно кивал головой, но зубы его оставались стиснутыми. Между ними опять все стало как прежде. Достаточно было плаката на стене, чтобы между ними опять все стало как прежде: она снова сделалась женой Жака, и он не находил больше, что ей сказать. «Сырой окорок, – подумал он, – вот что я предпочел бы в дорогу».
– Читайте, читайте ваши письма, – живо сказала Одетта. – Не обращайте на меня внимания; впрочем, мне нужно переодеться.
Матье взял первое письмо, со штемпелем Биаррица, он выиграл еще немного времени. Когда она встанет, он ей скажет: «Кстати, я уезжаю…» Нет, это покажется слишком небрежным. «Я уезжаю». Лучше так: «Я уезжаю…» Он узнал почерк Бориса и со стыдом подумал: «Я ему не писал больше месяца». В конверте была почтовая открытка. Борис надписал свой собственный адрес и приклеил марку на левой половине открытки. На правой он написал несколько строк:
«Дорогой Борис!
Я чувствую себя хорошо/плохо.
Причина моего молчания: оправданное/неоправданное раздражение, злая воля, внезапная перемена отношения, безумие, болезнь, лень, обыкновенная низость12.
Я вам напишу большое письмо через … дней. Извольте принять мои глубокие извинения и выражения покаянного дружества.
Подпись:
1 Ненужное вычеркнуть.
2 Idem[5]».
– Чему вы смеетесь? – спросила Одетта.
– Это Борис, – пояснил Матье. – Он в Биаррице с Лолой.
Он протянул ей письмо, и Одетта тоже рассмеялась.
– Он очарователен, – сказала она. – Сколько ему?
– Девятнадцать, – ответил Матье. – Дальнейшее будет зависеть от продолжительности войны.
Одетта нежно посмотрела на него.
– Ученики сели вам на шею, – заметила она.
Говорить с ней становилось все труднее. Матье распечатал другое письмо. Оно было от Гомеса, мужа Сары. Матье не видел Гомеса со времени его отъезда в Испанию. Теперь он был полковником республиканских войск.
«Дорогой Матье!
Я приехал в командировку в Марсель, где ко мне присоединилась Сара с малышом. Уезжаю во вторник, но хочу вас предварительно повидать. Ждите меня четырехчасовым поездом в воскресенье и закажите мне комнату – все равно где, я попытаюсь заскочить в Жуан-ле-Пен. Нам предстоит многое обсудить.
Дружески ваш,Гомес».
Матье положил письмо в карман, он с неудовольствием думал: «Воскресенье завтра, я уже уеду». Ему хотелось увидеть Гомеса; в настоящий момент он был единственным из его друзей, кого он хотел видеть: уж он-то знал, что такое война. «Возможно, мне удастся встретить его в Марселе, в перерыве между двумя поездами…» Он вынул из кармана смятый конверт: Гомес не написал своего адреса. Матье раздраженно пожал плечами и бросил конверт на стол; Гомес остался самим собой, хоть и стал полковником: могущественный и бессильный. Наконец Одетта решилась раскрыть газету, она держала ее, расставив красивые руки, и старательно вчитывалась в нее.
– Ой! – произнесла она.
Потом повернулась к Матье и с нарочитым равнодушием спросила:
– Надеюсь, у вас мобилизационный билет не № 2?
Матье почувствовал, что краснеет, он прищурился и смущенно ответил:
– Да, именно такой.
Одетта строго посмотрела на него, как будто он был в этом виноват, и Матье поспешно добавил:
– Но я уезжаю не сегодня, я останусь еще на два дня: ко мне приезжает друг.
Он почувствовал облегчение от своего внезапного решения: это отодвигало изменения почти до послезавтра: «Жуан-ле-Пен далеко от Нанси, мне простят несколько часов опоздания». Но взгляд Одетты не смягчился, и, отбиваясь от этого взгляда, он повторял: «Я остаюсь еще на два дня, еще на два дня», в то время как Элла Бирненшатц обвила худыми смуглыми руками шею отца.
– Какой же ты душка, папуля! – сказала Элла Бирненшатц.
Одетта резко встала:
– Что ж, я вас оставлю. Мне все-таки нужно переодеться, думаю, Жак скоро спустится и составит вам компанию.
Она ушла, запахивая полы халата, облегавшего ее узкие стройные бедра, Матье подумал: «Она вела себя пристойно. Что ни говори, пристойно», и ощутил к ней благодарность. Какая красивая девушка, какая красивая чертовка, он оттолкнул ее, округлив глаза: у дверей стоял Вайс, выглядел он празднично.
– Ты меня обслюнявила, – сказал Бирненшатц, вытирая щеку. – И испачкала помадой. Вот так чмокнула!
Она засмеялась:
– Ты боишься, что подумают твои машинистки. Так вот тебе! – воскликнула она, целуя его в нос. – Вот тебе, вот тебе! – Он почувствовал на своем лице ее теплые губы, потом поймал ее за плечи и отстранил на всю длину своих больших рук. Она смеялась и отбивалась, он думал: какая красивая девушка, какая красивая девчурка! Мать ее была жирной и рыхлой, с широкими испуганными и покорными глазами, которые его несколько конфузили, но Элла была похожа на него, хотя, скорее, ни на кого, она сформировалась сама по себе, в Париже; «Я им всегда говорю: что такое раса, если вы встретите Эллу на улице, разве вы примете ее за еврейку? Тоненькая, как парижанка, с теплым цветом лица, как свойственно южанкам, с лицом смышленым и страстным, и одновременно уравновешенным, с лицом без изъянов, без признаков расы, без тавра судьбы, типичное французское лицо». Он отпустил ее, взял на столе ящичек и протянул ей:
– Держи, – сказал он. Пока она смотрела на жемчужины, он добавил: – В следующем году они будут стоить в два раза больше, но это последние: колье будет закончено.
Она хотела его поцеловать еще раз, но он сказал ей:
– Ладно, ладно, это тебе подарок! Беги, не то опоздаешь на лекцию.
Она ушла, напоследок улыбнувшись Вайсу; какая-то девушка закрыла дверь, пересекла секретарское бюро и ушла, и Шалом, сидевший на краешке стула со шляпой на коленях, подумал: «Красивая евреечка»; у нее было маленькое, вытянутое вперед обезьянье личико, которое уместилось бы в ладони, прекрасные большие близорукие глаза, должно быть, это дочь Бирненшатца. Шалом встал и скромно поприветствовал ее, чего она, казалось, не заметила. Он снова сел и подумал: «У нее слишком умный вид; такие уж мы, наша суть запечатлена как каленым железом на наших лицах; можно подумать, что мы их терпим, как мученики». Бирненшатц думал о жемчужинах, он говорил себе: «Неплохое помещение капитала». Они стоили сто тысяч франков, он подумал, что Элла приняла их без чрезмерного восторга, но и без равнодушия: она знала цену вещам и считала естественным иметь деньги, получать красивые подарки, быть счастливой. «Боже, если я сделаю только это, с такой женой, как у меня, и со всеми краковскими стариками за спиной, если мне удалось только это – маленькая девочка, дочь польских евреев, которая не слишком ломает себе голову, которой не нравится страдать, которая считает естественным быть счастливой, – уверен, что я не потеряю времени даром». Он повернулся к Вайсу:
– Ты знаешь, куда она пошла? – спросил он. – Никогда не догадаешься. На лекцию в Сорбонну! Это феномен.
Вайс неопределенно улыбнулся, не меняя своего ненатурального вида.
– Хозяин, – сказал он, – я пришел попрощаться.
Бирненшатц посмотрел на него из-под очков:
– Ты уезжаешь?
Вайс утвердительно кивнул, и Бирненшатц сделал большие глаза:
– Я так и знал! У тебя, глупого, конечно же, мобилизационный билет № 2?
– Так и есть, – ответил, улыбаясь, Вайс, – у меня, глупого, – № 2.
– Что ж, – сказал Бирненшатц, скрестив руки, – ты меня ставишь в затруднительное положение! Что я буду без тебя делать?
Он рассеянно повторял: «Что я буду без тебя делать? Что я буду без тебя делать?» Он пытался вспомнить, сколько у Вайса детей. Вайс искоса с беспокойством поглядывал на него:
– Пустяки! Найдете мне замену.
– Ну, нет! Хватит того, что я плачу тебе за то, что ты ни черта не делаешь; что же мне – повесить себе на шею еще одного бездельника? Твое место останется за тобой, мой мальчик.
Вайс выглядел растроганным; кося глазами, он тер себе нос, он был ужасающе некрасив.
– Хозяин… – начал он.
Бирненшатц прервал его: благодарность всегда конфузит, и потом, он не испытывал к Вайсу ни малейшей симпатии: бегающие глаза и толстая нижняя губа, дрожащая от доброты и горечи, – он был из тех, кто несет на лице печать обреченности.
– Хорошо, – сказал Бирненшатц, – хорошо. Ты не покидаешь фирму, ты просто будешь представлять ее в офицерском корпусе. Ты лейтенант?
– Я капитан, – ответил Вайс.
«Обреченный капитан», – подумал Бирненшатц. У Вайса был счастливый вид, его большие уши были пунцовы. «Обреченный капитан – уж такова война, такова военная иерархия».
– Какая отъявленная глупость эта война, а? – сказал он.
– Гм! – хмыкнул Вайс.
– А что, разве это не глупость?
– Конечно, – сказал Вайс. – Однако я хотел сказать: для нас это не такая уж глупость.
– Для нас? – удивленно переспросил Бирненшатц. – Для нас? О ком ты говоришь?
Вайс опустил глаза:
– Для нас, евреев, – сказал он. – После того что сделали с евреями в Германии, мы имеем все основания сражаться.
Бирненшатц сделал несколько шагов по комнате, он разозлился:
– А что это такое: мы, евреи? Мне это непонятно. Я – француз. Ты что, чувствуешь себя евреем?
– Со вторника у меня живет кузен из Граца. Он мне показал свои руки. Они их прижигали сигарами от локтя до подмышек.
Бирненшатц резко остановился, он схватил сильными руками спинку стула, и мрачный огонь бешенства полыхнул на его лице.
– Те, кто это сделал, – сказал он, – те, кто это сделал…
Вайс заулыбался; Бирненшатц успокоился:
– Это не потому, что твой кузен – еврей, Вайс. Это потому, что он – человек. Не выношу, когда совершают насилие над человеком. Но что такое еврей? Это человек, которого другие люди считают евреем. Вот посмотри на Эллу. Разве ты бы принял ее за еврейку, если б не знал ее?
Вайс не казался убежденным. Бирненшатц пошел на него, ткнул его в грудь вытянутым указательным пальцем:
– Послушай, мой маленький Вайс, вот что я тебе скажу: я уехал из Польши в 1910 году, я прибыл во Францию. Меня здесь хорошо приняли, я почувствовал себя здесь как дома, я сказал себе: «Bсe хорошо, теперь моя родина – Франция». В 1914 году началась война. Ладно, я сказал себе: «Воюю, потому что это моя страна». И я знаю, что такое война, я был на Шмен-де-Дам. И сейчас я могу одно тебе сказать: я – француз, не еврей, не французский еврей: француз. Мне жалко евреев Берлина и Вены, евреев в концлагерях, меня бесит от мысли, что кого-то терзают. Но послушай меня хорошенько. Я сделаю все, что смогу, чтобы помешать французу, одному-единственному французу, сломать себе шею ради них. Я чувствую себя более близким первому попавшемуся прохожему, которого встречу на улице, чем моим дядям из Ленца или племянникам из Кракова. Дела немецких евреев нас не касаются.
У Вайса был замкнутый и упрямый вид. Он сказал с жалкой улыбкой:
– Даже если это и правда, хозяин, вам лучше этого не говорить. Нужно, чтобы те, кто уходит на войну, имели основания драться.
Бирненшатц почувствовал, как краска смущения залила ему лицо. «Бедняга», – с раскаянием подумал он.
– Ты прав, – сказал он резко, – я всего лишь старая развалина, и нечего мне болтать об этой войне – я в ней все равно не участвую. Когда ты уезжаешь?
– Поездом в шестнадцать тридцать, – ответил Вайс.
– Сегодняшним поездом? Но тогда что ты здесь делаешь? Иди быстрей домой, к жене. Тебе нужны деньги?
– Сейчас нет, благодарю.
– Иди. Пришлешь ко мне свою жену, я все с ней улажу. Иди, иди. Прощай.
Он открыл дверь и вытолкнул его. Вайс кланялся и бормотал невнятные слова благодарности. Бирненшатц через плечо Вайса заметил человека, сидевшего в приемной со шляпой на коленях. Он узнал Шалома и нахмурился: он не любил, когда просителей заставляли ждать.
– Заходите, – сказал он. – Вы давно ждете?
– С полчасика, – улыбаясь, кротко ответил Шалом. – Но что такое полчасика? Вы так заняты. А у меня так много времени. Что я делаю с утра до вечера? Жду. Жить в изгнании – это непрестанное ожидание, разве не так?
– Входите, – быстро сказал Бирненшатц. – Входите. Следовало меня предупредить.
Шалом вошел, он улыбался и кланялся. Бирненшатц вошел следом и закрыл дверь. Он прекрасно узнал Шалома: «Он был кем-то там в баварском профсоюзном движении». Шалом время от времени заходил, брал у него две-три тысячи франков и исчезал на несколько недель.
– Пожалуйста, сигару.
– Я не курю, – сказал Шалом, делая нырок вперед. Бирненшатц взял сигару, рассеянно покрутил ее между пальцами, потом снова положил в коробку.
– Ну как? – спросил он. – Ваши дела улаживаются?
Шалом искал глазами стул.
– Садитесь! Садитесь! – любезно предложил Бирненшатц.
Нет. Шалом не хотел садиться. Он подошел к стулу и поставил на него свой портфель, чтобы было удобнее, затем, повернувшись к Бирненшатцу, издал долгий мелодичный стон:
– А-а-а! Ничего не улаживается. Нехорошо, когда человек живет в чужой стране, его с трудом переносят; его попрекают куском хлеба, а тут еще это недоверие к нам, типично французское недоверие. Когда вернусь в Вену, вот какое впечатление я сохраню о Франции: темная лестница, по которой с трудом поднимаешься, кнопка звонка, которую нажимаешь, дверь, которая наполовину отворяется: «Что вам нужно?» и тут же закрывается. Полиция, мэрия, очередь в префектуру. В сущности, это естественно, мы у них в гостях. Но присмотритесь внимательно: нас могли бы заставить работать: я хочу всего-навсего быть полезным. Но чтобы найти место, нужна рабочая карточка, а чтобы получить рабочую карточку, нужно где-то работать. Как бы я ни старался, мне не удается зарабатывать себе на жизнь. И это самое невыносимое: быть обузой для других. Особенно когда они так жестоко дают это почувствовать. А сколько потерянного времени: я начал писать мемуары, это принесло бы мне немного денег. Но каждый день столько хлопот, что пришлось все это забросить.
Он был совсем маленький, юркий, он поставил портфель на стул, а его освободившиеся руки так и порхали вокруг пунцовых ушей. «До чего же у него еврейский вид». Бирненшатц небрежно подошел к зеркалу и бросил на себя быстрый взгляд: метр восемьдесят роста, сломанный нос, под очками – лицо американского боксера; нет, нет, мы не одной породы. Но он не смел посмотреть на Шалома, он чувствовал себя опороченным. «Хоть бы он ушел! Если б он сейчас же ушел!» Но рассчитывать на это не приходилось. Только продолжительностью своих визитов и жизнерадостной живостью своих разговоров Шалом в собственных глазах отличался от простого нищего. «Мне нужно что-то говорить», – подумал Бирненшатц. Шалом имел на это право. Он имел право на три тысячи франков и пятнадцать минут разговора. Бирненшатц присел на край письменного стола. Правой рукой он поигрывал портсигаром в кармане пиджака.
– Французы черствые люди, – сказал Шалом. Его голос пророчески взмывал и опускался, но в вылинявших глазах подрагивал оживленный огонек. – Черствые люди. С их точки зрения, иностранец в принципе подозрителен, а то и виновен.
«Он говорит со мной так, будто я не француз. Черт возьми: да, я еврей, польский еврей, прибывший во Францию 19 июля 1910 года, никто об этом здесь не помнит, но сам-то он этого не забыл. Еврей, которому повезло». Он повернулся к Шалому и с раздражением посмотрел на него. Шалом немного потупил голову и из почтительности показывал ему лоб, но при этом смотрел из-под выгнутых бровей прямо ему в лицо. Он не сводил с него глаз, и эти большие бесцветные глаза видели в нем еврея. Два еврея в уединении кабинета на улице Катр-Септамбр, два сообщника; а вокруг них, на улицах, в других домах никого, кроме французов. Два еврея, высокий еврей, который преуспел, и маленький худосочный еврейчик, которому не повезло. Ни дать ни взять – Лорел и Харди[6].
– Это черствые люди! – повторил Шалом. – Безжалостные люди!
Бирненшатц резко вздернул плечи.
– Нужно поставить себя на… их место, – сухо заметил Бирненшатц, он не смог выговорить: «на наше место», – знаете, сколько иностранцев осело во Франции с 1934 года?
– Знаю, – сказал Шалом, – знаю. И по-моему, это большая честь для Франции. Но что она делает, чтобы ее заслужить? Смотрите: какие-то молодчики прочесывают Латинский квартал, и если кто-то похож на еврея, они набрасываются на него с кулаками.
– Министр Блюм нанес нам большой ущерб, – заметил Бирненшатц.
Он сказал «нам»; он вступил в сообщество этого маленького чужака. Мы. Мы евреи. Но он это сделал из милосердия. Глаза Шалома изучали его с почтительной настойчивостью. Он был худосочный и маленький, его избили и выгнали из Баварии, теперь он был здесь, ему приходилось ночевать в замызганной гостинице и проводить дни в кафе. «А кузену Вайса прижигали руки сигарами». Бирненшатц смотрел на Шалома и чувствовал себя липким. Не то чтобы он испытывал к нему симпатию, вовсе нет! Это было… это было…
Она смотрела на него и думала: «Этот человек – хищник. Все они помечены, и это из-за них начинаются войны». Но она чувствовала, что ее давняя любовь не умерла.
Бирненшатц ощупывал свой бумажник.
– Что ж, – доброжелательно сказал он, – будем надеяться, что это не слишком затянется.
Шалом поджал губы и быстро поднял головенку. «Я слишком рано потянулся к бумажнику», – подумал Бирненшатц.
Человек-хищник. Он овладевает женщинами и убивает мужчин. Он думает, что он сильный, но это неправда, он просто помечен, вот и все.
– Это зависит от французов, – сказал Шалом. – Если французы постигнут суть своей исторической миссии…
– Какой миссии? – холодно спросил Бирненшатц.
Глаза Шалома заблестели от гнева:
– Германия их провоцирует и всячески оскорбляет, – сказал он резко и жестко. – Чего они ждут? Они что, рассчитывают укротить ярость Гитлера? Каждая очередная сдача позиций удлиняет нацистский режим на десятилетие. А в это время мы здесь, мы жертвы, мы грызем кулаки от бессилия. Сегодня я видел на стенах белые плакаты, и во мне затеплилась надежда. Но еще вчера я думал: у французов в жилах не кровь, и мне суждено умереть в изгнании.
Два еврея в кабинете на улице Кэтр-Септамбр. Точка зрения евреев на международные события. «Же сюи парту»[7] завтра напишет: «Евреи толкают Францию к войне». Бирненшатц снял очки и протер их платком: он захмелел от гнева. Он тихо спросил:
– А если будет война, вы пойдете воевать?
– Я уверен, что множество эмигрантов вступят в армию, – сказал Шалом. – Но посмотрите на меня, – сказал он, показывая на свое тщедушное тело. – Какая призывная комиссия сочтет меня годным?
– Но тогда почему вы не оставите нас в покое? – прогремел Бирненшатц. – Почему вы не оставите нас в покое? Зачем вы обливаете нас грязью у нас же дома? Я – француз, я не немецкий еврей, плевать мне на немецких евреев. Затевайте свою войну где-нибудь в другом месте!
Шалом с минуту в оцепенении смотрел на него, затем вновь обрел подобострастную улыбку, вытянул руку, схватил портфель и попятился к двери. Бирненшатц вынул бумажник из кармана:
– Подождите.
Шалом уже дошел до двери.
– Мне ничего не нужно, – сказал он. – Иногда я прошу вспомоществования для евреев. Но вы правы: вы не еврей, я ошибся адресом.
Он вышел, и Бирненшатц долго неподвижно смотрел на дверь. Это человек жестокий, человек – хищник, у них есть счастливая звезда, и им все удается. Но война приходит от них; смерть и страдание тоже от них. Они пламя и пожар, они приносят зло, он мне принес зло, я его ношу, как горящий уголек под веками, как занозу в сердце. «Вот что она обо мне думает». Ему не нужно было ее об этом спрашивать, он знал ее, если б он мог проникнуть в эту темноволосую курчавую голову, он в любой момент нашел бы там эту упорную и неумолимую мысль, по-своему она упряма и никогда ничего не забывает. Он перегнулся в пижаме над площадью Желю, еще прохладно, небо бледно-голубое, серое по краям – это был час, когда вода струится по плиточному настилу, по деревянным прилавкам торговцев рыбой, пахло отъездом и утром. Утро, открытое в бескрайний простор, и там – жизнь, лишенная сомнений, маленькие округлые дымки от гранат на потрескавшейся земле Каталонии. Но за его спиной, за приоткрытым окном, в комнате, полной сна и ночи, угнездилась эта мертвая мысль, она подстерегает его, судит, вызывает угрызения совести. Он уедет завтра, он их поцелует на перроне, они с малышом вернутся в отель, Сара вприпрыжку спустится по величественной лестнице, думая: вот он снова уехал в Испанию. Она никогда не простит ему, что он в Испании; это обволакивало мертвой коркой его сердце. Он перегнулся над площадью Желю, чтобы оттянуть момент возвращения в комнату; ему нужны были вопли, горестное пение, яростные краткие страдания, но не эта всепоглощающая нежность. Вода струилась по площади. Вода, влажные запахи утра, рассветные деревенские крики. Под платанами площадь была скользкой, жидкой, белой и быстрой, как рыба в воде. В эту ночь пел негр, и ночь казалась тяжелой и сухой, как ночи Испании. Гомес прикрыл глаза, он почувствовал, как терпкая тяга к Испании и войне овладевала им, Сара ничего этого не понимает – ни ночи, ни утра, ни войны.
– Пам, пам! Пам, пам, пам, паи, пам! – во всю глотку заорал Пабло.
Гомес повернулся и ступил в комнату. Пабло надел каску, взял за ствол карабин и стал упражняться им, как палицей. Он бегал по комнате отеля, нанося в пустоту резкие удары и пытаясь при этом сохранить равновесие. Сара следила за ним потухшим взглядом.
– Да тут побоище? – сказал Гомес.
– Я уложу их всех! – не останавливаясь, выкрикнул Пабло.
– Кого «всех»?
Сара в халате сидела на краю кровати. Она штопала чулок.
– Всех фашистов, – сказал Пабло.
Гомес откинулся назад и захохотал:
– Убей их! Ни одного не оставляй в живых. По-моему, ты забыл вон того.
Пабло побежал туда, куда показал Гомес, и рубанул воздух карабином.
– Бац, бац! – кричал он. – Бац, бац, бац! Никакой пощады!
Он остановился и, задыхаясь, повернулся к Гомесу, серьезный и разгоряченный.
– Гомес! – сказала Сара. – Вот к чему это приводит! Как ты мог?
Гомес накануне купил Пабло игрушечный военный набор.
– Ему надо научиться сражаться, – пояснил Гомес, гладя мальчика по голове. – Иначе он будет трусом, как все французы.
Сара подняла на него глаза, и он понял, что жестоко обидел ее.
– Не понимаю, – удивилась Сара, – как можно называть людей трусами только потому, что они не хотят воевать?
– Есть моменты, когда этого нужно хотеть, – возразил Гомес.
– Никогда! – возмутилась Сара. – Ни в коем случае. Нет ничего на свете, ради чего стоило бы, чтоб я очутилась однажды на дороге рядом с моим разрушенным домом и с моим раздавленным ребенком на руках.
Гомес не ответил. Ему нечего было ответить. Сара была права. Со своей точки зрения, она была права. Но точка зрения Сары была из тех, которыми следовало из принципа пренебречь, иначе ни к чему не придешь. Сара тихо и горько засмеялась.
– Когда я с тобой познакомилась, ты был пацифистом, Гомес.
– В тот момент нужно было быть пацифистом. И наша цель не изменилась. Но средства для ее достижения иные.
Сара в замешательстве умолкла. Рот ее оставался полуоткрытым, и отвисшая губа обнажала испорченные зубы, Пабло вращал карабином и кричал:
– Ну погоди, подлый француз, подлый французский трус!
– Видишь, – вымолвила Сара.
– Пабло, – вдруг сказал Гомес, – не нужно бить французов. Французы не фашисты.
– Французы – тру´сы! – выкрикнул Пабло и ударил прикладом по тяжело взлетевшим шторам. Сара промолчала, но Гомес предпочел бы не видеть взгляда, который она бросила на Пабло. Это не был строгий взгляд, нет: взгляд удивленный, скорее неуверенный, казалось, она видит сына в первый раз. Она отложила в сторону чулок и глядела на этого незнакомого ребенка, на этого нормального маленького злодея, который отрывал головы и разбивал вдребезги черепа, должно быть, она изумленно думала: «И это мой сын!» Гомесу стало стыдно: «Восемь дней, – подумал он. – Хватило всего восьми дней».
– Гомес, – быстро сказала Сара, – ты действительно считаешь, что будет война?
– Очень на это рассчитываю, – ответил Гомес. – Надеюсь, что Гитлер в конце концов вынудит французов воевать.
– Гомес, – проговорила Сара, – знаешь, я в последнее время поняла: люди злы.
Гомес пожал плечами:
– Они ни добры, ни злы. Просто каждый преследует свою цель.
– Нет, нет, – возразила Сара. – Они злы. – Она не отводила взгляда от Пабло, казалось, она тщилась предугадать его судьбу. – Нет, они злы и пытаются непрерывно друг другу навредить.
– Я не злой, – сказал Гомес.
– Злой, – не глядя на него, сказала Сара. – Ты злой, мой бедный Гомес, ты очень злой. И у тебя даже нет оправданий: другие хотя бы несчастны. Но ты счастлив и зол.
Наступило долгое молчание. Гомес смотрел на этот короткий жирный затылок, на это обиженное природой тело, которое он все ночи держал в объятиях, и думал: «Она не испытывает ко мне ни дружбы, ни нежности, ни уважения. Она меня просто любит: кто из нас двоих злее?»
Но вдруг к нему вернулись угрызения совести: однажды вечером он прибыл из Барселоны счастливым, да, поразительно счастливым. Он дал себе восемь дней отгула. Завтра он снова уедет. «Да, я не добрый», – подумал он.
– Есть горячая вода?
– Теплая, – отозвалась Сара. – Кран слева.
– Хорошо, – сказал Гомес. – Пойду-ка побреюсь.
Он вошел в ванную комнату, оставив дверь широко открытой, повернул кран и выбрал лезвие: «Когда уеду, – подумал он, – игрушечное оружие долго не проживет». Вернувшись домой, Сара, без сомнения, запрет его в большом шкафу для лекарств; если только не сочтет, что проще забыть его здесь. «Она учит Пабло только девчачьим играм», – подумал он. Когда еще он свидится с Пабло, и во что она его за это время превратит? Однако у мальчика строптивый вид! Гомес подошел к умывальнику и увидел их обоих в зеркале: Пабло, запыхавшись, застыл посреди комнаты, весь пунцовый, расставив ноги и засунув руки в карманы; Сара стояла перед ним на коленях и, не говоря ни слова, смотрела на него. «Она хочет понять, похож ли он на меня», – подумал Гомес. Он почувствовал себя неловко и бесшумно закрыл дверь.
«… где ко мне присоединилась Сара с малышом… Ждите меня четырехчасовым поездом в воскресенье и закажите мне…», одна рука сильно сжала его левое плечо, другая – правое. Теплое и дружеское пожатие. Ну вот: он положил письмо в карман и поднял глаза.
– Привет.
– Одетта только что мне сказала… – проговорил Жак, погружая взгляд в глаза Матье. – Бедный старик!
Не сводя с брата глаз, он сел в кресло, которое только что покинула Одетта; рука его автоматически приподняла обе брючины; ноги скрестились сами собой; он не замечал этих мелких побочных действий. Он целиком превратился в собственный взгляд.
– Знаешь, я еду не сегодня, – сказал Матье.
– Знаю. Ты не опасаешься неприятностей?
– Подумаешь, несколькими часами позже…
Жак глубоко вздохнул:
– Что тебе сказать? В другие времена, когда человек уходил на войну, ему говорили: защищай своих детей, защищай свою свободу или свой дом, наконец – защищай Францию, всегда можно было найти причину, чтобы рискнуть своей шкурой. Но сегодня…
Он пожал плечами. Матье, опустив голову, постукивал каблуком по земле.
– Молчишь, – проникновенно сказал Жак. – Ты предпочитаешь молчать из страха сказать лишнее. Но я знаю, о чем ты думаешь.
Матье все еще постукивал туфлей по земле, не поднимая головы, он ответил:
– Да нет, не знаешь.
Наступило короткое молчание, затем он услышал неуверенный голос брата:
– Что ты хочешь этим сказать?
– Что я совсем ни о чем не думаю.
– Как хочешь, – сказал Жак с легким раздражением. – Ты ни о чем не думаешь, но ты пришел в отчаяние, а это одно и то же.
Матье заставил себя вскинуть голову и улыбнуться.
– Я вовсе не пришел в отчаяние.
– Не хочешь же ты меня убедить, будто ты уходишь, смирившись, как баран, которого ведут на бойню?
– Да, – сказал Матье, – все же я немного похож на барана, ты не находишь? Я уезжаю, потому что не могу поступить иначе. Справедлива эта война или нет, для меня это второстепенно.
Жак откинул голову и, полузакрыв глаза, посмотрел на Матье:
– Матье, ты меня удивляешь. Ты меня бесконечно удивляешь, я тебя больше не узнаю. Как же так? У меня был бунтующий, циничный, язвительный брат, который никогда не хотел быть одураченным, который мизинцем не мог пошевелить, не пытаясь понять при этом, почему он шевелит им, а не указательным пальцем, почему он шевелит мизинцем правой руки, а не левой. И вот война, его посылают в первых рядах, и мой бунтарь, мой сокрушитель посуды, не задавая лишних вопросов, покорно уходит, говоря: «Я уезжаю, потому что не могу поступить иначе».
– Моей вины здесь нет, – сказал Матье. – Мне никогда не удавалось сформировать собственное мнение по вопросам такого рода.
– Но давай рассуждать, – сказал Жак, – мы имеем дело с неким господином – я имею в виду Бенеша, – который твердо пообещал построить из Чехословакии конфедерацию по швейцарской модели. И он действительно за это взялся, – с силой повторил Жак, – я это прочел в протоколах Мирной конференции, видишь, я от тебя не скрываю своих источников. А это намерение равнозначно гарантии для судетских немцев подлинной национальной автономии. Ладно. Но потом этот господин полностью забывает о своих обязательствах и ставит над немцами чехов, которые за ними надзирают, их судят, ими управляют. Немцам это не нравится: это их естественное право. Тем более что я знаю чешских чиновников, я был в Чехословакии: ты не представляешь себе, какие они буквоеды! Так вот, им хотелось бы, чтобы Франция, как они утверждают, страна свободы, пролила свою кровь ради их бюрократического произвола над немецким населением, и теперь ты, преподаватель философии в лицее Пастера, собираешься провести свои последние молодые годы в десятифутовых траншеях между Битхе и Виссембургом. Теперь ты понимаешь, почему сейчас, когда ты мне сказал, что уезжаешь, смирившись, и что тебе наплевать, справедливая это война или нет, мне за тебя досадно.
Матье с недоумением смотрел на брата; он думал: «Национальная автономия, никогда бы не додумался». Он все же для очистки совести сказал:
– Они хотят не национальной автономии: судеты уже требуют присоединения к Германии.
Жак страдальчески скривился:
– Пожалуйста, Матье, не говори, как мой консьерж, не называй их судетами. Судеты – это горы. Скажи: судетские немцы, или, если хочешь, просто немцы. Ну и что? Они хотят присоединиться к Германии? Но это наверняка потому, что их довели до предела. Если бы им сразу дали то, чего они просили, всего бы этого не случилось. Но Бенеш юлил, лукавил, потому что наши шишки внушили ему, будто у него за спиной Франция: и вот результат.
Он с грустью посмотрел на Матье.
– Все это, – сказал он, – я бы еще мог перенести, ибо давно уже знаю, чего стоят политики. Но когда ты, разумный человек с университетским образованием, настолько теряешь элементарное чутье, что утверждаешь, будто идешь на эту бойню потому, что не можешь иначе, этого я перенести не могу. Старик, если таких, как ты, много, Франция пропала.