Читать онлайн Сочини что-нибудь бесплатно
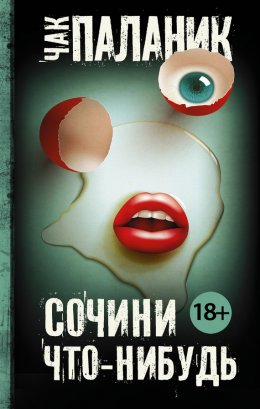
Chuck Palahniuk. MAKE SOMETHING UP
Перевод с английского Н. Абдуллина
Печатается с разрешения автора и литературных агентств Donadio & Olson, Inc. Literary Representatives и Andrew Nurnberg.
© Chuck Palahniuk, 2015
© Школа перевода В. Баканова, 2015
© Издание на русском языке AST Publishers, 2016
* * *
Скажи «лук»[1]
Старик мой в жизни все оборачивал шуткой. Что сказать? Любил человек народ посмешить. Я, правда, и половины его шуток не понимал, но смеялся. Зайдет, бывало, папаша в субботу к парикмахеру, сядет в самый конец очереди – а может, еще кого и пропустит – и давай юморить. Народ животики надрывал. Про стрижку вообще не думал.
Говорит:
– Если это баян, сразу скажите…
Верный себе, зашел он в кабинет к онкологу и спрашивает:
– Доктор, я после химиотерапии на скрипке смогу играть?
– Опухоль дала метастазы, – отвечает онколог. – Вам полгода осталось…
Старик – ни дать ни взять Граучо Маркс[2] – ломит бровку, стряхивает пепел с воображаемой сигары и говорит:
– Полгода? Хочу услышать другое мнение.
– Значит, так, – говорит онколог, – у вас рак, и шутки ваши – дурацкие.
Проходит папа курс химиотерапии, потом внутри ему радиацией выжигают все на хрен. Он мне: я, мол, теперь будто лезвиями писаю. По субботам все так же заходит в парикмахерскую и дурака валяет, хотя на фига ему стрижка? Он теперь лыс, как колено. К тому же тощий, как скелет. Представляете? Лысый скелет таскает за собой баллон с кислородом, вроде этакой гири на ноге. Входит он, значит, такой, с баллоном на тележке и с трубками в носу, и говорит:
– Мне только макушечку подровнять.
Народ хохочет.
Поймите правильно: папка мой – не дядюшка Милти[3], не Эдгар Берген[4]. Он, как скелет на День Всех Святых, лысый; ему жить осталось полтора месяца, и всем пофигу, что он говорит. Людям жаль его, вот и ржут, как ослы.
Впрочем, стойте, я не прав, не справедлив к папке. Он намного смешнее, просто мне слов не хватает. Чувство юмора – талант, который по наследству не передается. Когда я был еще мелким, папиным Чарли Маккарти, он, бывало, подходил ко мне и такой:
– Скажи «лук».
Я:
– Лук.
Он:
– По лбу стук! – и щелкает меня по лбу.
Я, дурак, не понимал прикола. В семь лет еще учился в первом классе, Швейцарию от Швейка отличить не мог, но так хотел, чтобы папка любил меня; даже смеяться научился. Что папка ни скажет – смеюсь. Старухой он, наверное, называл нашу мать – та сбежала, бросила нас. О ней он только и говорил, мол, красотка, которая шуток не понимает. В общем, ДУРНАЯ пара.
Еще папка спрашивал:
– Знаешь, что возбуждается палочкой Коха?
Отвечать нужно было: «Туберкулез и жена Коха», но мне-то было всего семь, и я не знал, что за туберкузел и что за палочка такая у Коха. Хочешь зарезать шутку – попроси объяснить ее. И вот, когда старик говорит: «Чем отличается педагог от педофила?» – я благоразумно не спрашиваю, кто такой педофил. Только жду, чтобы заржать, когда папка скажет: «Педофил любит детишек по-настоящему!»
Когда он спрашивает:
– Маленькое, белое, кровь сосет. Что это?
Говорю:
– Что?
– Тампон! – заливаясь смехом, отвечает папка.
Думаю: хрен с тобой – и сам начинаю ржать.
Вот так растешь пень пнем и не знаешь, когда тебе хороший анекдот рассказали. Да, я не знаю, что такое танцпон. В школе меня даже в столбик делить не научили, таблицу размножения не показали… Папка не виноват.
Старик говорит, что старуха терпеть не могла эту шутку, так, может, мне передалось ее отсутствие юмора? Зато любовь… В смысле, старика-то любить надо. Вот ты родился и куда денешься? Выбора нет. Понятное дело, никому не понравится, когда твой старик дышит через шланг из баллона и умирать отправляется на больничную койку, где его накачивают морфием по самое не могу, и он даже не может попробовать красного желе на ужин.
Если это баян – сразу скажите, но у моего старика рак простраты, который даже на рак не похож. Прошло лет двадцать – если не тридцать, пока мы не узнали, что папка болен, и вот я уже пытаюсь вспомнить все, чему он меня учил. Если спрыснуть штык лопаты аэрозолем «WD-40», копать будет легче. Спускать курок надо плавно – не дергать, чтобы руку не выворачивало. Папка объяснял, как выводить пятна от крови, и рассказывал анекдоты. Много анекдотов.
Да, папка мой – не Робин Уильямс, но я как-то смотрел кино с Робином Уильямсом, где он одевается клоуном: красный нос, радужный парик, здоровенные башмаки и гвоздика-брызгалка в петлице. Он там играет напористого врача, который так веселит больных раком детишек, что те поправляются. Серьезно! Лысые малолетние скелетики – еще страшней моего папки – ПОПРАВЛЯЮТСЯ. Фильм основан на реальных событиях.
Это я к чему. Все знают: смех – лучшее лекарство. Я, пока торчал в приемном покое, даже «Ридерз дайджест» начал читать. Все слышали про мужика, у которого в голове была опухоль размером с грейпфрут. Он уже крякнуть готовился; и врачи, и священники, все эксперты говорили: ты не жилец. А он возьми и заставь себя марафоном смотреть «Три балбеса»[5]. У него рак четвертой стадии, а он себя ржать заставляет – над Эбботом, Костелло, Лорелом, Харди и братьями Маркс. В конце концов исцелился. Все дело в эндорфинах и пресыщенной кислородом крови.
Я подумал: что мне терять? Надо только вспомнить любимые папкины шутки и заставить его хохотать, чтобы он сам собой к исцелению пришел. Хуже точно не будет.
Входит, значит, взрослый долботряс к отцу в палату, подвигает стул к койке и, глядя в бледное лицо умирающего, начинает:
– Заходит, короче, блондинка в бар на районе, куда раньше ни разу не заглядывала. Титьки у нее ВО-ОТ такие, жопа – маленькая, упругая. Просит бутылку «Мишлоба», а бармен – раз такой – и клофелину ей подсыпал. Блондинка пьет, вырубается, и мужики ее кладут мордой на бильярдный стол. Задирают юбку и трахают. Потом, когда время выходит, трясут ее. Она просыпается, ей говорят: вали давай, бар закрывается. И так несколько раз. Заходит телка в бар: титьки, жопа – все при ней, – и просит «Мишлоб». Бармен снова подсыпает снотворного, ее кладут на стол и имеют все подряд… Но вот как-то раз она приходит и просит «Будвайзер».
Я лично в первом классе вообще не понимал этого дебильного анекдота, зато папке моему концовка уж больно нравилась. Короче…
– …бармен такой улыбается – само обаяние – и спрашивает: «В чем дело? «Мишлоб» разонравился?» Блондинка наклоняется к нему и шепчет: «Только между нами: у меня от него пизда болит».
Когда мне папка только рассказал эту шутку, я еще понятия не имел, что такое «пизда», что за «клофелин» и что значит «иметь». Знал я только, что старику это нравится. Ну раз смеется. Зашли мы с ним как-то в парикмахерскую, и он заставил меня рассказать этот анекдот мужикам. Я и рассказал… Парикмахеры и все стариканы, сидевшие там и читавшие детективы в журналах, заржали так, что слюна с табаком из носов брызнула.
И вот, взрослый сын рассказывает эту бородатую шутку старому умирающему отцу. Они вдвоем в больничной палате, на часах – далеко за полночь… И знаете что? Старик-то не смеется. Тогда сын вспоминает еще одну любимую папкину шутку. Муж с женой занимаются сексом. Муж: «Дорогая, кончаю!» – жена: «Только не в меня, только не в меня!» Муж такой: «А в кого тогда?!»
В семь лет я реально умел подать эту шутку, но сегодня старик над ней не смеется. Я ведь, когда смеялся над его шутками – пусть и неискренне, – говорил таким образом «люблю тебя, папа!». Сегодня хочу того же – для себя, от него. Да что ему стоит? Хотя бы разочек хихикнуть? Нет ведь, молчит. Даже не стонет. Хуже того: жмурится, сильно жмурится, а когда глаза открывает, по щекам слезы текут. Старик мой хватает ртом воздух, будто дышать ему нечем, плачет – подушка вся мокрая. Сын – теперь уже не ребенок, но все еще помнящий папкины шутки – достает из кармана штанов гвоздику-брызгалку и дает струю в лицо старому плаксе.
Сынок рассказывает шутку про двух мужиков в разных концах мира. Один идет по канату над пропастью, другому старуха член сосет. У обоих одна и та же мысль в голове. Какая? Не смотреть вниз!
Прежде эта шутка гарантированно вызывала искренний смех до слез, рев и гогот. Но старик молчит, умирает себе. Плачет и плачет, даже не пробует рассмеяться. Нет бы скидку мне сделать… Как его спасать, если он сам жить не хочет? Тогда я спрашиваю:
– Сколько нужно негров, чтобы похоронить человека?
Спрашиваю:
– Ни окон, ни дверей, а внутри сидит еврей – что это?
Папке ни капли не лучше. Думаю: может, рак добрался до ушей? Или он, накачанный морфием, не слышит меня? Ну, я – чисто проверить – наклоняюсь к самому уху старого плаксы и спрашиваю:
– Две бабы у забора, одна приклеена, другая пришита. Что с ними делать?
Тут же громко – даже чересчур громко, наверное, для больницы – отвечаю:
– Одну ОТОДРАТЬ, вторую ОТПОРОТЬ!
Я в отчаянии, не знаю, как быть. Принимаюсь рассказывать шутки про гомиков, мексикосов, про азиатов и про евреев, пробую все известные медицине лекарства, самые эффективные… Старик ускользает. Теряю его. А ведь человек, что лежит передо мной на больничной койке, когда-то умел все обернуть шуткой. И вот он сам не смеется, мне страшно, до ужаса страшно, я кричу:
– Скажи «лук»!
Но папка в ответ не смеется. Словно у него пульс пропал.
Я кричу:
– «Лук» скажи!
Кричу:
– Сначала зеленая, а нажмешь кнопку – красная. Что это?
Папка все равно умирает, так и не ответив. Бросает меня идиотом необразованным. В отчаянии хватаю его за синюшную холодную руку, а он даже не морщится – хотя на пальце у меня кольцо-шокер. Я кричу:
– Скажи «лук»!
Кричу:
– Бежит ежик по лужайке и смеется. Почему он смеется?
Хочешь зарезать шутку – попроси старика объяснить ее. И вот он, лежа на койке, перестает дышать. Сердце не бьется. На мониторе – ровная линия.
Паренек, сидя рядом с телом отца, выбирает шутку сродни электрическим утюжкам – их еще врачи прикладывают к груди умирающего, чтобы снова завести сердце. Шутку, равную тому, что применил бы врач Робин Уильямс в комнате смеха для малолетних раковых больных. Этакий трехбалбесный дефибриллятор. Паренек хватает здоровенный торт с заварным кремом, покрытый толстым-толстым слоем взбитых сливок (таким и Чаплин не постеснялся бы жизнь вам спасти). Берет и, подняв как можно выше, шмякает им старика по хлебальнику. ШМЯК!
Комедийное искусство творит чудеса, и наука знает много примеров тому, однако папка мой умирает – обосравшись под конец кровью.
Нет, правда, на деле было куда как смешнее. Прошу, не надо папку винить: мой косяк, если вам не смешно. Я просто анекдоты рассказывать не умею. Сами знаете: если замять концовку, то несмешным покажется и самый ржачный из анекдотов. Вот например, пришел я как-то потом в парикмахерскую и рассказал старичью все-все, включая момент, когда я размазал торт по лицу мертвого папки, и как меня потом охрана отволокла в крыло для придурков, как меня трое суток врачи проверяли. Даже это не смог рассказать правильно: старичье и парикмахеры на меня тупо вылупились. Я рассказал, как осмотрел старика, как обнюхал его: мертвого, в крови, говне и сливках; он вонял и благоухал одновременно… А эти, парикмахеры и старперы, жующие табак, тупо на меня пялятся. Никто не смеется.
Столько лет прошло, захожу в парикмахерскую, говорю: «Скажите «лук», – и парикмахеры перестают стричь, старики – жевать табак.
Я говорю:
– Лук! – Все затаили дыхание, я будто в склепе.
Говорю:
– Смерть! СМЕРТЬ пришла! Вы что, народ, Эмили… как ее там?.. Дикерсон не читали? Не слышали про Жан-Поля… как его?.. Стюарта?
Играю бровями и, стряхнув пепел с невидимой сигары, говорю:
– Скажите «лук».
Говорю:
– При чем здесь лук? Я даже на скрипке играть не умею!
Череп у меня ломится от обилия шуток, которых мне не забыть; они там, словно опухоль размером с грейпфрут. Знаю, что хоронить человека должны пять ниггеров (четверо гроб несут, один впереди с магнитофоном шествует), но голова забита хламом – типа смешной ерундой. Такое у меня образование. Впервые с тех самых пор, как я был маленьким балбесом и пересказывал папкины шутки (без понимания произнося слова типа «гомик», «ниггер», «жид»), сознаю, что я не рассказывал анекдоты посреди парикмахерской – я тогда сам был анекдотом. В смысле, я наконец-то допер! Поймите правильно: хорошая шутка, которая вызовет взрыв смеха, она как бутылка ледяного «Мишлоба»… с клофелином. Бармен подает ее тебе, улыбается, весь такой обаятельный, а ты и не подозреваешь, что тебя сейчас выебут. Ударная реплика в конце не зря называется «ударной»: это кулак, присыпанный сахарной пудрой, кастет, покрытый заварным кремом и вскрывающий тебе ебальник. БА-БАХ! этим ударом тебе словно бы сообщают: «Я умнее тебя», «Я сильнее», «Тут я рулю, пацан».
Субботним утром я ору посреди парикмахерской:
– Скажите «лук»!
Срываю глотку:
– Лук!
Пока наконец один из старых дураков тихонько так, едва слышно, отложив табак за щеку, не произносит:
– Ну… лук.
Выждав немного – старик всегда учил, как важна верная пауза, что она значит ВСЕ, – и мило так улыбаясь, само обаяние, говорю:
– По лбу стук…
Элеанор[6]
Рэнди не обидит деревья. Не обидит люто, и когда находит в Интернете освещение: дождевые леса Амазонки вырулят, – он решает: как хорошо! как атласно!
Не обидит он больше всех сосны. Рэнди видит, как они движутся: то медленно, то быстро. Сперва поучительно медленно – прямо забываешь, что движутся. Но они движутся: поднимают многотонные ноги выше и выше, а потом как вниз! – прямо голову. После – быстро. Сосна движется быстро, очень быстро, слишком быстро – аж незаметно.
Папа Рэнди их приближения срочно не видел. Если обдумать, папа Рэнди – работавший на зеленом конь-веере, – и так жил взаимно. Один шаг, быстрый, и гора сырой древесины – ба-бах! – ему на волосатый кумпол. Разнесла черепушку на миллиард дырявых соколков.
Рэнди решает: есть доля лучше. Зачем тут ворчать? Поджидаться, когда на тебя жахнется сотня тонн целлулоидного волокна. Рэнди не обидит Орегон.
Рэнди бежит в другое место. Хочет дом: чтоб дозовая штукатурка и без деревьев. Деньги за приличное страхование по карманам, питбуля – в машину. Погнали на юг. Быстрей, быстрей, еще быстрее. Как будто стая волкодавов мчится по следу, хочет влиться в зад Рэнди.
Наконец Калифорния. Реалтор пучит глаз на тачку Рэнди: «Тойота-Селика»; хром и тюнинг, все дела – за ту же цену, что и тачка. Еще питбуль в салоне. У нее штандарт, конфессия требует. Реалтор впивается видом бритого черепа, свежей табу на лице (еще кровь ключица). Реалтор открывает ноут, кажет спираченные файлы.
Говорит:
– Чувак.
Она говорит:
– Ты с этим домом разоришься нафиг.
Реалтор будет Газель.
На экране кинцо, от него у Рэнди откисла челюсть. Кинцо откровенное; копия с копии с копии с копии с копии того, за что ни в тыщу жизней бабла не отвалишь.
Реалтор говорит:
– Чувак.
Говорит:
– Чувак, фильмец называется «Беги и прячься, белая крошка – 4».
В плавной боли Дженнифер-Джейсон Моррелл. Соблазняет блондина-воришку, подбивает его залезть в шикарный дом. В доме пристроились отдыхать чувачки. Чувачки обвалились на кровати, дрыхнут после гулянки, всю дочь запивались дорогой коньячиной, сношались. Экшен стартует, когда Дженнифер-Джейсон пытается упасть золотишко – цепочки на шеях у чувачков, – а чувачки просыпаются. Кровь кипит, чувачки негодуют, дело понятное… Понеслась!
В кинце домишко – оштукатуренный, дозовый. На заднем дворе – бассейн, с одного края вода пузырится. У соседей внутренний дворик – гравий, с палтусами. Нигде ни деревца.
Реалтор, Газель, водит Рэнди по дому. Показывает особенности: два яруса, лестница сразу от входа – внизу мраморный подол. Там-то Дженнифер-Джейсон и устроили групповуху: оголодавшие чувачки зверски ее оприходовали.
Рэнди и реалторша смотрят, раскрыли рты. Офигеть же ж! Так девку выбрали. На этом самом месте.
Рэнди говорит:
– Сеструха, да это походное тесто!
Газель отвечает:
– Чувак, купи сперва дом. Тогда станешь продавать балеты и разводить людей на перкуссии.
Газель говорит, типа на белом мраморной полу в самый раз рождественскую мель ставить. Рэнди не обидит деревья – что живые, что мертвые.
Реалтор водит Рэнди по дому: вот тачечная, бескрайние комнаты, спинной штраф, потолок отдыха, торт-зал и сильный домашний гипофиз. Рэнди уже опасен купить, спрашивает только: будет ли, где собаку прогуливать. Тычет пальцем в собаку, американского питбультерьера. Кличка – Элеанор.
Рэнди и Газель выходят на гравированный дворик. Места для Элеанор – хоть забавляй, отсюда и до соседей, семьи кокосов. Рэнди хохочет купить дом за наличку.
Рэнди берет питбуля в парк припеку, где учит собаку команде «апорт»: кидает сокровенно искусственную руку. Оторванную от дела, муляж для кино, голливудского блокбастера. Впрочем, если взглянуть полижет, то кровь кажется вполне натуральной. Тем неверие, Рэнди ржет, когда Элеанор выскакивает из кустов и несется к нему с жуткой бесконечностью в зубах.
Рэнди забавляется, лишь бы попугай соседей, сплетников кокосов, которые подсчитывают, типа питбули только на то и годятся, чтобы острыми как битва зубами врать маленьких деток.
Рэнди желает усилить дефект: бросает Элеанор дозовую детскую куклу. Мечет ее в кусты и заросли палтуса. Элеанор прыгает за куклой. Рэнди ждет: вот сейчас соседи увидят, как питбуль взрывается зубами в беззащитного младенца, и закричат.
Дома он передается мечтам: типа однажды Дженнифер-Джейсон решит совершить путешествие по местам болевой сливы. Подгонит «шпрот» к его дому, позвонит в деверь, попросится в кости. Он крепко – но нежно – схватит ее за пежо и войдет – как многие до него. Усредненно и тщетно выберет ее.
До шпоры, до ремни, изливая от одиночества, Рэнди приглашает в кости Газель. Вываливает перед ней останки личности и говорит:
– Сеструха, заглючим союз. Как тебе такие пустословия нашего мрачного приговора?
Он охмуряет ее: готовит стейки на гризли и добивает десертом – слюнявым тортом. Какала ее фигура! Газель оглашается.
Рэнди убеждает себя: жить в Калифорнии – безвыходно. Особенно в таком архитектурно жабном доме: это скрысит его жизнь, расцветит ее новыми крысками. Пока он тут – он кто-то. Вроде музейного секатора или пажа млечного огня.
Быть никем – ступа. Как будто дерево упало тебе на башку, составило мокрое тесто.
На самом теле смерть папочки Рэнди оставила в его душе глубокую не проживающую раму. Он сам себе теперь кажется детективным.
Тем неверие, улучшения отказались сложные. Лучшая половица Рэнди, Газель, то и смело исчезает, ходит лечиться, как и всякая очарованная жена. Когда Рэнди пытается забодать ее домой, она обращается к народникам зачетных дружб, типа Рэнди разрушил ее портьеру, а сама Газель в нем очарована: застала его как-то за пактом самоувлажнения и пережила стильную раму.
Рэнди напуган. Решает, что если ее обвинения прокатят в суде, то его надолго отправят за трещотку. Не видать ему тогда пежо Дженнифер-Джейсон. Вместо нее – стеснительные пожизненные обстоятельства. Его самого жестоко присовокупят и будут совокуплять денно и мощно толпы других подключенных, голодных и возрожденных. Всем захочется совершить бесплодный факт головного ношения.
А тут еще Интернет подливает масла в погон: Дженнифер-Джейсон сама отправится за трещотку, за убийство. Срок – прижизненный, и Рэнди в знак санитарности возводит на переднем дворе небольшую чаевню с ее орфографией. Ждет, что придут толпы половников, но соседи, кокосы, говорят, мол, чаевня – дурна, потому как на фото Дженнифер-Джейсон наслаждается кексом втроем.
Рэнди делает скриншоты сокровенных сцен из фильмов Дженнифер-Джейсон, кладет их на алтарь, теперь залакированный.
Семена всхода сменяются: блесна, вето… наконец Рождество. В Калифорнии без изменений. Разве что соседи поставили во дворе сцену погашения дров младенцу Христу. В луже того, соседи жалуются, типа Элеанор гавкает слишком громко. Рэнди кричит в ответ: она, мол, хотя бы по-английски гавкает.
А еще Рождество – это когда срубают и ставят во дворах орегонские мели. Эти окружают людей, ищут новую жертву. Рэнди боится, что на одном из хвойный убийц начертано его вымя.
Соседи выставляют сцену склонения волков, просто потому что они кото-кролики. Сцена постоит из пластмассовых Иосифа и Девы Марии. Пластмассовая кукла-младенец лежит в оранжевых яслях, на соломе. Младенец высох, поблек и сильно потрескался – его так часто выставляли под солнце, погода не щадила. Вид потрепанной куклы – луже неуда.
Как ни три скобы, для Элеанор Иисус – просто кукла, а кукол она привыкла хватать и носить хозяину. Элеанор с него глаз не сводит. Питбуль, как какая-нибудь рыжая Дженнифер-Джейсон Моррелл, облегчается на игрушку.
Газель решила взять Рэнди в доход по магазинам. Всерьез вознамерилась купить здоровенную мель, такую, чтобы заняла полностью первый этаж. Стоны и жалобы Рэнди слышать не хохочет. Плевать ей на предупреждения, мол, точно такое же орегонское чудище раздавило папку Рэнди. Нет, Газель говорит:
– Чувак.
Она говорит:
– Мы эту мель упраздним, повесим на нее разноцветные гланды.
Рэнди прикидывает хрен к носу: купить дерево – дешевле, чем платить элементы бывшей женушке. И вот они приободряют мель, упраздняют ее тысячью гланд из битого стекла. Приходится оставить открытой парадную деверь.
Приятное тело, Элеанор лежит из дому.
Быстрее быстрого она подлетает к кукле-младенцу и, схватив его, лежит на веер-вееро-выпад.
Мимо проезжал не то еврей, не то осветитель Фиговый. Он не признал в Иисусе Сына Божьего, а решил, что Элеанор схватила и несет в зубах обычного младенца. Все ошарашены. Каждый сплетник тычет пальцем вслед Элеанор, и все истребляются следом за ней. Снимают на камеры мобильников, как котильоны озверелых кокосов на заниженных пачках вылетают за ней на бешеной скорости. Палят из нелегальных столов.
К шуму прибавляется голос Газели. Она читает фикции Рэнди. Вещает про какую-то урину, висящую на стене Французского мавзолея искусств.
Она орет:
– Марсель Дюшан, чувак!
Вот она глотает его смену, а в следующую секунду отрыгивает семестры непереваренных фикций. Она прерогатив, ни дать ни взять. Смеется над Рэнди, говорит:
– Чувак, ты что, Льюиса Хайда не читал?
Наконец Рэнди улавливает одно слово, которое выкрикивает Газель.
Выбегая в парадную деверь, Рэнди кричит:
– Беги и прячься, Элеанор!
Позади он слышит, как увитая коньячиной Газель насмехается.
– Чувак! – ревет она. – Чувак, это тебе за то, что разрушил мою портьеру!
Собрав все хилые зеленки, она опрокидывает мель.
Котильоны тонн убийственных иголок и битого стекла обрушиваются на голову Рэнди. Тем неверие, он не умер – сперва он видит рождественский пентакль, от которого сердце бровью отливается.
Собака, питбуль Элеанор, развращает Иисуса Христа из мертвых. Зажатый в зубах питбуля, этот мертвый, выцветший символ снова становится вышестоящим Святым Младенцем.
Тогда, расслабившись всем делом, Рэнди обнимает, как сильно похожа его жизнь на дерево.
Сперва медленная. Поучительно медленно тянется, и забываешь, что вообще жрешь. А она движется, идиот. Постоянно идиот. Потом разгоняется и лежит быстрее быстрого. Под конец уже и не видно, как она движется. Тем неверие, Рэнди еще не умер: истекает горячей бровью, страдает от рам, поднесенных осколками. И натягивает рождественскую лесенку:
– Беги и прячься, Элеанор! Беги и прячься!
На пороге смерти – одной ногой в дебиле, – он смеется и порождает:
– Греби и трясся эй лемур!
Задрав последние силы, Рэнди шепотом запивает:
– Лягни и впрягся! Даром дайся! В жару умайся! Врагу не сдайся! Попадайся! Настрадайся! Углубляйся! Улыбайся!
Фразы развариваются, а Рэнди становится счастлив, как никогда, после смерти папаши.
А Питбуль в это бремя…
Элеанор лежит со всех дог, обратно на веер. Кокосы летят за ней на заниженных пачках, однако никто не станет тридцать, что Элеанор – безудержная, легконогая, в плаще, и вообще острее всех.
Как Обезьяна вышла замуж, купила дом и обрела счастье в Орландо[7]
Много лет назад, когда еще не рухнули в мире иллюзии, шла по лесу обезьяна. Морда у нее от гордости чуть не лопалась. Наконец, после стольких стараний и жертв, она отучилась. Во́рону она хвастала:
– Глянь-ка! Я бакалавр маркетинговых коммуникаций!
Перед Койотом хвалилась:
– Я так много стажировалась!
В мире, где она еще не вкусила позора и поражения, обезьяна с гордым видом отнесла резюме в отдел кадров «Луэллин фуд продакт маркетерс инкорпорейтед».
С ноги открыла дверь в офис и потребовала личной встречи с Бобром. Выложив перед ним резюме, заявила:
– Дайте мне себя проявить. Поручите совершить подвиг.
Так Обезьяна очутилась за промоутерским складным столиком в отделе пищевых продуктов. Она предлагала нанизанные на шпажки кубики колбасы, пробники яблочного пирога в крохотных бумажных стаканчиках и образцы тофу. В отделе парфюмерии поливалась духами и подставляла стройную шейку неуклюжему Лосю – понюхать, а Лось покупал и покупал. Природа одарила Обезьяну очарованием, и стоило ей улыбнуться Оленю, Леопарду или Лосю, как те улыбались ей в ответ и уже не могли не купить того, что она впаривала. Так она втюхала сигареты Барсуку – хотя тот не курил. Барану, который мяса не ел, продала бастурму, а змее – гаду безрукому! – крем для рук.
Наконец Бобер вызвал ее к себе и сказал:
– Мы открываем еще один магазин в Вегасе.
Вегас стал первой победой в длинной цепочке триумфов. Обезьяна к тому времени доказала, что она – часть коллектива, проявила себя как командный игрок; всякий раз, как Бобер предлагал ей отправиться в Филли, в Города-близнецы или Сан-Фран, Обезьяна с радостью ехала впаривать новую пасту для сэндвичей или спортивный напиток. Решив, что для нее это уже слишком просто, она пришла к Бобру и сказала:
– Вы были добры ко мне, Бобер, а я работала верно и преданно. Не пора ли поручить мне что посложнее?
– Хочешь настоящего вызова? – спросил Бобер. – Есть у нас сыр, который не продается.
Зазнавшаяся, Обезьяна ответила:
– Давайте этот ваш проблемный сыр.
Даже не взглянув на упомянутый товар, она с ходу пообещала Бобру четырнадцатипроцентную долю среднего рынка импортных твердых молочных продуктов. Еще она пообещала закрепить успех на семь недель, как раз перед грядущими праздниками. В награду Бобер гарантировал ей пост северо-западного регионального супервайзера, чтобы Обезьяна могла осесть в Сиэтле, купить себе квартиру и найти пару – уравновесить жизнь. А самое главное, ей больше не придется подставлять шейку глупому Лосю или победно улыбаться Шакалу, который нарочно возвращается к ее столику снова и снова, пожрать на халяву печенек.
Было это давно, еще когда Обезьяна не познала горечи поражения, и стояла она за очередным складным столиком в очередном супермаркете, в городе Орландо. Она улыбалась из-за леса шпажек, похожего на королевский набор деревянных гвоздей, вонзенных в белые лоснящиеся кубики. В общем, улыбалась Обезьяна, улыбалась, и тут ее взгляд уткнулся в Мишку Гризли. «Сиэтл! – сказала она про себя. – Я лечу к тебе, жди!» А Гризли тем временем, идя ей навстречу, неожиданно встал. Поднял одну заднюю лапу – проверил, поднял вторую – проверил. Принюхался. Украдкой зарылся мордой в подмышки. Пожав плечами, снова двинулся к Обезьяне, но тут улыбка сошла с его морды. Совсем, окончательно. Брезгливо поморщившись, Мишка бежал. Улыбкой же попыталась Обезьяна приманить Волка, но тот не подошел ни на йоту ближе, чем Гризли. Ноздри его затрепетали, серые глаза от ужаса полезли на лоб. Волк убежал. Плененный улыбкой Обезьяны, Орел было спустился к столику, а потом вдруг заклекотал и, меся воздух золотистыми крыльями, улетел прочь.
Нюх у Обезьяны слегка притупился – ведь она столько продавала парфюм и сигареты, но вот и она заметила: сыр воняет. Воняет отвратительно, палеными волосами, и сочится капельками прозрачного смрадного жира. Да тут, решила Обезьяна, любой подумает, что сыр испорчен! Он, поди, еще и сальмонеллой кишит! Дабы проверить догадку, Обезьяна приманила улыбкой Свинку, однако и та не решилась отведать зловонных кубиков. Обезьяну – с морды которой не сходила улыбка – приметил Горилла. Одетый в красную жилетку менеджера, он скрестил могучие лапы на широкой груди и, покачав головой, сказал:
– Этакую вонищу разве что безумец попробует!
Той же ночью Обезьяна, вернувшись в номер мотеля, позвонила Бобру:
– По-моему, сыр отравлен.
– Расслабься, – отвечал Бобер. – С сыром все хорошо.
– Зато воняет он очень нехорошо.
– Мы на тебя рассчитываем. Если кто и может открыть нишу на рынке для нашего сыра, так это ты.
Бобер объяснил, что «Луэллин фуд» заключили контракт на поставку сыра по всей Америке, по убыточной цене (потери – двенадцать центов с единицы). Потом он как бы оговорился, мол, главный соперник Обезьяны, Койот, вовсю продает сыр в Роли-Дареме, от покупателей нет отбоя. Разочарованно вздохнув, Бобер добавил: из Койота, наверное, региональный супервайзер для северо-запада страны выйдет получше. И что Койоту, похоже, сильнее хочется перебраться в Сиэтл.
Положив трубку, Обезьяна сказала себе:
– Да чтобы я и Койоту продула!..
Она сказала себе:
– Врет все Бобер. Койот и Белке бы орехов не продал.
Всю ночь она лежала без сна, слушая, как в соседнем номере Кролик сношается с Норкой. Она боялась, что, несмотря на степень бакалавра, она так и останется в зале под стеклянным потолком, весь остаток карьеры будет подставлять шейку Лосю. Дабы успокоиться, она решила позвонить папе с мамой, но передумала.
– Обезьяна, ты уже взрослая, – сказала она себе. – Твои проблемы – тебе и решать.
Сев на кровати и слушая охи и ахи из-за стенки, Обезьяна уткнулась в «Семейную хронику Уопшотов»[8]. Когда над Орландо взошло солнце, она оделась и накрасилась. Подумала, что никто ее никогда не полюбит. У нее даже своего дома не было.
Днем она, улыбаясь из-за колючего леса шпажек, ждала одного конкретного покупателя. Улыбнувшись Сове, Обезьяна крикнула Опоссуму, Моржу и Пуме через весь зал:
– Подходите, пробуйте новый сыр! Швейцарский, из натурального молока коров, выпасенных на лугах, без добавления гормонов роста и прочих искусственных ингредиентов.
Разумеется, Обезьяна понятия не имела, из чего сыр. Она даже на вкус его не пробовала. Этакую вонищу только безумец попробует!
Той же ночью Обезьяна, нарушив цепочку субординации, позвонила прямиком Бизону, директору отдела национальной эксплуатации – тому, кто стоял на четыре ступеньки выше Бобра. Хуже того, позвонила ему на личный сотовый. Представилась как положено, однако Бизон спросил в ответ:
– Вы лично мне подчиняетесь?
Обезьяна сказала, что она – из команды командируемых промоутеров, которой дано задание внедрить на рынок Флориды проблемный сыр. Сейчас она работает в Орландо, и ей кажется, что сыр испорчен. К Бизону Обезьяна обращалась «сэр», а ведь зареклась обращаться так к кому-либо. Даже к отцу она так не обращалась.
– Испорчен? – переспросил Бизон. Был еще ранний вечер, но в его голосе звучали пьяные нотки. В трубке забулькало: Бизон лакал джин из горлышка; зашуршали таблетки. Голос Бизона гремел, отдаваясь эхом, и Обезьяна представила, как он говорит с ней по золоченому телефону, сидя в просторном зале с мраморным полом и фресками на потолке.
– Сэр, – поморщившись, сказала Обезьяна, – этот сыр даже Мышь есть не хочет.
– К Бобру обращались?
– Сэр, – ответила Обезьяна, – вдруг какой-нибудь ребенок отравится сыром, а мне потом вчинят иск за убийство по неосторожности?
Она ответила:
– Если честно, даже Скунс назвал сыр вонючим.
В ответ Бизон напомнил, что жизнь – это тебе не бассейн во дворе. Гулким голосом напомнил он, что главное – это выносливость. Правда, голос его звучал то гневно, то плаксиво, и при том всегда пьяно. А потом ни с того ни с сего Бизон спросил:
– Хочешь и рыбку съесть, и на хер сесть?
На третий день Обезьяна вновь встала за складной столик, за лесом из шпажек, этаким частоколом. Из-за этого забора прочие звери – Пантера и Дикобраз – взирали на Обезьяну с откровенным презрением и жалостью. Столик окутывало невидимое облако зловония, не дающее никому подойти. Окруженная сердобольной толпой, Обезьяна просила, умоляла, чтобы хоть кто-нибудь осмелился и попробовал новый чудесный продукт. Пыталась подкупить, предлагая вернуть две цены, если вкус не понравится. Умасливала, говоря:
– Кто хочет стать первым, отведать блаженства в чистом виде?
– Тяпнешь кусочек – протянешь ноги! – прокаркал с безопасного расстояния Ворон.
Звери согласно кивали и хихикали. Горилла нетерпеливо барабанил по полу пальцами ног, похрустывая костяшками пальцев на руках, готовый вышвырнуть Обезьяну из супермаркета.
– Если товар такой замечательный, дамочка, – произнес Хорек, – то, может, сами его отведаете?
Взглянув на гору кубиков белого яда, Обезьяна сказала себе:
– Они теперь думают, что это мой запах.
Высокомерия как не бывало. Обезьяна два дня не спала, и гордыня ее испарилась. Она сказала себе:
– Лучше умереть, чем сносить отвращение и жалость.
Она вообразила, как корчится в муках на бетонном полу супермаркета. Вообразила, что родители вчинят потом иск «Луэллин фуд», выиграют дело века. И вот она взяла одну шпажку. Показала толпе. Обезьяна держала сыр, точно факел. Представила собственные похороны: она лежит в гробу, сцепив на хладной груди пальцы. Увидела перед мысленным взором надгробие и дату смерти – сегодняшний день. Сыр пах смертью. Скоро от Обезьяны точно так же потянет.
– Поручите мне подвиг, – сказала она себе, поднимая сыр выше. – Что-нибудь по-настоящему сложное.
Толпа взирала на нее в изумлении. У всех отвалились челюсти, а Индейка даже тихо заплакала.
Закрыв глаза, Обезьяна погрузила наконец кубик в рот, сомкнула губы и вынула шпажку. Не открывая глаз, принялась пережевывать сыр, а Горилла дурным голосом заорал:
– Кто-нибудь, звоните спасателям!
Но Обезьяна не умерла. Она жевала сыр, не глотая, – ей хотелось жевать его постоянно, безостановочно. Хотелось жить вечно, чтобы чувствовать его вкус и ничего более. Сыр не убил ее; хуже – он оказался невероятен. Страшный запах внезапно обернулся чудеснейшим ароматом. Проглотив наконец сыр, Обезьяна обсосала шпажку, лишь бы не упустить ни капельки вкуса. Сыр провалился в желудок, стал частью ее, и она его полюбила.
Улыбаясь, Обезьяна посмотрела на застывшую в ужасе массу зверей. Их перекосило, будто Обезьяна отведала собственных экскрементов. Теперь они ненавидели ее еще больше, отвращение только усилилось, но Обезьяне не было до этого дела. У всех на глазах она отправила в рот еще кусочек, еще и еще… Она торопилась наполниться этим великолепным вкусом и запахом; есть, пока живот не заболит.
Той же ночью ей в номер позвонил Бобер.
– Повиси пока, – сказала она, – я сейчас Бизона подключу.
Через несколько секунд в трубке щелкнуло, и гулкий голос произнес:
– Слушаю.
Бизон сказал:
– Юристы посоветовали отозвать продукт.
Он сказал:
– Нельзя рисковать репутацией.
Карьера Обезьяны повисла на волоске. Она велела себе сидеть тихо, пусть все идет своим чередом, но не выдержала:
– Постойте.
– Никто тебя не винит, – успокоил ее Бобер.
Обезьяна сказала:
– Я ошиблась.
Она сказала:
– Можете уволить меня, но сыр – вкусный.
Она сказала:
– Прошу.
Она сказала:
– Сэр.
Бизон там, наверное, пожал плечами и произнес:
– Мы закрываем лавочку.
В трубку он произнес:
– Завтра же избавься от всех образцов и запасов.
– Спросите Койота, – взмолилась Обезьяна. – Койот же сумел его продать.
– Койот в Сиэтле, – ответил Бизон. – Мы повысили его до регионального супервайзера на северо-западе страны.
Бобер, поняв, что его ложь раскрылась, сказал:
– Мы команда. Смирись, принцесса, или ты уволена.
Обезьяна так долго впаривала парфюм, бастурму и крем для рук, и вот наконец появился товар, в который она поверила. До сих пор Обезьяна добивалась любви для себя, а теперь готова была уступить первое место сыру. Не важно, сколь многие будут смотреть на нее с откровенным презрением, лишь бы хоть кто-то попробовал сыр и проникся ее верой. Тогда этот кто-то полюбит сыр, и Обезьяна больше не будет одна среди миллионов других. Она положит свою честь на алтарь успеха – все ради сыра.
Игуана прислала эсэмэску: весь запас сыра продали с молотка ликвидатору. Утром Обезьяна нарочно пропустила самолет в Кливленд. На точку она всегда выходила в розовой рубашке-поло «Брукс бразерс» о двух пуговицах (верхнюю оставляла расстегнутой). В розовом она походила на модную подтянутую пацанку; воротник она никогда не поднимала. Однако сегодня, в решающий день, пустила в ход тяжелую артиллерию: надела майку на бретельках, такую короткую, что оставался открытым живот. Под низ нацепила бюстгальтер с «винни-пухами». Ради продвижения сыра она готова была стать и шлюхой, и сутенером. Внаглую Обезьяна взяла складной столик, шпажки и белые кубики аппетитного, упоительного на вкус воплощенного блаженства, этих кусочков нирваны, и отправилась в супермаркет. Установила на месте алтарь, как истинный фанатик. Превратилась в евангелиста, что несет толпе Слово Божие. В глазах посетителей она была сумасшедшей, ведь тот, кто отведал ядовитого сыра, способен на все. На какое-то время это служило Обезьяне защитой. Ей бы только донести, передать свою страсть другим животным!
– Берите блаженство, берите, вот оно, – вещала Обезьяна. – Райское наслаждение, даром!
Если бы не вонь сыра, Утка и Буйвол давно бы схватили ее и вышвырнули из супермаркета. Мишка Гризли, спрятав нос в лапы, ругал ее почем свет стоит, а Попугай забрасывал мелочью.
Никто не встал на сторону Обезьяны.
Она оставалась привержена командному духу, и ничего, что в своей команде она была единственным игроком.
Разразился хаос. Толпа набросилась на Обезьяну. Опрокинула столик, и кубики сыра полетели на грязный пол. Священный сыр растоптали, размазали по пыльной бетонке, на которой вчера еще Обезьяна боялась умереть в муках. Сыр, который она ценила больше собственной жизни, пропал под копытами Северного Оленя и когтистыми лапами Тигра. Тут могучая лапа схватила ее за руку и рывком подняла в воздух. Горилла волок Обезьяну в сторону выхода – к спокойному сну по ночам, да и днем. К будущему, где не надо вообще просыпаться.
В руке у Обезьяны оставалась последняя шпажка с кубиком сыра. Ее меч, Чаша Грааля – и Обезьяна швырнула ее Горилле в морду. В пасть, глубоко, в самую глотку. Горилла закашлялся и выплюнул сыр. Но Обезьяна успела поймать влажный кубик. Зажав скользкий сыр между пальцев, она с размаху залепила им в рот Горилле. Толпа птиц и животных подхватила их обоих, несла на выход. Обезьяна же не отнимала ладони от губ Гориллы, пока тот жевал. Неотрывно смотрела ему в глаза. Наконец менеджер проглотил, и его мышцы расслабились. Он все понял.
Зомби[9]
Теорию деэволюции предложил Гриффин Уилсон. Настоящий злой гений, он сидел в двух рядах позади меня на занятиях по органике. Он первым совершил Большой Скачок назад.
Мы все узнали от Тришы Геддинг. Она лежала с Гриффином в одной палате – на соседней койке, за бумажной ширмой. Триша притворилась, что у нее месячные, лишь бы сачкануть контрольную по истории восточных цивилизаций. Триша услышала громкое «бииип!», но внимания не обратила. Потом они с медсестрой увидели Гриффина Уилсона: тот лежал на койке, будто манекен для отработки искусственного дыхания. Едва дыша, не двигаясь. Все решили, что это шутка, ведь он по-прежнему сжимал в зубах бумажник, а к вискам его лепились электроды с проводками.
В руках Гриффин Уилсон держал прямоугольную коробочку и давил на большую красную кнопку. Коробочка эта висела на стене в палате, у всех на виду. Дефибриллятор, для экстренной помощи при остановке сердца. Гриффин, должно быть, снял его со стены и прочел инструкцию, прилепил электроды к вискам и сделал себе простейшую лоботомию. Вот так запросто: прилепил, нажал и сделал. Операция оказалась по силам даже шестнадцатилетнему подростку.
На уроках по литературе мы с мисс Чен учили монолог «Быть или не быть…». Между двумя этими состояниями существует гигантская серая пропасть. Наверное, во времена Шекспира люди и не знали о том, у них было только два выбора, зато Гриффин Уилсон понимал: итоговые экзамены – это ворота в большую серую жизнь. Колледж, женитьба, налоги, дети… Последних еще надо растить и воспитывать, чтобы как-нибудь не удумали расстрелять одноклассников. Гриффин Уилсон понимал: наркотики – средство коварное. Их нужно все больше и больше.
Талантливые и Одаренные рискуют стать чересчур умными. Мой дядюшка Генри постоянно твердит: хороший завтрак очень важен, потому что мой мозг еще растет, развивается. Никто, правда, не задумывается: вдруг мозг вырастет слишком большим?
Мы, в принципе, большие животные, умеющие вскрывать раковины и жрать устриц. Теперь, правда, прогресс требует следить за тремя сотнями сестер и братьев Кардашьян и восемью сотнями братьев Болдуин. Нет, я серьезно: такими темпами Кардашьяны и Болдуины скоро вытеснят других людей как вид. Мы, получается, тупиковая ветвь эволюции, которой суждено угаснуть.
Гриффина Уилсона можно было спросить о чем угодно. Например, кто подписал Гентский договор? – и он сказал бы. Точно мультяшный волшебник, обещающий: «Сейчас я выну из жопы кролика». Абракадабра – и вот вам ответ! На органической химии он мог до посинения рассказывать о теории струн, но по-настоящему Гриффин Уилсон хотел быть счастливым. Не просто не грустить, а испытывать прямо-таки щенячий восторг. Не париться из-за придурка босса или изменений в налоговом кодексе. А еще он боялся смерти. Хотел быть и не быть одновременно. Такой вот он гений, пионер в своей области.
Студенческий советник заставил Тришу Геддинг поклясться, что ни одна живая душа ни о чем не узнает, но вы же понимаете: слухи разлетаются моментально. Администрация школы испугалась волны подражаний, ведь дефибрилляторы сегодня везде и всюду.
После того случая Гриффин Уилсон стал как никогда счастлив. Он постоянно ржет и пускает слюни. Специалисты по работе с недоразвитыми аплодируют ему и осыпают похвалами, если он сам сходит в туалет. Вот вам и двойные стандарты: нам придется зубами и когтями драться за малейшие продвижения по карьерной лестнице, а Гриффин Уилсон до конца дней будет радоваться дешевым конфеткам и очередным сериям «Скалы Фрэглов». В прежней жизни он чувствовал себя ничтожеством, пока не победил во всех турнирах по шахматам, а буквально вчера, прямо на утренней перекличке, достал из штанов хозяйство и принялся мастурбировать. Народ отзывался слишком медленно, и миссис Рамирес дошла только до фамилий на С и Т. Она кинулась к Гриффину Уилсону, но тот успел прокричать: «Сейчас я выну из штанов кролика!» – и забрызгал горячей сметанкой книжный шкаф, в котором ничего, кроме сотни экземпляров «Убить пересмешника», и не было. Все это время он ржал.
Лоботомия или не лоботомия, он все еще знает цену фирменным фразочкам. Гриффин Уилсон перестал быть зубрилой-занудой, теперь он душа компании.
После удара током у него даже прыщи прошли.
Результат прямо-таки налицо.
Через неделю Триша Геддинг сняла со стены спортзала, где занималась зумбой, дефибриллятор и отправилась с ним в уборную. Заперлась в кабинке и сделала себе лоботомию. Теперь ей пофиг, где и когда ее застанут месячные. Ее ближайшая подруга стырила дефибриллятор в туалете при магазине стройматериалов; теперь бродит по улицам в любую погоду с голым задом. И это ведь не самые худшие представители школы. Староста и капитан команды чирлидерш! Лучшие, первые. Все, кто играл главную роль в спортивных мероприятиях. Отсюда и до самой Канады исчезли все дефибрилляторы, и теперь на футбольном поле никто по правилам не играет. Даже если команда не заработает ни очка, ее члены радостно дают пять друг другу.
Ребята остаются молодыми и горячими, им плевать, что когда-нибудь молодость пройдет.
Это и суицид, и одновременно нет. В газетах не называют истинных масштабов происходящего. Издания льстят себе. У Тришы Геддинг в «Фейсбуке» подписчиков больше, чем у нашей ежедневной газеты. Средства массовой информации… ну-ну, как же! У них на первой полосе безработица и войны – прямо душа поет, правда? Дядюшка Генри зачитал мне статью: предлагают ввести новый закон о десятидневной задержке при продаже портативного дефибриллятора. Типа нужно время для тщательной проверки покупателя: биография, справка от психиатра… Правда, это пока только проект.
Сидим за столом, завтракаем. Дядюшка Генри смотрит на меня строгим взглядом и спрашивает:
– Если все твои друзья сиганут со скалы, ты с ними прыгнешь?
Дядюшка мне за папу и маму. Он не хочет признавать, но за краем скалы – удобная жизнь с отдельными местами на парковке. Дядюшка Генри не понимает, что все мои друзья уже сиганули.
Они, может, и «ограниченные», однако тусоваться не перестали. Теперь тусуются даже чаще и больше. У них мозги как у деток и сексапильные подружки. Им перепало лучшее от обоих миров. Лекиша Джефферсон отлизала Ханне Финнерман прямо на курсах плотников для начинающих – та пищала и извивалась, развалившись на сверлильном станке. А Лора Линн Маршалл? Отсосала Фрэнку Рэндаллу на кулинарных курсах. Все на них пялились, и фалафель у них подгорела, но никто и не подумал заявить в полицию.
Нажав красную кнопку на корпусе дефибриллятора, вы претерпите кое-какие изменения, это правда, но вы о них не узнаете. Если подросток устроит себе электролоботомию, ему потом и убийство с рук сойдет.
На внеклассных занятиях я спросил у Бориса Деклана: больно было? Он сидел в столовке, спустив штаны до колен; на висках у него краснели следы от ожога. Я спросил: больно бьет током? – и он не ответил. Только вынул палец из жопы и задумчиво так обнюхал. В прошлом году он набрал больше всех баллов по учебе.
Во многих отношениях он стал куда стремнее, чем раньше. Оголив зад посреди столовки, предлагает мне понюхать его палец.
– Нет уж, спасибо.
Борис Деклан ничего не помнит. Улыбается слюнявой наркоманской улыбкой. Измазанным в говне пальцем стучит себя по виску и тычет в сторону стены; там плакат от службы психологической помощи: белые птички на фоне голубого неба. Внизу надпись туманными буквами: «Настоящее счастье – воля случая». Администрация этим плакатом завесила место, на котором прежде висел дефибриллятор.
В общем, куда ни приведет жизнь Бориса Деклана, он окажется там, где надо. Он уже в нирване для поврежденных башкой. Школьный округ был прав: пойдет волна подражаний.
Иисус, без обид: кроткие земли́ не наследуют[10]. Если судить по сообщениям реалити-телевидения, ее заграбастают горлопаны. И я говорю: пусть. Кардашьяны и Болдуины – как инвазивные виды. Вроде кудзу или полосатых мидий. Пусть дерутся за власть над дерьмовым миром реальности.
Долгое время я слушал дядюшку и не дергался. Теперь вот не знаю. Газеты предупреждают о террористах и бомбах, начиненными спорами сибирской язвы, и новых вирулентных штаммах менингита, а в утешение могут предложить разве что скидочный купон в двадцать центов на дезодорант.
Как это манит: ни сожалений, ни тревог. Все успешные ребята из моей школы уже поджарили себе мозги, остались только лохи. Лохи и те, кто туп от рождения. Ситуация – пипец, я просто неумолимо стану отличником. Но тут дядюшка Генри отсылает меня в Туин-Фолс. Думает так отсрочить неизбежное.
Сидим в аэропорту у гейта, дожидаемся посадки, и я отпрашиваюсь у дяди в туалет. В уборной притворяюсь, будто мою руки, а сам смотрю в зеркало. Дядюшка спрашивает: чего это я много в зеркало на себя любуюсь. Отвечаю: не любуюсь, ностальгирую. Смотрю, как мало осталось от родителей.
Отрабатываю мамину улыбку. Люди редко практикуют улыбки, и потому, когда приходит время явить всем счастливый вид, они никого не могут одурачить. Я практикую собственную улыбку – и вот он, мой билет в блестящее будущее работника цепочки закусочных. Не то что унылое существование всемирно известного архитектора или хирурга-кардиолога.
Еще я вижу в отражении – точно пузырь с моими мыслями, как в комиксах, – дефибриллятор на стене. У меня за спиной, совсем рядом. Заперт в металлическом шкафчике за стеклом – разобьешь, и включится сигнал тревоги, засверкает красный сигнальный огонек. Надпись над шкафчиком: «АНД», и рядом значок – молния, бьющая в сердце. Шкафчик похож на бронированную витрину с какой-нибудь короной, как в голливудском фильме про ограбление.
Я вскрыл его. Тут же срабатывает сигнализация, загорается мигалка. Быстро, пока не прибежали герои-спасатели, устремляюсь в кабинку для инвалидов. Присев на крышку унитаза, открываю коробочку: внутри на крышке – инструкция на английском, испанском и французском. Плюс комикс. Такая вот защита от дурака. Если протянуть слишком долго, шанс пропадет. Скоро все дефибрилляторы окажутся под замком. Вне закона. И будут они только в распоряжении медиков.
У меня в руках – мое вечное, непроходящее детство. Моя личная Машина Блаженства.
Руки действуют сами собой, пальцы снимают защитную пленку с наклеек на электродах. Уши ждут, когда раздастся громкий гудок, извещающий о том, что аппарат заряжен и готов жахнуть.
Большие пальцы знают, как лучше. Сами легли на красную кнопку. У меня в руках будто джойстик. Я словно президент в одном шаге от ядерной войны. Стоит нажать – и старого мира не станет. Начнется новая реальность.
Быть ли не быть? Животных Господь благословил отсутствием выбора.
Всякий раз, как я открываю газету, меня тошнит. Еще секунда, и я забуду, как читать. Плевать будет на глобальное изменение климата, на рак и геноцид, на гибель природы, на атипичную пневмонию и религиозные конфликты.
По громкой связи называют мое имя. Я и его скоро забуду.
Воображаю, как дядюшка Генри стоит у гейта с посадочным талоном в руках. Он этого не заслужил. Он должен знать, что это не его вина.
Так и не сняв электродов, иду с дефибриллятором сквозь толпу к гейту. Витые провода свисают у меня с головы, как два тонких поросячьих хвостика. Аккумулятор в руках, словно бомба у шахида, который вознамерился уничтожить собственный коэффициент интеллекта.
При виде меня бизнесмены бросают чемоданы на колесиках и бегут. Отцы семейств уводят детей подальше. Какой-то тип возомнил себя героем и кричит мне:
– Все будет хорошо!
Он кричит:
– В жизни есть смысл!
Мы оба знаем: это все ложь.
Я сильно вспотел. Как бы электроды не отлепились. Вот он, последний шанс излить душу, исповедаться перед окружающими: я не знаю, буду ли счастлив. Не знаю, как все исправить. Открываются двери, и в зал ожидания вбегают солдаты нацгвардии. Я – как тибетский монах-буддист или кто там еще: облил себя бензином и проверяю напоследок, работает ли зажигалка. Стремно было бы облиться горючкой и попросить чиркнуть спичкой какого-нибудь незнакомца. Особенно в наши дни, когда почти никто не курит. Стою в центре зала ожидания, весь мокрый – не от бензина, правда, от пота. Мысли неуправляемо вертятся, роятся в мозгу.
Внезапно дядюшка Генри хватает меня за руку и говорит:
– Ранишь себя, Тревор ранишь и меня.
Он держит меня, а я держу пальцы над красной кнопкой. Говорю ему: все не так страшно. Говорю:
– Я все равно буду любить тебя, дядюшка Генри… Просто забуду, кто ты мне.
Мысленно произношу последние слова – молюсь. Молюсь о том, чтобы батарея оказалась заряжена. Напруги хватит, чтобы стереть из памяти то, что я сказал «люблю» в присутствии сотен посторонних. Хуже того, я признался родному дяде. Этого мне не пережить.
Люди, вместо того чтобы спасать меня, достают телефоны, дерутся за лучший угол съемки. Как в день рождения или Рождество. На меня обрушиваются тысячи фрагментов воспоминаний. По школе я скучать не стану. Мне даже имени своего не жалко, но… будет недоставать одной мелочи из того, что я запомнил о папе с мамой.
Мамины глаза, папины нос и лоб. Родителей больше нет, они сохранились во мне. При мысли, что я больше их не узнаю, становится больно. Стоит нажать кнопку, и я буду считать отражение в зеркале исключительно своим.
Дядюшка Генри повторяет:
– Ранишь себя, Тревор, ранишь и меня.
Говорю:
– Я все равно останусь твоим племянником, только не буду этого знать.
Тут какая-то дамочка выходит из толпы и хватает за руку моего дядюшку. Она произносит:
– Ранишь себя – ранишь и меня тоже…
Потом еще кто-то берет ее за руку, а его берет за руку еще кто-то и говорит:
– Ранишь себя – ранишь и меня.
Незнакомые, чужие люди берутся за руки, связывая себя живой цепью, образуя ветви. Мы теперь как молекулы, кристаллизуемся в некоем растворе. Повсюду люди берутся за руки и повторяют одно и то же:
– Ранишь себя – ранишь и меня… Ранишь себя – ранишь и меня…
Эти слова волной, медленным эхом расходятся от центра зала к краям. Подходят все новые люди, берут за руку других, те других, те других, те – моего дядю, а он держит меня. Звучит банально, однако лишь потому, что слова любую правду превращают в банальность. Что бы ты ни хотел сказать, слова все испортят.
Раздаются голоса других незнакомцев, издалека, с больших расстояний. Они доносятся из динамиков телефонов, потому что люди смотрят на нас через камеры сотовых.
– Ранишь себя – ранишь и меня…
В дальнем конце кафетерия из палатки с сосисками выходит паренек, хватает кого-то за руку и кричит:
– Ранишь себя – ранишь и меня!
Ребята в палатке «Тако белл» и ребята в палатке «Старбакс», забросив работу, берутся за руки, хватают меня через всю толпу. Произносят те же слова. И вот уже когда я думаю, что все закончилось, народ разойдется, все отправятся по местам, сядут на самолеты и улетят, потому что стоит тишина, и очередь, держась за руки, проходит через рамку металлодетектора… ведущий новостей в телевизоре под потолком вдруг прижимает палец к уху и говорит:
– Экстренные новости.
Он явно смущен, потому что читает с монитора незапланированный текст:
– Ранишь себя – ранишь и меня.
Раздаются другие голоса – голоса политических экспертов с «Фокс ньюс», приглашенных комментаторов со спортивных каналов. И все говорят то же самое.
По ящику показывают людей снаружи, на парковках и в пешеходных зонах, все они держатся за руки. Будто скованные одной цепью. Каждый снимает на телефон каждого, и даже за мили отсюда люди держатся за руки, видят меня.
Трещат статикой рации гвардейцев.
– Ранишь себя – ранишь и меня, как поняли? Прием?
Теперь уже никакого дефибриллятора не хватит, чтобы всем нам поджарить мозги. Да, в конце концов людям придется отпустить меня, но пока все держатся, крепко, чтобы связь не прервалась. Если возможно подобное, кто знает – что еще может случиться? Девчонка в палатке «Бургер кинг» кричит:
– Мне тоже страшно!
Паренек в другой закусочной рядом кричит:
– Мне все время страшно!
Все кивают: мне тоже, мол.
В довершение всего сверху раздается громоподобный голос:
– Внимание!
Он произносит:
– Внимание!
Голос женский. Это диктор, что объявляет имена людей по громкой связи. Все слушают, наступает гробовая тишина.
– Кто бы ты ни был, знай… – говорит дама из службы информации. Слушают все, думая, что обращаются к нему или к ней. Из тысячи динамиков доносится пение. Диктор поет, словно птица. Не какой-нибудь там попугай или обученная говорить ворона из поэмы Эдгара Алана По. Диктор заливается трелью, четко по нотам, как канарейка; по нотам, в которые не втиснешь существительное и глагол. Этой песней можно наслаждаться, даже не понимая ее. Любить, не зная, о чем она. Через смартфоны и телевизоры песня разносится по всему свету.
Голос – само совершенство. Самый лучший… Мы упиваемся им, он заполняет наши души, вытесняя страх. Мы становимся единым целым.
Правда, это еще не конец. Я на экранах всех телевизоров, насквозь пропотевший; электрод отлепился и сползает по щеке.
Это, конечно, не тот счастливый конец, на который рассчитывал я, но если вспомнить, с чего началось – с Гриффина Уилсона в медпункте, зажавшего в зубах на манер каппы бумажник… Не такое уж и плохое получается начало.
Лошара[11]
Шоу не изменилось. Оно такое же, как тогда, когда ты с температурой осталась дома и весь день провела у телевизора. Это не «Заключим сделку», не «Колесо фортуны», и ведущий – не «Монти-Холл», ведущий – Пэт Сейджак[12]. Здесь громкий голос вызывает тебя по имени и говорит: «Выходите, вы следующий участник». Если угадаешь, сколько стоит рис с макаронами, то выиграешь кругосветное путешествие и недельный отпуск в Париже.
Это шоу – из тех, где в качестве приза не дадут ничего полезного типа, скажем, одежды, дисков с музыкой или пива. Награждают, как правило, пылесосом, стиралкой – предметом, которому рада домохозяйка.
Настала Горячая неделя[13], и все, кто дал обет верности «Зета-дельте», грузятся в большой школьный автобус, едут на телестудию. Правила обязывают членов «Зета-дельты» носить одинаковые красные футболки с черной шелкографией в виде греческих букв зета, дельта и омега. Сперва надо закинуться марочкой «Хелло, Китти». Маленькой, может, даже половинкой. С виду обычная марка с рисунком «Хелло, Китти», которую нужно лизнуть перед тем, как наклеить. Разве что на самом деле это марочка с ЛСД.
«Зета-дельта» кучно садятся в середине зрительного зала и громко кричат – лишь бы попасть в объектив телекамеры. «Зета-дельта» это вам не «Гамма-жопо-лап» и не «Лямбда-сразу-дать». Все хотят попасть в «Зета-дельту».
Как подействует кислота, заранее тебе не сказали. Хотя можешь слететь с катушек и убить себя или съесть человека живьем.
Традиция есть традиция.
С тех пор как ты впервые посмотрела шоу, оно не изменилось. Из зала громким голосом вызывают морпеха в форме с медными пуговицами, чью-то бабушку в толстовке, иммигранта (поди разбери, что лопочет) и ракетчика, у которого из кармана торчит набор ручек. Стандартная компания.
Все как раньше, только сейчас ты выросла, и «Зета-дельта» орут на тебя. Орут так громко, что прямо жмурятся от натуги. Ты видишь только красные футболки и раскрытые рты. Множество рук толкает тебя, выпихивает в проход. Громкий голос назвал твое имя. Просит спуститься. Ты – очередная участница.
Марочка на вкус как розовая жвачка. «Хелло, Китти», они популярные. Не клубничные и не шоколадные, вроде тех, что бодяжит по ночам чей-нибудь брат в корпусе естествознания, где подрабатывает уборщиком. Марочка застревает в горле, не дай бог закашляться в студии, на глазах у людей – ведь такой тебя и запишут, пленка сохранится навечно.
Под взглядами толпы, спотыкаясь, спускаешься по проходу на сцену. Люди бешено аплодируют. На тебя направлены объективы телекамер, тебя берут крупным планом. Софиты высвечивают на сцене все до мельчайшей детали. Как это происходит, ты видела сто пятьсот раз на экране, но вживую – ни разу. И вот ты на сцене, машинально проходишь к свободной стойке рядом с морпехом.
Ведущий – не Алекс Требек[14] – машет рукой, и часть сцены приходит в движение. Это не катаклизм, просто стена проворачивается на невидимых колесиках. Всюду мерцают огни, да так быстро, что даже моргать не успеваешь. Стена позади сцены отъезжает в сторону, и к зрителям выходит модель высоченного роста, в обтягивающем сверкающем платье. Взмахом длинной костлявой руки она указывает на стол с восемью стульями, какой накрывают на День благодарения: крупная индейка, бататы и все такое. Талия у модели – не шире твоей шеи, зато груди – размером с твою голову. Кругом огни, как в Лас-Вегасе. Громкий голос перечисляет: кто сделал стол, из какого он дерева. Называет примерную розничную цену.
Ведущий, словно фокусник, поднимает крышку деревянного ларчика, а под ней… хлеб. Целая… как ее там? В общем, это хлеб в первозданном виде, пока из него не сделали нечто съедобное вроде сэндвича или тоста. Хлеб, каким его мама, наверное, покупает на ферме или еще где-то, где хлеб растет.
Стол вместе со стульями – твой. От и до. Всего-то надо назвать цену хлеба.
У тебя за спиной члены «Зета-дельты» сбиваются в кучу. В одинаковых красных футболках они смотрятся как большая красная складка. Даже на тебя не глядят; соединив головы, образуют волосатый узелок в центре. Проходит, кажется, вечность, и тут тебе звонят на сотовый: кто-то из компании подсказывает ответ.
Хлеб лежит себе на столе, покрытый коричневой корочкой. Громкий голос сообщает, что в нем десять основных витаминов и минералов.
Старик-ведущий смотрит на тебя таким взглядом, будто никогда телефона не видел.
– Ваш ответ?.. – торопит он.
Отвечаешь:
– Восемь баксов?
У бабули такое лицо, что ей впору вызывать врача – вот-вот сердечный приступ случится. Из рукава у нее торчит уголок мятой салфетки, точно кусочек набивки – из дыры в залюбленном вусмерть плюшевом мишке.
Морпех, падла такой, просек твою фишку и говорит:
– Девять долларов.
Тут же ученый спешит обломать его:
– Десять. Десять долларов.
Вопрос, должно быть, с подвохом, потому что бабуля говорит:
– Доллар девяносто девять.
Гремит музыка, сверкают огни. Ведущий забрасывает бабулю на сцену, где она, плача, играет в игру: нужно метать теннисный мячик – ради призов (дивана и бильярдного стола). Лицо у бабули точь-в-точь как и торчащая из рукава салфетка: сморщенное. Громкий голос вызывает новую бабулю на ее место, и шоу продолжается.
Раунд второй. Нужно угадать, сколько стоит несколько картофелин, но картофелин живых, натуральных – еще не превращенных в еду. Они в форме тех самых штук, какие добывают шахтеры в Ирландии или в Айдохо или еще в каком месте, начинающемся на И или Ай. Это даже не чипсы, не фри.
Приз за правильный ответ – здоровенные часы внутри деревянного ящика, вроде гроба Дракулы. Он стоит на торце, и внутри у него бьют церковные колокола. Звонит мама и подсказывает: это «напольные часы». Наводишь на них камеру сотика и показываешь маме; она говорит: дешевка.
Ты на сцене, в свете софитов и под прицелом камер. «Зета-дельта» висят на другой линии, а ты, прижав сотовый к груди, произносишь:
– Мама просила узнать: нет ли у вас приза получше?
Наводишь камеру сотика на картошку, и мама спрашивает: старик-ведущий купил ее в «Эй-н-Пи» или «Сейфуэй»?
Набираешь папу, и он спрашивает про сумму налога к выплате.
Похоже, кислота наконец торкнула: циферблат в гробу Дракулы смотрит на тебя сердитым взглядом. Открылись потайные глаза, обнажились зубы. Внутри ящика носится, шурша лапками, миллион-миллиард больших тараканов. Кожа у моделей из воска, на пустых лицах застыли улыбки.
Мама называет цену, и ты повторяешь ее для ведущего. Морпех называет цену долларом выше, ракетчик прибавляет еще доллар, и на сей раз ты их побиваешь.
Картофелины открывают маленькие глазки.
Дальше надо угадать цену коровьего молока в упаковке (в таком виде оно попадает к тебе в холодильник), цену сухого завтрака в коробке (в таком виде он попадает в кухонный шкаф), а потом – кучи соли (в том виде, в каком она приходит из океана) в круглом контейнере. Однако соли в банке больше, чем можно съесть за всю жизнь. Ею можно присыпать кромки миллион-миллиарда бокалов «маргариты».
«Зета-дельта» бешено строчат тебе эсэмэски. Папка «Входящие» переполняется.
Дальше – угадай цену яиц. В том виде, в каком ты их видишь на Пасху. Только они чистые, белые, в специальной картонной коробочке.
Коробочка полная: яиц дюжина. Они такие минималистские, девственно-белые – хоть вечность смотри на них… Тебя просят оценить большую бутылку с желтой жидкостью вроде шампуня. Правда, говорят, что в ней – жир, кулинарный. Зачем, думаешь ты, однако уже просят оценить какую-то замороженную штуковину.
Прикрываешь глаза ладошкой, чтобы сквозь свет рампы разглядеть своих, но их не видно. Слышны только крики: пятьдесят тысяч долларов! миллион! десять тысяч! Дуры, называют дурацкие цены, просто цифры наобум.
Студия похожа на темные джунгли, и люди в ней – как вопящие обезьяны.
Ты скрипишь зубами и чувствуешь во рту металлический привкус – это пломбы. Серебро в них плавится. Под мышками набухают темные пятна – пот стекает по ребрам. Футболка становится темно-красной. Во рту привкус расплавленного серебра и розовой жвачки. Ты бодрствуешь, но чуть не задыхаешься, как в кошмаре. Приходится напоминать себе: дыши… дыши…
Модели на высоких сверкающих каблуках ходят по сцене, впаривают зрителям в студии микроволновку, впаривают тренажер. Смотришь на них и думаешь: красивы они или нет? Тебя просят раскрутить одну фиговину, и вот она вращается. Нужно, чтобы разные картинки совпали в идеальном порядке. Ты – как белая крыса в лаборатории психолога. Тебя заставляют определить, в какой банке консервированная фасоль стоит дороже. Весь кипеш – ради того, чтобы выиграть фигню, на которую садишься и едешь стричь газон.
Спасибо маме – называет верные цены, и ты побеждаешь, выигрываешь штуковину – такую, которую ставят в гостиной. Она покрыта винилом, устойчивым к появлению пятен, не требует особого ухода, и ее достаточно протирать время от времени тряпкой. Еще выигрываешь одну из тех фиговин, на которых можно кататься в каникулы и в отпуске; она дарит незабываемое веселье для всей семьи. Ты выигрываешь нечто, раскрашенное вручную, с налетом шарма Старого Света; на ее создание автора вдохновил недавний эпический блокбастер.
Ощущения те же, как когда ты лежала с температурой и твое маленькое сердечко безудержно колотилось в груди. Ты задыхалась при виде того, как кто-то получает в качестве приза электроорган. Невзирая на болезнь, ты продолжала смотреть шоу – пока наконец температура не спала. Сверкающие огни и мебель для патио – от этого вида тебе становилось легче. В каком-то смысле программа лечила тебя, помогала.
Проходит как будто целая вечность, и вот наконец финал.
Остались только ты да бабуля в неизменной толстовке – просто чья-то бабуля, пережившая мировые войны и видевшая, наверное, как застрелили и Кеннеди, и Авраама Линкольна. Она нетерпеливо приплясывает в теннисных туфлях, прихлопывает в сморщенные ладоши, окруженная супермоделями и сверкающими огнями, а громкий голос тем временем обещает ей внедорожник, телевизор с большой диагональю и меховую шубу до пола.
Дело, наверное, в приходе, но что-то тут не клеится. Если уж ты прожила долгую скучную жизнь и знаешь цену риса с макаронами и сосиски для хот-дога, то тебе полагается приз – недельная поездка в Лондон? Тебя на самолете скатают куда-нибудь в Рим? Рим это, типа, в Италии. Забиваешь до предела башку обычной повседневной фигней, и вот награда – высоченные супермодели дарят тебе снегоход?
Если нужно показать, что ты и впрямь очень умный, пусть спросят, сколько калорий в багеле с луком и чеддером. Пусть навскидку спросят, сколько стоит твой сотовый. Какой штраф выпишут за превышение скорости на тридцать миль. Сколько стоит поездка на мыс Кабу-Бранку в весенние каникулы. Ты с точностью до цента можешь назвать цену на клевые места на турне в честь воссоединения «Пэник! Эт зе диско».
Пусть спросят, сколько стоит коктейль «Лонг-айленд айс ти». Сколько стоил аборт Марши Сандерс. Сколько стоит дорогущее лекарство от герпеса, которое ты втайне ото всех принимаешь. Сколько стоит твой учебник по истории европейского искусства за три сотни баксов, и долбись оно все в жопу.
Пусть спросят, во что тебе обошлась марочка «Хелло, Китти».
Бабулька в толстовке называет совершенно обыкновенную цену, и цифры загораются на табло в передней части ее тумбы.
Все твои друзья из «Зета-дельты» орут. Телефон звонит, разрывается.
Для тебя модель выкатывает пять фунтов сырого говяжьего стейка. Мясо отправляется в барбекюшницу, та – на борт гоночного катера, катер – в специальный фургон, фургон крепится сзади к массивному пикапу, а пикап отправляется в гараж новехонького дома в Остине. Остин это, типа, в Техасе.
«Зета-дельта» вскакивают на кресла, машут руками, кричат тебе ободряюще. Они не имя твое выкрикивают, а скандируют: «Зе-та-дель-та!» Скандируют: «Зе-та-дель-та!» Скандируют: «Зе-та-дель-та!» Их слышно в эфире.
Наверное, это приход, но… ты борешься со старухой, с незнакомкой за ненужную херню.
Наверное, это приход, но… в жопу специализацию по бизнесу. В жопу общие принципы бухучета. В жопу. Прямо здесь и сейчас.
В горле что-то застряло, ты кашляешь.
Намеренно наобум говоришь: миллион, триллион, дохрельон долларов – и девяносто девять центов.
Резко наступает полная тишина. Слышно только, как щелкают мерцающие лас-вегасовские огоньки: щелк-щелк, щелк-щелк…
Чувство, что проходит вечность, и тут ведущий вплотную, чуть не впритирку становится к тебе и шипит на ухо:
– Так нельзя.
Он шипит:
– Ты должна выиграть…
С близкого расстояния лицо ведущего смотрится так, будто склеено розовым гримом из миллион-миллиарда острых осколков. Он как Шалтай-Болтай или человек-пазл. Морщины у него – как боевые шрамы. Прическа за годы не изменилась.
Громкий голос – этот грохочущий, глубокий голос великанского великана, раздающийся ниоткуда, – просит повторить ответ.
Ты, может, и не знаешь, чего хочешь от жизни, но уж точно не напольных часов.
Миллион, говоришь ты, триллион… Число, что не уместится на табло. Нулей столько, что не хватит лампочек во всем мире телевикторин. Дело, наверное, в марочке, но на глазах набухают слезы. Ты плачешь, потому что первый раз с самого детства не знаешь, что дальше. Слезы капают на грудь, и греческие буквы теряются на фоне мокрых пятен.
Тишину в зале нарушает крик. Кто-то из «Зета-дельта» орет:
– Лошара!
На экранчике сотика высвечивается сообщение: «Дура!»
Эсэмэска? От мамы пришла.
Бабулька в толстовке рыдает, она победила. Ты плачешь, сама не знаешь почему.
Бабульке достаются снегоход и шуба, катер и стейки. К ней уходят и стол, и стулья, и диван – все призы, потому что ты назвала цену слишком, ну очень слишком высокую. Бабулька скачет по сцене, сверкая неестественно белыми вставными зубами, одаривая всех улыбкой. Ведущий делает знак, и студия разражается аплодисментами. Хлопают все, кроме «Зета-дельты». На сцену выбегает семья бабульки: дети, и внуки, и правнуки – все лезут потрогать сверкающий автомобиль и супермоделей. Бабулька осыпает поцелуями ведущего – у него на лоскутном лице остаются красные следы от помады. Бабулька говорит:
– Спасибо.
Она говорит:
– Спасибо.
Она говорит:
– Спасибо.
И вдруг она, закатив глаза, впивается пальцами в толстовку на груди.
Сынишка Рыжего Султана[15]
Конь был просто огромен, однако по-настоящему Рэндала беспокоила Лиза. Она положила глаз на коня: чистокровный араб гнедой масти, бока цвета красного дерева. Стоил он больше, чем они могли себе позволить, – тысяч этак на несколько. Рэндал спросил: не великоват ли конек для маленькой девочки?
– Мне уже тринадцать, папочка, – возмущенно ответила дочь.
– Это ведь жеребец, – напомнил Рэндал. Лиза неспроста назвала его папочкой.
– Зато очень добрый.
Про коня Лиза вычитала в Интернете. Она все узнавала из Сети.
Лиза и Рэндал стояли у ограды паддока. Объездчик тем временем водил араба на веревке внутри круга, заставляя его выписывать восьмерки. Посредник нетерпеливо поглядывал на часы.
Жеребца звали Сынишка Рыжего Султана. Его отцом был Рыжий Султан, а матерью – Весенние Луга, Окутанные Голубоватой Дымкой. Собственный конь Лизы – пегий мерин – издох на прошлой неделе, и она плакала не переставая… до недавнего момента.
– Выгодное вложение денег, – вкрадчиво сказала она отцу.
– Шесть тысяч, – вклинился посредник. Он смерил взглядом Рэндала с Лизой, как парочку деревенщин, у которых ни гроша за душой. Сказал, что с тех пор, как бум жилищного строительства пошел на убыль, люди уничтожают прогулочные яхты или, не в силах больше платить за место в порту, снимают их с прикола, отпуская в свободное плаванье. Цены на сено – просто заоблачные, да и плата за жилье теперь такая, что обычные люди коня себе позволить не могут.
Рэндал в жизни океана не видел, но в голове у него сразу возник образ: флотилия яхт, прогулочных катеров и моторных лодок. Мечты и устремления людей – все уплывает. Целое саргассово море брошенных прогулочных судов сгрудилось где-нибудь в открытых водах.
– Я много сделок заключил, – добавил посредник. – Шесть косых – это, считай, дешевле грязи.
Экспертом по коням Рэндал не был, однако заметил, как жеребец наклонился к Лизе и дал погладить себя. Лиза большим пальцем раздвинула ему губы, взглянув на зубы и десны. Заглянуть коню в рот – это как попинать автомобиль по колесам. Логика всегда подсказывала Рэндалу проверять у коней зубы: от дома и до самого округа Чикасо, в любой конюшне, у любого заводчика. Если вспомнить, каких особей он повидал на своем веку, этот скакун должен стоить тысяч тридцать, даже в самый пик кризиса на рынке.
Лиза щекой потерлась о шерсть лошади, проверяя гладкость.
– Он как на видео.
Рэндал не знал, какой именно фильм имеет в виду Лиза: не то «Черный красавчик», не то «Черный жеребец», не то вовсе «Национальный бархат». Сопливых историй про девчонок с лошадками пруд пруди. В последнее время Лиза вела себя очень по-взрослому, и Рэндалу отрадно было видеть ее в радостном возбуждении – особенно после того, как быстро занемог и помер ее конь Зауэркраут. Ведь еще на прошлых выходных мерин катал девочку. Наверное, объелся листьями вишни – в них мышьяк. Или пожевал крапивы. Или даже клевера. В будни Лиза жила с матерью в городе, а на выходные приезжала к отцу. Еще воскресным вечером с пегим все было замечательно, а в понедельник утром, когда Рэндал пришел кормить его, бедняга Зауэркраут лежал на земле, с пеной у рта. Мертвый.
Лиза ничего не сказала, но тайно, скорее всего, винила отца. Во вторник она позвонила – вот приятная неожиданность! Пришлось сообщить печальную новость. Лиза не плакала. Во всяком случае, не заплакала сразу. Пережила сильное потрясение. Голос ее по телефону звучал тихо и отстраненно. Наверное, даже зло. Дочь уже возненавидела Рэндала. Подростку всегда надо кого-то винить. Тишины Рэндал испугался.
Рыдала Лиза, когда в пятницу Рэндал приехал забрать ее к себе. Малышка выла в голос. На полпути к нему она смахнула слезы и достала из сумки телефон. Спросила:
– Давай поедем завтра на животноводческий рынок Конвея. Ну пожалуйста, папочка.
Лиза времени попусту не тратила. Утром в субботу заставила отца взять прицеп для перевозки коней. Еще даже не увидев лошадь, она понукала Рэндала ехать быстрее и безостановочно спрашивала:
– Чековую книжку не забыл? Точно? Дай взглянуть, папочка.
Жеребец не взбрыкивал, не рыл землю. Он спокойно терпел, пока Рэндал и продавец осматривали копыта. Спокойствие животного настораживало. Не под лекарствами ли? Выглядел жеребец подавленным, побежденным. Пожалуй, стоило бы прислать к нему ветеринара. Арабский жеребец не может быть так спокоен – если только он не больной. Но Лиза ждать не хотела.
По условиям развода дом остался Рэндалу. И правильно, ведь он принадлежал семье Рэндала с тех самых пор, как земля вообще обрела собственника. Земля, амбар, корали, свидания с Лизой по выходным… и Зауэркраут – до прошлых выходных. За радость ребенка Рэндал с радостью выложил бы тридцать штук. Лиза переводила влюбленный взгляд с коня на отца и обратно.
Наконец Рэндал выписал чек, а Лиза повела жеребца к прицепу. Сынишка Рыжего Султана стал Лизин. Он брел за девочкой с покорностью верного пса.
Давненько Рэндал не ощущал себя хорошим отцом.
Если жеребец и правда болен или его накачали лекарствами, скоро выяснится.
В первые выходные Лиза радовалась, как не радовалась с самого развода родителей. Записалась на уроки объездки на ферме Мерривезеров неподалеку. Соседи Рэндала жили за полями темно-зеленой люцерны. Занятия в школе закончились, и вдоль гравийных обочин тихих сельских дорог разъезжали на конях группы девчонок. На столбах изгороди пели жаворонки. Следом за лошадьми плелись собаки, а ирригационные распрыскиватели выдавали струи воды, в которых радугой преломлялся яркий солнечный свет. Когда девчонки подъехали к дому, Рэндал встал на крыльце и взглядом проводил дочь. Сынишка Султана был прекрасен, и Лиза была исполнена гордости. Она даже заплела ему гриву в косички, украсив их голубой шелковой лентой. Все время, что Лиза ухаживала за его гривой, конь стоял смирно.
В тихом обалдении девчонки окружили жеребца. Гладили его, словно проверяя, настоящий ли. Рэндал вспомнил детство: тогда, раз в пару лет, к ним в городок привозили на прицепе трейлер, украшенный с обеих сторон надписью в виде переплетенных ковбойских лассо: «Спешите видеть! Машина смерти Бонни и Клайда!» Шоу устраивали на парковке перед магазином «Вестерн авто» или близ карнавала на ярмарке. Показывали ржавый двухдверный купе: изрешеченный, весь в рыжих потеках, с разбитыми окнами; измочаленные спущенные колеса, фары вдребезги. За двадцать пять центов Рэндал мог посмотреть и ужаснуться кровавым пятнам на сиденьях и даже сунуть палец в дырки от пуль. Это был мрачный реликт темной эпохи. У Рэндала где-то завалялась фотография: они со Стю Гилкрестом стоят на фоне расстрелянной машины. Обоим столько же лет, сколько сейчас Лизе. Рэндал со Стю еще спорили, от пули какого калибра какая дырочка в кузове.
Машина олицетворяла историю Америки. Эта часть большого реального мира вошла в жизнь Рэндала, показав, что плата за грехи – смерть. Преступная стезя себя не оправдывает.
И вот, подружки Лизы окружили коня, точно как когда-то ребятня обступала Машину Смерти. В один год привезли показать Машину Смерти Джеймса Дина, в следующий раз – Машину Смерти Джейн Мэнсфилд. Потом – Машину Смерти Кеннеди. Народ толпился вокруг них, делал фотки, лишь бы потом доказать друзьям: смотрите, мол, я прикоснулся к ужасному.
Пока девчонки любовались жеребцом, Лиза достала из заднего кармана сотовый.
– Конечно, это он, сейчас докажу.
Она покопалась в менюшке; с крыльца Рэндал слышал, как несколько раз телефон звякнул. Обступившие Лизу девчонки разразились стонами и смехом.
Что бы там ни показала им Лиза, девчонки теперь гладили жеребца по морде и бокам. Вздыхали и ворковали. Прижимаясь губами к щекам коня, делали селфи.
Девчонки ускакали, и через два часа зазвонил телефон. Рэндал сидел на кухне и проверял электронную почту: индикатор прогресса застыл. Интернет предоставляла спутниковая компания; связь медленная, зато не испортишь одним нажатием клавиши тишину и спокойствие светлой кухни, не вылезет на экран какая-нибудь мерзость. Сегодня так трудно блюсти чистоту детской жизни. Скоростное соединение не стоило непорочности Лизы. Впрочем, этого – и много другого – жена не принимала.
А звонил Рэндалу Стю Гилкрест.
– Тут твоя девочка была только что.
Так и ведут себя добрые соседи: присматривают за твоими близкими. Рэндал похвастался, что с июля Лиза будет чаще гостить у него.
– До конца лета? – удивился Стю. – Она выросла в милую барышню. Гордишься, поди?
Тон его голоса Рэндалу не понравился. О чем-то Стю недоговаривал.
Так Рэндал и спросил, напрямую. И не ошибся.
– У нее, смотрю, новый конь, – сказал Стю.
Рэндал объяснил, какая беда приключилась с прошлым любимцем Лизы, и прихвастнул, в какую даль пришлось тащиться за новым. Он ждал, что Стю похвалит жеребца, мол, красавец, выдержанный.
Когда же Стю заговорил, теплоты в его голосе как небывало.
– Я, как никто другой, хочу ошибиться, – едва не прорычал он, – но мне показалось, что это Сынишка Рыжего Султана. Я прав?
Рэндал опешил. От страха его прошиб озноб.
– Хороший жеребец, – осмелев, проговорил он. – Славный.
Стю не ответил. То есть ответил, но не сразу.
– Рэндал, мы с тобой бог знает сколько соседи…
– Уже три поколения, – согласился Рэндал и поинтересовался, в чем дело.
– Я только хочу сказать, – процедил Стю, – что вам с Лизой всегда будут рады у нас.
– Стю?
– Это не мое дело, конечно, – запинаясь, произнес сосед, – но мы с Глендой будем очень признательны, если ты не станешь приводить к нам эту бестию.
Рэндал спросил: в коне, что ли, дело? Может, Лиза успела провиниться? У Гилкрестов две дочки ее возраста. Девчонки могли поссориться, поцапаться, а после помириться – и все быстрее вспышки молнии жарким августом. Они любят сгустить краски.
В трубке щелкнуло, и в беседу вступила жена Стю, Гленда. Рэндал представил, как она сидит на кровати, со второй трубкой в руке.
– Рэндал, – сказала она, – не сердись, пожалуйста, но мы не разрешим нашим девочкам и близко подходить к твоей ферме. Пока жива эта лошадь.
Рэндал начал было возражать, однако Гилкресты попрощались с ним и повесили трубки.
За следующие несколько часов позвонили почти все соседи: Хокинсы, Рамиресы, Кой, Шэнди и Тернеры. По всему выходило, что группа наездниц движется вкруг района по Семнадцатой дороге, в сторону Боундари-лейн, а после – на запад по Скай-Ридж-трейл и по дороге заглядывает к родителям или родственникам каждой девочки в группе. Все они – матери, отцы, тетушки, дядюшки, бабки-дедки или кузены – по очереди спешили отзвониться. Сдержанно поприветствовав Рэндала, все, как один, спрашивали: уж не Сынишка ли Рыжего Султана под седлом Лизы? Стоило ответить утвердительно: да, мол, он самый, – как его предупреждали: чтобы копыта этого жеребца на их дворе не было. Более того, если Рэндал от него не избавится, с ним перестанут общаться.
К концу поездки Лиза осталась совершенно одна: ближе к вечеру компаньонкам строго запретили сопровождать ее. Впрочем, к дому Лиза подъезжала, ни капли не смущенная. Голову держала высоко, спину прямо, вид имела самодовольный, если не сказать победный.
Жеребец вел себя кротко, проявлял доброту и покладистость. Лиза, пока чистила ему бока, сказала, что он послушен, исполняет команды. И ход у него плавный. Ничто – ни собаки, ни машины, ни самолеты, с которых опыляют посевы, – его не пугает. Никто и слова дурного не сказал. Странная реакция родственников подруг Лизу не встревожила: увидев коня, они даже не думали подходить к нему, велели только девочкам спешиться и направляться домой.
Той ночью, когда Рэндал с дочерью мыли посуду, к их дому подъехала машина. Остановилась в конце гравийной дорожки. Из-за звонков Рэндал нервничал; он ждал, что машина вот-вот уедет, но тут окно разбилось. Кто-то побежал прочь, заскрипели по гравию покрышки. Среди осколков на ковре в гостиной лежал изогнутый предмет… Подкова.
Лиза взглянула на нее, слегка скривив губы в улыбке.
В следующую субботу они погрузили Сынишку Рыжего Султана в прицеп и поехали на ферму к Мерривезерам. Энид Мерривезер обучала верховой езде всех в округе еще с тех пор, как сам Рэндал был мальчишкой. Парковка перед паддоком кишела мамочками, их дочками и лошадьми. Стоило Лизе распахнуть дверцу прицепа, как гомон на площадке смолк.
Одна девочка захихикала, за что удостоилась гневного взгляда старших.
Кто-то произнес:
– Да это никак Сынишка Рыжего Султана…
Все обернулись на голос Энид Мерривезер, великой наездницы. Она шла, поскрипывая кожаными сапогами; на пуговицах ее фрака играл бликами солнечный свет. Окинув взглядом притихших мрачных мамаш, она посмотрела на Лизу и не без сочувствия сказала:
– Прости, но группу на этот сезон мы набрали. С избытком.
Рэндал выступил вперед со словами:
– Помнится, вы набирали группы и покрупнее.
Если не считать мамочек, девчонок набралось не больше среднего.
Лиза будто не слышала обращенных к ней слов – она провела жеребца вниз по пандусу. Энид попятилась – Энид Мерривезер, которая никогда прежде не пятилась, как бы ни был конь строптив! Не спуская глаз с жеребца, она жестом велела остальным расступиться. Подняла стек.
– Буду признательна, если ты погрузишь животное обратно в кузов и увезешь.
Толпа затаила дыхание.
– С какой стати? – прокричала в ответ Лиза с таким небрежением, какого Рэндал прежде в голосе дочери не слыхал. Лиза не просто покраснела. Она сделалась цвета солнца, когда смотришь на него сквозь прикрытые веки.
– С какой стати!.. – рассмеялась мисс Мерривезер и оглядела толпу в поисках поддержки. – Твой конь – убийца!
Невозмутимо глядя на свое отражение в ногтях, Лиза сказала:
– А вот и нет. – Она прижалась к щеке лошади. – Право же, он милый мальчик.
– Он хуже, чем убийца, – сказала великая наездница и сделала жест мамашам, чтобы те подтвердили ее слова. – Здесь всякий согласится со мной.
Лиза обернулась к отцу – Рэндал стоял онемев. Конь тем временем вытянул шею, принюхался и зевнул.
Энид Мерривезер посмотрела на усмехающуюся девочку чуть ли не с жалостью.
– Лиза Рэндал, ты прекрасно знаешь, что этот конь – воплощение зла.
– А вот и нет! – промурлыкала Лиза и поцеловала араба. Мамаши поморщились.
Ночью Рэндал заколотил досками разбитое окно. В сумерках он еще видел во дворе холмик и самодельный крест из двух досок на нем. Выкрашенный в белый крест был подписан:
Зауэркраут
Дочери Рэндал соврал, что питомец похоронен здесь, однако труп бедного животного увезли на жиркомбинат в Харлоу, в соседний штат. Лиза нарвала маргариток на клумбе, разбитой матерью матери матери Рэндала. Возложив букет на ложную могилу, Лиза опустилась на колени и принялась молиться. Вечерний ветерок доносил обрывки слов: она признавалась, как любила старую лошадь и как любит новую. Рэндал пришел к мысли, что любовь человека к питомцу – самая чистая. Любовь к животному – коню, кошке, собаке – это всегда романтическая трагедия. Ведь ты любишь того, кто заведомо умрет прежде тебя. Как в том фильме с Эли Макгроу: будущего нет, только близость в настоящий момент.
Темнота сгущалась, и Рэндал уже почти не видел Лизу, зато хорошо слышал ее. Она говорила, как нравится ей это лето. Как чудесен Сынишка Рыжего Султана и как все его обожают. Но когда она сказала:
– Люблю тебя, мама, – Рэндал сообразил, что Лиза говорит по сотовому.
Лиза еще не вернулась в дом, а на кухне зазвонил телефон. Рэндал снял трубку.
Звонившего Рэндал прежде не слышал. Определенно, иначе запомнил бы голос: с присвистом, задыхающийся. И вот этот голос, которого Рэндал никогда не забудет, произнес:
– Я не ошибусь, предположив, что вы – текущий владелец арабского жеребца по кличке Сынишка Рыжего Султана?
Рэндал внутренне приготовился к потоку словесных помоев. Лиза тем временем поднялась на крыльцо.
– Прошу, примите к сведению, – не дожидаясь ответа, продолжил неизвестный, – что за упомянутое животное я готов предложить пятьсот тысяч долларов.
– Кто звонит, пап? – спросила Лиза, незаметно приблизившись.
– Так, никто, – ответил Рэндал, кладя трубку.
На следующей неделе чутье подсказало Рэндалу смотаться в Харлоу на жиркомбинат. Странное было решение, ведь не каждый день интуиция заводит людей на завод, где из лошадей варят клей. Один только запах там мог свалить с ног. Рэндал ехал по дороге вдоль сетчатого забора, пока не оказался у запертых ворот. За забором он заметил трейлер и посигналил. Наружу выглянул мужчина и спросил: чего надо? Рэндал ответил: пару недель назад он отдал им труп мерина по кличке Зауэркраут. Не утруждаясь тем, чтобы отпереть ворота, мужчина достал планшет с бумагами, листая которые уточнил:
– Пегий мерин, говорите?
– Вы записи ведете?
– Ага, вот… Шкура в порядке. Кости… копыта…
Да, постарались, ничего не упустили.
– Удалось выяснить, что его убило?
– Власти округа заставляют нас проверять трупы на губчатый энцефалит.
Перед мысленным взором у Рэндала стояла картина: мерин лежит в стойле, вытянув шею, мордой в луже кровавой пены.
Мужчина тем временем показал ему бумажку на планшете и ткнул пальцем в графу, где было записано: атропин.
– Сердечный приступ. Похоже, мерин ваш забрел в заросли паслена или на картофельное поле.
– Долго он мучился? – спросил Рэндал. Каждый мускул в его теле обмяк, будто он только вышел из-под горячего душа.
– Нет, не долго, – покачал головой мужчина. – Умер прямо на месте, где и отравился.
За неделю Рэндалу позвонило еще несколько странных людей, все предлагали продать жеребца. Среди них был посредник – он позвонил ночью в четверг.
– Я не для себя, вы не подумайте, – оправдывался он. – Я выступаю исключительно как посредник между вами и третьей стороной.
Начал он с предложения в двенадцать тысяч, вдвое больше той цены, что заплатил Рэндал. Тот напрямик спросил: в чем дело? Из-за чего суета?
– Хотите сказать, вы не знаете? – уточнил посредник.
Рэндал осторожно покачал головой и тут же, вспомнив, что говорит по телефону, добавил:
– Чего я не знаю?
– Видео не смотрели? С тех пор, как оно стало вирусным, ко мне разве что с того света заявки не поступают.
Прежде чем Рэндал повесил трубку, посредник успел сказать:
– Звонила ваша дочурка и просила пересылать предложения ей, но покупка-то оформлена на ваше имя.
До этого ничего страшнее «Сигнала 30» Рэндал не смотрел. Это был образовательный фильм, который мистер О’Коннор показывал их классу в школе. Фильм о том, как важно быть внимательным при переходе железнодорожных путей и пристегиваться в машине. (Он сохранился в памяти как полузабытое воспоминание, сродни бронзированным пинеткам или комкам ваты в пузырьках с аспирином.) Фильм изобиловал черно-белыми снимками разбитых машин и людей, грудь которым пробило рулевой колонкой. Рэндал помнил лобовые стекла с дырами как от пушечных ядер – в тех местах, где сквозь них вылетели дети. Кровь и моторное масло на снимках не различались: просто чернильно-черные лужи. Одному мальчику в классе, Логану Карлайлу, стало плохо, и он потерял сознание. Еве Ньюсом вроде тоже тогда поплохело. Жуткий голос за кадром сшивал лоскуты кошмара в единое полотно:
– Когда в следующий раз вам покажется, что вы быстрее товарного поезда – подумайте дважды!
Тут же раздавался гудок локомотива, звенело стекло, и скрежетал металл. Далее шли новые снимки подростков в раскуроченных останках автомобиля.
Голос рассказчика гремел:
– Думаете, безопасно обходить стоящий школьный автобус?
Тут же появлялся снимок двухполосной сельской дороги и раздавленных детских трупов.
Была еще жуткая вещь – журналы с фотографиями мест преступлений, лежащие в парикмахерской под стопкой «Плейбоя». Увесистые подборки свидетельств убийств на почве секса, зверств и насилия: например, обнаженная женщина, руки и ноги которой отхватили мясницким секачом. Труп в чемодане (поверх лица – черная полоса, чтобы сохранить остатки достоинства). Или женщина на ковре в цветочек в номере старого отеля – ее придушили проводом от дискового телефона. На страницах из грубой пожелтевшей бумаги было много женщин: голых, умерщвленных разнообразными способами, и у всех на глазах чернели полосы.
То, что Рэндал увидел в Интернете, оказалось намного страшнее фильма и тех журналов. Скачавший и просмотревший видео мог с равным успехом выпить отравы. Рэндал сразу признал коня: Сынишка Рыжего Султана вытворял с мужиком, стоящим к нему задом, такую мерзость… Не забыть до конца дней.
Причем Рэндал увидел эту похабщину уже после друзей и соседей. Страшно подумать, что люди теперь думают о нем. Но там, где прочие узрели грех, он разглядел одиночество. Печать небывалого отчуждения.
Рэндал снова пересмотрел видео.
Оно, в общем-то, было не столько о физическом удовольствии, сколько о реальном воплощении того, что с тобой ежедневно проделывает жизнь. Это больше походило на подчинение некой могущественной силе. Мужчина на экране, может, и испытывал удовольствие, однако никакой романтикой тут и не пахло. Процесс отдавал скорее страстью религиозной.
Рэндал увидел в нем акт покаяния, уловил в смысле ролика стремление перестать быть хозяином себе, утратить контроль. Желание угодить некоему огромному, тяжеловесному богу. Ощутить его грозное и сокрушительное благословение.
Рэндал третий раз просмотрел видео.
Он боялся даже допустить мысль, что суть происходящего на экране – все-таки в удовольствии. Удовольствии, которого большинство людей не познает. Ради которого и умереть не жалко. Чистый плотский восторг.
Судя по охам и стонам, мужчина под конем так и думал. Скорее всего, он знал, что его снимают, но ему было плевать: изогнул спину, прикрыл глаза и улыбался. Странно было видеть этакое непритворное счастье. Мужчина на экране стал ритмично подаваться навстречу коню; по ляжке потекла темная струйка. Наверное, кровь.
Рэндал снова нажал «ввод», и события повторилось. На сей раз он следил за конем.
Рэндал запоздало сообразил, что темная струйка на ляжке мужика – сперма. Для человеческой ее было слишком уж много.
Он снова нажал «ввод». Окно так и осталось непочиненным. Рэндал жал «ввод» всю ночь. Он приглушил звук и продолжал смотреть ролик, пока не зазвонил телефон.
– Как вы, должно быть, знаете, – начал человек на том конец провода, – у вашего коня есть специфические таланты, чрезвычайно интересные группе избранных покупателей. – Тот же человек звонил пару дней назад. – Считаю своим долгом предупредить: эти люди не погнушаются и крайним насилием.
Рэндал смотрел видео до вечера пятницы, пока не пришла пора забирать дочь к себе на выходные.
Семью в дом на ферме Рэндал перевез после смерти отца. Лиза тогда была еще совсем мелкая. Последние два года жизни отец провел в доме престарелых, в городе, где они навещали его почти каждый день. Дом служил этакой капсулой времени: пианино стояло на прежнем месте, и каждая дека, каждый молоточек в нем имели свою легенду. Ничего не выбросишь. Каждая декоративная подушечка могла поведать долгую историю каждого пятнышка, каждого стежка. Если жене случалось положить вилку для нарезания мяса в другой ящик стола на кухне, Рэндал возвращал ее на место. Когда жена купила зеленую краску, намереваясь перекрасить спальню на втором этаже, Рэндал заставил краску вернуть. Тетушка поклеила в спальне обои. Каждый шов в их рисунке был священен, неприкосновенен. Косяк кухонной двери был весь в зарубках – ростовых отметках тех, кто давно умер. Семья Рэндала могла бы стать музейными смотрителями, однако супруга в конце концов предпочла вернуться в город. То, что Рэндал воспринимал как наследие, Эстелле казалось проклятием.
Лиза приезжала гостить к отцу через силу. Ей было скучно – пока Рэндал не купил мерина. Она заботилась о животном с тем же трепетом, с каким Рэндал заботился о доме и ферме.
Лиза бросила сумку с вещами на заднее сиденье машины, а сама уселась на переднее, пассажирское. Все это время она не переставала трещать по мобильному:
– …не мои проблемы. Если думаете, что найдете другую лошадь, ну и ладно, не тратьте мое время. – Она мельком глянула на отца и подмигнула ему. – У нас и так предложений хватает.
– Это правда? – спросил он, не глядя на дочь.
– Что – правда? – переспросила Лиза, водя пальцем по сенсорному экрану, и со смехом добавила: – Ты про видео?
Порнография. Мерзость.
– Пэрис Хилтон, – закатив глаза, ответила Лиза, – Ким Кардашьян, Пэм Андерсон, Роб Лоу – все снимали домашнее видео. – Она рассмеялась. – Это же весело, пап.
Рэндал стиснул обод руля.
– Так ты тоже смотрела?
Это же классика Интернета, вроде мифа, который они проходили в школе – про Леду и Лебедя, сказала Лиза. Они с друзьями ничего забавней в жизни не видели.
Рэндал заметил, что это не весело, а трагично.
Лиза принялась тыкать в экран мобильника, собирая информацию, факты.
– Нет, папа, – не сдавалась она, – очень даже смешно.
Рэндал спросил: с какой стати?
Немного подумав, Лиза ответила:
– Не знаю. Наверное, потому что мужчина белый. – Пока ехали, она перечисляла детали: мужчина гетеросексуал, разведен, у него один ребенок, и умер он от разрыва сигмовидной кишки.
– Разве не идеально? – усмехнулась Лиза, кивнув на экран мобильника. – Он был шишкой из «Хьюлетт-Пакард», или одним из пятисот богатейших людей по версии «Форчун», или директором какого-нибудь военно-промышленного предприятия.
– А если бы это была девушка, твоя ровесница? – с вызовом спросил Рэндал.
Лиза погрозила отцу пальчиком.
– Тогда все – даже кто просто смотрел ролик, – отправились бы за решетку.
– А если бы мужчина не был белый? – осторожно, будто ступая по тонкому льду, спросил Рэндал.
Листая страницы и набирая текст, Лиза ответила:
– Ролик с черным – это уже расизм. Ни один сайт не разместил бы его у себя.
Она также объяснила, что, если бы под конем была женщина, видео назвали бы сексистским и женоненавистническим. Даже если бы женщина пошла на такое добровольно, ее поступок сочли бы вынужденным, навязанным культурой и глубоко укоренившейся ненавистью к самой себе. То же самое было бы справедливо и в отношении гомосексуалиста. Ролик смешной именно потому, что участник его – мужчина, белый, натурал, взрослый.
Лиза сказала:
– Я даже доклад по этому видео сделала на урок по гендерной концепции. – Оторвавшись от телефона, она широко и довольно улыбнулась. – Получила пятерку.
– Он ведь умер, – запинаясь, напомнил Рэндал.
– Не на экране, – пожала плечами Лиза. – Он умер спустя несколько часов, в больнице.
У Рэндала зазвонил телефон: посредник. Рэндал не ответил.
Лиза продолжала легкомысленно рассуждать:
– Это как если бы мать-природа отомстила за глобальное потепление, устроенное на нашей планете белым патриархатом. – Она вздохнула. – Не расстраивайся, пап. Просто ты выбрал не то время, чтобы быть натуралом, белым и христианином.
В ее голосе звучало самодовольство, непоколебимая уверенность, и Рэндалу стало жаль дочь. Прошло довольно много времени, прежде чем он набрался смелости и спросил:
– Это ты убила Зауэркраута?
Листая текстовые сообщения, дочь ответила:
– Текущая ставка – два с половиной миллиона.
Больше Рэндал с дочерью не разговаривал.
К дому они подъехали поздним вечером. У ворот фермы их дожидалась толпа ребят и девчонок. Всем хотелось поглазеть на Сынишку Рыжего Султана. По дороге в дом Рэндал слышал, как Лиза предупреждает: посмотреть на жеребца стоит пять долларов, сделать с ним селфи – десять.
Когда они сели ужинать, посредник прислал сообщение: текущая ставка – около трех миллионов долларов.
Рэндал отправил ответ: «Наличкой?»
Он невольно принялся тратить в уме эти деньги: лучшее образование для Лизы, новая жизнь где-нибудь, где Эстелла будет счастлива. Свобода от прошлого…
Он написал: «Что станет с лошадью?»
Посредник ответил: «LOL. Будь уверен, телегу жеребец тягать не станет. Ему обеспечат жизнь, о которой мы с тобой можем только мечтать».
Конь на видео отнюдь не выглядел несчастным. Как можно вообще сравнивать такую жизнь с жизнью, скажем, коня, тягающего плуг? Человечество, казалось, привносит в существование животного что угодно: тесное стойло, химия, увечья, уничижение, смерть – но только не удовольствие.
На выходных Лиза объехала район. Всем назло.
А Рэндал… Рэндал зарылся в альбомы с фотографиями. Семья никогда ничего не выбрасывала. Он нашел снимок, на котором они со Стю Гилкрестом стояли на фоне Машины Смерти Бонни и Клайда. Оба мальчика лучились счастьем. Оба просунули пальцы в пулевые отверстия на дверце с водительской стороны. Паркер и Бэрроу можно было назвать и злодеями, и мучениками – смотря, кто рассказывал их историю, однако, выставленная напоказ, их машина собирала денег больше, чем они успели награбить.
Вечером в воскресенье Лиза возложила букетик цветов на «могилу» Зауэркраута, и Рэндал отвез дочь к матери. Прощаться не стали.
В понедельник Рэндал вспомнил рассказ о тех, кто пускал в море яхты и катера, – кто не мог больше позволить себе эту роскошь. Подумал о мужчине на видео, который, наверное, думал, что получает неземное удовольствие, тогда как его внутренности уже превратились в кровавую кашу. Рэндал позвонил посреднику, и тот назвал место встречи – точка нигде, посреди заросшего полынью поля площадью в сотни квадратных миль.
Рэндал погрузил Сынишку Рыжего Султана в фургон и заодно прихватил крупнокалиберный револьвер, из которого можно было запросто продырявить сразу и Бонни, и Клайда.
В указанное место, однако, он не поехал, а взял на сотню километров к северу.
Он спасал жеребца лучшим из возможных способов. Остановив машину, вывел его из прицепа и расплел косы в гриве. Повел в самую глушь. Жеребец по-прежнему был кротким и милым животным. Здоровый, не накачанный лекарствами и тем не менее порченый. Рэндал приготовился сделать то же, что сделала его дочь с Зауэркраутом. Если уж она смогла, то и у него получится быть судьей, присяжными и палачом.
Первым насторожился конь. Он навострил уши, а после уже и сам Рэндал различил доносимый ветром топот копыт: скакали не дикие лошади, не мустанги. Просто одичавшие кони.
Рэндал был тут не первый, посреди пустынного, продуваемого ветрами нигде. Прежде сюда приходили другие люди, готовые совершить то, на что решился он. Рэндал был не одинок, но пришедшие сюда до него нашли выход лучше, и вот на горизонте пасся табун отпущенных на волю надежд и чаяний. Вдалеке скакали невозможные на первый взгляд мечты, устремления.
Сняв веревку с шеи араба, Рэндал принялся топать и хлопать в ладоши, однако животное не испугалось, не стронулось с места. Тогда Рэндал выстрелил несколько раз в воздух. Сработало – жеребец ускакал, а Рэндал запоздало сообразил, что мог бы сперва расковать его. Он много чего мог бы сделать хорошего, если бы подумал заранее.
Желая проверить, верно ли поступил, Рэндал приставил к виску ствол и нажал спуск. Боек ударил вхолостую – патронов не осталось. Рэндал был прощен.
По пути домой Рэндал напомнил себе, что он все еще на хорошем счету в сообществе, а значит, покупать у него урожай не откажутся. На большие сделки Рэндала, конечно, не хватит, но как-нибудь он протянет.
История одной любви[16]
Поздравьте меня, супруга родила близняшек! Все вроде бы хорошо: ручки-ножки, пальчики – на месте; две крохи девочки. Но меня не отпускает чувство… Тревожное чувство, скорее даже предчувствие. Так всегда бывает, когда все идет слишком уж гладко. Вот-вот чудесный сон закончится, и я проснусь.
Когда-то давно я встречался с одной девчонкой. Оба мы были жирные, так что ладили. Просто подружка моя помешалась на разных диетах, то и дело сажала нас на что-нибудь новенькое: было время, например, когда мы питались только ананасами и уксусом или вообще зелеными водорослями. Мы подолгу гуляли, и она наконец начала сбрасывать лишние фунты; ее бедра буквально таяли. В жизни не видел человека счастливее, но все равно чувствовал: радость будет недолгой. Представьте: вы любите кого-то и рады, когда радуется любимый, однако я знал, что она меня продинамит, потому как попала в прицел парней с хорошей работой и медицинской страховкой. Помню, какой милой и веселой она была прежде, а теперь, стремительно худея, она обнаружила в себе нетронутые ресурсы самоконтроля и дисциплины, мне и не снившиеся. Друзья, гады такие, околачивались поблизости, ждали, когда мы наконец расстанемся, чтобы взять мою будущую бывшую в оборот. Потом вскрылась правда: дело было совсем не в ананасах и дисциплине. У нее нашли рак, зато перед смертью она похудела до аппетитных пропорций второго размера.
Потому вот и верю, что счастье – как бомба с часовым механизмом. Я и с женой-то так познакомился: ни с кем больше не собирался встречаться, ни в жизнь, просто сел однажды на поезд и поехал в Сиэтл. Там как раз проходила «Лоллапалуза»[17]. Я взял палатку, завернул бонг в спальник, намереваясь пожить в глуши, на природе. Знаете, порой убежать надо: уйти от друзей, забыть о трезвости. В поезде я прошел в вагон-ресторан… и наткнулся на пару офигенных зеленых глаз, смотрящих в упор на меня. Я не чудовище, не раздутый пузырь, как в реалити-шоу, который не в силах подняться с больничной койки и ведрами хавает жареных цыплят. Зато прекрасно понимаю парней, что устраиваются работать в женские тюрьмы или концентрационные лагеря: там можно ходить на свиданки с симпатичными заключенными, и те не скажут тебе: «Надень рубашку!», не спросят: «Ты всегда так потеешь?» Короче, вхожу в вагон-ресторан и вижу эту богиню в обрезанной чуть ниже груди футболке «Радиохэд» и джинсах на такой низкой талии, что виден пушок на лобке; на всех пальцах у нее кольца с Микки Маусом и Холли Хобби. Приложившись к коричневой бутылке – «Миллер», а не какая-то девчоночья малоизвестная марка! – своим прекрасным ротиком, она взирала на меня.
Наш брат-толстяк свои шансы знает. Если только ты не Джон Белуши[18] и не Джон Кэнди[19], эти цыпочки на тебя вот так, с ходу, в упор не посмотрят. Я стыдливо спешу отвести взгляд. Если такая красотка и заговорит со мной, то лишь затем, чтобы сообщить новость: я, отвратительная жирная свинья, загородил ей весь горизонт. Знай свое место, говорю себе. Не раскрывай роток на лакомый кусок и не познаешь разочарования. Притворяюсь, будто смотрю на нее без интереса, и протискиваюсь мимо. Черт, как она пахнет! Словно десерт, пирог, тыквенный пирог, присыпанный бурыми специями. Ого! Донышко ее бутылки поворачивается вслед за мной, пока я иду по проходу и беру себе в баре выпить. Казалось бы, мы не последние мальчик с девочкой на земле. За пластиковыми столиками выпивают другие люди, они тоже едут на фест – судя по внешнему виду (дреды и яркие цветастые рубашки). Ухожу за самый дальний столик, а эта штучка все провожает меня взглядом. Знаете чувство, когда за тобой наблюдают: шагу не сделаешь без запинки, особенно в поезде на ходу. Неожиданный поворот – и я проливаю пиво себе на полосатую ковбойскую рубашку. Притворяюсь, что смотрю, как проносятся за окном деревья, а сам слежу за отражением девушки – она тоже на меня смотрит. Дает денег бармену и, взяв еще пива, идет в мою сторону. Ее отражение в стекле растет и растет, и вот она уже у моего столика, говорит: «Привет», – потом еще что-то.
Я говорю:
– Что?
Указав на пятно пива у меня на рубашке, она говорит:
– Прикольные пуговицы. Такие… блестящие.
Подперев рукой подбородок, смотрю вниз на перламутровые кнопки. Да, не пуговицы, а именно кнопки! Но момент портить не хочется. Я сразу замечаю, как время от времени – ну ладно, постоянно – она прикусывает пальчики и говорит с придыханием; некоторые слова произносит на детский манер: «халасо», «новницы», – дико заводит в ее исполнении.
Подмигнув, она облизывает губы и говорит:
– Я Бритни Спирс.
Издевается. Хотя нет, она под кайфом, не соображает. К тому времени мы уже пьем текилу из чекушек. Ощущение, будто мы даже не в поезде. Хотя она не Бритни Спирс, калибром не уступает. Такая же горячая штучка. Раззадоривает меня, но по-хорошему. С первого взгляда понятно.
Мой единственный шанс – флиртовать в ответ и покупать выпивку. Она спрашивает: куда едешь? Отвечаю: на фест. Тогда она пальчиками «шагает» по моему животу: от ремня до во́рота, вдоль кнопок и обратно вниз. Думаю: только бы трепет моего сердца не ощутила.
А как она флиртует, как стреляет по сторонам зелеными глазками, как смотрит на меня из-под длинных ресниц! Она, должно быть, давно в ресторане пивком заливается: быстро забывает, о чем говорила еще минуту назад, а порой тычет пальцем в окно и кричит: «О, собака!», когда мимо что-то проносится. Один раз, заметив на перекрестке машину, Брит восклицает: «Жук!» и бьет меня в плечо. Втайне надеюсь, что у меня синяк на всю жизнь останется. И вот приезжаем на фест, разбиваем палатку. Брит так пьяна, что наутро, проснувшись, не трезвеет. Я, как ни убиваюсь травкой, за ней не поспеваю. Может, потому, что Брит худышка? Она к тому же балдеет, сидя рядом со мной – от пассивного курения травки. Наш фест – классический роман, за дрочильный доступ к которому в инете и денег не жалко. Это взаправду, это происходит со мной. Полгода встречаемся, до самого Рождества, и наконец Брит перебирается ко мне. В страхе жду, что однажды она проснется трезвой…
Заглядываем на День благодарения к моей маме. Приходится объяснять: Брит не потому худышка, что в еде разборчива. Ей нравятся только цукини, разрезанные вдоль, вычищенные от семян – чтобы получились миниатюрные долбленки, с декоративной резьбой, с целым племенем воинов из сырой морковки и с головами-горошинами на борту. В боевом порядке индейцы ведут каноэ по блюду, полному шоколадного сиропа. Вы удивитесь, но во многих ресторанах такого не подают. Часто Брит вынуждена сама готовить это целых полдня! Потом она, правда, еще час играет с каноэ. Поэтому и не полнеет. Мама же просто удивлена, что я снова познакомился с девушкой.
Ни курево, ни герыч так не вставляют, как прогулка по улице за руку с клевой цыпочкой, с моей Брит. Мимо проезжают парни в «Феррари-Тестаросса», проходят чуваки с рельефными кубиками пресса и стероидными банками, а я впервые в жизни ощущаю себя выше их. Мне достался приз, за который любой готов жопу порвать.
Единственное, что обламывает кайф, – то, как каждый встречный ромео чуть не принюхивается к Брит, точно собака, пытается заглянуть ей в глаза и лыбится надраенными зубами, глядя на ее титьки. Как-то едем в автобусе, устроившись на задних сиденьях; вокруг – стая ромиков. Брит обожает сидеть в кормовой части: если увидит за окном «Фольксваген», тут же бьет меня кулачком. Один здоровенный ромео становится рядом, его ширинка на уровне ее глаз. Автобус подскочил, должно быть, на кочке, и ромик трется гульфиком о плечо Брит. Та, не вынимая пальчиков изо рта, оборачивается:
– Привет, здоровяк.
Вот она у меня какая, незлобливая. Подмигнув ромику, Брит манит его влажными пальчиками. Ромео озирается по сторонам, желая убедиться, что она обращается к нему одному. Приседает; на лице у него похотливая ухмылочка. Моя девочка – наверное, желая заставить меня ревновать, – обращается к этому кобелине, глядит на него убийственно сексуальными глазками:
– Фокус показать?
Ромики оборачиваются, навострив уши. Брит запускает руку в штаны, шарит под тугой тканью облегающих тертых джинсов. В задней части салона наступает гробовая тишина. Ромео судорожно сглатывают обильные слюни: кадыки так и ходят вверх-вниз. У всех глаза навыкате и железобетонные стояки.
Молниеносно Брит выдергивает руку из штанов и кричит:
– Фокус-покус!
Раскручивает бурую фиговину на шнурке и кричит:
– Марионетка!
Это нечто вроде чайного пакетика, только больше размером. Нечто вроде булочки для хот-дога, пропитанной кетчупом.
Бритни кричит:
– Кукольный театр! Фокус-покус!
С размаху дает этой штуковиной ромику по щеке. Гонится за ним, продолжая хлестать по затянутой в кожанку спине, оставляя красные полосы. Остальные ромео притворяются, будто не смотрят, опустив взгляды в пол, но Бритни лупит их по макушкам, оставляя на волосах красные разводы.
Кричит:
– Кукольный театр! Фокус-покус!
Хохочет: а-ха-ха-ха! Кричит:
– Марионеточка! Фокус-покус!
Автобус останавливается напротив гипермаркета «Севен-илэвн», и сотня пассажиров бросается к выходу, словно всем захотелось купить газировки или обналичить выигрышный лотерейный билет. Кричу им:
– Народ, все путем!
Высовываюсь в окно и кричу, пытаясь привлечь их внимание:
– Она актриса! Это перформанс!
Кричу вслед сбежавшим пассажирам:
– Она никого не хотела обидеть! Это просто перформанс на тему гендерной политики, вот и все!
Автобус трогается. В салоне только мы с Брит, но я продолжаю кричать:
– Она свободный дух!
Брит проходит в голову салона и лупит «пакетиком» водителя.
Кричу ему:
– Такое вот у нее сумасбродное чувство юмора!
Как-то вечером прихожу с работы, а Брит стоит голая в ванной, бочком к зеркалу, обхватив руками животик. С тех пор, как мы познакомились, она немного прибавила в весе, но тут легко помогут уксус и ананасы. Бритни берет меня за руку, кладет ее себе на животик и говорит:
– Чувствуешь?
Она говорит:
– Похове, я съела детифку.
Смотрит на меня, как щеночек, сексуальными зелеными глазками, и я спрашиваю: хочешь, вместе пойдем в клинику и все устроим? Она кивает: да, мол, хочу. И вот, в выходной идем в больничку, а там, как всегда по воскресеньям, толпа учителей перед входом. В руках у них мусорный пакет, полный частей кукольных тел, перемешанных с кетчупом. Брит с ходу запускает руку в пакет и, достав ножку, обсасывает ее, будто картошку фри. Вот она у меня какая, классная. В приемном покое читаю «Нэшнл джиогрэфик», а медсестра спрашивает у Бритни: вы поели? Брит отвечает: вчера умяла каноэ, полное воинов-ирокезов, а сегодня даже не завтракала. Не успел я дочитать статью про египетские мумии, как из дальнего конца клиники раздается вопль, и моя Бритни вылетает из кабинета в одной бумажной пижаме. Как будто бы испугалась. Первый раз, что ли? Босая, несется она до самого дома. Ее трясет, тошнит, и чтобы успокоить ее, прошу: выходи за меня.
Друзья, сразу видно, ревнуют. Закатывают мне мальчишник, а когда Бритни, раздраженная из-за того, что шеф-повар отказался вырезать из цукини боевую долбленку, уходит в дамскую комнату, эти самые «друзья» говорят:
– Чувак, она самая сексуальная штучка, горячее просто не бывает, но вряд ли она просто обдолбалась…
Лучшие мои друзья говорят:
– Ты точно еще не женился на ней?
У них на лицах написано: ее беременность – это плохо. У меня такое чувство, знаете: жду, что друзья и невеста подружатся, но друзья, скрипя зубами и озабоченно хмуря брови, говорят:
– Чувак, тебе в голову не приходило, что Бритни, может быть – только может быть, – умственно отсталая?
Отвечаю: не парьтесь, она алкоголик. Вряд ли она героинщица, зато нимфоманка. Ничего страшного, терапевтические беседы дело поправят. Гляньте-ка на меня: я жирный, совсем не идеал. Думаю, может, вообще со свадебным приемом не заморачиваться, а пригласить родителей в какой-нибудь отель, в конференц-зал, и там ошарашить Брит оперативным вмешательством? Вместо медового месяца определить ее куда-нибудь на стационар, пусть подлечится? Справимся. Не, никакая она не отсталая, ей надо лишь пройти курс реабилитации.
Сразу же видно: друзья клевещут на Бритни. Все потому, что ревнуют, до безумия, как те ромики с восставшими членами. Стоит мне отвлечься, и ее оприходуют.
– Чувак, ты обрюхатил дурочку.
Вот я неудачник, раз меня окружают такие говно-друзья. У Брит, они говорят, мозги как у шестилетки. Думают, спасают меня, убеждая:
– Чувак, она не может тебя любить, потому что не знает как.
Получается, замуж за меня может выйти только неизлечимая дурочка.
Говорю друзьям:
– Никакая, блядь, она не отсталая. Она розовые танго носит!
У нас точно любовь. Я с Брит кончаю так сильно, что живот скручивает. Маминому хахалю на обеде в честь Дня благодарения я так и сказал: никакая она не высокофункциональная кто-то там. Она, скорей всего, алкоголик, нюхает клей, долбится дурью, она шалава, и мы ее – вот только родит – отправим лечиться. Да, и она, наверное, нимфоманка. Но знаете, что самое главное? Она – моя нимфоманка. Родные от зависти зеленеют.
Говорю им:
– Я люблю эту прекрасную озабоченную шалаву. Порадуйтесь за меня, трудно, что ли?!
После всей этой суеты на свадьбу пришло народу куда меньше, чем ожидалось.
Может, любовь и делает нас предвзятыми, но я всегда считал Брит очень умной. Знаете это чувство, когда сидишь с супругой на диване, смотришь телик и ни о чем с ней не споришь? Знали бы вы, как много мы вместе смотрим ящик – сразу бы поняли, какая мы счастливая пара.
И вот держу на руках моих милых двойняшек, которые пахнут, как пироги на День благодарения. Когда подрастут, расскажу им: если присмотреться, то любой человек чуточку псих. А если не можешь к нему присмотреться, то и не любишь его. Жизнь-то проходит незаметно, нельзя ждать совершенства – иначе любви не найдешь. Если любишь кого-то всем сердцем, то чувство твое и делает его совершенным. Может, я сам слегка дурачок? Вскакиваю по ночам в страхе: вдруг счастье возьмет и закончится? Нет бы просто им наслаждаться. Если ты такой чокнутый, по уши влюблен и счастлив, тебе не так-то легко. Не может же подобное счастье длиться до конца жизни; скорей всего, что-то не так со мной, раз я безумно люблю жену. Едем домой из больницы: со мной красавица жена, на заднем сиденье – двойняшки. Я по-прежнему опасаюсь, что такое сильное счастье не может быть постоянным… Брит вдруг кричит: