Читать онлайн Памяти Каталонии. Эссе (сборник) бесплатно
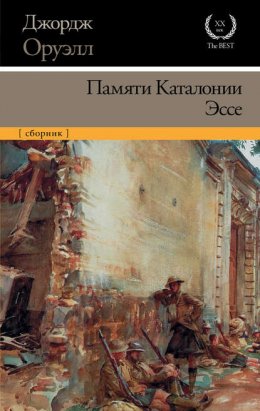
George Orwell
HOMAGE TO CATALONIA
ESSAYS
© George Orwell, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1942, 1945, 1949
© Перевод. В. И. Бернацкая, 2016
© Перевод. И. Я. Доронина, 2016
© Перевод. В. П. Голышев, 2010
© Перевод. А. М. Зверев, наследники, 2010
© Перевод. А. Ю. Кабалкин, 2010
© Перевод. А. А. Файнгар, наследники, 2010
© Издание на русском языке AST Publishers, 2016
Памяти Каталонии
Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе
Не сделаться подобным ему;
Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал
Мудрецом в глазах своих.
Притч. 26: 4–5
Глава 1
В Барселоне, за день до записи в ополчение, я встретил в Ленинских казармах одного итальянца, бойца ополчения, он стоял у офицерского планшетного стола.
Это был молодой человек лет двадцати пяти – двадцати шести, крепкого сложения, широкоплечий и рыжеволосый. Кожаную кепку он лихо заломил набекрень. Молодой человек стоял ко мне в профиль и, уткнувшись подбородком в грудь, взирал с озабоченным видом на карту, развернутую одним из офицеров на столе. Что-то в его лице глубоко тронуло меня. Это было лицо человека, способного убить и в то же время отдать жизнь за друга? – такое лицо увидишь скорее у анархиста, хотя молодой человек наверняка был коммунистом. В его лице сочетались искренняя доброжелательность и жестокость, и еще благоговение, какое безграмотные люди испытывают перед теми, кто, по их представлению, стоит выше. Было видно, что он не умеет читать карту и считает подобное умение величайшим умственным достижением. Не знаю почему, но я мгновенно почувствовал к нему расположение, что случается очень редко – в отношении мужчин, я имею в виду. В разговоре, который велся у стола, кто-то упомянул, что я иностранец. Итальянец поднял голову и быстро произнес:
– Italiano?
– No, Inglés. Y tú?[1] – ответил я на скверном испанском.
– Italiano.
Когда мы выходили, он прошел через всю комнату и крепко пожал мне руку. Удивительно, какое чувство близости можно испытывать к незнакомцу! Словно наши души, мгновенно преодолев языковые и национальные барьеры, установили тесную близость. Надеюсь, я ему тоже понравился. Но мне было понятно: чтобы удержать первое впечатление, я не должен его видеть снова. Стоит ли говорить, что мы больше никогда не встречались. Такие краткие встречи типичны для Испании.
Я упомянул этого ополченца, потому что он особенно живо запечатлелся в моей памяти. Его потрепанная форма, страстное, трагическое лицо олицетворяют для меня характерную атмосферу того военного времени. Этот образ связывает мои воспоминания о том этапе войны – красные флаги на улицах Барселоны; мрачные, медленно ползущие поезда, набитые солдатами в поношенных униформах; серые, разрушенные войной города вблизи линии фронта; утопающие в грязи и холодные как лед окопы в горах.
Эта встреча состоялась в конце декабря 1936 года, с тех пор прошло меньше семи месяцев, но кажется, она была в другой жизни. Последующие события изгладили из памяти то время больше, чем, к примеру, 1935 год или 1905-й. Я приехал в Испанию всего лишь с целью писать обзоры в газету, но почти сразу же вступил в ополчение: в обстановке того времени это казалось единственно возможным поступком. Власть в Каталонии принадлежала анархистам, и революция по-прежнему была в разгаре. Тем, кто находился здесь с самого начала, могло показаться, даже в декабре или в январе, что революционный период заканчивается, но человека, только что приехавшего из Англии, вид Барселоны потрясал и ошеломлял.
Впервые я попал в город, где рабочий класс выступал в первых ролях. Практически все здания, и большие, и поменьше, захватили рабочие, на этих домах развевались красные или черно-красные флаги – анархистов; на всех стенах были нацарапаны серп и молот и названия революционных партий; почти все церкви были ограблены, а изображения святых сожжены. Церкви повсюду методично разрушались рабочими группами. На каждом кафе или магазине висело объявление, что оно коллективизировано, коллективизировали даже будки чистильщиков сапог, а сами будки раскрасили в красно-черный цвет. Официанты и продавцы смотрели тебе прямо в лицо и обращались как с ровней. Услужливое и даже просто вежливое обращение временно исчезло. Никто не говорил «señior»[2] или «don»[3] или даже «usted»[4], все обращались друг к другу «товарищ» и на «ты» и приветствовали «salud»[5] вместо «buenos dias»[6]. По новому закону запрещалось давать чаевые; одно из первых моих впечатлений – выговор, полученный мной от управляющего отелем, за попытку дать на чай лифтеру. Личных автомобилей не было видно – их конфисковали, а все трамваи, такси и прочий транспорт раскрасили в красный и черный цвета. Рядом с развешенными повсюду на стенах ярко-синими революционными плакатами все остальные малочисленные объявления казались грязной мазней. На Рамблас, широкой главной улице города, где всегда толпится народ, из громкоговорителей непрерывно, и днем и ночью, звучали революционные песни. И, что самое удивительное, именно это влекло сюда людей.
Со стороны казалось, что богатых здесь совсем не осталось. Кроме немногих женщин и иностранцев, все жители были скверно одеты. Практически все ходили в грубой рабочей одежде, или синих комбинезонах, или в подобии униформы ополченцев. Странное, трогательное зрелище! Я многого в этом не понимал, что-то меня даже раздражало, но с первого взгляда было ясно, что тут есть за что сражаться. Я верил, что все обстоит так, как кажется, и я действительно нахожусь в государстве рабочих, а буржуазия частично сбежала, частично погибла или добровольно перешла на их сторону. Мне не приходило в голову, что многие богачи просто залегли на дно, прикидываясь пролетариями.
Наряду со всем этим в воздухе витала нездоровая атмосфера войны. У города был запущенный вид – дома обветшалые; плохо освещенные улицы – из-за страха перед вражескими налетами; полупустые, убогие магазины. Недостаток мяса, отсутствие молока, нехватка угля, сахара и бензина, и самое важное – перебои с хлебом. Даже в то время очереди за хлебом тянулись подчас на сотни ярдов. И все же бросалось в глаза, что люди радуются и верят в будущее. Безработица отсутствовала, плата за жилье оставалась низкой. По-настоящему нуждающихся людей было мало, а попрошайничали только цыгане. Все трудности преодолевались верой в революцию и счастливое будущее, возможностью разом вступить в эру равенства и свободы. Люди старались быть людьми, а не винтиками в капиталистической машине. В парикмахерских висели анархистские предупреждения (большинство брадобреев здесь анархисты), в которых торжественно объявлялось, что парикмахеры больше не рабы. Яркие уличные плакаты призывали проституток отказаться от своего ремесла. Человека из очерствевшей, ироничной среды англоязычных народов могло смешить восторженное отношение идеалистически настроенных испанцев к затасканным революционным лозунгам. Тогда на улицах за несколько сантимов продавались революционные баллады с наивным содержанием, сводившемся к пролетарскому братству и нападкам на злобного Муссолини. Я часто видел, как какой-нибудь малограмотный ополченец покупал такую балладу, с трудом разбирал ее по слогам и, наконец, поняв что к чему, начинал распевать ее под подходящую мелодию.
Все это время я жил в Ленинских казармах, вроде бы готовясь к участию в военных действиях. Когда я вступил в ополчение, меня обещали отправить на фронт уже на следующий день, однако пришлось дожидаться набора следующей centuria. Рабочее ополчение, торопливо набранное профсоюзами в начале войны, еще не было организовано по армейскому принципу. Воинское соединение состояло из «секций» (около тридцати человек), «центурий» (около сотни) и «колонн» (на практике просто достаточно большое число людей).
Ленинские казармы – это квартал из красивых каменных домов, здесь есть школа верховой езды и множество мощенных булыжником внутренних двориков. Раньше тут были кавалерийские казармы, их захватили во время июльского сражения. Центурия, в которую входил я, спала в одной из конюшен под каменными яслями, на которых сохранились клички лошадей. Всех лошадей конфисковали и отправили на фронт, но в конюшне все еще сохранялся запах конской мочи и гнилого овса. Я находился в казарме около недели. Больше всего мне запомнился неистребимый запах конюшни, надтреснутое звучание горна (все наши горнисты были любителями, и я впервые услышал настоящий звук испанского горна у оборонительного рубежа фашистов), топот тяжелых сапог во дворе казармы, невыразимо затянутые построения по солнечным морозным утрам, исступленные игры в футбол на манеже конной школы по пятьдесят человек с каждой стороны. В казарме жили не меньше тысячи мужчин и десятка два женщин, не считая жен ополченцев, которые стряпали на кухне. Женщины тоже служили в ополчении, хотя их было немного. Кстати, в первых боях они сражались бок о бок с мужчинами. Во время революции это только естественно. Но такое отношение менялось на глазах. Теперь ополченцев не пускали в здание школы, когда у женщин проходили строевые учения, потому что мужчины смеялись и подшучивали над подругами. А ведь несколькими месяцами раньше женщина с оружием в руках не вызывала насмешек.
Казарма была грязная и запущенная, ополченцы приводили в непотребный вид каждое занимаемое ими здание – похоже, таков побочный продукт революции. В каждом углу можно было наткнуться на завалы сломанной мебели, испорченные седла, кавалерийские латунные шлемы, пустые сабельные ножны и тухлую еду. Продукты гибли в пугающем количестве, особенно хлеб. Только из моего отделения после каждого приема пищи выбрасывали корзину хлеба – постыдная вещь, когда знаешь, что гражданским людям его не хватает. Мы ели за длинными дощатыми столами из засаленных жестяных мисок и пили из жуткой штуки под названием porron — стеклянного кувшина с длинным носиком. Если кувшин наклонить, из носика потечет тонкая струйка, и тогда вино можно пить на расстоянии, не прикасаясь губами к носику и передавая кувшин из рук в руки. Увидев porron в действии, я взбунтовался и потребовал для себя отдельную кружку. Этот сосуд напоминал мне стеклянную утку, особенно когда его наполняли белым вином.
Постепенно новобранцев снабжали униформой, но не надо забывать, что мы находились в Испании, и форма поступала по частям, так что никогда нельзя было знать, кто что получит. Многие необходимые вещи, вроде ремней и патронных ящиков, нам доставили в последний момент, когда мы чуть ли не садились в отправлявшийся на фронт поезд. Возможно, говоря о «униформе», я выразился неточно. По существу, это была не униформа. Скорее «мультиформа». Замысел был один, но не было двух человек, которые носили бы одинаковую одежду. Практически у всех в армии были вельветовые бриджи, но на этом сходство заканчивалось. Некоторые пользовались портянками, другие надевали гетры, кто-то носил кожаные лосины или сапоги. Все куртки были на молнии, но одни – из кожи, другие – из шерсти, а уж цвета были самые разнообразные. И на каждом ополченце – свой, неповторимый головной убор, обычно украшенный партийным значком. Кроме того, почти каждый мужчина носил на шее красный или черно-красный платок. В то время колонна ополченцев со стороны воспринималась как разношерстный сброд. Но обмундирование все же поступало – в том виде, каким его шила фабрика, и, учитывая обстоятельства, оно было не таким уж плохим. Хлопчатобумажные рубашки и носки имели жалкий вид и совсем не предохраняли от холода. Не хочется даже думать, через что пришлось пройти ополченцам в первые месяцы революции, когда ничего не было толком организовано. Помнится, еще два месяца назад я прочел в газете слова одного из лидеров ПОУМ[7], побывавшего на фронте: он обещал лично проследить, чтобы у «каждого милиционера было одеяло». Каждый, кто когда-нибудь спал в окопе, содрогнется от этих слов.
На второй день моего пребывания в казарме началось то, что можно в шутку назвать «обучением». Вначале царил полный хаос. Среди новобранцев преобладали юноши шестнадцати-семнадцати лет с окраин Барселоны, их переполнял революционный азарт, но они не имели никакого представления о военных действиях. Даже построить в одну линию их было невозможно. Понятия дисциплины для этих ребят не существовало. Если кому-то из них не нравился приказ, он просто выходил из строя и начинал яростно спорить с офицером. Инструктировавший нас лейтенант – крепкий молодой человек с чистым, приятным лицом – раньше служил в регулярной армии, что было видно по его выправке и по опрятной униформе. Удивительно, но он был убежденный и пылкий социалист. Лейтенант настаивал на полном социальном равенстве даже больше, чем его подчиненные. Помню, как его огорчило, когда несведущий новобранец назвал его «сеньором». «Что? Сеньор? Какой я тебе сеньор? Разве мы все здесь не товарищи?» Сомневаюсь, что такое отношение облегчало его работу. Между тем новобранцы не приобретали тех необходимых военных навыков, которые могли бы помочь им в деле. Мне сказали, что иностранцам не обязательно посещать «инструктаж» (похоже, испанцы искренне убеждены, что все иностранцы бо́льшие знатоки в военном деле, чем они сами), но я, само собой, ходил на занятия вместе со всеми. Я очень хотел освоить пулемет, с этим оружием мне никогда не приходилось обращаться. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что обращение с оружием не входит в программу подготовки. «Инструктаж» сводился к давно устаревшей, примитивной муштре на плацу – поворот направо, поворот налево, кругом, хождение строевым шагом по трое в колонне и прочая бессмыслица, которую я освоил уже в пятнадцать лет. Трудно придумать что-либо более нелепое при подготовке армии ополченцев. Когда на подготовку солдата отводится всего несколько дней, его нужно учить тем вещам, которые пригодятся в первую очередь, – как занять укрытие, как передвигаться по открытой местности, как при необходимости затаиться и соорудить бруствер, а самое главное – умению обращаться с оружием. А эту толпу нетерпеливых детей, которых через несколько дней отправят на фронт, не научили даже стрелять из винтовки или выдергивать чеку из гранаты. Тогда до меня не доходило, что винтовок просто не было. В ополчении ПОУМ нехватка оружия была такой острой, что новые части, прибыв на линию фронта, получали ружья у бойцов, отправлявшихся на отдых. Думаю, во всей Ленинской казарме винтовки были только у часовых.
Через несколько дней, хотя по общепринятым стандартам мы по-прежнему оставались разношерстным сбродом, нас сочли достойными предстать перед публикой. Теперь по утрам мы поднимались к общественным садам на холме за площадью Испании и там маршировали на общем плацу вместе с корпусом карабинеров и первыми частями недавно созданной Народной армии. Для общественных садов это было необычное и поднимающее настроение зрелище. По всем дорожкам и перекресткам, мимо симметрично расположенных клумб четко маршировали туда и сюда разные воинские единицы; молодые люди выпячивали грудь и изо всех сил старались быть похожими на настоящих солдат. Ни у одного не было оружия, и редко кому перепадал полный комплект униформы, да и у тех она была в заплатах. Порядок действий никогда не менялся. В течение трех часов мы с важным видом ходили строем взад-вперед (у испанцев маршевый шаг очень короткий и быстрый), затем звучала команда «стой», строй рассыпался, и мы, томимые жаждой, бежали гурьбой в небольшой магазинчик на полпути вниз, где продавали дешевое вино. Ополченцы относились ко мне дружелюбно. Будучи англичанином, я вызывал любопытство, особенный интерес проявляли офицеры-карабинеры, угощавшие меня выпивкой. Между тем я, как только удавалось отловить нашего лейтенанта, требовал, чтобы меня научили стрелять из пулемета. Вытащив из кармана разговорник Хьюго, я начинал мучить его своим чудовищным испанским:
– Yo sé manejar fusil. No sé manejar ametralladora. Quiero apprender ametralladora. Quándo vamos apprender ametralladora?[8]
Ответом мне всегда была смущенная улыбка и обещание, что обучение начнется mañana[9]. Надо ли говорить, что заветное mañana так и не наступило. Прошло несколько дней, и новобранцы научились маршировать в ногу и останавливаться почти точно по команде, но хорошо, если они вдобавок знали, из какого конца винтовки вылетает пуля. Однажды к нам подошел вооруженный карабинер и позволил осмотреть его винтовку. Оказалось, что во всем подразделении никто, кроме меня, не знал, как ее зарядить, не говоря уж о том, чтобы прицелиться.
Все это время я прилагал огромные усилия, чтобы продвинуться в испанском. Помимо меня, в казарме был еще один англичанин, и никто, даже в офицерской среде, не знал ни слова по-французски. То, что между собой мои товарищи обычно говорили на каталанском языке, не упрощало положение. Оставалось только повсюду таскать с собой разговорник, который я торопливо вытаскивал из кармана в затруднительных положениях. Но лучше быть иностранцем в Испании, чем в других странах. В Испании так легко найти друзей! Не прошло и двух дней, как десяток-другой ополченцев уже звали меня по имени, вводили в курс дела и ошеломляли своим гостеприимством. Я не пишу пропагандистскую книгу и не собираюсь идеализировать ополчение ПОУМ. Милицейская система имела серьезные недостатки, а ополченцы представляли собой разнородную массу, ведь к этому времени приток добровольцев спал, и лучшие были на фронте или в могиле. Среди нас встречались и совершенно бесполезные люди. Родители просили зачислить на военную службу пятнадцатилетних сыновей, не скрывая, что поступают так ради десяти песет – ежедневного жалованья ополченца, и хлеба, некоторое количество которого из милицейского изобилия юноша мог тайно передать родителям. Но могу поклясться: если кто-то, как я, окажется среди испанских рабочих – точнее, среди каталонцев, потому что в отряде было всего несколько арагонцев и андалузцев, – он будет покорен их врожденной порядочностью, а также прямотой и щедростью. Испанская щедрость, в прямом смысле этого слова, временами приводит в смущение. Если вы попросите у испанца сигарету, он всучит вам целую пачку. Но их щедрость имеет и другой, более глубокий смысл – щедрость души, которая открывалась мне снова и снова в самых трудных обстоятельствах. Кое-кто из журналистов и прочих иностранцев, находящихся в Испании во время войны, заявляли, что в глубине души испанцы ревниво относятся к иностранной помощи. Лично я ничего подобного не замечал. Помнится, за несколько дней до того, как я покинул казарму, с фронта на передышку вернулась группа солдат. Они возбужденно рассказывали о том, что было с ними на войне, и восхищались французскими воинскими частями, сражавшимися с ними бок о бок под Уэской. Французы вели себя очень храбро, говорили они и восторженно прибавляли: «Más valientes que nosotros»[10]. Я стал было протестовать, но мне объяснили, что французы основательно преуспели в военном деле, больше знают о бомбах, пулеметах и так далее. Однако это о многом говорит. Англичанин скорее отрубит себе руку, чем скажет такое.
Каждый оказавшийся в ополчении иностранец в первые же недели не мог не полюбить испанцев, хотя кое-что в их характере могло взбесить кого угодно. На фронте мое возмущение иногда даже перерастало в ярость. Испанцы преуспевают во многом, но воевать они не умеют. Всех иностранцев одинаково повергает в ужас неэффективность их действий, напрямую связанная с их чудовищной непунктуальностью. Слово, с которым неизбежно сталкивается каждый иностранец, mañana – «завтра» (дословно – «утром»). Если возможно, дело всегда откладывается на завтра. Это уже стало общим местом, даже сами испанцы шутят по этому поводу. В Испании ничего не происходит в назначенный срок – ни прием пищи, ни сражение. Как правило, все откладывается, но иногда – на это, естественно, нельзя положиться – все вдруг происходит раньше, чем нужно. Если поезд должен отправиться в восемь, он обычно отходит от платформы где-то между девятью и десятью часами, но может так случиться, что по прихоти машиниста он вдруг как-нибудь отправится в половине восьмого. Такие вещи здорово действуют на нервы. Теоретически меня восхищает, что испанцы не заражены нашим северным неврозом по части времени, но, к сожалению, сам я им заражен.
После бесконечных слухов, mañanas и отсрочек нам внезапно объявили, что через два часа мы едем на фронт. Многое из материальной части было еще не получено, и потому в отделе хозяйственного снабжения начался страшный переполох, и все же в результате многим пришлось покинуть казарму без полной экипировки. Казармы как-то мгновенно наполнились словно появившимися из-под земли женщинами, они помогали своим мужчинам закатывать одеяла и паковать вещевые мешки. Я испытал смущение, что испанская женщина, жена Уильямса, еще одного англичанина среди ополченцев, показала, как надо приладить мой новый кожаный патронташ. Этому нежному, темноволосому, исключительно женственному существу более пристало качать колыбельку, а она на самом деле принимала участие в июльских уличных боях и храбро сражалась рядом с мужчинами. Теперь она была беременна, и ребенок, родившийся спустя десять месяцев после начала войны, был, возможно, зачат за баррикадой.
Поезд должен был отойти в восемь, но только в десять минут девятого взмокшим от усталости офицерам удалось построить нас на площади перед казармой. Я помню эту сцену при свете факелов очень живо – всеобщий гул и волнение; развевающиеся красные флаги; плотные ряды ополченцев с рюкзаками за спиной и свернутыми одеялами на плечах наподобие бандольера; крики, стук каблуков и позвякивание жестяных кружек; и наконец громовой призыв к тишине, давший возможность политкомиссару на фоне огромного, бьющегося на ветру красного флага произнести речь на каталанском языке. Потом нас повели на вокзал самым долгим путем в три или четыре мили, чтобы весь город мог нами полюбоваться. На улице Рамблас нас остановили, и нанятый оркестр сыграл парочку революционных мелодий. И вновь победное настроение – восторженные крики, повсюду красные и черно-красные флаги, тротуары заполнены ликующими людьми, вышедшими из дома, чтобы посмотреть на нас, женщины машут из окон. Каким это казалось тогда естественным и каким далеким и невероятным кажется сейчас! В поезд набилось так много народу, что не только на скамьях, но и на полу не осталось свободного места. В последний момент жена Уильямса принесла откуда-то бутылку вина и связку той ярко-красной колбасы, которая отдает мылом на вкус и приводит к расстройству желудка. И поезд медленно, с обычной в военное время скоростью под двадцать километров в час потащился из Каталонии по направлению к Арагонской равнине.
Глава 2
Барбастро – хотя и расположен далеко от линии фронта – город унылый и неухоженный. Толпы ополченцев в потрепанных униформах слонялись по улицам, стараясь согреться. На разрушенной стене я увидел прошлогоднюю афишу, сообщавшую, что «шесть превосходных быков» будут заколоты на арене в такой-то день. Как жалко выглядело это поблекшее объявление! Где сейчас эти превосходные быки и красавцы тореадоры? Даже в Барселоне теперь не так легко их встретить: по необъяснимой причине все лучшие тореадоры на стороне фашистов.
Группу, в которую входил я, отправили на грузовиках в направлении Сиетамо и далее на запад в Алькубьерре, деревню, находившуюся близ линии фронта напротив Сарагосы. Сиетамо три раза переходил из рук в руки, прежде чем анархисты окончательно укрепились в нем в октябре. Часть города после артиллерийского обстрела лежала в руинах, а стены большинства домов изрешетили пули. Сейчас мы находились в полутора тысячах футов над уровнем моря. Было чертовски холодно, и к тому же неизвестно откуда поднимался, клубясь, плотный туман. Между Сиетамо и Алькубьерре наш водитель сбился с пути (это постоянно случалось на этой войне), и мы несколько часов провели в тумане. Мы въехали в Алькубьерре поздно вечером. Кто-то провел нас по вязкой грязи в стойло мулов, где мы, зарывшись в мякину, мгновенно уснули. Когда мякина чистая, на ней не так уж плохо спать, конечно, не так хорошо, как на сене, но уж лучше, чем на соломе. Однако при утреннем свете я разглядел в мякине черствые корки, обрывки газет, кости, дохлых крыс и покореженные жестяные банки из-под молока.
Теперь мы были близко от линии фронта, настолько близко, что в воздухе витал характерный запах войны – состоящий, по моему представлению, из запаха экскрементов и протухшей пищи. Алькубьерре в отличие большинства деревень рядом с линией фронта никогда не попадала под артиллерийский огонь, и потому была в лучшем состоянии. Однако не сомневаюсь: даже если вы окажетесь в этой части Испании в мирное время, вас поразит какая-то особенная запущенность арагонских деревень. Построены они по образцу крепостных сооружений: в центре всегда церковь в окружении жалких домишек, сложенных из камня и глины. Здесь даже весной вряд ли увидишь цветы: у домов не принято разбивать сад, существуют только задние дворы, где среди куч навоза бродит неухоженная домашняя птица. Погода стояла отвратительная – дождь чередовался с туманом. Узкие грунтовые дороги утопали в грязи – местами она доходила до двух футов глубиной, – и, чтобы проехать по ним, грузовикам приходилось бешено месить грязь колесами, а крестьянам – цугом впрягать в свои нескладные телеги мулов, иногда по шесть в упряжке. Постоянные передвижения войск довели деревню до состояния крайней антисанитарии. В ней и так никогда не было уборных и какого-то подобия канализации, и нужно было внимательно следить, куда наступаешь. Церковь давно уже использовалась как отхожее место, да и все пространство на четверть мили вокруг тоже. Перебирая в голове первые два месяца моей военной жизни, я всегда вспоминаю унылую стерню, покрытую коркой замерзшего дерьма.
Прошло два дня, а оружие все не поступало. Если вы были в Военно-революционном комитете и видели в стене дырки от пуль – здесь стреляли залпами, казня фашистов, – можно считать, что вы видели в Алькубьерре все. На линии фронта было относительное затишье, оттуда поступало мало раненых. Большим сюрпризом было появление фашистских дезертиров, их привели в деревню под охраной. На стороне противника не все разделяли фашистские взгляды, ведь среди прочих были несчастные, которым повезло проходить военную службу как раз в то время, когда разразилась война, и они мечтали сбежать. Время от времени они группами, подвергаясь большому риску, пробирались через линию фронта к нам. Думаю, число перебежчиков значительно возросло бы, если бы их родственники не остались на территории, контролируемой фашистами. Эти дезертиры были первые «настоящие» фашисты, увиденные мною в жизни. Меня поразило, что их нельзя было отличить от ополченцев, единственная разница – верхняя спецодежда цвета хаки. Приходили они чудовищно голодные, и это было только естественно, принимая во внимание, что им день-другой приходилось прятаться на ничейной земле, но в нашем лагере это вызывало общий восторг как доказательство того, что фашистские войска голодают. Я сам наблюдал, как одного из них кормили в крестьянском доме. На это нельзя было смотреть без сострадания. Высокий парень лет двадцати, с обветренным лицом и в изрядно потрепанной одежде, сидел, нагнувшись над плитой, и с потрясающей скоростью поглощал из жестяной миски рагу. Все это время глаза его нервно бегали по окружившим его ополченцам, которые не сводили с него глаз. Думаю, в голове его бродили сомнения, не жаждут ли «красные» его крови и не пристрелят ли, как только он покончит с едой. Но охранники поглаживали его по плечу и говорили что-то ободряющее. В один памятный день прибыла группа из пятнадцати дезертиров. Их торжественно провели по деревне, а перед ними ехал милиционер на белом коне. Мне удалось заснять эту сцену, но впоследствии снимок, довольно расплывчатый, у меня украли.
На третье утро нашего пребывания в Алькубьерре привезли винтовки. Сержант с грубым, темно-желтым лицом раздавал их в стойле для мулов. Увидев, что мне вручили, я пришел в смятение. То была немецкая винтовка «маузер» 1896 года – ее изготовили более сорока лет назад! Ржавая, с тугим затвором и потрескавшимся деревянным стволом! Одного взгляда в проржавевшее дуло было достаточно, чтобы понять: винтовка отслужила свое. Большинство винтовок было не лучше, некоторые даже хуже, и никому не приходило в голову дать лучшее оружие тем мужчинам, которые умели с ним обращаться. Но лучшее ружье, прослужившее всего десять лет, дали недоумку лет пятнадцати, которого все называли maricóon (гомиком). За пять минут сержант «проинструктировал» нас, объяснив, как заряжать ружье и разбирать затвор. Многие ополченцы никогда прежде не держали ружье в руках, и мало кто знал, для чего нужен прицел. Раздали патроны, по пятьдесят в одни руки, а затем построили нас в шеренги и шагом марш на передовую – в трех милях от деревни.
Наша центурия – восемьдесят человек и несколько собак – зигзагообразной линией двигалась по дороге. К каждой колонне был прикреплен хотя бы один пес – своего рода талисман. На одном несчастном животном, шедшем с нами, было выжжено крупными буквами клеймо – ПОУМ; пес шел крадучись, словно сознавал, что в его облике что-то не так. Во главе колонны под красным знаменем ехал на вороном коне команданте[11] Джордж Копп, бельгиец по происхождению; чуть впереди молодой человек из милицейской кавалерии (больше напоминавшей шайку бандитов) гарцевал взад-вперед на коне. На каждом подъеме он пускал коня в галоп и замирал на вершине в живописной позе. Великолепные лошади, принадлежавшие испанской кавалерии, были в большом количестве захвачены во время революции и переданы милиции, члены которой делали все возможное, чтобы заездить их до смерти.
Дорога вилась меж желтых бесплодных полей, заброшенных после прошлогоднего урожая. Впереди была невысокая горная цепь, соединяющая Алькубьерре и Сарагосу. Мы приближались к линии фронта – к бомбам, пулеметам и грязи. В глубине души я боялся. Сейчас там затишье, но в отличие от большинства мужчин, окружавших меня, я был достаточно взрослым, чтобы помнить Первую мировую войну, хотя и не настолько, чтобы принимать в ней участие. Для меня война означала рвущиеся снаряды, взлетающие в воздух куски металла и еще – непролазную грязь, вшей, голод и холод. Удивительно, но холода я боялся больше, чем врагов. Мысль о холоде постоянно преследовала меня в Барселоне. Я не спал ночами, представляя, как буду мерзнуть в окопе, пробуждаться от холода на рассвете, часами стоять в карауле с ледяной винтовкой в руках и чувствовать, как стылая грязь липнет к голенищам сапог. И еще, должен признаться, меня охватывал ужас при взгляде на людей, с которыми я шагал в одном строю. Мы выглядели просто сбродом. Отара овец смотрится более сплоченной: мы не прошли и двух миль, а конец колонны уже исчез из виду. К тому же добрую половину бойцов составляли дети, и это не преувеличение – по большей части им было лет шестнадцать. Однако все испытывали радость и возбуждение при мысли, что наконец попадут на фронт. По мере приближения к линии фронта эти мальчишки, шедшие впереди под красным флагом, стали выкрикивать лозунги: «Visca P.O.U.M.! Fascistas – maricones!»[12] и все в таком духе. Эти крики, задуманные как боевой, угрожающий клич, вылетая из детских горлышек, звучали как жалобный писк котят. Грустно, что защитниками Республики предназначено быть толпе оборванных детей с негодными винтовками, из которых они не умеют стрелять. Помню, я подумал: если над нами окажется фашистский самолет, он вряд ли опустится до того, чтобы снизить высоту и дать по нам пулеметную очередь. Ведь даже сверху он поймет, что это не настоящие солдаты.
Когда дорога уперлась в горную цепь, мы свернули направо и стали взбираться по узкой, вьющейся вдоль горного склона тропе, по которой перегоняют мулов. Горы в этой части Испании имеют причудливую, подковообразную форму, плоские вершины, но очень крутые склоны, заканчивающиеся бездонными ущельями. Ближе к вершине ничего не растет, кроме чахлого кустарника и вереска, а из земли повсюду торчат, словно кости, белые выступы известняка. В горных условиях невозможно создать линию фронта из непрерывной цепочки окопов, она здесь складывалась из укрепленных постов, так называемых «позиций», сосредоточенных на вершинах. Вдали, на вершине «подковы» виднелась наша «позиция»: неровная баррикада из мешков с песком, развевающийся красный флаг и дым от очагов в блиндажах. При приближении оттуда стал доноситься сладковато-тошнотворный запах, который потом долго преследовал меня. В расщелине сразу за «позицией» устроили самую настоящую помойку и месяцами сбрасывали туда отходы – гниющий хлеб, экскременты и ржавые банки.
Бойцы, на смену которым мы пришли, укладывали свое снаряжение. Они три месяца находились на передовой, их форма была заляпана грязью, ботинки развалились, щеки заросли бородой. Командующий укреплением капитан по фамилии Левински, которого все звали просто Бенджамин, польский еврей по рождению, но знавший французский язык как родной, медленно выбрался из землянки и тепло приветствовал нас. Это был невысокий молодой человек лет двадцати пяти, с жесткими черными волосами и бледным энергичным лицом, которое на войне просто не могло не быть грязным. Несколько шальных пуль просвистели над нашими головами. «Позиция» располагалась на полукруглом огороженном месте шириной приблизительно пятьдесят ярдов, по границе она была укреплена мешками с песком и частично кусками известняка. Ее территория, словно крысиными норами, была источена блиндажами, их число доходило до тридцати-сорока. Уильямс, я и испанский шурин Уильямса быстро нырнули в ближайший, незанятый блиндаж, казавшийся годным для жилья. Где-то неподалеку раздался одиночный выстрел, прокатившийся необычным эхом в горах. Мы как раз разбирали свое снаряжение и выбрались из блиндажа в тот момент, когда прозвучал еще один выстрел, и один из наших мальчишек отпрянул от бруствера с залитым кровью лицом. Он выстрелил из винтовки, ухитрившись при этом каким-то образом повредить затвор; разорвавшаяся патронная гильза превратила кожу его лица в кровавые лохмотья. Это был наш первый несчастный случай, и что характерно, случившийся по собственной вине.
Днем мы вышли на первое дежурство, и Бенджамин провел нас по лагерю. За бруствером шли узкие траншеи, высеченные из камня, с примитивными амбразурами из наваленного грудой известняка. В разных точках траншей и у бруствера стояли на охране двенадцать часовых. Траншеи были обнесены колючей проволокой, дальше склон уходил в бездонную по виду пропасть. Впереди были голые скалы, местами – отвесные, на этих холодных и серых камнях отсутствовала всякая жизнь, даже птицы сюда не залетали. Я внимательно всматривался вдаль сквозь амбразуру, стараясь увидеть фашистские траншеи.
– А где неприятель?
Бенджамин возбужденно махнул рукой: «Вон там». (Он говорил по-английски, но с ужасным произношением.)
– Где же?
Согласно моим представлениям об окопной войне, вражеские траншеи должны находиться в пятидесяти-ста ярдах. Однако я ничего не видел – похоже, фашисты удачно замаскировали траншеи. Но тут, к своему ужасу, я увидел место, куда указывал Бенджамин: на противоположной вершине, по другую сторону ущелья, в семистах метрах по меньшей мере, слабо вырисовывалось огороженное место с красно-желтым флагом. То была «позиция» фашистов. Трудно описать мое разочарование. Мы были так далеко друг от друга! На таком расстоянии наши винтовки были ненужным балластом. В этот момент раздались восторженные крики. Два фашиста, казавшиеся на большом расстоянии крохотными серыми фигурками, карабкались по голому каменистому откосу. Бенджамин выхватил у стоявшего рядом бойца винтовку, прицелился и нажал на курок. Щелк! Осечка. Я счел это плохим предзнаменованием.
Стоило новым часовым оказаться в траншее, как они тут же стали палить наугад, как сумасшедшие. Мне было видно, как фашисты, казавшиеся с моего места мелкими букашками, осторожно перемещаются за ограждениями, иногда на мгновение голова одного из них черной точкой безрассудно высовывалась наружу. Однако стрелять было бессмысленно. Через какое-то время часовой слева от меня, бросив в типично испанской манере свой пост, украдкой приблизился ко мне и стал уговаривать открыть стрельбу. Я постарался объяснить ему, что на таком расстоянии, учитывая состояние наших винтовок, попасть в человека можно только случайно. Но этот ребенок продолжал указывать ружьем на одну из точек, нетерпеливо скаля при этом зубы, как собака, ждущая, чтобы ей бросили камешек. В конце концов я прицелился и выстрелил. Черная точка исчезла. Надеюсь, пуля пролетела рядом и боец успел отскочить. Впервые в жизни я разрядил ружье в человека.
Теперь, ознакомившись с положением на фронте, я испытал глубокое отвращение. И это называется войной! У нас практически не было контакта с неприятелем. Я даже не пытался укрыться за ограждением. Однако вскоре пуля со злобным свистом пролетела у моего уха и ударилась в тыльный траверс. Увы! Я мгновенно пригнулся. Всю жизнь я клялся, что не стану кланяться пулям, но инстинктивно поступил именно так, как поступает большинство из нас – по крайней мере, в первый раз.
Глава 3
В окопной войне есть пять вещей, без которых не обойтись: дрова, провизия, табак, свечи и неприятель. Зимой на Сарагосском фронте они были нужны именно в такой последовательности – враг стоял на последнем месте. Неприятеля никто не опасался – разве что ночью, когда можно предположить неожиданное нападение. Враги были какими-то далекими черными букашками, перемещения которых иногда замечаешь. Обе армии были озабочены одним – как бы не замерзнуть.
Должен признаться, что за все проведенное мною в Испании время я видел мало сражений. Я находился в Арагоне с января по май, и с января до конца марта на фронте почти ничего не происходило, за исключением битвы при Теруэле. В марте ожесточенные бои шли в районе Уэски, но лично я принимал в них мало участия. Позднее, в июне, было гибельное наступление националистов на Уэску, когда за один день полегло несколько тысяч человек, но я был ранен еще до этого и полностью недееспособен. Так что то, что обычно называют «ужасами войны», почти не коснулось меня. Рядом со мной не разрывалась сброшенная с самолета бомба, и вообще ни одна бомба не падала ближе пятидесяти ярдов. Только раз я участвовал в рукопашном бою (но, признаюсь, и это слишком много). Конечно, я часто попадал под интенсивный пулеметный обстрел, но обычно находясь на отдаленной позиции. Даже в Уэске можно было уцелеть, если сражаться с умом.
Но здесь, в горах под Сарагосой, царили скука и прочие неудобства позиционной войны. Жизнь без особенных происшествий – как у городского клерка и такая же размеренная. Караульная служба, патрулирование, земляные работы – и в обратном порядке: земляные работы, патрулирование, караульная служба. И так на каждой вершине. Будь то фашисты или лоялисты, и те и другие были всего лишь кучкой оборванных, грязных мужчин, которые тряслись от холода рядом со своим флагом, изо всех сил стараясь согреться. И днем и ночью над горной долиной шла бессмысленная перестрелка, но пуля лишь по чистой, почти неправдоподобной случайности могла кого-то ранить.
Часто, глядя на унылый пейзаж, я поражался, насколько все бессмысленно. К чему приведет такая война! Раньше, где-то в октябре, за эти горы жестоко бились, а затем из-за недостатка людей и оружия, особенно артиллерии, крупные операции стали невозможны, и армии окопались, заняв отбитые ими вершины. Справа от нас был небольшой аванпост, тоже от ПОУМ, а слева – на отроге горы занимала место «позиция» ПСУК[13] – как раз напротив вершины с несколькими фашистскими укреплениями. Так называемая линия фронта шла зигзагами, и путь ее остался бы загадкой, если бы над «позициями» не развевались флаги. У ПОУМ и ПСУК они были красного цвета, у анархистов – черно-красные, у фашистов обычно – цвета монархистского флага (красный-желтый-красный), но иногда и Республики (красный-желтый-фиолетовый).
От красоты горных видов захватывало дух, если, конечно, удавалось отрешиться от того, что на каждой вершине военное укрепление и, следовательно, все вокруг загажено консервными банками и засохшими экскрементами. Справа от нас горная цепь отклонялась к юго-востоку и там уступала место широкой долине, которая тянулась до Уэски. Посреди долины были разбросаны маленькие кубики, словно кто-то играл в кости, – то был городок Робрес, занятый фашистами. Часто по утрам долину затягивал туман, из которого прорывались наружу плоские голубые вершины, что придавало пейзажу странное сходство с фотографическим негативом. За Уэской тоже были горы – той же формации, что и наши; испещренные полосами снега, они каждый день выглядели по-новому. А еще дальше, будто из ниоткуда, выступали огромные остроконечные вершины Пиренеев, где снег не тает никогда. Но даже внизу в долине все казалось мертвым и голым. Горы напротив были в серых складках, как кожа слона. И мне кажется, что я не бывал раньше в местах, где так мало птиц. Чаще всего здесь видишь сорок и стайки куропаток (они могут испугать ночью неожиданным стрекотом) и очень редко – орлов, медленно парящих над горами и никогда не обращавших внимания на посылаемые им вслед пули.
По ночам и в туманную погоду в низине между нашим расположением и фашистским лагерем ввели обязательное патрулирование. Это дежурство не пользовалось популярностью: ночью холодно, можно заблудиться, и вскоре я понял, что могу ходить в ночной дозор сколь угодно часто. Никаких проходов и тропинок в неровных скалистых спусках не было, и каждый раз приходилось искать новый путь, полагаясь на везение. По прямой между нашей и вражеской «позициями» было семьсот метров, но реальный путь был не меньше полутора миль. Мне доставляло удовольствие бродить по темной долине, слыша, как наверху со свистом проносятся шальные пули. Но еще больше мне нравилось патрулировать в густой туман, который часто на целый день зависал в горах. Обычно он опутывал вершины, оставляя долину свободной. Оказавшись вблизи от фашистского лагеря, приходилось красться по-змеиному: по этим склонам меж трещавших веток кустарника и шуршавшего известняка очень трудно передвигаться бесшумно. Только с третьей или четвертой попытки мне удалось нащупать путь к фашистскому лагерю. Туман был очень густой, и я подполз к колючей проволоке и прислушался. Фашисты разговаривали между собой и пели. Потом, к своему ужасу, я услышал, как несколько человек спускаются по склону в мою сторону. Укрывшись за кустом, который в тот момент казался мне слишком низким, я постарался, как можно тише, взвести курок. Но фашисты свернули и прошли стороной. За кустом, где я прятался, оказались вещественные доказательства недавней битвы – горка пустых гильз, простреленная кожаная кепка и красный флаг – явно из нашего лагеря. Я отнес его на «позицию», где без лишних сентиментальностей его порвали на тряпки.
Как только мы попали на фронт, меня произвели в капралы, и теперь под моим началом была группа из двенадцати человек. Назвать синекурой эту должность было нельзя, особенно поначалу. Наша центурия представляла собой необученное сборище людей, преимущественно тинейджеров. В ополчении часто встречаешь детей одиннадцати-двенадцати лет, обычно из числа беженцев с фашистской территории, которых записали в милицию ради хлеба насущного. Как правило, их использовали на легкой работе в тылу, но иногда им удавалось просочиться на фронт, где они представляли реальную угрозу. Помнится, один недоумок бросил ручную гранату в огонь, разведенный в блиндаже. «Ради шутки», – оправдывался он. Не думаю, что в Монте-Посеро был кто-то моложе пятнадцати, однако средний возраст все же не дотягивал до двадцати. Юношей такого возраста нельзя пускать на фронт: они не переносят постоянного недосыпа, всегда сопутствующего окопной войне. Первое время охранять нашу «позицию» ночью было поистине невозможно. Несчастных детей из моей группы можно было разбудить только одним способом – вытаскивать из блиндажа за ноги. Но стоило повернуться к ним спиной, и они бросали свой пост в поисках укрытия или даже, несмотря на жуткий холод, прислонялись к стене траншеи и мгновенно засыпали. К счастью, наши враги были совсем непредприимчивыми. Были ночи, когда мне казалось, что наш лагерь могут захватить двадцать юных бойскаутов с пневматическими пистолетами или двадцать герлскаутов с колотушками.
В это время и много позже каталонская милиция по-прежнему действовала исходя из принципов, заложенных в начале войны. В первые дни поднятого Франко мятежа различные профсоюзы и политические партии поспешно создали милицейские отряды; каждый отряд был в основе тоже политической организацией, лояльной как к своей партии, так и к центральному правительству. Когда в начале 1937 года была сформирована Народная армия, бывшая как бы «вне политики» и организованная на более или менее обычных принципах, партийные милицейские отряды теоретически должны были в нее влиться. Но довольно долго эти изменения существовали только на бумаге; войска Народной армии вступили на земли Арагона не раньше июня, и до этого структура ополчения оставалась неизменной. Главным принципом в ней было социальное равенство офицеров и солдат. Все – от генерала до рядового – получали одинаковое жалованье, питались с одного стола, носили одну форму и по-приятельски держались друг с другом. При желании вы могли хлопнуть по спине командующего дивизией и попросить сигарету, и это никого бы не удивило. Хотя бы теоретически ополчение было демократической, а не иерархической структурой. Было ясно, что приказы надо исполнять, но было также ясно, что даются они товарищем товарищу, а не вышестоящим офицером – подчиненному. Были старшие и младшие офицеры, но воинских градаций в привычном смысле не было – ни званий, ни знаков отличия, ни щелканья каблуками, ни отдания чести. Была предпринята попытка создать внутри ополчения что-то вроде временной рабочей модели бесклассового общества. Конечно, абсолютного равенства ополченцы не достигли, но лучшего я не видел и не думал, что такое возможно в условиях войны.
Но признаюсь, сначала положение дел на фронте меня ужаснуло. Как такая армия может выиграть войну? Тогда все так думали, и хотя дела так и обстояли, критика была все же неразумной. При сложившихся обстоятельствах ополчение не могло быть лучше. Современная, хорошо оснащенная армия не возникает ниоткуда, и если бы правительство дожидалось, когда в его распоряжении окажутся хорошо обученные войска, противостоять Франко было бы некому. Позже стало модно порицать ополчение, утверждая, что всему виной не отсутствие должной тренировки и недостаток оружия, а система уравниловки и панибратства. Действительно, новый набор в милиционные войска состоял из недисциплинированных солдат, но не потому, что офицеры называли рядовых «товарищами», а потому, что любые новобранцы всегда необученное сборище. На практике демократический, «революционный» тип дисциплины более надежен, чем можно ожидать. Теоретически в рабочей армии дисциплина держится на добровольных началах. В ее основе – классовая солидарность, в то время как дисциплина в буржуазной армии, комплектуемой по призыву, держится в конечном счете на страхе. (Заменившая ополчение Народная армия стала чем-то средним между двумя этими типами.) В ополчении угрозы и оскорбления, типичные для обычной армии, невозможны. Ординарные военные наказания существуют, но они применяются только при очень серьезных проступках. Если ополченец отказывается выполнять приказ, его не сразу наказывают, а сначала убеждают в необходимости такого поступка во имя товарищества. Циничные люди без всякого опыта руководства людьми тут же заявляют, что это «не сработает», однако «работает», пусть и не сразу. Даже в самых худших наборах дисциплина со временем улучшалась. В январе, когда мне пришлось доводить до должного уровня двенадцать новобранцев, я чуть не поседел. В мае какое-то время я исполнял обязанности лейтенанта, под началом которого было около тридцати человек – англичан и испанцев. Мы месяцами находились под огнем противника, и все это время я не испытывал ни малейших трудностей, добиваясь исполнения приказа или в поиске добровольцев на трудное задание. «Революционная» дисциплина зависит от политической сознательности – от понимания, почему отдаются именно эти приказы и почему им надо подчиняться. Чтобы добиться этого, нужно время, но оно требуется и для муштровки на плацу. Журналисты, иронизирующие над ополчением, редко вспоминают, что именно милиция сдерживала наступление врага в то время, когда Народная армия вела учения в тылу. Надо отдать должное силе «революционной» дисциплины ополченцев, не покидавших поле сражения. Потому что примерно до июня 1937 года ничего, кроме классовой солидарности, их там не удерживало. Отдельных дезертиров можно было расстрелять – что и делалось время от времени, но если бы тысяча человек решила одновременно покинуть поле боя, никакая сила этому бы не помешала. Регулярная армия в подобных обстоятельствах – при отсутствии военной полиции – просто бы разбежалась. А вот ополченцы не разбежались, хотя и одержали мало побед, и дезертирство среди них было редким явлением. За четыре или пять месяцев моего пребывания в ПОУМ я слышал только о четырех дезертирах, причем двое из них почти наверняка были шпионами, засланными для получения информации. На первых порах очевидный беспорядок, необученность состава, необходимость по много раз повторять приказ, прежде чем его исполнят, доводили меня до бешенства. Я привык к порядкам в английской армии, а испанское ополчение сильно отличалось от нее. Но опять же, учитывая обстоятельства, они воевали лучше, чем можно было ожидать.
Между тем дрова – всегда дрова. Если открыть мой дневник за этот период времени, всегда найдешь запись о дровах или, скорее, об их отсутствии. Мы находились где-то между двумя и тремя тысячами футов над уровнем моря, стояла зима, и холод был зверский. Температура особенно низко не опускалась, и заморозки были далеко не каждую ночь, а в середине дня частенько выходило на час зимнее солнце. Но даже если объективно холодно не было, уверяю, казалось, что это именно так. Иногда дули резкие ветры, они срывали головные уборы и трепали волосы; иногда опускались туманы и словно растекались по траншее, до мозга костей пронизывая нас; часто шел дождь, и тогда даже четверти часа хватало, чтобы сделать жизнь невыносимой. Тонкий слой земли поверх известняка становился скользким, словно его смазали жиром, и, спускаясь по склону, невозможно было удержаться на ногах. Темными вечерами я умудрялся несколько раз упасть на протяжении двадцати ярдов, и это было опасно – ведь можно забить грязью запор ружья. В течение нескольких дней наша одежда, ботинки, одеяла и ружья были заляпаны грязью. Я захватил с собой столько теплой одежды, сколько смог унести, но у многих с этим было туго. На целый гарнизон из ста человек было всего двенадцать шинелей, они переходили от часового к часовому, и у большинства бойцов было всего по одному одеялу. Одной холодной ночью я внес в свой журнал список взятой с собой одежды. Это представляет интерес, так как показывает, как много всего можно напялить на человеческое тело. Я носил теплое белье и кальсоны, фланелевую рубашку, два свитера, шерстяную куртку, кожаную куртку, вельветовые брюки, портянки, толстые носки, ботинки, плотный плащ, теплый шарф, кожаные рукавицы и шерстяную шапку. И все равно ужасно мерз. Правда, признаюсь, я плохо переношу холод.
Главным для нас были дрова. Все упиралось в то, что достать их было практически негде. Наша жалкая гора и в лучшие времена не отличалась обильной растительностью, а когда несколько месяцев назад ею завладели замерзающие ополченцы, все древесное, что было толще пальца, быстро сожгли. Если мы не ели, не спали, не дежурили и не были заняты хозяйственной деятельностью, то искали в долине за лагерем что-нибудь на топку. Из этого времени я помню только лазание по почти отвесным известняковым склонам, что вдрызг изнашивало ботинки, в жадных поисках даже тоненьких веточек. За пару часов трое мужчин могли набрать топлива на почти часовой обогрев блиндажа. Страстные поиски всего древесного превратили нас в ботаников. Каждое растение мы оценивали прежде всего по его способности давать тепло. Растения из семейства вересковых и разные травы хороши для растопки, но сами сгорали за считаные минуты; дикий розмарин и мелкие кустики утесника поддерживали разгоревшийся огонь; карликовые дубки, меньше куста крыжовника, практически не горели. Замечательно разводить огонь сухим камышом, но он рос только на вершине слева от нашего лагеря, а добираясь туда, можно было попасть под огонь противника. Если фашистские пулеметчики замечали тебя, то осыпали градом пуль. Обычно они целились высоко, и пули пролетали над головой, словно птицы, но иногда они с треском ударяли в известняк и даже откалывали куски в непосредственной от тебя близости, так что приходилось припадать к камню лицом. И все же поиски камыша не прекращались – ничто не могло укротить желание согреться.
В сравнении с холодом все остальные неудобства отступали на второй план. Конечно, все мы были постоянно грязные. Воду, как и провизию, привозили на мулах из Алькубьерре, и на каждого человека приходилось около кварты в день. Вода была отвратительная, вряд ли прозрачнее молока. Теоретически она предназначалась только для питья, но я всегда похищал мисочку воды для умывания. Один день я умывался, на другой – брился. Одновременно сделать это было нельзя. По лагерю разносилась омерзительная вонь, а за бруствером все было загажено. Некоторые ополченцы регулярно испражнялись прямо в траншее, и ходить в темноте возле таких кучек было неприятно. Но к грязи я относился в целом терпимо. Люди придают чистоте слишком большое значение. Удивительно, как быстро привыкаешь обходиться без носового платка и есть из миски, которую используешь также и для умывания. Через пару дней не составляет труда и спать в одежде. Ведь невозможно раздеться и тем более снять ботинки, если знаешь, что в случае атаки тебя разбудят ночью. За восемьдесят ночей я снимал верхнюю одежду лишь три раза, зато иногда мне удавалось раздеваться днем. Для вшей было еще холодновато, но крысы и мыши имелись в большом количестве. Принято считать, что крысы и мыши не водятся в одном месте, но, поверьте, водятся, если пищи хватает на тех и других.
В других отношениях нам жилось не так уж и плохо. Кормили нас прилично, и вина было вдоволь. Сигареты по-прежнему выдавали по пачке в день, спички – через день, и мы даже получали свечки. Они, правда, были тонюсенькие, как на рождественском пироге, и мы предположили, что их умыкнули из церкви. Каждому блиндажу отпускали ежедневно трехдюймовую свечу, которая сгорала примерно за двадцать минут. В то время еще была возможность покупать свечи, и я закупил несколько фунтов. Позже нехватка спичек и свечей превратили жизнь в ад. Трудно осознать важность таких вещей, пока они есть. Например, когда бойцов поднимают по тревоге и каждый пытается нащупать свою винтовку, наступая при этом на лицо соседа, зажженная спичка может спасти жизнь. Каждый ополченец имел при себе трут и несколько ярдов фитиля, смазанного горючим веществом. После винтовки это была самая необходимая вещь. Преимущество этого устройства в том, что его можно зажечь при ветре, однако он только тлеет, и костер с его помощью разжечь нельзя. Когда спички на исходе, единственный способ добыть огонь заключается в том, чтобы извлечь порох из патрона и дотронуться до него тлеющим фитилем.
Мы вели странную жизнь – странную жизнь на войне, если это можно назвать войной. Ополченцы громко выражали недовольство бездействием и желали знать, почему им не разрешают перейти в наступление. Однако было абсолютно ясно, что сражения не будет еще долго, если только его не начнет неприятель. При очередном инспектировании Джордж Копп был откровенен с нами: «Это не война… Это комическая опера с редкими смертельными случаями». Кстати, у затишья на Арагонском фронте были политические причины, о которых я ничего в то время не знал, хотя чисто военные трудности – не связанные с малочисленностью ополченцев – были очевидны каждому.
Начать с природы страны. Передовые позиции – и наши, и фашистов – находились в местах малодоступных, подобраться к ним можно было, как правило, только с одной стороны. А если еще выкопать траншеи, то такие места станут и вовсе недоступны для пехоты – разве что количество бойцов будет несметным. С нашей позиции, как и со многих других по соседству, дюжина ополченцев с двумя пулеметами смогла бы противостоять целому батальону. Торча на вершинах гор, мы могли бы стать легкой добычей для артиллерии, но никакой артиллерии не было и в помине. Иногда я окидывал взором пейзаж и мечтал – и как страстно! – о парочке пушек. Тогда мы могли бы уничтожить вражеские позиции одну за другой с той же легкостью, с какой разбиваем молотком орехи. Но пушек не было. Фашистам иногда удавалось привезти из Сарагосы пушку или даже две и выпустить по нам несколько снарядов, но снарядов было мало, фашисты не успевали пристреляться, и снаряды, не причинив нам вреда, падали в пропасть.
Против неприятельских пулеметов, не имея артиллерии, было три способа противостояния: окопаться на безопасном расстоянии – примерно в четырехстах футах; пойти в открытое наступление и сложить головы; или время от времени делать ночные вылазки, что не изменит общую ситуацию. Собственно, альтернатива была: бездействие или самоубийство.
Помимо этого, у нас почти полностью отсутствовало военное снаряжение. Трудно вообразить, насколько плохо в то время было вооружено ополчение. Любое военное училище в Англии больше похоже на современную армию, чем ополчение ПОУМ. Убожество нашего оружия было столь вопиющим, что заслуживает подробного рассказа.
На нашем участке фронта вся артиллерия сводилась к четырем минометам с пятнадцатью снарядами для каждого орудия. Но слишком дорогие, чтобы из них стрелять, все они хранились в Алькубьерре. На пятьдесят человек приходилось примерно по одному пулемету, все достаточно старые, но на триста-четыреста метров стреляли достаточно точно. Кроме этого, были только винтовки, и все по большей части – железный лом. В употреблении находились три типа винтовок. Во-первых, «длинный маузер». Редко встречались экземпляры «маузера» не старше двадцати лет, польза от прицела у них была – как от сломанного спидометра; кроме того, большинство винтовок безнадежно проржавело, и, по сути, только одна из десяти на что-то годилась.
Был еще «короткий маузер», или «мушкетон», оружие, преимущественно применявшееся в кавалерии. Эта винтовка пользовалась большой популярностью: она меньше весила, не мешала в траншее, была относительно новой и выглядела надежнее. Но на самом деле она была почти бесполезна. Винтовка состояла из повторно собранных частей, ни один затвор не подходил к ней идеально, и у трех четвертей стрелявших после пяти выстрелов ее заклинивало.
Было также несколько «винчестеров». Из них приятно стрелять, но они отличаются неточностью, а так как обойма в них не предусмотрена, то за раз можно сделать лишь один выстрел. Боеприпасов было так мало, что каждому бойцу на линии фронта выдавали по пятьдесят патронов, и большинство из них ни к черту не годилось. Вторично заправленные испанские патроны могли испортить даже отличную винтовку. Мексиканские были лучше, и потому их берегли для пулеметов. Отличные немецкие боеприпасы поступали к нам только от пленных и дезертиров, так что их было немного. Я всегда хранил при себе на крайний случай обойму немецких или мексиканских патронов. Но на практике в критическом положении я редко стрелял – боялся, что чертова штуковина откажет, а еще стремился сберечь хоть один патрон, который выстрелит.
У нас не было касок, штыков, револьверов или пистолетов, граната была одна на пять-десять человек. Эта граната, известная как ФАИ-граната[14], внушала ужас в действии; создали ее анархисты в самом начале войны. В ее основе лежал принцип гранаты Миллса, только рукоятка удерживалась не чекой, а лентой. Вы разрывали ленту, и тут надо было как можно быстрее отделаться от гранаты. Эти гранаты называли «справедливыми»: они убивали не только того, в кого их бросали, но и того, кто бросал. Существовали и другие типы гранат, они были примитивнее, но не такие опасные – для гранатометчика, я имею в виду. Только в конце марта я увидел нормальную гранату.
Но помимо оружия, у ополченцев не хватало и других – пусть и не столь важных – вещей, необходимых на войне. Например, у нас не было карт или чертежей. В Испании никогда не проводили полноценную топографическую съемку, и единственная детальная картина этой местности была на старых военных картах, почти все из которых находились в руках фашистов. У нас не было ни дальномеров, ни подзорных труб, ни перископов, ни полевых биноклей (кроме нескольких частных), ни сигнальных ракет Вери, ни проволокореза, ни прочих инструментов оружейников, даже чистящих средств в нужном количестве не было. Испанцы, похоже, никогда не слышали о шомполе и с удивлением смотрели на то, что я соорудил. А так, чтобы почистить винтовку, надо было отдать ее сержанту, тот чистил ее длинным латунным пробойником, который был всегда погнут и царапал нарезы. Отсутствовало даже ружейное масло. Если оказывалось под рукой оливковое, я смазывал ружье им, а в другое время прибегал к вазелину, кольдкрему и даже к свиному салу. Кроме того, у нас не было фонарей или карманных фонариков – в то время электрические фонарики еще не появились на нашем участке фронта, купить их можно было только в Барселоне, и то с трудом.
Время шло, иногда в горах грохотала бессистемная стрельба, а я со все более возрастающим скептицизмом задавался вопросом: может ли случиться нечто такое, что внесет немного жизни или, скорее, немного смерти в эту странную войну? Мы боролись с пневмонией, а не с неприятелем. Если траншеи расположены в пятистах ярдах друг от друга, убить можно только по случайности. Конечно, бывали несчастные случаи, но в основном по собственной вине. Если не ошибаюсь, первые пять раненых, увиденных мной в Испании, пострадали от собственных ружей – не намеренно, конечно, а по неосторожности или из-за неполадок с оружием. Опасность таилась в самих изношенных винтовках. У некоторых была отвратительная особенность неожиданно выстреливать, если приклад легко задевал землю. Я знал человека, который таким образом прострелил себе руку. А в темноте новобранцы вечно палили друг в друга. Однажды вечером, когда только начинало смеркаться, часовой выстрелил в меня с расстояния двадцати ярдов, но сумел на ярд промахнуться. Один бог знает, сколько раз подобная испанская меткость спасла мне жизнь! В другой день я отправился патрулировать в туманную погоду, обстоятельно предупредив об этом начальника караула. Возвращаясь, я споткнулся о куст, испуганный часовой во весь голос заорал, что на подходе фашисты, и я имел удовольствие услышать, как начальник караула приказал открыть огонь в мою сторону. Естественно, я упал на землю, и пули пролетели надо мной, не причинив вреда. Ничто не может убедить испанца, особенно молодого испанца, что с огнестрельным оружием не шутят. Однажды, много позже, я фотографировал пулеметчиков с их пулеметом, который был нацелен прямо на меня.
– Только, чур, не стрелять, – сказал я шутливо, наводя фотокамеру.
– Конечно, какая может быть стрельба!
Но уже в следующее мгновение раздался страшный грохот, и пули пролетели так близко от моего лица, что частицы кордита обожгли щеку. Выстрел случился непреднамеренно, но пулеметчики сочли это хорошей шуткой. А ведь всего несколько дней назад они были свидетелями, как погонщика мула случайно застрелил партийный представитель, который, дурачась с автоматом, всадил в легкие погонщика пять пуль.
Тогда в армии любили использовать сложные пароли, что тоже представляло некоторую опасность. Это были утомительные двойные пароли, в которых на одно слово надо было отвечать другим. Обычно подбирали слова возвышенного и революционного характера, вроде Cultura – progreso или Seremos – invencibles[15], и часто безграмотным часовым было трудно запомнить эти напыщенные слова. Помнится, одной ночью пароль был Cataluña – eroica[16], и круглолицый крестьянский парень по имени Хайме Доменеч подошел ко мне с озабоченным лицом и попросил объяснить, что означает eroica.
– То же самое, что и valiente[17], – ответил я.
Чуть позже он споткнулся в темноте в траншее и сразу услышал голос часового:
– Alto! Cataluña!
– Valiente! – заорал Хайме, уверенный, что отвечает правильно.
Бах!
Часовой, к счастью, промазал. В этой войне при малейшей возможности все промахиваются.
Глава 4
Я уже провел три недели на передовой, когда ИЛП[18] послала в Испанию группу из двадцати-тридцати человек. Они прибыли в Алькубьерре, и нас с Уильямсом отправили туда же с целью собрать англичан в одно подразделение. Новая «позиция» была в Монте-Оскуро, на несколько миль западнее предыдущей, вблизи Сарагосы.
«Позиция» располагалась высоко, на остром известняковом хребте, а блиндажи тянулись горизонтально по крутому склону, как гнезда береговых ласточек. Внутри глубоко вырытых блиндажей было темно, хоть глаз выколи, а потолки такие низкие, что даже на коленях толком не встать – не то что во весь рост. На вершинах слева от нас стояли еще два лагеря ПОУМ, один являлся предметом зависти всей передовой: там работали поварихами три женщины. Эти женщины не блистали красотой, и все же руководство сочло необходимым поместить этот лагерь подальше от мужчин с других «позиций». В пятистах ярдах справа от нас, у изгиба дороги на Алькубьерре, находился пост ПСУК. Именно там дорога меняла хозяев. Вечерами можно было видеть свет фар грузовиков, везущих нам продовольствие из Алькубьерре, и одновременно свет от фашистских машин, идущих из Сарагосы. Можно было видеть и саму Сарагосу в двенадцати милях к юго-западу – тонкую цепочку огоньков, похожих на святящиеся иллюминаторы парохода. Правительственные войска смотрели на нее отсюда с августа 1936 года, смотрят и теперь.
Нас было около тридцати человек, включая одного испанца (Рамона, шурина Уильямса), и еще дюжина испанских пулеметчиков. За исключением одного-двух неизбежных зануд, всем известно, что война притягивает разных подонков – англичане оказались хорошей командой и в физическом, и в умственном отношении. Пожалуй, лучшим из них был Боб Смилли – внук знаменитого шахтерского лидера, его кончина в Валенсии в более позднее время была тяжелой и бессмысленной. В пользу испанского характера говорит тот факт, что испанцы хорошо ладят с англичанами, несмотря на языковой барьер. Мы выяснили, что все испанцы знают два английских выражения. Одно их них: «о’кей, бэйби», а другое барселонские шлюхи говорят при общении с английскими матросами, боюсь, наборщикам не хватит духу его напечатать.
На линии фронта все по-прежнему было без перемен: только случайные выстрелы и, очень редко, треск фашистских минометов, услышав который все дружно бежали в высоко расположенную траншею, чтобы увидеть, где именно разорвутся снаряды. Теперь враг был немного ближе – на расстоянии трехсот-четырехсот метров. Ближайшее расположение фашистов было как раз напротив нашего, и амбразуры пулеметного гнезда постоянно искушали ополченцев, переводящих на них патроны. Фашисты редко стреляли из винтовок, зато, если кто-то из наших высовывался, целенаправленно били по нему пулеметным огнем. И все же прошло дней десять, а то и больше, прежде чем мы потеряли одного человека. Среди противостоящих нам войск были преимущественно испанцы, но дезертиры доносили, что там есть и несколько немецких сержантов. А еще недавно были и мавры – как, наверное, мучились от холода эти бедолаги! – на ничейной земле лежал убитый мавр, ставший одной из достопримечательностей этой местности. Так мы узнали об их присутствии на фашистской позиции. Слева, в миле или двух от нас, линия фронта прерывалась, там была густо поросшая лесом низина, не принадлежавшая ни нам, ни фашистам. И мы, и они устраивали там дневное патрулирование. Неплохое развлечение в духе бойскаутов, хотя лично я никогда не видел фашистский патруль ближе семисот метров. Впрочем, если долго ползти на животе, можно приблизиться к фашистскому лагерю почти вплотную и даже увидеть фермерский дом с монархистским флагом, где располагался неприятельский штаб. Иногда мы делали по нему несколько выстрелов и быстро уползали в укрытие, чтобы пулеметчики нас не нащупали. Надеюсь, нам удалось разбить несколько окон, однако штаб находился от нас в добрых восьмистах метрах, а с нашими винтовками не было уверенности, что мы на таком расстоянии попадем даже в дом.
Погода по большей части стояла холодная и ясная, иногда в середине дня показывалось солнце, но оно не грело. На склонах то тут, то там проклевывались зеленые побеги диких крокусов или ирисов; весна явно вступала в свои права, но делала это весьма неспешно. Ночи стали холоднее обычного. Выходя на дежурство в предрассветные часы, мы разгребали угли, сохранившиеся от вечернего костра, и вставали на них. Это было плохо для обуви, но хорошо для ног. Иногда великолепное зрелище рассвета в горах побуждало поскорее подняться даже в такое тяжелое время. Я не люблю горы, не люблю даже с живописной точки зрения. Но бывало, что утренняя заря, занимавшаяся позади нас среди горных хребтов, первые узкие золотые лучи, пронзавшие тьму, как мечи, нарастающий свет и наконец карминное море, разливавшееся повсюду, стоили того, чтобы ими любоваться, даже если ты не спал всю ночь, и ноги твои окоченели до колен, и в голове бродили мрачные мысли, что нет никакой надежды на еду, по крайней мере, еще три часа. За время этой войны я встречал восход солнца чаще, чем за всю мою предшествующую жизнь, и, надеюсь, за всю оставшуюся – тоже.
Мы испытывали недостаток в людях, что для всех означало долгие дежурства и приводило к нарастающей усталости. Мне тоже стало не по себе от постоянного недосыпа, чего нельзя избежать даже в военное затишье. Помимо дежурств и патрулирования, по ночам нас постоянно поднимали по тревоге, но даже без этого – разве можно хорошо спать в мерзкой земляной норе, где ноги сводит от холода? За первые три-четыре месяца пребывания на фронте я вряд ли насчитаю больше дюжины дней совсем без сна, но, с другой стороны, ночей, когда бы я спал нормальное время, тоже не больше. Впрочем, результат такого режима не так уж плох, как можно ожидать. Конечно, понемногу тупеешь, лазать по горам становится труднее, но в целом самочувствие хорошее и аппетит пробуждается зверский – еще какой зверский! Вся еда кажется баснословно вкусной – даже неизменная фасоль, которую в Испании все со временем начинают ненавидеть. Воду для нас (если эту жидкость можно назвать водой) привозили издалека на мулах или на маленьких измученных осликах. По непонятной причине арагонские крестьяне хорошо обращались с мулами и отвратительно – с осликами. Если ослик упирался и не шел, считалось обычным делом пнуть его в яички.
К нам перестали поступать свечи, и спички были на исходе. Испанцы научили нас, как из консервных банок с помощью оливкового масла, патронной обоймы и тряпья делать лампы. Когда у тебя было оливковое масло (что случалось не часто), сооруженная конструкция мерцала коптящим пламенем, в четыре раза более тусклым, чем свеча, и все же достаточным, чтобы разглядеть винтовку.
Надежды на настоящее сражение почти не осталось. Когда мы уходили из Монте-Посеро, я пересчитал оставшиеся патроны и выяснил, что почти за три недели выстрелил по врагу всего три раза. Считается, что на убийство одного человека нужна тысяча пуль; выходит, мне с такой скоростью потребуется двадцать лет, чтобы уложить моего первого фашиста. В Монте-Оскуро мы стояли ближе к неприятелю и стреляли чаще, но я нисколько не сомневаюсь, что ни в кого не попал. Откровенно говоря, на этом участке фронта и на этом этапе войны реальным оружием была не винтовка, а мегафон. При невозможности убить врага оставалось только его ругать. Этот метод ведения войны настолько необычен, что на нем стоит остановиться подробнее.
Расстояние между позициями позволяло докричаться друг до друга, и поэтому перекличка между траншеями была довольно интенсивная. «Fascistas – maricones!» — неслось из нашей. «Viva España! Viva Franco!»[19] – отвечали фашисты, а узнав, что среди ополченцев есть англичане, прибавляли: «Англичане, катитесь домой! Нам здесь иностранцы не нужны». В правительственном лагере стали регулярно устраиваться сеансы пропагандистского ора с целью подорвать моральные устои противника. При каждом подходящем случае бойцы, обычно пулеметчики, выбирались для исполнения этого долга и обеспечивались мегафонами. Обычно они выкрикивали заранее составленные тексты, полные революционного задора, где говорилось, что солдаты, воюющие за фашистов, – наемники международного капитализма, идущие против собственного класса, и так далее. Солдат призывали перейти на нашу сторону. Все это повторялось изо дня в день, одни люди сменяли других, иногда агитация продолжалась и ночью. Несомненно, это давало некоторый результат, все соглашались, что тонкая струйка дезертиров из фашистского лагеря частично проистекала из этого источника. Представьте себе замерзающего на посту несчастного часового – возможно, социалиста или анархиста, призванного на военную службу против его воли, – несущийся из темноты призыв «Не иди против своего класса!» не может не произвести на него впечатления. Встанет вопрос: дезертировать или нет? Но подобные действия не вписываются в английскую концепцию ведения войны. Признаюсь, я сам был в шоке. Не драться с врагом, а переманивать на свою сторону – каково! Теперь я думаю, что это был вполне разумный маневр. В окопной войне, не имея артиллерии, трудно нанести неприятелю удар, не получив в ответ такой же. Если можно вывести какое-то число людей из военных действий, склонив их к дезертирству, тем лучше: дезертиры полезнее трупов – они дают нужную информацию. Но поначалу такой подход смутил нас, нам казалось, что испанцы недостаточно серьезно относятся к своей войне. Большим артистом в деле переклички оказался один из бойцов ПСУК. Вместо простого выкрикивания революционных лозунгов он начинал рассказывать фашистам, насколько лучше мы питаемся. Наш рацион при этом он заметно приукрашивал. «Хлеб с маслом!» – гремел в пустом пространстве его голос. «У нас хлеб с маслом не переводится. Такие аппетитные бутерброды с маслом!» Не сомневаюсь, что он, как и все мы, неделями, а то и месяцами не видел масла, но в эту холодную ночь не у одного фашиста слюнки потекли при мысли о хлебе с маслом. Потекли они и у меня, хотя я и знал, что он лжет.
Однажды в феврале мы увидели в небе фашистский аэроплан. Как положено, вытащили наружу пулемет, задрали дуло, а сами легли на спину, чтобы лучше видеть цель. На наше изолированное от других укрепление не стоило тратить бомбы, и потому редкие фашистские аэропланы обходили нас стороной, чтобы не попасть под пулеметный обстрел. Но в этот раз аэроплан пролетел прямо над нами на достаточной, недосягаемой для пулеметов высоте, и из него посыпались не бомбы, а белые блестящие листочки, крутящиеся на ветру. Несколько упало рядом с нами. Это были экземпляры фашистской газеты «Херальдо де Арагон», в которой сообщалось о сдаче Малаги.
Той ночью фашисты предприняли неудавшуюся атаку. Я, полумертвый от усталости, как раз валился спать, когда над головой засвистели пули и кто-то крикнул, заглянув в блиндаж: «Нас атакуют!» Я схватил винтовку и помчался на свой пост, находившийся на вершине укрепления рядом с пулеметом. Кромешную тьму разрывал адский шум. Думаю, в нас палили из пяти пулеметов, не меньше, и еще разорвалось несколько бомб, глупейшим образом брошенных фашистами за свои брустверы. Был полный мрак. В долине слева от нас я видел зеленоватые вспышки ружейных выстрелов, там небольшая группа фашистов, возможно, совершавших патрулирование, тоже примкнула к атаке. Вокруг в темноте со свистом пролетали пули. Несколько снарядов упали недалеко от нас, но никого не задели, и, что типично для этой войны, большинство из них не разорвалось. Однако мне стало не по себе, когда в нашем тылу сверху заработал еще один пулемет – впоследствии оказалось, что его доставили, чтобы нас поддержать, но тогда я решил, что мы в окружении. В результате наш пулемет заело, что происходило всегда, когда мы стреляли нашими испорченными патронами, а шомпол затерялся в темноте. Оставалось одно: неподвижно стоять и ждать, когда тебя пристрелят. Испанские пулеметчики считали ниже своего достоинства прятаться от пуль, более того, они сознательно открывались, и мне приходилось вести себя так же. Эта перестрелка была для меня интересным опытом. Строго говоря, я впервые оказался под огнем и, к своему стыду, здорово перепугался. Я заметил, что под сильным огнем такие ощущения переживаешь всегда – не столько оттого, что тебя могут ранить, сколько оттого, что не знаешь, куда именно тебя ранят. Из-за того, что ты постоянно думаешь, куда угодит пуля, твое тело обретает какую-то неприятную чувствительность.
Часа через два стрельба уменьшилась и вскоре совсем прекратилась. За это время мы потеряли одного бойца. Фашисты вытащили пару пулеметов на ничейную землю, но сохраняли достаточную дистанцию и не предпринимали попыток брать штурмом наши окопы. То, что происходило, даже нельзя было назвать атакой, они просто переводили патроны и шумно кричали, празднуя взятие Малаги. Главное, что извлек я из этого происшествия: надо недоверчиво относиться к военным новостям в прессе. Ведь через пару дней в газетах и по радио сообщили о грандиозной атаке с кавалерией и танками (это по отвесному-то горному склону!), которую отбили геройские англичане.
Мы не поверили фашистским листовкам, говорившим о падении Малаги, но на следующий день эти сведения пришли из более достоверных источников, а дня через два их признали официально. Мало-помалу стала известна вся постыдная история: город был сдан без единого выстрела, и ярость вошедших в город итальянцев обрушилась не на покинувших город солдат, а на несчастное мирное население – некоторых преследовали и обстреливали на протяжении сотни миль. Эта новость вызвала негодование на передовой. Неизвестно, что произошло на самом деле, но все в ополчении не сомневались, что тут не обошлось без предательства. Так я впервые услышал о возможных предательствах и внутренних разногласиях. Это посеяло в моем сознании первые смутные сомнения относительно этой войны, хотя до этого казалось абсолютно ясным, кто прав, а кто виноват.
Мы покинули Монте-Оскуро в середине февраля, откуда вместе с остальными частями ПОУМ отправились в распоряжение армии, окружившей Уэску. Пятьдесят миль нас везли в грузовиках по неприветливой равнине, где подрезанные виноградные лозы еще не пустили почки, а побеги озимого ячменя только пробивались сквозь комковатую почву. В четырех километрах от наших новых траншей сверкала и переливалась Уэска, словно маленький кукольный городок. Несколькими месяцами раньше, когда взяли Сиетамо, генерал, командующий правительственными войсками, весело пообещал: «Завтра мы будем пить кофе в Уэске». Но вышло так, что он ошибся. В многочисленных атаках было пролито море крови, но город так и не пал, а фраза «Завтра будем пить кофе в Уэске» стала у армейских притчей в языцех. Если когда-нибудь еще поеду в Испанию, обязательно выпью чашечку кофе в Уэске.
Глава 5
До конца марта к востоку от Уэски ничего не происходило – почти в буквальном смысле слова. От врага мы находились примерно в километре и двухстах метрах. Когда фашистов загнали в Уэску, республиканская армия, удерживающая эту часть линии фронта, не проявляла особого усердия в наступлении, образовав своего рода карман. Позднее ей пришлось-таки перейти в наступление – нелегкое дело под огнем противника, – но пока враг будто не существовал, нас больше заботило, как бы согреться и хорошо поесть. В этот период происходили очень интересные для меня вещи, и я расскажу о них чуть позже. Но сейчас, если я попытаюсь дать представление о внутренней политической ситуации в республиканской среде, это поможет точнее передать порядок событий.
Поначалу я игнорировал политическую сторону войны, и только потом она привлекла мое внимание. Если вам не интересны кошмары партийной политики, пожалуйста, пропустите этот кусок. Именно из таких соображений я стараюсь выделить политические размышления в отдельные главы. Но в то же время невозможно писать об испанской войне только с армейской точки зрения. Прежде всего это была политическая война. Ни одно событие в ней – во всяком случае, в течение первого года – не будет понятно, если не принимать во внимание внутрипартийную борьбу в правительственных кругах.
Приехав в Испанию, я какое-то время не то что не интересовался политической ситуацией, а вообще ничего о ней не знал. Идет война – вот все, что мне было известно, и я понятия не имел, что это за война. Если б меня спросили, с какой целью я вступил в ополчение, я бы ответил: «Бороться с фашизмом», а если б поинтересовались, за что именно я воюю, ответил бы: «За общее благо». Я принял версию изданий «Ньюс кроникл» и «Нью стейтсмен», где говорилось, что идет борьба за цивилизацию с маньяками-мятежниками во главе с полковником Блимпом[20], действующим по указке Гитлера. Революционная атмосфера Барселоны меня захватила, но я не предпринял никаких попыток разобраться в ситуации. Меня правда несколько раздражал калейдоскоп политических партий и профсоюзов со скучными названиями – ПСУК, ПОУМ, ФАИ, СНТ[21], УГТ[22], ХСИ, ХСУ, АЛТ. На первый взгляд казалось, что Испания помешана на аббревиатурах. Я знал, что состою в объединении ПОУМ (в это ополчение я вступил, потому что прибыл в Барселону с рекомендациями от лейбористской партии), но даже не подозревал, что между политическими партиями республиканцев есть серьезные расхождения. В Монте-Посеро мои сподвижники сказали, указывая на «позицию» слева от нас: «Там социалисты». «А разве мы все не социалисты?» – озадаченно спросил я. Мне казалось большой глупостью, что люди, рискующие своей жизнью, принадлежат к разным партиям. «Почему бы не оставить этот политический треп и не сосредоточиться целиком на войне?» Эта общепризнанная антифашистская позиция усердно распространялась английскими газетами главным образом для того, чтобы люди не задумывались над подлинной природой этой борьбы. Но в Испании, особенно в Каталонии, такую позицию нельзя было поддерживать бесконечно долго. Каждый, пусть и против своего желания, в конце концов принимал какую-нибудь сторону. Ведь даже если тебе безразличны разные политические партии и их несовместимые линии, нельзя не понимать, что в их противостояние вовлечена и твоя судьба. Будучи ополченцем, ты воюешь против Франко и в то же время являешься пешкой в борьбе двух политических теорий. Когда я выискивал дрова на горном склоне, задаваясь вопросом, действительно ли идет война или все это измышления «Ньюс кроникл», или увертывался от пулеметных очередей коммунистов во время беспорядков в Барселоне, или бежал из Испании, преследуемый полицией, – все это происходило со мной, потому что я был ополченцем ПОУМ, а не ПСУК. Вот какова разница между двумя аббревиатурами!
Чтобы понять расстановку сил в республиканском лагере, надо вспомнить начало войны. Когда она вспыхнула 18 июля, каждый европейский антифашист почувствовал прилив надежды. Наконец демократия преградила путь фашизму. Ведь долгие годы так называемые демократические страны уступали фашизму одну позицию за другой. С их молчаливого согласия японцы творили что хотели в Маньчжурии. Пришедший к власти Гитлер тут же расправился со всеми политическими оппонентами. Муссолини бомбил абиссинцев, в то время как пятьдесят три страны (кажется, их было пятьдесят три) ханжески его поругивали. Но когда Франко попытался свергнуть умеренно левое правительство, испанский народ неожиданно восстал. Казалось – возможно, так и было – наступил поворотный момент.
Однако некоторые стороны не были учтены общественностью. Начать с того, что Франко нельзя однозначно сравнивать с Гитлером или Муссолини. Он поднял военный мятеж, поддержанный аристократией и церковью, целью которого было, особенно вначале, не утверждение фашизма, а реставрация феодализма. Так Франко восстановил против себя не только рабочий класс, но и некоторые слои либеральной буржуазии – то есть тех самых людей, которые поддерживают фашизм, когда он обретает более современную форму. Еще важнее то, что испанский рабочий класс оказывал сопротивление Франко не во имя «демократии» и статус-кво – как, возможно, было бы в Англии, – нет, это сопротивление сопровождалось – можно даже сказать, было – революционным бунтом. Крестьяне захватывали землю, профсоюзы взяли под свой контроль почти весь транспорт, церкви громили, а священников выбрасывали на улицу или убивали. «Дейли мейл», поддерживая католическую церковь, в то же время не гнушалась представить Франко патриотом, освобождающим свою страну от орды «красных злодеев».
В первые месяцы войны настоящим противником Франко было не столько правительство, сколько профсоюзы. На возникший мятеж организованные городские рабочие ответили всеобщей стачкой и потребовали – а потом с боем взяли – оружие из национальных арсеналов. Если б не их спонтанные и независимые действия, вполне возможно, что Франко не встретил бы никакого сопротивления. Полной уверенности в этом нет, но поразмышлять об этом стоит. Правительство не предприняло, по сути, никаких мер для предотвращения мятежа, хотя его можно было предвидеть, и когда грянул гром, оно действовало до такой степени вяло и нерешительно, что за один день пришлось сменить трех премьеров.[23] Более того, единственный шаг, который мог переломить ситуацию, – вооружение рабочих, был предпринят неохотно и то после шумных народных протестов. Наконец оружие раздали, и в больших городах восточной Испании фашисты потерпели крупное поражение от объединенных сил – вооруженных рабочих и тех воинских частей, которые остались верны республике. Такой пыл в борьбе мог исходить только от людей, преследовавших революционные цели, они верили, что сражаются за нечто большее, чем статус-кво. Говорят, что в нескольких центрах сопротивления за один день на улицах погибли три тысячи человек. Мужчины и женщины, вооруженные одними только динамитными шашками, заполняли площади и брали приступом каменные здания, охраняемые обученными пулеметчиками. Пулеметные гнезда, расставленные фашистами в стратегических точках, вдребезги сносились такси на скорости шестьдесят миль в час. Даже если не знать о захватах земли крестьянами, о создании местных Советов и так далее, можно понять, что анархисты и социалисты, главная опора сопротивления, затеяли эти беспорядки не ради сохранения капиталистической демократии, которую они, особенно анархисты, считали централизованной партией по обману трудящихся.
Пока в руках рабочих было оружие, они не собирались сдаваться. (Подсчитано, что даже через год у анархо-синдикалистов Каталонии было 30 000 ружей.) Во многих местах крестьяне захватили поместья богатых, профашистски настроенных помещиков. Наряду с коллективизацией промышленности и транспорта, предпринимались попытки создать зачатки рабочего правительства в виде местных комитетов; рабочих патрулей, сменивших прежнюю полицию; рабочее ополчение на основе профсоюзов и так далее. Конечно, этот процесс был неоднородным, и в Каталонии он зашел дальше, чем где бы то ни было. Находились места, где местное управление почти не подверглось изменению, были и другие, работавшие совместно с революционными комитетами. Кое-где возникли независимые анархистские коммуны, некоторые просуществовали около года, а затем были насильственно упразднены правительством. В Каталонии в течение первых месяцев реальная власть находилась почти полностью в руках анархо-синдикалистов, которые контролировали большую часть промышленного производства. То, что началось тогда в Испании, было, по существу, не просто гражданской войной, а началом революции. Вот это зарубежная антифашистская пресса всячески замалчивала. Проблему сузили и определили как «фашизм против демократии», а революционный аспект происходящего сознательно скрывался. В Англии, где пресса более централизована, а читатель более доверчив, чем в других странах, существовали две версии испанской войны: одна принадлежит правому крылу и гласит: христианские патриоты против большевиков с обагренными кровью руками; другая – левому крылу: цивилизованные республиканцы против военного мятежа. Но главная проблема успешно утаивалась.
Этому было несколько причин. Прежде всего профашистская пресса распускала слухи о чудовищных злодеяниях республиканцев, а газетчики из лучших побуждений отрицали, что Испания становится «красной», считая, что тем самым помогают испанскому правительству. Но основная причина была не в этом: весь мир, кроме небольших революционных организаций, существующих во всех странах, был нацелен на предотвращение революции в Испании. В частности, коммунистическая партия, за которой стоял Советский Союз, резко высказалась против революции. Коммунисты утверждали, что на этом этапе революция обречена и стремиться надо не к государству рабочих, а к буржуазно-демократическому строю. Нет нужды объяснять, почему «либералы» из капиталистических стран заняли ту же позицию. Иностранный капитал инвестировал большие деньги в испанскую экономику. Например, в Барселонскую железнодорожную компанию англичане вложили десять миллионов, а тем временем профсоюзы конфисковали в Каталонии весь транспорт. Если бы революция продолжилась, никто не получил бы компенсацию или – очень небольшую, но, если бы верх взяла капиталистическая республика, инвестиции были бы спасены. А так как революцию в любом случае нужно подавить, проще притвориться, что она и не начиналась. Таким образом, подлинное значение событий скрывалось, каждый переход власти от профсоюзов к центральному правительству подавался как необходимый шаг в военной реорганизации. Ситуация становилась все более любопытной. За пределами Испании немногие понимали, что там вершится революция, а внутри страны, напротив, никто в этом не сомневался. Даже газеты ПСУК. Издания, контролируемые коммунистами, и те, что в разной степени поддерживали антиреволюционную политику, дружно говорили о «нашей славной революции». А тем временем коммунистическая пресса в зарубежных странах вопила, что в Испании нет никаких примет революции, нет ничего – ни захвата фабрик, ни создания рабочих комитетов и так далее, а если что и было, то это не имело «никакого политического значения». Как пишет «Дейли уоркер» от 6 августа 1936 года, те, кто говорит о том, что испанский народ сражается за социальную революцию или за что-то другое, кроме буржуазной демократии, – «отъявленные лгуны». А с другой стороны, Хуан Лопес, член правительства Валенсии, объявил в феврале 1937 года, что «испанский народ проливает кровь не за демократическую республику и ее конституцию, существующую только на бумаге… а за революцию». Так что получается, что в число «отъявленных лгунов» входили члены правительства, на чьей стороне нам предлагали воевать. Некоторые из зарубежных антифашистских газет опустились до жалкого вранья, сообщая, что на церкви нападают только в том случае, когда те являются оплотом фашистских сил. На самом деле церкви грабили повсеместно, прекрасно понимая, что испанская церковь – существенная часть капиталистического порядка. За шесть месяцев я видел в Испании только две не разграбленные церкви, и до июля 1937 года церкви не открывали и не разрешали проводить в них богослужения; это не касалось лишь одной-двух протестантских церквей в Мадриде.
Но все это было только началом революции, которая так и не свершилась. Даже когда рабочие, особенно в Каталонии, а возможно, и повсюду, обладали достаточной силой, чтобы свернуть или полностью заменить правительство, они этого не сделали. Понятно, что они и не могли этого сделать, когда Франко наступал им на пятки и его поддерживала часть среднего класса. Страна находилась на перепутье – могла развиваться как в направлении социализма, так и капитализма. Крестьяне захватили большую часть земли и, если перевес в войне не случился бы в пользу Франко, оставили бы ее себе; основное промышленное производство было коллективизировано и таким бы и сохранилось, если бы не восторжествовал капитализм. Все зависело от того, на чьей стороне будет победа. В начале войны можно было с полной определенностью сказать, что и Центральное правительство, и Генералитет Каталонии (полуавтономное каталонское правительство) представляли интересы рабочих. В правительство, возглавляемое Кабальеро, социалистом из левого крыла, входили министры, представлявшие УГТ (профсоюзы социалистов) и СНТ (профсоюзы синдикалистов, контролируемые анархистами). Генералитет Каталонии на какое-то время был практически заменен антифашистским Комитетом обороны[24], состоящим преимущественно из делегатов профсоюзов. Позже Комитет обороны был распущен, а Генералитет восстановлен и реформирован с тем, чтобы в него вошли представители профсоюзов и различных левых партий. С каждой последующей перестановкой правительство смещалось вправо. Сначала из Генералитета исключили ПОУМ; семь месяцев спустя на место Кабальеро поставили Негрина, социалиста из правого крыла; вскоре из правительства изгнали СНТ и УГТ; затем СНТ исключили из Генералитета. Таким образом, спустя год после начала войны и революции правительство уже целиком состояло из социалистов правого крыла, либералов и коммунистов.
Начавшийся крен в правую сторону датируется октябрем-ноябрем 1936 года, когда СССР стал поставлять правительству оружие и власть постепенно переходила от анархистов к коммунистам. Никто, кроме России и Мексики, не выразил желания помочь испанскому правительству, а Мексика по вполне понятным причинам не могла в большом количестве осуществлять поставки. В результате русские оказались в положении, когда могли диктовать условия. Мало сомнений в том, какими были эти условия: «Остановить революцию, или оружия больше не будет», мало сомнений и в том, что первый шаг против революционных элементов, исключение ПОУМ из Каталонского Генералитета, был сделан по приказу Советского Союза. Прямое давление всегда отрицалось русскими, но это не так уж и важно: коммунистические партии всех стран всегда руководствовались политикой Советского Союза, и именно коммунистическая партия выступила сначала против ПОУМ, а потом против анархистов и возглавляемого Кабальеро крыла социалистов, а в конечном счете и против революционной политики. Как только в испанские события вмешался СССР, победа коммунистов была обеспечена. Начать с того, что помощь России оружием и то, что коммунистическая партия, особенно с появлением интернациональных бригад, казалась способной выиграть войну, сильно повысило престиж коммунистов. Во-вторых, русское оружие распределялось через коммунистическую и дружественные ей партии, которые следили, чтобы политическим оппонентам перепадало как можно меньше оружия[25]. В-третьих, отказавшись от революционных целей, коммунисты привлекли к себе тех, кого пугали экстремисты. Например, легко было восстановить богатых крестьян против провозглашенной анархистами политики коллективизации. Численность партии возрастала не по дням, а по часам – в основном за счет среднего класса: лавочников, армейских офицеров, зажиточных крестьян и так далее.
Война обретала трехстороннюю направленность. Война против Франко продолжалась, но у правительства одновременно была и другая цель – вернуть себе ту власть, которая оставалась у профсоюзов. Это делалось посредством мелких акций – политики булавочных уколов, как кто-то выразился, и в целом весьма умно. Не предпринималось никаких очевидных контрреволюционных действий, и до мая 1937 года не было никакой нужды прибегать к силе. Рабочих всегда можно было усмирить, прибегнув к настолько банальному аргументу, что его не обязательно упоминать: «Если вы не сделаете вот это, это и еще это, мы проиграем войну». И каждый раз оказывалось, что из военных соображений надо было пожертвовать тем, что в 1936 году завоевали для себя рабочие. Но с такими аргументами не спорили: последнее, что хотели революционные партии, – это проиграть войну. Социализм и анархизм стали лишенными смысла словами. Анархисты – единственная революционная партия, достаточно большая, с которой приходилось считаться, теряла позиции одну за другой. Процесс коллективизации был остановлен, местные комитеты прикрыты, рабочий патруль отменен, вновь были призваны довоенные полицейские силы, значительно усиленные и мощно вооруженные, а промышленные предприятия, находившиеся под контролем профсоюзов, отобраны (один из примеров – телефонный узел Барселоны, захваченный еще в майских боях). И что самое важное – рабочее ополчение, созданное профсоюзами, постепенно распалось и влилось в Народную армию – аполитичную, частично на буржуазной основе, с разным жалованьем, привилегированной кастой офицеров и так далее. При сложившихся обстоятельствах это имело решающее значение; в Каталонии такое случилось позже – там были сильные революционные партии. Единственной гарантией сохранения рабочими своих завоеваний было наличие у них военных подразделений. Развал ополчения происходил, как обычно, на фоне разговоров об усилении военной эффективности, никто не отрицал того, что нужна реорганизация армии. Можно было пойти по пути реорганизации ополчения, сделать его деятельность более результативной, оставив тем не менее под контролем профсоюзов, но изменения были задуманы с целью лишить анархистов собственной армии. Более того, демократический дух ополчения делал его рассадником революционных идей. Коммунисты это понимали и постоянно яростно нападали на ПОУМ и анархистские принципы равного жалованья для всех чинов. Шло повальное «обуржуазивание», сознательное разрушение эгалитарного духа первых месяцев революции. Все происходило так быстро, что люди, возвратившиеся в Испанию спустя несколько месяцев после первого приезда, не верили, что приехали в ту же страну: то, что недолгое время казалось государством рабочих, превращалось на глазах в обычную буржуазную республику с привычным разделением на богатых и бедных. К осени 1937 года так называемый социалист Негрин заявлял в своих публичных речах, что «мы уважаем частную собственность», а члены кортесов, покинувшие страну в начале войны из-за подозрений в фашистских симпатиях, возвращались в Испанию. Этот процесс легко понять, если вспомнить, что он ведет свое начало от временного союза, который фашизм в некоторых формах навязал буржуазии и рабочим. Этот союз, известный как Народный фронт, являлся, по сути, союзом врагов, и в нем с большой долей вероятности один из партнеров должен был проглотить другого. Но в испанской ситуации присутствовал один неожиданный момент, приведший к повсеместному непониманию в других странах: как случилось, что среди партий, поддерживающих правительство, коммунисты заняли вместо левой крайне правую позицию?
На самом деле это совсем не удивительно: ведь тактика коммунистической партии повсюду, особенно во Франции, дает ясно понять, что официальный коммунизм, пусть на какое-то время, должен рассматриваться как антиреволюционная сила. Политика Коминтерна подчинена (что простительно, учитывая международную обстановку) защите СССР, который связан системой политических альянсов. К примеру, союзник СССР – Франция, капиталистическая и империалистическая держава. Этот союз мало что дает России, если капитализм во Франции занимает слабую позицию, поэтому французская компартия должна занимать антиреволюционную позицию. Это означает не только то, что теперь французские коммунисты маршируют под триколором и поют «Марсельезу», а еще и нечто более важное – прекращение активной агитации во французских колониях. Прошло меньше трех лет с тех пор, как Торез, секретарь французской коммунистической партии, заявлял, что французских рабочих нельзя обманом втянуть в войну с немецкими товарищами[26], а теперь он стал самым громкоголосым патриотом во Франции. Разгадка поведения коммунистической партии в любой стране заключается в том, в каком военном лагере – реальном или потенциальном – находится эта страна по отношению к СССР. Например, Англия еще не определила свою позицию, поэтому ее коммунистическая партия по-прежнему враждебна к национальному правительству и, по-видимому, противится перевооружению. Однако если Великобритания вступит в союз или найдет военное понимание с СССР, у английского коммуниста, как и у французского, не будет другого выбора, кроме как стать настоящим патриотом и империалистом, и этому есть предостерегающие знаки. В Испании на коммунистический курс, несомненно, повлиял тот факт, что Франция, союзник России, не приемлет в качестве соседа охваченную революцией страну и будет землю носом рыть, чтоб не допустить освобождения Испанского Марокко. «Дейли мейл» со своими рассказами о финансируемой Москвой красной революции ошибается даже больше обычного. На самом деле коммунисты как никто препятствовали развитию революции в Испании. Позже, когда испанскую политику уже определяли правые силы, коммунисты продемонстрировали желание пойти дальше либералов в поимке революционных лидеров[27].
Я попытался кратко обрисовать, как развивалась испанская революция в свой первый год, так как это может помочь разобраться в других ситуациях. Но я не хочу представить дело так, что в феврале у меня уже сложились те соображения, которые я изложил выше. Прежде всего события, которые пролили свет на многое, еще не произошли, и, кроме того, мои симпатии были несколько другими. Частично это связано с тем, что политическая сторона войны утомляет меня, и я, естественно, противостоял точке зрения, которую я слышал чаще всего, то есть точке зрения ПОУМ и ИЛП. Большинство англичан, среди которых я находился, состояли в ИЛП, только несколько из них – в СР, и почти все они разбирались в политике гораздо лучше меня. Во время затишья, когда в районе Уэски ничего не происходило, я неделями присутствовал при политических спорах, которые практически никогда не кончались. Дискуссии о разногласиях партийных линий велись в продуваемом вонючем сарае фермерского дома, где мы стояли на постое; в душных темных блиндажах; морозными ночами у бруствера. У испанцев было то же самое, и главной темой большинства газет стала внутрипартийная борьба. И только глухой или слабоумный не уловил бы, какую позицию занимает каждая партия.
Что касается политической теории, то тут имели значение только три партии: ПСУК, ПОУМ и СНТ-ФАИ – последние две можно в целом назвать анархистскими. Первой я назвал ПСУК как самую значительную; именно она в конце концов одержала победу, да и раньше была на подъеме.
Необходимо объяснить, что, говоря о позиции ПСУК, всегда подразумевают позицию коммунистической партии. Изначально ПСУК – социалистическая партия Каталонии – была создана в начале войны путем слияния нескольких марксистских групп, включая Коммунистическую партию Каталонии, однако она не находилась целиком под коммунистическим контролем и была принята в члены Третьего Интернационала. Нигде в Испании не было формального объединения социалистов и коммунистов, однако взгляды коммунистов и правого крыла социалистов можно расценивать как идентичные. Грубо говоря, ПСУК была политическим органом УГТ, социалистических профсоюзов. Членами этих профсоюзов состояли полтора миллиона испанцев. В профсоюзах было много рабочих секций, но с началом войны туда влился большой поток представителей среднего класса: в эти ранние «революционные» дни самые разные люди считали нужным вступить в УГТ или СНТ. Эти два профсоюзные объединения по сути совпадали, но из двух СНТ с большей определенностью была организацией рабочего класса. Поэтому ПСУК являлась частично партией рабочих, а частично партией мелкой буржуазии – лавочников, служащих и зажиточных крестьян.
Позиция ПСУК, распространяемая коммунистической и прокоммунистической прессой по всему миру, была приблизительно такой:
«В настоящее время нет ничего важнее победы в войне, без этой победы все остальное теряет смысл. Сейчас не тот момент, когда стоит затевать разговоры о революции. Мы не можем оттолкнуть крестьян, навязав им коллективизацию, и не можем отпугнуть средний класс, который борется на нашей стороне. И, более того, ради успеха дела мы должны покончить с революционным хаосом. Вместо местных комитетов нам нужны сильное центральное правительство и хорошо обученная, полностью оснащенная армия под единым командованием. Лучше ничего не делать, чем сохранять то, что осталось от рабочего контроля, и произносить трескучие революционные фразы – это не просто тормозящий момент, но даже контрреволюционный – он ведет к разобщению, а этим могут воспользоваться фашисты. На настоящем этапе мы сражаемся не за диктатуру пролетариата, а за парламентскую демократию. Тот, кто стремится перевести гражданскую войну в революционное русло, играет на руку фашистам и пусть не намеренно, но становится предателем».
Позиция ПОУМ кардинально расходилась со всем вышеизложенным, кроме, разумеется, необходимости победы в войне. ПОУМ относилась к тем диссидентским коммунистическим партиям, которые возникли за последние несколько лет во многих странах как результат противостояния сталинизму, выступающим за изменения, реальные или мнимые, в коммунистической политике. Частично ПОУМ состояла из бывших коммунистов, а частично из членов более ранней партии – Блока Рабочих и Крестьян. Из-за небольшой численности[28] ее влияние в основном ограничивалось Каталонией, а авторитет создавался за счет высокого процента политически сознательных членов. В Каталонии ее опорным пунктом была Лерида. ПОУМ не являлась объединением профсоюзов. Ополчение ПОУМ формировалось преимущественно из состава СНТ, но фактические члены партии в большинстве случаев принадлежали к УГТ. Однако только на СНТ ПОУМ оказывала какое-то влияние. Что касается позиции ПОУМ, то о ней говорят следующие строки:
«Смешно говорить, что буржуазная демократия противостоит фашизму. Буржуазная демократия, как и фашизм, – всего лишь иное название капитализма, и сражение с фашизмом от лица «демократии» означает, что одна форма капитализма идет против другой, причем в любой момент они могут поменяться местами. Единственно реальная альтернатива фашизму – власть рабочих. Если поставить меньшую задачу, вы или отдадите победу Франко, или впустите фашизм через черный ход. В то же время рабочим нужно крепко держаться за свои завоевания, если они в чем-то уступят этому наполовину буржуазному правительству, их обязательно обманут. Рабочее ополчение и полицейские силы должны сохраняться в теперешнем виде, и каждая попытка их обуржуазить должна пресекаться. Если рабочие не будут контролировать вооруженные силы, тогда вооруженные силы будут контролировать рабочих. Война и революция неразделимы».
Позицию анархистов определить не так легко. Во всяком случае, широковещательное понятие «анархисты» включает в себя множество людей с весьма разными точками зрения. Крупное объединение союзов, образующих СНТ (Национальную конфедерацию труда), в которую входит около двух миллионов человек, имеет в виде политического органа ФАИ (Федерация анархистов Иберии), подлинно анархическую партию. Но даже членов ФАИ с отчетливым анархистским душком, как свой есть, может быть, почти у всех испанцев, нельзя назвать анархистами в полном смысле слова. Тем более что с начала войны они сместились в сторону социализма из-за обстоятельств, заставивших их участвовать в централизованной администрации и даже, нарушив свои принципы, войти в правительство. Тем не менее они кардинально отличались от коммунистов и, как и ПОУМ, стремились к власти рабочих, а не к парламентской демократии. Они принимали девиз ПОУМ: «Война и революция неразделимы», хотя не столь безапелляционно. Проще говоря, СНТ-ФАИ выступали за: 1. Непосредственный контроль рабочих за промышленным производством в определенной отрасли, например, в транспортной или в текстильной и так далее; 2. Управление посредством местных комитетов и сопротивление всем формам централизованного авторитаризма; 3. Бескомпромиссная враждебность по отношению к буржуазии и церкви. Последний пункт, хотя не четко обозначенный, был самым важным. Анархисты противопоставляли себя большинству так называемых революционеров в очень многих вещах, и хотя их принципы были довольно расплывчаты, но ненависть к привилегиям и несправедливости были неподдельными. С философской точки зрения коммунизм и анархизм – диаметрально противоположные категории. С практической – то есть избрания формы общества – разница в основном в акцентах, но они непреодолимы. Коммунисты ратуют за централизацию и эффективность, а анархисты за свободу и равенство. Анархизм пустил глубокие корни в Испании и, похоже, переживет коммунизм, когда русское влияние ослабеет. В первые два месяца войны именно анархисты сделали для спасения ситуации больше, чем остальные партии, а значительно позже анархистские ополченцы, несмотря на недисциплинированность, были, несомненно, лучшими бойцами среди испанских частей. Какое-то время, начиная с февраля 1937 года, у анархистов и ПОУМ было много точек соприкосновения для ведения совместных действий. Если бы анархисты, ПОУМ и левое крыло социалистов проявили здравый смысл и, с самого начала объединившись, проводили общую политику, течение войны могло бы быть другим. Но на раннем этапе, когда расстановка сил сложилась в пользу революционных партий, это было невозможно. Между анархистами и социалистами было давнее взаимное недоверие; ПОУМ как марксистская партия скептически относилась к анархизму; а с точки зрения классического анархиста «троцкизм» ПОУМ был нисколько не лучше «сталинизма» коммунистов. Тем не менее коммунисты эти партии рассматривали в одном ключе. Когда ПОУМ присоединилась к кровавому майскому сражению в Барселоне, это объяснялось во многом стремлением поддержать СНТ, а позже, когда ПОУМ запретили, только анархисты подняли голос в ее защиту.
Итак, грубо говоря, расстановка сил была такая: на одной стороне находились СНТ-ФАИ и ПОУМ, а также та часть социалистов, что выступала за рабочую власть; на другой – правое крыло социалистов, либералы и коммунисты, стоящие за централизованное правительство и милитаризованную армию.
Легко понять, почему в то время я разделял коммунистический взгляд на ситуацию, а не позицию ПОУМ. У коммунистов были четкие практические цели – несомненно лучшая политика с точки зрения здравого смысла, когда планируешь только на несколько месяцев вперед. Что касается повседневной политики ПОУМ, пропаганды и так далее – это все никуда не годилось, иначе партия могла бы привлечь гораздо больше народу. И в довершение всего коммунисты – так мне казалось – активно вели войну, в то время как мы и анархисты теряли время. Тогда все так думали. Коммунисты набирали силу и возрастали численно, привлекая, с одной стороны, средний класс своим несогласием с революционерами, а с другой – тем, что только они, казалось, были способны победить в войне. Русское оружие и великолепная оборона Мадрида под руководством коммунистов сделала последних героями Испании. Как кто-то сказал, каждый русский самолет над нашими головами – коммунистическая пропаганда. Революционный пуризм ПОУМ, хотя я видел его логичность, казался мне безрезультатным. Ведь главное – выиграть войну.
Тем временем между партиями шла ожесточенная борьба – в газетах, в памфлетах, в плакатах, в книгах – всюду. В то время я чаще других читал «La Batalla»[29] и «Adelante»[30], газеты ПОУМ, и их придирчивые нападки на «контрреволюционную» ПСУК казались мне слишком самоуверенными и занудными. Позднее, подробнее ознакомившись с прессой ПСУК и коммунистов, я понял, что ПОУМ по сравнению со своими оппонентами являла собой образец порядочности. Помимо прочего, у ПОУМ было меньше возможностей. В отличие от коммунистов у партии не было выхода за рубеж, и внутри Испании она находилась в невыгодном положении: цензура была в основном под контролем коммунистов, а это означало, что газеты ПОУМ, если в них находили крамолу, могли быть конфискованы или оштрафованы. Справедливости ради надо сказать, что хотя ПОУМ бесконечно проповедовала революцию и ее члены ad nauseam[31] цитировали Ленина, все же они не опускались до клеветы. И полемику вели по преимуществу в газетах. На больших цветных плакатах, предназначенных для широкой публики (плакаты важны в Испании, где большинство населения не умеет читать), они никогда не высмеивали своих оппонентов; эти плакаты были антифашистского или абстрактно революционного толка вроде песен ополченцев. Выпады коммунистов были совсем другими. Позднее я расскажу об этом подробнее. А сейчас я просто обозначу само направление коммунистических нападок.
На первый взгляд расхождения между коммунистами и ПОУМ были чисто тактического свойства. ПОУМ стояла за немедленную революцию, коммунисты были против. На каждой стороне были свои плюсы и минусы. Далее коммунисты утверждали, что пропаганда ПОУМ разделяет и ослабляет правительственные силы и таким образом ставит под угрозу победу в войне. И тут, хотя в целом с этим не согласен, было свое рациональное зерно. Но потом раскрылась особенность коммунистической тактики. Сначала осторожно, потом все более решительно стали раздаваться голоса, что ПОУМ не заблуждается, а осознанно раскалывает правительственные силы. ПОУМ объявлялась бандой замаскированных фашистов, играющих на руку Франко и Гитлеру и проводящих псевдореволюционную политику, чтобы помочь фашистам. ПОУМ – «троцкистская» организация и пятая колонна Франко. Это означало, что тысячи рабочих, включая восемь или десять тысяч солдат, мерзших в окопах на линии фронта, и сотни иностранцев, приехавших в Испанию, чтобы бороться с фашизмом, и часто жертвующих достатком и гражданством, – всего лишь предатели, нанятые врагом. А ведь эта версия посредством плакатов и так далее распространилась по всей Испании и раз за разом повторялась в коммунистической и прокоммунистической прессе всего мира. Если б я стал коллекционировать цитаты из подобных пасквилей, то мог бы составить из них несколько книг.
Оказалось, что все мы – троцкисты, фашисты, предатели, убийцы, трусы и шпионы. Должен сказать, в этом было мало приятного, особенно если подумать о некоторых людях, которые это заварили. Грустно видеть пятнадцатилетнего испанского мальчика, которого уносят на носилках с линии фронта, как он безучастно, с помертвевшим лицом смотрит из-под одеяла на окружающих, и знать, что холеные мужчины в Лондоне или Париже в своих памфлетах доказывают, что этот мальчик переодетый фашист. Одна из самых ужасных особенностей войны – военная пропаганда, этот визг, и ложь, и ненависть, исходящие неизменно от людей, которые сами не воюют. Ополченцы ПСУК, знакомые мне по фронту, коммунисты из интернациональной бригады, которых я время от времени встречал, никогда не называли меня троцкистом или предателем; такие ярлыки были на совести только у тыловых крыс – журналистов. Люди, сочинявшие обличительные и порочащие нас статьи, благополучно сидели дома, в лучшем случае в редакциях Валенсии, в сотнях миль от пуль и грязи. Но и помимо клеветнических приемов внутрипартийной борьбы, вся обыденность войны пышно героизировалась, а врага обливали грязью все те же люди, которые не участвовали в войне и пробежали бы сотню миль, чтобы избежать встречи с ней. Одним из самых грустных разочарований этой войны стало понимание того, что левая пресса такая же фальшивая и бесчестная, как и правая[32]. Я отчетливо сознавал, что с нашей республиканской стороны эта война отличалась от обычных империалистических войн, хотя из военной пропаганды этого нельзя было понять. Война еще только началась, а правые и левые газеты тут же с головой нырнули в выгребную яму взаимных оскорблений. Нельзя забыть заголовок в «Дейли мейл»: «Красные распинают монахинь», а в «Дейли уоркер» говорилось, что Иностранный легион Франко «состоит из убийц, торговцев живым товаром, наркоманов и прочих отбросов из европейских стран». В октябре 1937 года «Нью стейтсмен» развлекал нас байками о фашистских баррикадах, сложенных из тел живых детей (крайне неудобный материал для подобной цели), а мистер Артур Брайант[33] оповестил всех, что среди испанских лоялистов «отпиливать ноги консервативно настроенным торговцам – обычное дело». Люди, которые такое пишут, никогда не воевали. Возможно, они считают себя воинами, когда пишут такое. На всех войнах происходит одно и то же: солдаты воюют, журналисты кричат, и ни один патриот не приближается к окопам – разве только с кратковременным пропагандистским заданием. Иногда меня утешает мысль, что самолет меняет условия войны. Возможно, когда наступит следующая большая война, мы увидим нечто невозможное: ура-патриот с дыркой от пули.
Если говорить о работе журналистов, то это, как и в любой другой войне, – бизнес. Но с одной разницей: обычно журналисты пускают отравленные стрелы во врагов, а в нашем случае коммунисты и ПОУМ писали друг о друге более язвительно, чем о фашистах. Тем не менее в то время я не мог относиться к этому серьезно. Межпартийная вражда раздражала и даже вызывала отвращение и все же казалась, скорее, домашней склокой. Я не верил, что она может что-то изменить и что между отдельными партиями существуют непримиримые противоречия. До меня дошло, что коммунисты и либералы не хотят дальнейшего развития революции, но то, что они хотят повернуть ее вспять, в голове не укладывалось.
И тому были причины. Все это время я находился на фронте, а там социальная и политическая атмосфера не изменилась. Я покинул Барселону в начале января и до конца апреля не был в отпуске, и все это время – и даже больше – в районе Арагона, находившегося под контролем анархистов и ПОУМ, все оставалось по-старому, во всяком случае, на первый взгляд. Сохранялась та же революционная атмосфера. Генерал и рядовой, крестьянин и ополченец держались на равных; все получали одно жалованье, носили одинаковую одежду, ели одну и ту же еду и называли друг друга «ты» и «товарищ». Не было хозяев, не было слуг, не было нищих и проституток, не было адвокатов и священников, не было лизоблюдства и подхалимства. Я вдыхал воздух равенства и по наивности думал, что во всей Испании происходит то же самое. Я не понимал, что по чистой случайности оказался среди самой революционной части испанского рабочего класса.
Поэтому когда мои политически подкованные товарищи говорили, что нельзя подходить к этой войне только как к боевому противостоянию, а основной конфликт – революция или фашизм, у меня такая альтернатива вызывала улыбку. В целом я разделял точку зрения коммунистов, сводившуюся к следующему: «Мы не можем говорить о революции, пока не победим в войне», а не позицию ПОУМ, гласившую: «Мы должны наступать, или нас отбросят назад». Когда со временем я решил, что ПОУМ стоит на правильном пути, во всяком случае, на более правильном, чем коммунисты, это решение пришло не на уровне теории. Теоретически коммунизм выглядел безукоризненно, но беда в том, что в жизни коммунисты вели себя так, что было трудно поверить в благостность их намерений. Часто повторяющийся лозунг: «Первым делом – война, революция – потом», в который безгранично верил рядовой ополченец ПСУК, не сомневавшийся, что с окончанием войны революция продолжится, был надувательством. Коммунисты были заняты не тем, чтобы отложить испанскую революцию до более подходящего времени, а тем, чтобы ее совсем похоронить. Со временем это стало еще очевиднее, власть уплывала из рук рабочих, а революционеров всех мастей все чаще бросали в тюрьму. Каждое действие совершалось якобы по причине военной необходимости – такое объяснение всегда сходило с рук, а на самом деле все делалось для того, чтобы лишить рабочих достигнутых привилегий, дабы по окончании войны они не смогли бы воспрепятствовать возрождению капитализма. Прошу обратить внимание, что все сказанное ни в коем случае не относится к рядовым членам партии, и меньше всего к тысячам коммунистов, геройски погибших в боях у Мадрида. Но не эти люди определяли политику партии. Что касается вышестоящих членов партии, нельзя поверить, чтобы они не ведали, что творят.
В конце концов, война стоила того, чтобы ее выиграть даже с утратой надежд на революцию. Но потом я стал сомневаться, приведет ли коммунистическая политика к победе. Мало кто задумывался над тем, что на разных этапах войны требуется своя политика. Анархисты, возможно, спасли положение в первые два месяца, но дальше их подвела неспособность к организованному сопротивлению; коммунисты, возможно, сделали то же самое в октябре-декабре, но для того, чтобы выиграть войну, требовалось нечто большее. В Англии военную политику коммунистов не подвергали сомнению, тех, кто пытался ее критиковать, почти не печатали, а планы коммунистов – покончить с революционным хаосом, ускорить производство и вооружить армию – выглядели реальными и действенными. Стоит обратить внимание и на свойственные им слабости.
Для того чтобы ограничить революционные тенденции и сделать войну как можно более обычной, приходилось отбрасывать благоприятные стратегические возможности. Я уже описывал, как мы были вооружены, а вернее, не вооружены на Арагонском фронте. Теперь уже мало сомнений в том, что оружие удерживалось намеренно, чтобы оно не попало в руки анархистов, которые впоследствии могли бы использовать его в революционных целях. В результате большое арагонское наступление, которое отбросило бы Франко от Бильбао и, возможно, от Мадрида, не случилось. Но это еще не все. Так как «испанская война» сузилась до «войны за демократию», стало невозможно апеллировать к помощи рабочего класса за границей. Если взглянуть в лицо фактам, придется признать, что рабочие всего мира настороженно относились к испанской войне. Десятки тысяч человек отправились воевать, но десятки миллионов отнеслись к событию равнодушно. Во время первого года войны британская публика пожертвовала на «помощь Испании» около четверти миллиона фунтов – меньше половины того, что ею тратится за неделю походов в кино. Однако рабочий класс в демократических странах мог реально помочь своим испанским товарищам такими действиями, как забастовки и бойкоты. Но ничего подобного не произошло. Лидеры лейбористов и коммунистов утверждали, что об этом и помыслить нельзя, а как можно было «помыслить», когда они повсюду вопили, что «красная» Испания вовсе не «красная». Начиная с 1914–1918 годов «война за демократию» имела зловещий оттенок. После этого в течение многих лет сами коммунисты учили активных рабочих всех стран, что «демократия» – мягкий синоним капитализма. А говорить сначала «демократия – надувательство», а потом «сражайтесь за демократию», согласитесь, не самая хорошая тактика. Если бы, опираясь на мощный престиж Советской России, они призвали бы рабочих помочь не «демократической», а «революционной» Испании, трудно поверить, что не было бы отклика.
Но важнее всего то, что при отсутствии революционной политики было трудно, если не совсем невозможно, нанести Франко удар с тыла. К лету 1937 года под контролем Франко находилось больше народу, чем под контролем правительства – гораздо больше, если считать колонии, – хотя число людей под ружьем было почти равным. Как известно, когда в тылу у войска враждебные силы, невозможно держать армию в полевых условиях без дополнительной поддержки – военных частей, которые охраняли бы коммуникации, подавляли саботаж и так далее. Очевидно, что в тылу у Франко не было никакого народного движения. Трудно представить, чтобы люди на его территории – такие как городские рабочие и бедные крестьяне – симпатизировали Франко или хотели его победы, но престиж правительства с каждым колебанием падал вправо. Почему сложилась тупиковая ситуация в Марокко? Почему там не начались беспорядки? Франко установил в Марокко железную диктатуру, и все-таки мавры предпочли его, а не правительство Народного фронта. Вся правда в том, что никаких попыток поднять в Марокко восстание не было: ведь это внесло бы в войну революционную ноту. Чтобы убедить мавров в добрых намерениях правительства, следовало прежде всего предоставить Марокко свободу. Можно представить, как это порадовало бы Францию! Поэтому удобнее всего было отступить в тщетной надежде успокоить французских и британских капиталистов. Цель коммунистической политики заключалась в том, чтобы превратить эту войну в обычную – не революционную, и в этой войне преимущество было на стороне врага. Ведь такого рода война могла быть выиграна только с помощью технических средств, то есть в конечном счете неограниченных поставок оружия. А СССР, главный правительственный поставщик, будучи географически удаленным от Испании, находился в невыгодном положении по сравнению с Италией и Германией. Возможно, лозунг ПОУМ и анархистов: «Война и революция неразделимы» – был не таким утопическим, каким казался.
Я объяснил, почему считаю коммунистическую антиреволюционную политику ошибочной, но по мере развития военных действий есть надежда, что я окажусь не прав. Тысячу раз на это надеюсь! Хочу, чтобы эта война была выиграна любой ценой. Сейчас мы еще не знаем, что произойдет. Правительство может снова качнуть влево, мавры могут поднять восстание по собственной инициативе, Англия может подкупить Италию, война может быть выиграна обыкновенным военным превосходством – ничего не известно. Я не отказываюсь от своего мнения, а прав я или нет – покажет время.
Но в феврале 1937 года все представлялось мне в ином свете. Я устал от бездействия на Арагонском фронте и особенно от сознания, что не вношу свою лепту в борьбу. Мне вспоминался плакат на призывном пункте в Барселоне, вопрошающий с осуждением: «Что ты сделал для демократии?» Что мог я на это ответить? Только: «Поедал ежедневный рацион». Вступив в ополчение, я дал себе обещание убить одного фашиста – в конце концов, если каждый убьет одного из них, фашистов скоро не останется. Но я до сих пор никого не убил, и шансов на это почти не было. И, конечно, я хотел оказаться в Мадриде. Все в армии, несмотря на разные политические взгляды, хотели попасть в Мадрид. Возможно, тогда пришлось бы перейти в интернациональную бригаду: ведь у ПОУМ в Мадриде было мало воинских частей, и анархистов там осталось не так уж много.
Пока, конечно, нельзя было оставлять прифронтовую полосу, но я всех предупредил: когда нас отведут на отдых, я постараюсь перейти в интернациональную бригаду, то есть окажусь под контролем коммунистов. Некоторые ополченцы пытались меня отговорить, но никто не вставлял палки в колеса. Для справедливости надо сказать, что в ПОУМ не преследовались инакомыслящие: если ты не был за фашистов, то мог придерживаться других политических убеждений. Находясь в ополчении, я резко критиковал позицию ПОУМ, но у меня не было из-за этого никаких неприятностей. Никто даже не настаивал на том, чтобы я вступил в партию, хотя, думаю, большинство ополченцев состояли в партии. Я так и не стал политическим членом ПОУМ, о чем впоследствии, когда ее запретили, сожалел.
Глава 6
А тем временем шла рутинная работа – дневные, реже ночные, обходы. Караульная служба, патрулирование, земляные работы. Грязь, дождь, резкий ветер и редкий снег. Только на подходе к апрелю ночи стали заметно теплее. Здесь, на плоскогорье, мартовские дни были почти такими же, как в Англии, – ярко-голубое небо и пронизывающий ветер. Снегу зимой выпало едва ли на фут, на вишневых деревьях формировались малиновые бутоны (линия фронта проходила по заброшенным садам и огородам), а по канавам уже распускались фиалки и дикие гиацинты, жалкое подобие колокольчика. Сразу за прифронтовой полосой бежал чудесный, свежий, бурлящий ручеек – первая прозрачная вода, увиденная мной на фронте. Раз, стиснув зубы, я медленно вошел в него, чтобы помыться первый раз за шесть недель. Надо сказать, что мытье оказалось очень быстрым: вода была обжигающе холодной, не намного выше точки замерзания.
А тем временем ничего не происходило, совершенно ничего. Англичане часто повторяли, что никакая это не война, а просто убийственная пантомима. Под прямым огнем фашистов мы не находились. Единственная опасность могла происходить от шальных пуль – причем с обеих сторон, так как мы располагались под углом. Все смерти тогда были случайными. Артур Клинтон пострадал от неизвестно откуда прилетевшей пули, которая раздробила ему левое плечо и, боюсь, навсегда повредила руку. Бомбили нас мало и всегда на редкость неудачно. Скрежет и грохот снарядов воспринимались нами как забавное развлечение. Фашисты никогда не попадали в наш бруствер. В сотне-другой метров за нами стоял загородный дом, по сути, поместье, с большими фермерскими постройками, которые сейчас использовались как склады, штаб и кухня для нашего участка фронта. Туда-то и целились фашистские стрелки, но они находились в пяти-шести километрах от нас, и меткости у них хватало лишь на то, чтобы в окнах треснули стекла, а в стенах появились зазубрины. Опасность могла подстеречь, только если ты поднимался в гору в тот момент, когда начинали бомбить, и снаряды рвались по обе стороны от тебя. Каким-то таинственным образом почти сразу понимаешь по звуку летящего снаряда, как близко он упадет. В тот период фашистские бомбы изготавливались очень плохого качества. После этих 150-миллиметровок образовавшаяся воронка была всего около шести футов шириной и четырех глубиной, а взрывалась только одна из четырех. Как обычно, придумывались фантастические истории о саботаже на фашистских фабриках и о бомбах, в которые вместо заряда закладывали бумагу с надписью «Красный Фронт». Я лично ни одной такой бумаги не видел. На самом деле снаряды просто безнадежно устарели, кто-то подобрал медный колпачок от взрывателя с датой изготовления – 1917. Фашистские бомбы были такого же калибра, как и наши, и потому неразорвавшиеся снаряды часто приводили в порядок и посылали обратно. Говорят, что один такой старый, помеченный снаряд ежедневно путешествовал туда и обратно, но так и не взорвался.
По ночам патрули в небольшом составе посылались на ничейную землю и там лежали в канавах у фашистской передовой линии, прислушивались к идущим оттуда звукам (сигналам горна, автомобильным гудкам и так далее), говорившим об активности в Уэске. Происходило постоянное перемещение фашистских войск, и из докладов патрулей можно было представить, какое количество бойцов там находится. Нас обязали всегда прислушиваться к звону колоколов. Перед тем как выступать, фашисты, похоже, всегда посещали церковную службу. Посреди полей и садов остались заброшенные глинобитные хижины, и, высадив окно, их можно было безопасно осмотреть с помощью зажженной спички. Иногда там попадались ценные вещи вроде топорика или фашистской фляжки (лучше нашей и пользующейся большим спросом). Можно было ходить в разведку и в дневное время, но тогда приходилось ползать на четвереньках. Было странно красться по этим опустелым плодоносящим полям, где все замерло как раз накануне сбора урожая. Посевы зерновых прошлого года так и не собрали. Не подрезанные виноградные лозы змейками извивались на земле; початки кукурузы совсем окаменели; листовая и сахарная свекла превратились в огромные одеревеневшие кусты. Как, должно быть, крестьяне проклинали обе армии! Иногда группы мужчин с мотыгами появлялись на ничейной земле. Примерно в миле правее нас, как раз там, где линии фронта сближались, было небольшое картофельное поле, куда частенько наведывались и фашисты, и мы. Наши ополченцы ходили туда днем, а фашисты – только ночью, потому что этот участок обстреливался нашими пулеметами. Однажды, к нашему возмущению, они выбрались туда в большом количестве и вырыли весь урожай. Потом мы нашли еще один такой участок, но там практически не было никакого прикрытия, и картофель приходилось собирать лежа на животе – утомительная работенка, надо сказать. Если тебя замечал пулеметчик, приходилось впечатываться в землю, подобно крысе, когда она протискивается под дверь, а пули так и взрезали землю вокруг. Но риск того стоил – во всяком случае, тогда так казалось. Картошка нам редко перепадала. Набрав мешок, можно было отнести его на кухню и обменять на фляжку с кофе.
По-прежнему ничего не происходило, и надежды на перемену не было. «Когда будет наступление? Почему мы не наступаем?» – эти вопросы постоянно звучали и от испанцев, и от англичан. Когда думаешь, каково сражение на самом деле, начинаешь удивляться, почему солдаты так его жаждут. В позиционной войне солдаты мечтают о трех вещах – наступлении, сигаретах и недельном отпуске. Теперь мы были вооружены лучше, чем раньше. У каждого было по сто пятьдесят патронов, а не пятьдесят, и со временем мы получили штыки, стальные шлемы и несколько гранат. Время от времени проносились слухи о предстоящих битвах, эти слухи, по моему разумению, сознательно распускали, чтобы поднять боевой дух. Не требовалось особых военных знаний, чтобы понять: никаких масштабных действий по эту сторону Уэски не будет – во всяком случае, в ближайшее время. Стратегически важным объектом была дорога на Хаку по другую сторону Уэски. Позднее, когда анархисты предприняли попытку занять эту дорогу, наша работа заключалась в том, чтобы сдерживать атаки и вынудить фашистов отвести оттуда войска.
За все это время, примерно недель шесть, мы предприняли только одну военную акцию. Тогда наши ударные части атаковали Маникомио, бывшую психиатрическую лечебницу, которую фашисты превратили в крепость. В ПОУМ служили несколько сотен немецких беженцев. Их объединили в специальный батальон, так называемый ударный батальон, по своим воинским характеристикам они заметно отличались от остальных ополченцев – подобных я видел разве что в ударных группировках и в некоторых интернациональных бригадах. Атака, как обычно, провалилась. Интересно, сколько военных операций со стороны правительственной коалиции не провалилось в этой войне? Ударная часть взяла Маникомио штурмом, но войска ополчения (не помню точно, какие), которые должны были их прикрывать, захватив соседний холм у Маникомио, были позорно отброшены. Стоявшего во главе ополченцев капитана, офицера регулярной армии, прислали к нам по распоряжению правительства, и его приверженность идеям ополчения была весьма сомнительна. Были то страх или прямое предательство, но он практически предупредил фашистов, метнув гранату, когда те находились в двухстах метрах от нас. Говорю не без удовлетворения, что солдаты пристрелили его на месте. Так что неожиданное нападение получилось совсем не неожиданным, и ополченцы под ожесточенным огнем противника оставили злополучный холм, а ночью ударному корпусу пришлось покинуть Маникомио. Всю ночь автомобили «Скорой помощи» ездили по этой проклятой дороге, добивая тряской тяжелораненых.
За прошедшее время все мы обовшивели: несмотря на холод, насекомым было тепло. У меня большой опыт общения с разными нательными паразитами, но вши злее всех, с кем я встречался. Другие насекомые, москиты например, кусают сильнее, но они, по крайней мере, не живут на тебе. Человеческая вошь, как крошечный рак, и селится она преимущественно в брюках. Освободиться от них можно, только если сжечь всю свою одежду. В швах брюк вошь откладывает блестящие белые яйца, похожие на крошечные крупицы риса, они вылупляются и обзаводятся собственными семьями с чудовищной скоростью. Думаю, пацифистам стоило бы использовать в своих антивоенных памфлетах иллюстрации с увеличенным изображением вши. Вот уж герой войны! На войне все солдаты вшивые, во всяком случае, когда тепло. У тех, кто сражался под Верденом, Ватерлоо, при Флоддене[34], Сенлаке[35], Фермопилах, – у всех по мошонке ползали вши. С этими паразитами мы в какой-то степени справлялись, выжигая их яйца и моясь, как только предоставлялась возможность. Только вши могли загнать меня в ледяную воду реки.
Все портилось или заканчивалось – ботинки, одежда, табак, мыло, свечи, спички, оливковое масло. Наша униформа расползалась по швам, у многих не было ботинок – только веревочные сандалии. Повсюду валялись груды рваной обуви. Однажды мы двое суток обогревали блиндаж, сжигая старые ботинки, – неплохое, оказалось, топливо. К этому времени моя жена добралась до Барселоны, откуда посылала мне чай, шоколад и даже сигары, когда их удавалось добыть, но даже в Барселоне припасы истощались, особенно табак. Чай был просто божий дар, хотя у нас не было молока, а часто и сахара тоже. Бойцам нашей части постоянно шли посылки из Англии, но они никогда не доходили; еда, одежда, сигареты – все или отвергалось на почте, или перехватывалось во Франции. Удивительно, но единственным, кому удалось прислать пакетики чая моей жене – и даже коробку печенья по случаю, – был лондонский «Арми энд нэви сторз». Бедный военный магазин! Он достойно нес свою миссию, хотя, возможно, руководители чувствовали бы себя счастливее, если б припасы приходили к Франко, а не к нам. Хуже всего переносилась нехватка табака. Вначале мы получали по пачке сигарет в день, потом – по восемь сигарет, потом – по пять. Наконец наступили десять невыносимых дней, когда табака совсем не было. И тогда я впервые увидел в Испании то, что ежедневно видишь в Лондоне: мужчины подбирали окурки.
В конце марта у меня воспалилась кисть, надо было вскрыть нарыв и наложить повязку. Пришлось обратиться в больницу, но из-за такой пустяковой операции в Сиетамо меня не направили, а оставили в так называемом госпитале в Монфлорите, который, по существу, являлся эвакуационным пунктом. Я провел там десять дней, частично валяясь в постели. Местные санитары украли практически все мои ценные вещи, включая фотоаппарат и фотографии. На фронте все воровали – неизбежное следствие всеобщего дефицита, но в больницах воровали по-черному. Позже, в барселонском госпитале один американец, приехавший вступить в интернациональную бригаду, рассказывал, как итальянская подлодка торпедировала корабль, на котором он плыл; его, раненого, вынесли на берег, и, когда грузили в «Скорую помощь», санитар стянул его часы.
Пока рука была забинтована, я провел несколько блаженных дней, блуждая по сельской местности. Монфлорите – обычное скопление глинобитных домов с кривыми улочками, настолько изрытыми грузовиками, что впадины на земле похожи на лунные кратеры. Основательно поврежденная церковь использовалась сейчас как склад боеприпасов. В окрестностях были только два фермерских хозяйства – ферма Лоренцо и ферма Фабиан, и два действительно больших дома, раньше принадлежащих, по-видимому, крупным землевладельцам, распоряжавшимся здесь всем; их богатство особенно подчеркивали жалкие крестьянские хижины. Сразу за рекой, ближе к фронтовой линии, стояла огромная мельница с пристроенным к ней домом. Стыдно было смотреть, как большое и дорогое оборудование бессмысленно гибнет, покрываясь ржавчиной, а деревянные мучные лотки идут на дрова. Позднее за дровами для ополченцев присылали издалека грузовики с солдатами, которые систематически обчищали место. Бросая гранаты, они крушили полы. Усадьба, где мы устроили склад и кухню, вероятно, прежде была монастырем. Там были просторные внутренние дворы и разные постройки, площадью больше акра, а также конюшни на тридцать или даже сорок лошадей. Усадьбы в этом районе Испании архитектурно не представляют интереса, но их сельскохозяйственные постройки с известковой побелкой, круглыми арками и великолепными стропилами выглядят исключительно благородно и построены в соответствии с планом, который, возможно, не менялся столетиями. Иногда при виде отвратительного обращения ополченцев с захваченными помещениями в сердце непроизвольно прокрадывалась симпатия к их бывшим фашистским хозяевам. В нашем особняке каждая пустующая комната становилась уборной – пугающее зрелище экскрементов посреди раскуроченной мебели. В небольшой, примыкающей к дому церквушке с изрешеченными пулями стенами шагу нельзя было ступить, чтобы не угодить в дерьмо. В просторном дворе, где повара раздавали еду, была омерзительная свалка из ржавых консервных банок, отбросов, навоза и гнилой пищи. Здесь особенно убедительно звучала бы старая армейская песня:
- Крысы, крысы…
- Посреди кухни, как воры,
- Больше самого кота-обжоры…
Наши крысы были на самом деле почти как коты, большие, жирные твари, шнырявшие посреди мусора, и такие нахальные, что прогнать их можно было только выстрелом.
Наконец пришла весна. Небо стало прозрачнее, воздух неожиданно наполнился ароматами. Лягушки шумно спаривались в канавах. У пруда, где пили воду деревенские мулы, я увидел удивительных зеленых лягушек размером с пенни, таких ярких, что молодая зелень рядом с ними казалась тусклой. Деревенские ребята охотились за змеями с ведрами, а потом жарили их живьем на железных листах. Как только погода улучшилась, крестьяне приступили к весенней пахоте. Из-за полной неразберихи в испанской аграрной революции я так и не понял, была эта земля коллективизирована, или крестьяне просто поделили ее между собой. Так как эта территория находилась под ПОУМ и анархистами, теоретически она должна быть коллективизирована. Во всяком случае, помещиков больше не было, поля обрабатывались, и крестьяне выглядели довольными. Меня не переставало удивлять дружелюбное отношение крестьян к нам. Тем, кто постарше, война должна представляться бессмыслицей – нехватка всего необходимого, унылое, тягостное существование для всех; даже при благоприятных обстоятельствах крестьяне терпеть не могли, когда у них стояли на квартирах военные. И тем не менее они были неизменно любезны. Я пришел к выводу, что такое поведение крестьян объяснялось тем, что при всей нашей невыносимости в некоторых вещах мы стояли между ними и их прежними хозяевами. Гражданская война – странная вещь. Уэска находился всего в пяти милях, это был город с базаром, у всех там жили родственники, раньше каждую неделю наши крестьяне ездили туда на базар продавать птицу и овощи. А теперь уже восемь месяцев их разделяли колючая проволока и пулеметный огонь. Иногда они об этом даже забывали. Как-то я разговорился со старухой, которая несла маленькую железную лампу, в которую испанцы наливают оливковое масло. «Где я могу купить такую лампу»? – спросил я. «В Уэске», – ответила она машинально, и мы оба рассмеялись. Деревенские девушки были очаровательные, яркие, с черными, как смоль, волосами, покачивающейся походкой и прямой, откровенной манерой вести себя, что было, на мой взгляд, побочным продуктом революции.
Мужчины в поношенных синих рубашках, черных вельветовых штанах и широкополых соломенных шляпах пахали землю, идя за упряжками мулов, ритмично хлопавших ушами. Негодные плуги только царапали, а не бороздили землю. Все сельскохозяйственные орудия были, к сожалению, допотопные, что объяснялось дороговизной металла. Поломанный лемех, к примеру, чинился не один раз, пока не становился составленным из одних припаянных частей. Грабли и вилы были деревянные. Людям, которые редко имели ботинки, лопаты были не нужны, и они копали землю грубыми мотыгами вроде тех, которыми пользуются в Индии. Вид бороны отправлял нас прямиком в каменный век. Размером с кухонный стол – она состояла из сбитых вместе досок, в них были просверлены сотни дырочек, и в каждую вставлен кусочек кремня, обтесанный так, как это делали люди десять тысяч лет назад. Помню мое близкое к ужасу чувство, когда я впервые увидел это сооружение в заброшенном доме на ничейной земле. Я долго размышлял, что бы это могло быть, пока не догадался: предо мною борона. При мысли, какую огромную работу пришлось совершить мастеру, мне стало не по себе: бедность не позволила ему использовать железо вместо кремня. С тех пор я стал лояльнее относиться к прогрессу. Однако в деревне были два современных трактора, их, несомненно, стащили из поместья богатого помещика.
Раз или два я бродил по небольшому, обнесенному стеной кладбищу, расположенному примерно в миле от деревни. Убитых солдат обычно отправляли в Сиетамо, здесь же покоились жители деревни. Это кладбище разительно отличалось от английского. Никакого почтения к покойникам! Кладбище заросло кустарником и сухой травой, повсюду валялись человеческие кости. Но самым удивительным было полное отсутствие религиозных эпитафий на надгробиях, хотя поставлены они были до революции. Кажется, только раз я увидел «Молитесь о душе покойного» – такое обычно встречаешь на католических кладбищах. Большинство надписей были исключительно земные – нескладные стишки о добродетелях усопшего. На одной из четырех-пяти могил был небольшой крест или формальное упоминание о загробном существовании, высеченное каким-нибудь старательным атеистом.
Меня поразило, что люди в этой части Испании, похоже, не испытывают искренних религиозных чувств – в традиционном смысле этого понятия. Любопытно, что за все время моего пребывания в Испании я ни разу не видел, чтобы кто-то перекрестился – хотя такое движение инстинктивное и никак не может быть связано с революцией или ее отсутствием. Несомненно, испанская церковь вернется (как говорится, ночи и иезуиты всегда возвращаются), но вспышка революции ее сломила, нанеся такой сокрушительный удар, какой был бы невозможен при сходных обстоятельствах по отношению к изжившей себя англиканской церкви. Для испанского народа – во всяком случае, в Каталонии и Арагоне – церковь была вымогательством в чистом виде. Возможно также, что христианскую веру до какой-то степени подменил анархизм, пользующийся большим влиянием, так как имел несомненный религиозный налет.
Из госпиталя я вернулся как раз в тот день, когда мы передвинули свою позицию примерно на тысячу метров вперед – где она и должна была на самом деле находиться, – к небольшой речушке в двухстах ярдах от фашистов. Эту операцию следовало провести еще несколько месяцев назад. То, что это сделали только сейчас, было связано с наступлением анархистов на дороге к Хаке – это могло заставить фашистов перенести внимание на нас.
Шестьдесят или семьдесят часов мы провели без сна; в моей памяти все смешалось, и теперь проступают лишь отдельные картины. Пост подслушивания на ничейной земле, в ста ярдах от Каза Франсеза, надежно укрепленного фермерского дома на фашистской линии фронта. Семь часов, проведенные в ужасном болоте, в пахнущей камышом воде, постепенно погружаясь все глубже и глубже: запах болота, леденящее оцепенение, неподвижные звезды в черном небе, резкое кваканье лягушек. Эта апрельская ночь была самая холодная из всех, что я провел в Испании. А всего в ста метрах позади шла непрерывная большая работа, шла в полной тишине под неумолчный хор лягушек. Только раз за всю ночь я услышал знакомый звук – это выравнивали лопатой мешок с песком. Удивительно, но иногда испанцам удается демонстрировать чудеса организации. Вся операция была прекрасно спланирована. За семь часов шестьсот человек проложили больше километра траншей и ограждений на расстоянии от ста пятидесяти до трехсот ярдов от фашистской границы, проделав все в такой тишине, что противник ничего не услышал, и за всю ночь был только один несчастный случай. На следующий день их было, конечно, больше. А тогда каждому доверили свой пост, даже дневальным по кухне, и после работы нам вынесли несколько ведер вина, в которое добавили бренди.
Затем наступил рассвет, и тут фашисты с изумлением обнаружили наше новое расположение. Квадратный белый массив Каза Франсеза, хоть и был в двухстах метрах, казалось, нависал над новой позицией, а пулеметы из окон, защищенных мешками с песком, похоже, целились прямо в наши траншеи. Мы застыли, раскрыв рты, не понимая, почему фашисты медлят. Но тут градом посыпались пули, все дружно упали на колени и стали яростно копать, углубляя траншеи, а землю насыпали на бруствер. С забинтованной рукой я не мог копать и большую часть дня провел за чтением детектива Стэнли Сайка под названием «Пропавший ростовщик». Сам сюжет вылетел из моей памяти, но осталось яркое воспоминание о том, как я сижу в окопе и читаю, подо мной сырая глина, солдаты бегают туда-сюда, задевая мои ноги, а в полуметре над головой свистят пули. Томасу Паркеру прострелили бедро, что, по его словам, было даже больше, чем требуется для получения ордена «За боевые заслуги». Без потерь не обошлось, но их было бы гораздо больше, если бы нас обнаружили ночью. Позже один дезертир рассказал, что фашисты за проявленную в ту ночь халатность расстреляли пятерых. Даже сейчас они могли устроить настоящую бойню, если бы подключили несколько минометов. Переносить раненых в узкой, переполненной людьми траншее было очень неудобно. Я видел, как один несчастный в брюках, залитых кровью, свалился с носилок, задыхаясь в агонии. Раненых приходилось переносить на большое расстояние – милю, а то и больше: подъездная дорога существовала, но санитарные машины никогда не приближались к линии фронта. В противном случае фашисты начинали их обстреливать – и не беспричинно: в современной войне не считается зазорным перевозить в санитарных машинах оружие.
Помню, как на следующую ночь мы ждали в Торре Фабиан приказа наступать, но атаку в последний момент отменили радиограммой. В сарае, где мы сидели, лишь тонкий слой сена прикрывал высохшие кости – человеческие и коровьи вперемешку, – а поверх всего ловко сновали крысы. У этих мерзких тварей повсюду норы. Для меня нет ничего отвратительнее ощущения пробегающей по тебе в темноте крысы. Хуже этого нет ничего на свете! Впрочем, некоторое удовлетворение я получил, заехав кулаком по одной из них с такой силой, что она взлетела в воздух.
Помню еще, как ждали приказа о наступлении в пятидесяти-шестидесяти метрах от фашистских ограждений. Мы лежали там, скорчившись, в канаве. Длинная цепь мужчин, держа в руках штыки, всматривалась вдаль, только белки глаз светились в темноте. Копп и Бенджамин сидели на корточках за нами вместе с ополченцем, у которого на плечах был закреплен радиоприемник. На западе через несколько секунд после розовых вспышек раздавались мощные взрывы. Потом приемник запикал, и по траншее стали шепотом передавать приказ выбираться отсюда, пока есть возможность. Мы так и сделали – правда, недостаточно быстро. Двенадцать несчастных мальчишек из Юношеской лиги ПОУМ (подобная есть и в ПСУК), которых поставили на караул всего в сорока метрах от фашистских укреплений, рассвет застал на посту, и им не удалось скрыться. Весь день они пролежали среди редких кустарников, и всякий раз, когда кто-то из них шевелился, фашисты открывали огонь. К ночи семерых убили, остальные уползли под покровом темноты.
Помню, как много дней подряд утро начиналось с атак анархистов на противоположной стороне Уэски. Звуки были всегда одни и те же. Неожиданно в предрассветные часы раздавался грохот бомб, взрывавшихся одновременно, – даже на расстоянии в несколько миль этот грохот производил жуткое впечатление. Потом он сменялся непрерывным гулом множества ружей, пулеметов, эти тяжелые раскаты удивительным образом напоминали барабанный бой. Постепенно в стрельбу втягивались и прочие части, окружавшие Уэску, и тогда мы прыгали в траншею и сидели, сонные, привалившись к брустверу, а над нашими головами бессмысленно свистели пролетавшие пули.
Днем пушки грохотали с перерывами. Торре Фабиан, ставший нашей кухней, обстреляли из артиллерии и частично разрушили. Любопытно – когда с безопасного расстояния следишь за артиллерийским огнем, всегда подсознательно хочешь, чтобы канонир попал в цель, даже если его цель твоя кухня и там могут быть твои товарищи. В это утро фашисты били точно – возможно, пушкарем был немец. Он явно нацелился на Торре Фабиан. Один снаряд перелетел, другой – не долетел, а потом свист и – бум! Стропила взмыли в воздух, а слой уралита полетел вниз, как сброшенная игральная карта. Следующий снаряд снес угол дома так ровно, словно это сделал ножом великан. А повара все же подали обед вовремя – настоящий подвиг.
Дни шли, и невидимые, но слышимые орудия постепенно обретали индивидуальность. В тылу у нас стояли две русские батареи с 75-миллиметровыми орудиями, и, думая о них, я почему-то представлял толстяка, бьющего по мячу в гольфе. У этих снарядов была низкая траектория и очень высокая скорость, поэтому свист и взрыв происходили почти одновременно. Позади Монфлорите стояли два тяжелых артиллерийских орудия, они стреляли несколько раз в день, издавая низкий приглушенный звук, похожий на отдаленный лай сидящих на цепи чудовищ. Наверху в Маунт-Арагон, средневековой крепости, которую в прошлом году захватили республиканские войска (говорят, это удалось впервые за все время ее существования), и теперь она охраняла один из подступов к Уэске, тоже находилось тяжелое орудие, только изготовлено оно было еще в девятнадцатом веке. Его огромные ядра так медленно летели, что казалось вполне вероятным бежать с ними наравне, не отставая. Их свист был не громче свистка велосипедиста. А вот самые жуткие звуки издавали сравнительно маленькие минометы. Их снаряды были словно крылатые торпеды размером с квартовую бутылку и заостренные, как дротики – любимое развлечение в пабах; они выстреливали с ужасным металлическим скрежетом, будто гигантский шар из ломкой стали дробили на наковальне. Иногда пролетали наши самолеты и тоже сбрасывали бомбы, и тогда от огромного, раскатистого грохота земля дрожала на две мили вокруг. Фашисты палили в них из зениток, но снаряды в небе казались легкими тучками на плохой акварели, и я никогда не видел, чтобы они приближались на тысячу метров к самолету. А если самолет пикировал и начинал работать пулемет, его звук снизу казался трепетом крыльев.
На нашем участке фронта было довольно тихо. В двухстах метрах справа от нас фашисты располагались выше нашего лагеря, и оттуда снайперы уложили несколько наших товарищей. А в двухстах метрах слева на мосту через речку произошла стычка между вражескими минометчиками и нашими бойцами, строящими там бетонное ограждение. Несущие гибель маленькие мины молниеносно со скрежетом вылетали из орудия и, ударяясь об асфальт, издавали вдвойне страшный грохот. Но уже в ста ярдах можно было стоять в полной безопасности, глядя, как столбы земли и черного дыма взмывают в воздух, как волшебные деревья. Наши злополучные строители большую часть дня провели, прячась в небольших лазах, выдолбленных ими с наружной стороны траншеи. И все же несчастных случаев было меньше, чем можно было ожидать, и ограждение – бетонная стена толщиной два фута – постепенно росло, в нем были амбразуры для двух пулеметов и небольшого полевого орудия. Бетон был усилен металлическими остовами кроватей – единственным найденным для этой цели железом.
Глава 7
Как-то днем Бенджамин сказал, что ему нужны пятнадцать добровольцев. Отложенную в прошлый раз атаку на фашистский форпост перенесли на сегодняшний вечер. Я смазал десяток мексиканских патронов, замазал грязью штык (блеском он мог привлечь внимание врага), положил в рюкзак большой ломоть хлеба, кусок красной колбасы и присланную женой из Барселоны сигару, которую я берег до поры до времени. Нам раздали гранаты – по три на человека. Испанское правительство наконец-то созрело до производства приличных гранат. В их основу был положен принцип гранаты Миллса, только не с одной, а с двумя чеками. После того как вы выдергивали чеки, проходило семь секунд прежде, чем граната взрывалась. Но у нее имелся недостаток: одна чека была тугая, а другая, напротив, слишком податливая. У вас был выбор: не трогать чеки до нужного момента, хотя первая могла подвести, или выдернуть тугую чеку заранее и ходить в постоянном страхе, опасаясь, как бы граната не взорвалась прямо в кармане. Но сама граната была неплохая.
Незадолго до полуночи Бенджамин повел нашу группу из пятнадцати человек вниз к Торре Фабиан. С вечера лил дождь. Оросительные канавы были переполнены, и стоило оступиться, как вы оказывались по пояс в воде. В кромешной темноте мужчины стояли во дворе фермы под проливным дождем. Копп обратился к нам сначала на испанском языке, потом на английском и объяснил план атаки. Фашистские укрепления на этом участке были вытянуты в виде буквы L, и нам следовало атаковать бруствер, расположенный на возвышении в углу L. Примерно тридцать ополченцев, половина англичан, половина испанцев, под началом Хорхе Рока, нашего батальонного командира (батальон в ополчении – это примерно четыреста человек), и Бенджамина, должны вскарабкаться вверх по склону и перерезать проволоку. Потом по сигналу Хорхе, который бросит первую гранату, нам следует забросать бруствер гранатами, выгнать оттуда фашистов и занять его, пока те не опомнились. Одновременно с нашими действиями семьдесят бойцов ударной группы должны атаковать соседнюю фашистскую «позицию» в двухстах метрах справа от бруствера и соединенного с ней траншеей – ходом сообщения. Чтобы мы в темноте не перестреляли друг друга, нам собрались выдать белые нарукавные повязки. Но тут прибыл вестовой с сообщением, что белых повязок нет. Из темноты кто-то печальным голосом предложил: «А может, фашистам надеть белые повязки?»
У нас оставался час или два. Сеновал над стойлом для мулов был так разворочен снарядами, что ходить по нему в темноте было невозможно. Половина настила была вырвана, так что ничего не стоило свалиться на камни с двадцатифутовой высоты. Кто-то нашел кирку, раскурочил пол, извлек оттуда разбитые доски, и через несколько минут у разведенного костра мы уже сушили промокшую одежду. У кого-то нашлась колода карт. Прошел слух – такие слухи таинственным образом возникают порой в армии, – что нам дадут горячий кофе с бренди. Мы прямо скатились вниз по шаткой лестнице и стали бродить по темному двору, расспрашивая, где получить кофе. Увы! Никакого кофе не было и в помине. Вместо этого нас собрали, построили цепочкой, а потом Хорхе и Бенджамин устремились во тьму, и мы поспешили за ними.
Дождь не кончался, тьма сгущалась, но ветер стих. Мы брели по жуткой грязи. Тропинки через свекольные поля превратились в сплошное скользкое месиво, перемежающееся огромными лужами. Еще до того, как мы дошли до исходной позиции, откуда начинался наш поход, каждый из нас по нескольку раз упал, а наши ружья покрылись слоем грязи. В траншее нас ожидала небольшая группа людей: наш резерв, врач и стоявшие рядком носилки. Мы пробрались через дыру в бруствере и мигом очутились в очередной оросительной канаве. Плюх – и брызги! И опять мы в воде по пояс, а в ботинках – скользкая глина. Выбравшись на траву, Хорхе ждал, пока все мы не пройдем опасное место. Затем, согнувшись в три погибели, медленно двинулся вперед. Фашистский бруствер находился примерно в ста пятидесяти метрах. Наш единственный шанс добраться туда без проблем – идти полностью бесшумно.
Я шел сразу за Хорхе и Бенджамином. Пригнувшись, но с приподнятыми лицами, мы крались в почти полной темноте, и по мере приближения к цели шаг наш становился все короче. Дождь заливал нам лица. Оглядываясь назад, я видел тех, кто был ближе: скрюченные фигуры, похожие на большие черные грибы, медленно двигались вперед. Но всякий раз, как я поднимал голову, идущий рядом Бенджамин яростно шептал мне: «Опусти ее! Слышишь, опусти голову!» Зная по опыту, что в темную ночь нельзя разглядеть человека на расстоянии двадцати шагов, я мог бы попросить его не волноваться. Важнее – соблюдать тишину. Если нас услышат – это конец. Фашистам стоит лишь прошить темноту из пулемета, и нам останется только бежать или быть убитыми.
Но по размокшей земле идти бесшумно невозможно. Что тут поделаешь, если ноги утопают в грязи и каждый шаг слышен – шлеп-шлеп. А хуже всего – ветер стих, и, несмотря на дождь, ночь была спокойная. Звуки разносились далеко. Был жуткий момент: я задел ногой консервную банку, и мне казалось, что на много миль вокруг каждый фашист это слышал. Однако нет, ни звука, ни ответного выстрела, никакого движения со стороны противника. Мы шли очень медленно, еле передвигая ноги. Не могу передать, как сильно я хотел дойти! Оказаться на расстоянии броска гранаты прежде, чем они заметят нас! В такое время страх отсутствует, остается только огромное, отчаянное стремление преодолеть последние метры. Такое чувство я испытывал, выслеживая дикого зверя, – мучительное желание оказаться на расстоянии выстрела и такая же подсознательная уверенность, что это невозможно. А как в таких случаях удлиняется расстояние! Я хорошо знал местность, да и идти-то всего сто пятьдесят метров, но на практике путь казался не меньше мили. Когда двигаешься с такой малой скоростью, то, подобно муравью, отмечаешь все изменения поверхности: восхитительное пятно гладкой травы, мерзкий ком вязкой грязи, высокий шуршащий камыш, который надо обойти, груду камней, при виде которой теряешь надежду: ведь без шума перебраться здесь просто невозможно.
Казалось, прошла целая вечность, и я даже подумал, что мы выбрали неправильный путь. Но тут в темноте стали вырисовываться параллельные черные линии – внешняя колючая проволока (у фашистов две линии заграждения). Хорхе опустился на колени и запустил руку в карман. Наши единственные кусачки были у него. Вжик-вжик. Мы осторожно раздвинули проволоку. Подождали, чтоб подтянулись остальные. Казалось, они производят ужасный шум. До фашистского бруствера теперь оставалось пятьдесят метров. Но шли мы по-прежнему – медленно и пригнувшись. Ступали так мягко, как кошка, приближаясь к мышиной норе. Остановка – прислушались, идем дальше. Один раз я поднял было голову, но Бенджамин молча положил руку мне на шею и с силой пригнул вниз. Внутренняя проволока шла примерно в двадцати метрах от бруствера. Казалось невероятным, что тридцать человек могут подойти туда незамеченными. Даже дыхание могло нас выдать. И все же мы добрались. Фашистский бруствер был виден – черная насыпь, нависшая над нами. Хорхе еще раз встал на колени и порылся в кармане. Вжик-вжик! Проволоку бесшумно не разрезать.