Читать онлайн Княжий сыск. Ордынский узел бесплатно
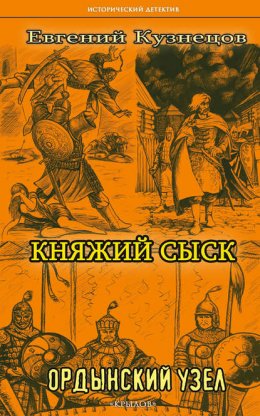
© Кузнецов Е., 2006
© ИК «Крылов», 2018
* * *
Пролог
Догорела свечка до полочки
Морозным утром на второй неделе великого поста из двери, ведущей в кухонную подклеть княжеского дворца стольного города Твери, вышел человек с плетёным коробом в руках. Когда вышедший повернулся, чтобы закрыть за собой дверь, сноп тусклого красноватого света осветил неуклюжую фигуру в коротком нагольном полушубке, высоких, до бёдер, сапогах и круглой шапке с лисьей опушкой.
– Да иди уж, горюшко! Сама прикрою, а то все расплещешь… – раздался ворчливый женский голос, коротко скрипнули петли, свет исчез, и человек остался в темноте. Он потоптался на месте, поудобнее приноравливая лямку короба к своей шее, и мелким семенящим шагом отправился по узкой, разметённой среди сугробов тропинке. Уже осевшие под мартовским солнцем заструги по краям тропинки были ещё высоки и местами скрывали её глубокой чёрной тьмой. Человек с коробом завернул за угол дворца, направляясь к темневшим неподалеку отдельно стоящим хоромам, и неожиданно споткнулся, едва не выронив ноши: на тропинке, неясно белея запрокинутым к небу лицом, лежала женщина.
– Свят, свят, – вскричал человек с коробом и, испуганно оглядевшись по сторонам, наклонился к лежащей.
Короткий стон был ему ответом. Человек отбросил нерешительность, осторожно поставил свою ношу на закраину сугроба и, перекрестившись, подхватил тело женщины под мышки. Спутанные длинные волосы её были залиты кровью, голова бессильно свешивалась на грудь, но, почувствовав помощь, женщина попыталась встать на непослушные подгибающиеся ноги.
– Кто ж тебя так, милая, Господи помоги… – прошептал мужичок и, обхватив мягкое тело, повлек женщину туда, откуда только что вышел.
Едва шатающаяся и валящаяся на каждом шагу парочка скрылась за углом, к оставленной на дороге коробке метнулись две тени.
– Покарауль, чтоб не вернулся, – тихо и деловито сказал один из неизвестных.
Крышка короба приподнялась, открывая его внутренность, уставленную разномастной столовой посудой. Бестрепетная рука вытянула из короба узкогорлый кувшин.
– Сыпь и в кисель, и в кашу, – хрипло просипел тот, что стоял на карауле.
– Учить станешь? Готово! Пошли…
Опустив крышку на место, неизвестный поднялся с колен и махнул напарнику рукой.
Когда хозяин короба вновь появился на тропинке, уже ничто не говорило о присутствии рядом других людей, только в отдалении зашлась суматошным лаем испуганная собачонка. Лисья Шапка снова водрузил ношу на себя и так же осторожненько, как прежде, двинулся дальше. Дойдя до цели путешествия, он застучал пяткой в широкие двери хоромины:
– Эй, служивые! Кончай брюхо греть, завтрак княгине поспел!
А уже в час пополудни начальник дворцовой стражи боярин Микула нещадно пинал мужичка-коробейника и, лютея от беспомощности жертвы, орал, наклонившись к перекошенному от ужаса лицу мужика:
– Говори, падаль, как отрава попала в княгинину еду?
Мужичок, мертвея от бояринова оскала, всхлипывал и бормотал всё одно и тоже:
– Не ведаю, боярин, сделай милость, освободи…
Низко пригнувшись под притолокой двери, в комнату вошёл могучий сотник.
– Кончаются… Прими Господи, – прогудел он и, глядя на хнычущего в углу мужика, докончил: – А бабы, что этот дурак на дорожке нашёл, и след простыл. Кухарка говорит, мол, Станька девку притащил в кухню всю в кровище и ушёл. Я, мол, пока кинулась тряпицу водой намочить, девка на сундуке лежала. Оглянулась, ан и нет её!
Сотник пожевал губами и, решившись, прибавил:
– Я, боярин, думаю, бабу они ему нароком подкинули, чтоб до короба добраться.
– Скорей, что так и было, – тяжело справляясь с отдышкой, согласился боярин. – Ты этого, – он мотнул головой в угол, – замкни покуда. Князь Михаил приедет с часу на час, сам разобраться захочет.
Глава первая
Не было печали
– Сашка, слышь, Сашка!
Кто-то настойчиво трясёт и дёргает мою ногу. Я утягиваю её под широкую шубу, но злодей тут же начинает хватать мою вторую пятку.
– Сашка, Сашок… Проснись, посыльные прискакали. Тебя до князя требуют!
Я уже почти проснулся и способен сообразить, что нарушитель сладкого утреннего сна не кто иной, как мой родной дядька. В голосе его неприкрытая тревога, почти испуг, значит, дело серьёзное. Чтоб он так всполошился нужно одно из двух: набег татар или пропажа жбана с вином. Кстати, знай я в прошлый раз, что он будет так сильно переживать за то вино… Признаться, кислятина была жуткая, вспомню – скулы сводит!
– Всё, батя, всё – встаю…
Дядька Никифор мне и отец и мать с десяти лет, единственный родной человек, и я зову его батей. Несмотря на страшенную наружность деревенского кузнеца, он – добрейшее существо.
– Двое их, злые чегой-то! – шепчет дядька и уползает вниз с сеновала по шаткой лесенке. Я за ним не спешу, а, отодвинув одну из досок крыши, просовываю в щель голову. На дворе, точно, двое верховых. Судя по тёмно-красным отворотам плащей, это – люди Ивана Даниловича, нашего московского князя.
– Здравствуйте, люди добрые! – говорю я.
– Проснулся, наконец! – орёт один из добрых людей. – Давай, собирайся по-быстрому, князь приказал к полудню тебя доставить.
– У меня отпуск, – говорю я. Терпеть не могу, когда мне давят на душу. – Вчера вот раков наловил ведро, пока они вскипят, пока то да сё… Раков хотите?
Посыльные вскипают быстрее раков.
– Слезай немедля, – вопит старший и машет плёткой. – Князь тебе таких раков отвалит, не унесёшь!
Этого старшего я вроде б даже знаю. И вроде б видал его разок-другой при княжьей особе. Хоть сзади, да в том же стаде.
– Господи, вразуми малых сих, ибо не ведают что творят! – говорю я и, просунув в щель руку, пытаюсь осенить гостей крестным знамением. – Что сделает князь своему любимому слуге?
– Давай живо с нами, умник! – взвывают снизу. Далее следуют всевозможные грубые слова, и короткая злая речь заканчивается неприличной кличкой, заработанной мной ещё в ученические годы:
– Драная ж…!
Шуба рядом со мной начинает легонько подергиваться, и из-под неё слышится тихое хихиканье.
– Обидно, – говорю я шубе. И, похлопав по белому круглому колену, чуть-чуть выглядывающему из-под её края, начинаю спускаться в проём сеновала. Дядька стоит внизу, придерживая лестницу. Он показывает глазами наверх и качает кудлатой головой:
– Опять Машка?
– Что ты хочешь от воина?
– Охальник!
– Сегодня все сговорились меня оскорблять, да?
– Ладно, иди, воин, порты надень. Не то они тебя голышом к начальству повезут.
– Уже иду. Туда, где трубы бранные звучат!
Дорога к удельному стольному граду из нашего села, которое принадлежит московскому князю, недлинна. Широкой дугой она огибает гиблый Ефимов бор с пересекающей его чистейшей речушкой и выходит на можайский шлях, откуда до Москвы рукой подать. С распаханных взгорков виднеются то петли реки, то – совсем неподалёку, если брать по прямой – московские купола.
Бушует весна, снег сошёл, пашни на пригорках обнажили бурую глиняную подкладку и воздух настолько свеж и приятен, что его впору пить, а не дышать им. Я уже сообщил это своим провожатым, но они отчего-то обошли молчанием моё ликование. И куда подевалась их утренняя говорливость?
Так, молча, мы и скакали, обгоняя редкие крестьянские телеги, встречавшиеся на пути. Мужички, завидя нашу вооруженную троицу, подавали возы к обочине и придерживали лошадок. Наши шли крупной рысью, и к полудню мы вкатились в ворота городского посада, а затем и в окованные двойные ворота московского детинца.
Против моих ожиданий в кремле мы свернули не к княжеским хоромам. Проехав мимо развалов стройки, в центре которой угадывались признаки будущего храма, принялись, лавируя между загородившими улицу повозками с кирпичом, камнем, известью и ещё Бог знает какой строительной мелочью, пробираться в дальний угол кремлёвской площади. Не скажу, что мне понравился такой оборот дела. Выбор места, где надлежало окончиться нашему короткому путешествию, сузился донельзя: впереди стояло только одно строение – невысокий грузный дом с крохотными как кошачий лаз окошками. Трехаршинный частокол вокруг довершал картину. В общем, это была тюрьма.
– Ребята, мы ошиблись улицей, – сказал я. И вряд ли мой голос звучал весело.
– Не знаю как нам, а тебе точно – сюда! – ответил старший провожатый или, в свете новых обстоятельств, может быть, надзиратель.
– Мне бы не хотелось расставаться с вами, друзья, – от всей души молвил я и, вспомнив, наконец, как кличут в дружине этого старшего, добавил: – Особенно с тобой, Свинина…
Мечник дёрнулся, обжёг в ответ свирепым взглядом, и это хоть сколько-то утешило меня за понесённый утром урон. Я совсем не мстительный, но он начал первым, на всю деревню озвучив мою давнюю кличку. Эх, ведь сколько лет прошло с той поры, как наш деревенский пьяница-дьячок вдалбливал в меня с помощью нехитрого учебного набора, главным украшением которого были длинные розги, все знания какие сам получил когда-то подобным образом!
Если продолжить о себе, могу сказать, что после дьячкова учения случились у меня ещё два года, проведённые в ближнем монастыре. Они добавили к дьячкову учению кое-какие познания в греческом, да содержание нескольких весьма прилежно прочтённых мной старинных летописей.
Потом пришлось походить по святой Руси с артелями каменотёсов и плотников… Монахом я так и не стал, да, признаться и не стремился. А последние неурядицы на литовском пограничье распорядились моей судьбой по-своему. Меня просто-напросто забрили в ополчение.
Витень, литовский князь, как посчитали в Орде, совсем распоясался. Мало того, что смог удержать напор немецких рыцарей с запада и на том основании теперь всем и каждому талдычил про независимость своей чумазой Литвы, так нет, начал мало-помалу тихой сапой прибирать к рукам и кое-какие исконно русские земли!
Восемь десятков лет тому назад, когда по всем просторам суши от края до края разлились прожорливые Батыевы дружины, как раз в болотистый угол, где проживали тогда ещё подвластные русичам литвины, они заглянуть и не удосужились. И пока мы тут на Руси уголья разгребали, Литва ряху наедала. А сейчас – поди ж ты! На саму Орду замахивается!
Правда, литовцев в том княжестве десятой части не будет. В основном всё наши, русаки православные. И в волынских землях, и галицких, и пинских, и смоленских. Кой-кто из князей Червонной Руси сам предался под руку Витеня, рассудив, что под литовцами им будет легче, чем под татарами.
Только приобыкшие восточнорусские князья с боярами предпочитали жить под ордынской властью. Может, оно и к лучшему: чего менять шило на мыло? Ордынский царь хоть и грозен порой, да отходчив. А, главное, хоть и магометанин, но русским полную волю даёт – хошь верь в Бога, хошь – в пень сосновый.
Четыре лета назад татары собрались ратью на Литву. Ну, а поскольку всё равно шли через наши края, то хан Узбек указал и русским князьям принять участие в походе. Дружины Великого владимирского и тверского князя Михаила татарам показалось маловато и пришлось Юрию Даниловичу Московскому, который вспомогательное войско возглавлял, набирать ополчение из вольных вроде меня.
Ополчение наше приспело на ту войну к самому шапочному разбору. Литва серьёзно потрепала татар, и их славные воеводы сочли за благо убраться обратно в свои степи. А мы остались на смоленском порубежье нести сторожевую службу.
Сказать надо, служилось там неплохо. Чин подьячего меня вполне устраивал, и гусиное перо за ухом нравилось гораздо более казённого меча. Повторюсь, служба была нетрудная, литовцы эти годы нас почти не тревожили. Но воспоминания о двух небольших сшибках, в которых всё-таки пришлось поучаствовать, не настроили меня пламенно любить человечество. И среди его самой нелюбимой части гнусно возвышается младший полковой воевода. Какая сволочь нашептала ему про мои сомнения в его честности? Но судите сами, ведь испарился же куда-то без следа обоз с солониной и мукой?
В общем, любимое перо у меня отобрали, и развеивать сомнения предложили в ближайшем бою. Диву даюсь, как об этом узнало литовское руководство, но бой против меня оно затеяло уже на другой день.
И скакал я на своем кауром коньке в первой цепи, едва удерживая в ослабевшей руке тяжеленный меч. И орал что-то протяжное для собственного успокоения.
Тут мы врезались во врагов. В лицо бил ветер. И туда же ударил суровой кожаной рукавицей с медными клёпками ближайший литвин. Он потерял в свалке боевую секиру и вымещал досаду таким изуверским способом.
С поля брани меня приволокли почти бездыханного, но я оказался живуч. А когда через несколько дней смог открыть и второй глаз, мне дали отпуск на родину. Ещё через две недели я уже сидел на широкой лавке дядькиного домишки, и дядька-кузнец, вытащив на стол наиболее съедобные из своих запасов и, пригласив на встречу полдеревни, кричал:
– Сашка! Племянник дорогой! Возмужал-то как! Эх, отец-мать не видят каким красавцем сынок их стал! Приехал дядьку старого проведать, радость-то какая!
– Радость, радость, – гомонили подвыпившие сельчане. И, честное слово, вот их я любил.
А теперь я стоял перед кремлёвской темницей и чувствовал, что суетный мир опять готовится затянуть меня в свою бестолковую круговерть. Не стану кривить душой: под ложечкой посасывало. Но вида я не подавал, поскольку вины за собой не числил. Служивый между тем успел скрыться за тяжеленной дверью острога и, вернувшись через краткий миг, бросил:
– Иди, говорун, тебя ждут.
Первой в любой тюрьме вас встречает караулка. Московская темница не была исключением. В полутёмной комнатушке с низким потолком сидели несколько вооруженных детин, и один из них, приняв меня с рук на руки, повёл за собой совершенно тёмным коридором. Только в самом его конце мелькал слабый свет. Это было дальнее помещение тюрьмы и, вступив туда, я не сразу смог разобраться в обстановке, покуда глаза не привыкли к темноте. Комнату скупо освещала пара свечей, стоявших на длинном столе, за которым, как угадывалось, разместились несколько человек.
Я остановился посреди комнаты.
– Кто таков?
Голос, казалось, падал с потолка. Такими голосами говорят только очень большие начальники.
– Мечник Алексашка, Степанов сын. Из Михайловской слободы…
– А-а-а, тебя-то нам и надо, мечник. Но покуда отойди, стой в сторонке и внимай!
Я вышагнул из освещённого круга. Тотчас на мое место два сопящих мордоворота втащили и бросили как куль на земляной пол какого-то человека. Судя по платью, невольный посетитель был не из простых. Дорогой, крытый шёлком кафтан, потерявший, впрочем, большую часть пуговиц, свидетельствовал о знатности и богатстве хозяина.
– Подымите его, – снова прогудел голос.
В этот раз, обвыкшись, я разглядел и его обладателя. Сомнений не было – за столом сидел сам нынешний московский князь Иван Данилович по прозвищу Калита.
Сказать, что мы коротко знакомы, было бы сильным преувеличением, но я неплохо знал князя в лицо. Он довольно часто наведывался в наше, точнее, свое село. А однажды дядьке Никифору пришлось даже перековывать захромавшего княжеского жеребца. Я, отрок, помогал дядьке, а молодой княжич с таким лицом, словно объелся калины, прохаживался вдоль станка, недовольный задержкой. Когда дело было сделано, и княжья орава уехала восвояси, дядька, сжимая в пудовом кулаке полученную за работу монетку-резану, вздохнул и сказал:
– Вот, Сашка, твой будущий князь. Вы с ним покуда только отроки, несмышлёныши, но рано или поздно он станет князем великим, а ты так с посконным рылом и будешь лошадей ему ковать. Терпи, племяш. Может, коли выучишься, будешь князю и на что другое гож, кроме как под хвостом у него… то есть, у его лошади, крутиться!
Накаркал дядька. Вот я и сгодился. Правда, не разберу пока – для какой такой надобности? Человек в кафтане с помощью мастеров заплечных дел поднялся с пола и стоял теперь на коленях, склонив голову.
– Повтори всё, что ты рассказал нам вчера, – приказал князь Иван, и узник, сделав видимое усилие, выпрямился.
– Князь, – голос стоявшего на коленях звучал глухо и отрешённо, – я сказал правду. Я был при княгине во время её пленения. Мы почти ушли от них, но лошади были сморённые… Я дрался, князь… Я зарубил двоих, прежде чем они свалили меня. Нас только дюжина. А их впятеро больше… Вот…
Он, вдруг заспешив, развязал тесьму ворота и под его пальцами обнажился тёмный, совсем свежий шрам, накосо пересекавший грудь.
– А потом я не видел нашей княгини. Меня держали в колодках, я ничего не знал. Не помню, сколько прошло дней, когда караульный сообщил, что княгиня скончалась. Он жалел меня, тайком подкармливал… И однажды шепнул, что её, похоже, отравили. У него жена в княжеских палатах, так она видела, как мучилась последние часы княгиня Агафья. Вот всё, что мне ведомо. А потом меня обменяли и привезли в Москву, на твою волю, князь…
Он умолк и осел, касаясь опущенными руками земли.
– Ладно! – князь резко поднялся, отчего разом закачались огоньки свечей. – Уберите его. Стеречь накрепко. А ты пойди со мной.
Последние слова он говорил уже мне. И мы тем же коридором пошли к выходу – князь, двое подручных и я. Только за тюремным частоколом мне полегчало. Хотя всё только-только начиналось. И кто знает, не окончится ли в этой же юдоли?
Служба, начинающаяся в столь веселом месте, вряд ли сулит приятные деньки!
В княжий терем мы прокрались задними сенями. Нас видел только отперший дверь караульный, молчаливый увалень, поглядевший сквозь меня, как через пустое место. Ох, не обещала ничего доброго мне эта потаённость!
– Значит, Сашкой кличут? – сказал князь. – Садись, Сашка, вон там, на лавке, разговор долгим будет.
Он подал знак, и его хранители-мечники дружно потопали из горницы. По пути они содрали с меня ножны с мечом, видимо, опасаясь, как бы я чего не сотворил с их разлюбезным князем.
Начал он издалека:
– Сидишь, поди, и дивишься: чего мне от тебя понадобилось?
Я был готов согласиться, но Иван Данилович, не дав мне открыть рта, продолжил:
– Понадобился мне грамотей, вроде тебя. Откуда я о тебе наслышан, не скажу, не твоя печаль. А грамотных у нас не густо, хотя и нужно ли их много?
У меня на сей счёт было своё мнение, но я смолчал. Узнать о существовании в смоленском полку пограничной стражи занюханного помощника писаря Иван Данилович мог только одним способом: из ежемесячных донесений полкового пристава. Всё-таки история с пропавшим обозом случилась довольно шумная, хотя концов дела так и не нашли.
Кто-кто, а я прекрасно знал, что Иван Данилович выполняет при своем старшем брате, нынешнем Великом князе Юрии службу по охране и сыску. Даже сейчас, став удельным московским князем, князь Иван всё также старался для брата по этой части, распространив ныне свои интересы не только на небольшое московское княжение, но и на все низовские земли с Новгородом в придачу. Все судебные приставы и тиуны Московского, Нижегородского и Переяславльского княжеств назначались на свои места с благословления князя Ивана. В других уделах Иван Данилович держал множество людишек для всяких тайных дел. Людей этих, случалось, ловили и рубили им головы, но от сего печального обычая число Ивановых соглядатаев в окрестных землях не убывало.
Родились мы с Иваном Даниловичем в лихое время. Впрочем, уж и не знаю, было ль оно на Руси когда другим!
Разве что самые древние из стариков припомнят такое: мол, вот до татар жили хорошо, вольготно. Так это когда было! Всё быльём поросло… Да и верить им трудно. Старикам всё, что раньше было, кажется мёдом мазано. И небо выше и девки краше. Ну и они – молодые, ухватистые, богатыри-парни! Меня всегда удивляло, чего ж они, богатыри, под татар легли!!?
Иван Данилович не низок не высок, не узок не широк, у него кустистая русая борода, он курнос и слишком рано для своих тридцати годов плешив на лбу и на затылке. Ещё у него серо-голубые глаза с острым, как шило, взглядом, и этими глазами он уже довольно много времени буравил меня. Мне пришлось поднапрячься, изображая на лице уважительное внимание вперемешку с безмятежностью и спокойствием, как у человека с очень чистой совестью.
– Не знаю, дошли ли до вас на литовской границе какие вести о здешних делах, – князь опять вперил в меня орлиные очи. – Прошлый год Великий хан Узбек окончательно решился передать Великое владимирское княжение моему брату Юрию, отобрав его у Михаила Тверского. Да и породнились они: Юрий взял за себя сестру ханскую Кончаку, которую в Агафью перекрестили. Думалось нам, что Михаил Тверской теперь отступится от Великого княжения владимирского. Куда там! Чтоб его в разум привести ходили мы на Тверь походом эту зиму. М-да… Сходили… В общем, пошли по шерсть, вернулись стриженые. Кончака в плен попала, а Юрий в Новгород за подмогой уехал.
Воспоминание не прибавляет Ивану Даниловичу радости, он жуёт ус и играет желваками.
– Беда, конечно, небольшая – все одно Михаилу деваться некуда, слаб он против нас с Узбеком! Беда в другом. Кончака, ну Агафья то есть, в тверском плену возьми да помри. Тверяки говорят – от моровой язвы. И похоронили её там, у себя – не везти же болезнь через столько вёрст! Только насчёт язвы больно не верится. Вот ты и проберись туда тайком, все разузнай.
Оп-паньки… Теперь всё встало на свои места. Я очень явственно ощутил на своей шее жёсткую веревку, которую гостеприимные тверяки всегда держат наготове для таких гусей, как я.
– Князь, я простой мечник…
– А я – простой московский князь, и если ты хочешь отказаться, то подумай семь раз. И вспомни, откуда мы только что пришли. Да и мечник – это не смерд какой-нибудь![1]
Это было убедительно. А что, ему только мигнуть – век солнышка не увижу.
– Одному велишь ехать? – спросил я.
– Большой полк в провожатые дать?
– Полк не полк, – на меня снизошло спокойствие, чего там, всё равно один конец, – а того недорезанного боярина ты со мной отпусти. Пригодится.
– А ну как узнают его там?
– Не узнают.
– Смотри, тебе жить… Ладно, распоряжусь. Через три дня он будет ждать тебя на последней заставе по тверской дороге. А ты на Москве не мешкай, чтоб тверяки не выглядели, у них и тут глаза имеются.
Он обернулся, стянул с висевшей позади на стене полки небольшую шкатулку, отомкнул, пошарил в ней рукой и выложил на стол несколько небольших серебряных монеток. Попавшуюся среди них золотую монету, Иван Данилович, повертев в пальцах, вернул обратно в шкатулку, остальные, вздохнув, подвинул мне[2]. По нынешним временам это было что-то невиданное: Орда высасывала из Руси любую деньгу, так что в некоторых местностях взамен монет ходили меховые шкурки. Про золотые монетки я вообще промолчу, редкость редчайшая, в руках не держал.
– Остальное овсом получишь, когда вернёшься.
И на том спасибо. Я опустил деньги в карман и, поклонившись, пошёл к дверям. Князь сдержано кивнул головой, прощаясь.
Глава вторая
Велик почёт не живет без хлопот
– Здравствуйте, свет-Еленушка! – князь московский шаловливо потыкался носом в пухлую щёку спавшей рядом жены и принялся ловить губами прядки её волос, рассыпавшиеся по подушке, – полно спать, голубушка.
Супруга не открывая глаз, отрицательно помотала головой и попыталась поглубже зарыться носом в атласные подушки.
– Ну, открывай глазки, отрадушка, – шептал Иван Данилович. – Вон уж и птички божии проснулись, да и Сёмушка, поди, по мамке соскучился…
Княгиня Елена снова закрутила головой, и князь перешел от уговоров к действиям, принявшись щекотать горячий бок разомлевшего от сна женского тела. Женщина, смешливо фыркая, отодвигалась от него все дальше к краю широкой, чуть не в пять локтей, кровати, пока оба вместе с ворохом одеял не скатились на сиявший восковой желтизной пол опочивальни. Такое повторялось изо дня в день, но московскому князю и его молодой жене (урождённой княжне смоленской), три года назад отстоявшим под венцом, подобные утренние утехи ещё не приелись.
Иван, выпутавшись из постели, перекрестился на образа, прошлёпал босыми ногами к затянутому веселенькой цветастой занавеской оконцу, открыл его, вдохнул холодный, сыроватый воздух весеннего утра.
С улицы ворвался привычный шум: ворковали и возились голуби под стрехой, звонко орали, перекликаясь, уходя криком к дальним улицам посада, петухи, дробно простучало по кочкам засохшей глины тележное колесо. Москва, столичный город удела, уже начинала жить дневными заботами.
Появился городок Москва на свете давным-давно. Князю Ивану это было доподлинно известно: лет двести тому назад или и того более. Так и книжник митрополит Петр говорил, будто записано в летописях, что ещё предок князя Ивана в седьмом колене, Юрий Владимирович по прозвищу Долгорукой, крепостицу малую на этом месте, где Неглинная впадает в Москву-реку, велел поставить. На первых порах стерегла эта крепость южную дорогу из Чернигова во Владимир, и сидел в ней, как тогда водилось, полк из дружины владимирского князя. Но и до того как град стали городить, на этом месте уже раскинулось княжеское село. А что толкуют, будто зародилась Москва от села боярина Степана Кучки, так неправда это: кучковы-то села верстах в двух к востоку отсюда будут, и время когда слились они с посадскими домами кое-кто из стариков ещё помнит.
А граду немало пришлось послужить. Кто только не приходил воевать его! Сначала отмечались тут черниговские рати: для них, как ни крути, дорога к стольному Суздалю и сменившему его попозже Владимиру всё едино через Москву пролегала. Потом рязанские князья приладились московскую волость зорить. Налетали изгоном, внезапно: не успела кошка умыться, а гости наехали! И сгорала от них деревянная крепость не раз. И Глеб её жёг, и Изяслав, и Михаил Пронский… А потом Москву татары зацепили, всё спалили, с землёй сровняли: и крепость, и посад, и окрестные села…
Но отстраивалась она на удивление быстро, год-другой – и поднимутся из головней и пепла рубленые храмы, обрастут вокруг новыми домишками. Благо, строевого леса вокруг – завались. Владельцы лесов – князья и бояре, в таких случаях не скопидомничали, лес отпускали мужичкам совсем задёшево. Понимали, что чем быстрее народишко отстроится, тем больше пользы для их мошны будет. И торговые люди тут как тут, везут из дальних сёл в посад заранее заготовленные срубы, на каждом бревне метка, чтоб не перепутать, где ему лежать. Такую избу умелые мастера артелью в два дня собирали. И бывали такие общие новостройки не только после вражьих впадений. Деревянный город часто горел и без помощи злой силы, а так, по Божьему попущению…
Княгиня Елена, успевшая натянуть сарафан, сидела на кровати, расчёсывая волосы и сплетая в две длинные тугие косы. Иван Данилович тоже облачился в долгую, почти до колен рубаху, натянул порты, опоясался, крикнул в коридор, чтоб подали воды умыться.
– Я в посад наведаюсь, – наказал. – А ты уж тут насчет стола распорядись, я не надолго…
Принесли княжонка. Две дородные няньки, чинно и степенно вплыли в палату, одна держала на руках полугодовалого Симеона, завернутого поверх суконного в лёгкое соболье одеяльце, вторая низко кланялась за обеих. Благородный отпрыск, недовольный тугими пеленами, невнятно поругивался на своем особом детском языке.
– Ой, ты мой маленький… сынулька мой родной… А как мы нынче спали-почивали? – княгиня перехватила ребенка и, ловко выпростав из широкого разреза тугую налитую грудь, села кормить. Днями она выкармливала Иванова наследника сама, кормилицы вступали в дело только за полночь. Видя такой пыл со стороны жены к исполнению главного предназначения в жизни, московский государь мог быть спокоен за будущее рода.
Время покажет, что счастливая судьба, действительно, благоволила Ивану: Елена в непродолжительном времени одарит супруга еще несколькими детьми; к старшенькой Дусе-Феодосии и к младшенькому Симеону присоединятся Данилка, Ванюшка, Андрейка да Фетинья.
А вот старшие братовья князя Ивана Даниловича – Юрий, Афанасий, Александр и младший, рано умерший, Борис, так и не заимеют наследников мужского пола, которым могли бы оставить московский удел.
Иван Данилович легонько приобнял жену и пустился за порог.
У крыльца терема князя ждали двое: сизобородый старик в неопрятном кафтане, из под расходящихся пол которого выпирало нешуточное брюхо, и статный красавец, по возрасту подходивший князю в наперсники. Первым был Нестор Плещеев, знатный боярин старинного московского роду, вторым – Протасий Петров, по прозванию Дыбок, недавно избранный по княжьему предложению в московские тысяцкие. Поздоровались, низко кланяясь князю.
– Ну, чем порадуешь, Нестор Дорофеевич? – Иван Данилович не без удовольствия смотрел, как от конюшни опрометью бежали конюхи, ведя в поводу княжеского жеребца.
Старый боярин подступил ближе, и неспешно изложил состояние дел московской земли. У него была хлопотная должность тиуна, управителя и главного удельного судьи, редкий месяц не загонявшая старика в поездки по самым захолустным местечкам удельных владений. Но старик нёс службу, не жалуясь, по давней привычке; многие годы он служил отцу нынешнего московского князя, теперь вот дослуживал у сына.
– Недоимку по прошлому году мелеховские так и не возмещают. Мой посланец вечор оттуда возвратился. Божатся, мол, оскудели до крайности…
– Эк, Дорофеич, умеешь ты с утра настроение поднять, – Иван Данилович, омрачившись лицом, принял поводья у холопа и огладил шею горячащегося жеребца.
– Пастилой тебя пусть молодые потчуют, – насупился старый боярин. – А мне развлекать тебя корысти нет. Как оно на деле есть, так и сказываю.
– Ладно, ладно, старина, не принимай за укоризну. А мелеховскую волость всю перепорите, но чтоб долги закрыли к Троице! Знаю я тех прохиндеев, в прошлом году после Петрова дня заезжал к ним; уж косить давно пора, а они никак из запоя выйти не могут. Сеяли рожь, а косили лебеду. Так что, батогов не жалейте… Кто много задолжал, перепиши в холопы кабальные на два года. Не умеют работать на земле вольно, пусть неволей на князя сеют-пашут!
Старик покивал головой и продолжил:
– На коломенской дороге, под Бронницами разбойнички обоз купеческий разбили…
Князь ахнул:
– Опять не слава Богу! Справимся мы когда с этой сволочью или нет?!! Сегодня же три сотни пусть скачут на место. Весь лес тамошний через мелкое сито пропустят, но татей сыщут. Сопротивляться начнут – бить смертным боем. Кто жив останется, волочить на суд к тиунам!
– Да тамошние люди нам не подсудны, это ж боярина Басенка вотчина, его и суд…
– А я говорю – тиунам судить за разбой и татьбу! А Басенок будет свое гнуть, скажи, мол, воля князя. До меня уж не раз доносилось, что он мзду берёт с душегубов, да отпускает на все четыре стороны. Больно, стервец, злато-серебро уважает. Но мы ему крылышки подрубим, – князь Иван резко натянул поводья, осадил, заставив коня замереть, и взметнул ногу через круп. – Ну, старина, всё у тебя?
– Последнее: осташевские мужики, числом в три десятка и семь хозяев, просят угодья рыболовные на озере твоём выделить, да земли по десять сажен кругом берега, где б им сети и невода сушить.
– Что обещают?
– Поверх оброку обещались на подлёдной ловле три ночи на Великого князя ловить, да две ночи на тебя…
– Ты сам-то, дядя Нестор, как думаешь?
– Мужики работящие, можно дать.
– Ну, тогда отпиши грамоту, я подмахну вечером. Не перепутай: ночь на Великого князя, три на меня.
Иван Данилович, равномерно распределив кнуты и пряники, дал, наконец, волю заждавшемуся коню и полетел со двора. Тысяцкий и один из конюших, стремянной, вскочив в седла, поспешили за князем.
Боярин Нестор, оставшись один на дворе, ещё постоял, помедлил, затем, сцепив руки за спиной, весь в размышлениях, отправился на улицу, где его ожидала лёгкая тележка-кошёвка и трое челядинов.
Знал Нестор Дорофеевич князя Ивана всю жизнь, пестовал с самого младенчества, с пузырей под носом. Малым отроком восьми лет попал будущий князь московский в Великий Новгород на княжение. Гордые новгородцы перед тем указали «путь чист» наместнику Великого владимирского князя Андрея Александровича и послали Даниилу Александровичу Московскому приглашение покняжить у них. Но московский удельный властелин вместо себя прислал в Новгород сынка, дав ему в советники нескольких окольных бояр, среди которых верховодили отец и сын Плещеевы. Под их зорким оком и набирался ума-разума Иван Данилович.
А что до новгородцев, то на Даниила они не обиделись. Такое в обычае было: призовут кого княжить, а тот князь сына шлёт или наместника. Так много лет назад попал к ним и Александр Ярославич, которого потом люди Невским нарекли. Тому тоже восемь годов было. Новгород и воспитал его. А когда Александру перевалило чуть за двадцать, он сполна оплатил новгородцам свою науку: пришёл шведский регент Биргер невские берега воевать, да получил от Александровой дружины такой удар, что себя не помня, обратно в свою «свейскую» землю утёк.
Перед тем как занять новгородский стол, князь Даниил подписал с Новгородом грамоту за себя и за сына Ивана «держать Новгород в старине по пошлинам». Управлял Иван со своими боярами Вольным Городом недолго, всего пару лет. Новгородцы держали призванных князей строго, пеклись о своей независимости от княжеской воли. В мирное время даже жить приглашённым князьям разрешалось только в загородных палатах на Городище. Там, на княжеском дворе, они суды и вершили, да и то совместно с посадниками новгородскими. А большего от них в спокое и не требовалось; новгородские «золотые пояса» – бояре и «люди лутчие», и без князя знали, как им обширнейшей землёй новгородской управлять. Другое дело война, вот тогда князю меч в руки: торговый город предпочитал не отвлекаться на суету с луками, стрелами, мечами и копьями. И только когда неприятель грозил не украинам, а самому городу, то уж тут новгородцы вставали стеной за свои дома, семьи и торговлю. Тут от них пощады не жди, порвут любого…
Но на долю маленького князя Ивана в новгородщине войны, слава Богу, не выпало. Было у него время спокойно мудрость правительскую постигать. И, как помнил боярин Нестор, был Ванюшка любознательным парнишкой. Нестор Дорофеевич и к чтению старинных книжек церковных приучил его. Так что сейчас, по прошествии многих лет, князь Иван всех начитанностью поражает, всегда к месту из святого Писания чего ввернёт. И домовитым стал, куда до него остальным братьям. Одно слово – хозяин. Не то, что старший брат князь Юрий, которому до земли отческой дела нет, дай на владимирском столе покрасоваться.
Покачиваясь на мягком волосяном сидении кошёвки, Нестор Дорофеевич решил:
– Одну ночь на Великого князя пускай ловят, четыре – на московского…
Посад уже пробудился и хлопотал. Подымливали летние кухни на задах, возле которых сновали хозяйки, успевшие выгнать в стадо скотину и теперь сажавшие в печь хлеба. На дворах под навесами возились посадские мужики-ремесленники: кто строгал, кто мял, кто колотил. В кузнях звонко и часто, с уханьем и хеканьем, били по железу. По улицам ехали возы, торговцы торопились занять свои места на рынке, самый раз покупателю валом пойти. Вправо от Спасских ворот, саженях в ста от въезжей башни, копошилась артель плотников: разбирали один из срубов кремлёвской стены, чтобы сменить подгоревшие сверху и подгнившие снизу бревна. Пожары в посаде, часто бывало, перекидывались и на стены детинца и потому эти мощные укрепления, состоявшие из двух рубленых стен, меж которыми все пространство забивалось дресвой и камнем, постоянно светились новыми сосновыми заплатами.
«Из дуба бы сложить, вот бы и не горело и не прело», – в который раз подумал князь Иван. Но знал Иван Данилович, что возвести новые стены в любом русском городе можно было только с разрешения самого Великого хана. У татарских правителей такое желание данников из русского улуса всегда вызывало большие подозрения. Вот и латали-перелатывали старые стены кремля, что построил еще батюшка, Даниил Александрович.
От кремля князь Иван оборотил коня к реке, по широкой, с уклоном, улице подскакал к «княжьей», как называли, пристани, возле которой сгрудилось несколько десятков небольших стругов и пять-шесть больших плоскодонных лодок-расшив. Лёгкий ветерок не гнал волну, и суденышки стояли как на блюдце, не шелохнувшись. Иван Данилович проехался по широкому помосту причала, остановился у одной из расшив, передняя часть которой была занята горой бочек и мешков, и только задняя, короткая, опалублена.
– Эй, кто живой, покажись…
На грозный окрик из-под палубы выглянул косматый отрок, с розовеющим пролежнем от сна через всю щёку, увидел богато одетых верховых, ойкнул и снова юркнул вниз. Спустя время рогожный передок отдёрнулся и на помост выкарабкался однорукий коренастенький дядька – старшина каравана.
– Век здравствовать, государь Иван Данилович! – поклонился он в пояс князю. И почти тотчас на какой-то из расшив ударили в било, звук прокатился над берегом и разом, подчиняясь ему, со всех лодок полезли на пристань караванные люди. Князя узнали, кланялись тоже поясно, но ближе старшины не подходили.
– И ты будь здоров, Яков Алимпиев, – князь Иван, не чинясь, спустился из седла и легонько поклонился купеческому миру. – Здравствуйте, гости честные!
По толпе пробежал шумок удовольствия: не всякий день тебе князья кланяются. А уж тем более, когда они караванщика, мало того, что узнают, еще и по батюшке называют!
– Давно ль с Новгорода вышли?
Толпа уважительно расступалась, пропуская прогуливающихся князя и старшину.
– Да почти две недели, Иван Данилович. Долго под Волоком Ламским протолклись, пока товар туда-сюда перегружали, но теперь-то ходко Окой вниз побежим. Мы вечор-то сюда совсем затемно пришли, не стали твою милость беспокоить.
– Знаю… Доложили. Куда в этот раз пойдёте? Какой товар?
Караванщик хитро взглянул на князя:
– Тот, что на стругах – в Сарае оставим, а на расшивах, может, и до Шемахи каспийской рискнём. А насчет товара… Думается мне, ты, князь, не хуже меня знаешь, какой товар на какой лодке уложен…
Князь довольно рассмеялся:
– Донесли мытари еще пять дней назад: пенька, холст, воск, жир морского зверя да ганзейский товар. Не обидели вас на Волоке мои приставы? Лишнего не содрали?
– Не-е-ет, Бог милостив. Твои служивые договор блюдут, не то, что тверские. Те в позапрошлом году мыт положенный с нас собрали, а после еще неделю морили, не пускали в Волгу, ждали, когда им на лапу положим.
– Положили?
– А куда денешься? Положили, конечно… Так, что через московский удел дешевле плыть получается.
– Вот и ходите через нас, на черта вам Тверь сдалась!
Они уже дошли до края пристани и остались вдвоём. Караванщик полез за пазуху и вынул скрученный лист с привешенной печатью:
– Письмо тебе, Иван Данилович, от старшего брата. А на словах государь Юрий Данилович поклон передает.
Князь Иван порвал нить, развернул грамотку, но читать не стал:
– Ты смотри пергамент какой чудной…
– Да не пергамент это, – заулыбался караванщик. – Теперь в Любеке на этой штуковине писать начинают, бумагой прозывается. Много дешевле пергамента. Одно плохо – воды боится. Зато горит хорошо…
– Ишь, ты! Хитёр немец, обезьяну выдумал… Ты мне этой «гумаги» с пуд сгрузи, вечером рассчитаюсь… И вечером же всех купцов к себе на ужин приглашаю…
Князь уехал, толпа, обсудив новость, разошлась.
На пиру депутация новгородских гостей с изъявлениями живейших благодарностей за милости московского владетеля вручила Ивану Даниловичу великолепную, с золочёным тиснением и серебряной застёжкой в которой горел большущий изумруд-смарагд, поясную сумку-калиту.
Глава третья
Прямо только вороны летают
Дядька Никифор моему скорому отъезду очень опечалился. Мне показалось, он даже пустил слезу. Но удачно скрыл это, долго и тщательно сморкаясь в старую крапиву возле ворот.
– Далёко тебя князь посылает? – полюбопытствовал.
– В Новгород, батя, – убедительно соврал я.
– А чего, в Новгород так в Новгород, ты человек служивый! – вздохнул он и больше вопросов не задавал. – А твоего каурого перековать бы, на передней правой подковка-то хлябает. Ну, давай, не стой, проходи, спрыснем дорожку. Сало в подклети, брага там… под… ну, в общем, ты найдешь…
– Так пост же.
– Воинов пост не касается, – без тени сомнения заявил дядька.
В то вечер мы нашли все дядькины заначки. И что самое удивительное, когда я утром смог выползти взьючивать коня, жеребец оказался уже перекованным. Как дядька в таком состоянии не перепутал лошадиные ноги, было загадкой.
– Я её, ногу то есть, с вечера пометил, – открыл он тайну. – А не любит настоящего мужеского запаху, кусается, стервец! Пришлось полбуханки хлеба скормить, что б его не тошнило. Зато сейчас, гляди, каким молодцом!
Дядька засмеялся и хлопнул конягу по холке. Животное подогнуло ноги и, закатив глаза, рухнуло на бок.
– Обморок что ли? – дядька чуть огорчился. – Ну, ничего, полежит, оклемается, и поезжайте с Богом помаленьку. С Машкой-то простишься?
– Ты что, не помнишь? Мы ж вечером к ним вместе с тобой попёрлись прощаться, нас мать Яганиха обоих с порога турнула. Сегодня совестно им и на глаза показываться. Ладно, увидишь Машутку, передашь ей берестину и скажешь, что ненадолго в этот раз уехал.
– Скажу… – дядька посмотрел на непонятные для него закорючки, которые я нацарапал на бересте. – Давай, присядем на дорожку…
Указанье князя Ивана я не выполнил, и в Москву на пути из села заглянул снова. Не то что бы в сам город, а в недалёкий от него Данилов монастырь. Тут мало что изменилось с тех лет, когда я жил в нём мальчишкой. Та же торная дорожка, бегущая среди строевых сосен, те же огороды на подъезде, та же невысокая изгородь, через которую можно увидеть шатровую крышу храмовой колокольни и тесовые, с желобами, крыши некоторых монашеских келий, окружавших церковь.
Ворота монастыря были распахнуты настежь, и в них мне повстречались две старушонки-богомолки, беседовавшие с послушником. Бабки были одеты в одинаковые белёсо-серые от многократных стирок ветхие салопы, но у обеих на ногах красовались новенькие лапти, а на головах тоже совершенно новые белые нарядные платки. То и другое, без сомнения, они до самой Божьей обители несли в заплечных сумах. Послушник, мужик лет сорока, указывал богомолкам на боковую тропку, ведущую, как хорошо мне помнилось, в странноприимный дом, а затем обернулся ко мне:
– Здравствуй, молодец. Дело пытаешь, аль от дела лытаешь?
Я едва удержался, чтоб не рассмеяться: впору было подумать, что свои врата мне открыло Берендеево царство, и общаться с монахами предстоит высоким языком былин про Владимира Красно Солнышко и незабвенного Илью Муромца.
– Ой, ты, гой-еси, любомудрый мних! – ответил я, спрятав улыбку и кланяясь остолбеневшему от таких оборотов мужичку. – Да не скажешь ли ты мне, калику перехожему, жив-здоров ли будет отец Нифонт?
– Жив, слава Богу – уже вполне нормальным языком сказал послушник и, почесав заросший кадык, добавил с намёком. – А насчет здоров – не знаю, он пост всегда тяжело переносит.
Про эту особенность моего духовного наставника я хорошо помнил. И загвоздка была вовсе не в еде: отче Нифонт мог обходиться без пищи неделями. Другое дело, что в обычные, не постные, времена года крышки глиняных крынок, в которых Нифонт хранил самолично изготовленный отличный стоялый мед, поднимались его рукой раз пять за день…
Святого отца я застал в его келье как раз замершим в большой задумчивости перед голбцем, где и покоились в холодке вожделенные сосуды.
– Крепка вера наша православная! – громко сказал я.
Отец Нифонт, не вздрогнув, неспешно обернулся ко мне и совершено спокойно, будто мы расстались вчера, молвил:
– Сказано апостолом Матфеем: «Если правая твоя рука сооблазняет тебя, отсеки её и брось от себя…». Сашка, у тебя меч при себе?
– Нет, отче. Можно, конечно, воспользоваться пилой, но как ты потом сможешь переписывать летописи?
– Ты прав. Ну, здравствуй, здравствуй, блудный сын, – он привлёк меня к себе и похлопал по спине. От него пахло чем-то тёплым и домашним. Я, действительно, почувствовал себя блудным сыном.
– Проходи, гость дорогой, – продолжал монах, – я как раз отобедать собирался. Давай водичкой полью, умоешься с дороги.
Отца Нифонта в моем представлении что-то очень роднит с дядькой-кузнецом. Внешне разница огромная: дядька большой, широкогрудый, с тяжёлыми руками, на которых резко выделяются вспухшие вены, а Нифонт – весь из округлостей, узкоплечий, с животом-шариком. Но я, глядя на любого из них, сразу вспоминаю о втором, видимо, потому, что никто другой так сильно не повлиял на мое воспитание в отрочестве. Они взаимно дополняют друг друга – сила и ум. А отец Нифонт ой как умён!
Нифонт, пожалуй, один из самых старейших насельников монастыря, прожил здесь уже лет тридцать. Менялись игумены, приходили и уходили послушники, кого-то постригали в монахи, кто-то из монахов шёл в дальние места и рубил там новые монастыри и скиты; и только отец Нифонт сидел тут твёрдо, как скала, храня заветы отцов-основателей монастыря. Ему уже не раз предлагалось возглавить монастырскую братию, стать игуменом, но он, печально шмыгая мясистым красным носом, отнекивался по-книжному, на старославянском, каким в народе давным-давно не пользуются:
– Аз грешен есть! Вы же, братья, знаете мою слабость, прости меня, Господи…
– Знаем, – понурялись монахи и избирали игумена мимо Нифонта. А за советом всё же ходили к Нифонту.
– Присаживайся, Сашок, поснедаем, чем Бог послал, – отче засуетился вокруг грубо сколоченного стола, служившего ему одновременно и рабочим местом. Убрал листы пергамента, чернильницу, пучок гусиных перьев, а на их место водрузил две кособоких (не иначе, сам вырезал) деревянных миски, куда накрошил хлеба, лука, бросил по шепоти соли, капнул льняного масла и залил кипятком. Усмехнулся:
– Отвык, наверное, от монашеских яств на воинской службе? Правда, и монах монаху рознь. У нас тут в последние годы пара-тройка иноков из боярского сословия постриглась. Так эти с прежними привычками расстаться не могут, со злата-серебра есть норовят. Я все жду не дождусь, когда по монастырям общежительный устав вменят, чтоб не было разницы меж черноризцами. Богу-то все равно, боярином ты родился или холопом, но уж, коль пошёл своей волей в монастырь, так и живи по вере. А то: жил всю жизнь барином, лиходействовал, а как косая на пороге замаячила, так постриг принимать кинулся. Каются в последнюю минуту, Бога обмануть хотят… Что, готово? Ну, на вот, взвару испей. На сушеной клубничке, люди добрые пожертвовали…
– Спасибо, отче.
– Какими судьбами к нам занесло? Ты всё так же у князя на службе? Я ведь все письма твои храню, вон, на полочке лежат. Кое-что из них о ваших смоленских событиях даже и для летописи моей пригодится. Так куда сейчас направляешься?
– В Новгород, – я стойко держусь одного берега. – Иван Данилович послал с порученьицем к старшему брату. Переночую у вас, да утром и трону.
– Вот и хорошо, что погостишь! – отче Нифонт явно обрадован. – А сейчас пошли, пчелок моих проведаем. По дороге и поговорим, разговоры труду мешать не должны.
Мы неспешно шагаем малохоженным лесным уголком, где у отче Нифонта устроены борти. Я тащу на плече длинную, но лёгкую лестницу. Отец Нифонт идёт впереди, указывая дорогу.
– Нет, Сашка, причина не только в том, что князья наши не сумели объединиться, когда Батый пришел. Это полпричины. И не в том, что они и их дружины не храбры были. У нас на рязанщине из двенадцати удельных князей, как рассказывали, девять в тех боях полегли! Считай и от дружин не больше четверти осталось… Тут другое: народ татар как небесную кару принял. За грехи накопившиеся. Ты же сам летописи читал, знаешь, что творилось на Руси целый век до нашествия.
– Да то же, что и сейчас: спать не ложатся, пока ближнему пакость не сделают.
– Вот! И ладно бы простой народишко этим баловался, но рыбка-то с головы гниёт. Можно ли ждать от народа, что он животы за землю русскую класть начнёт, когда все, кто повыше сидит – мздоимцы и корыстолюбцы каких свет не видывал со дня сотворения? А раз Батый – кара небесная, кара Божья, значит, и противиться ей – грех… Вот тебе и объяснение!
– Ну, хорошо, отче… Но прошло столько лет, а я что-то не вижу, чтоб они там, наверху, образумились. Что ж нам-то делать?
Отец Нифонт лезет по лесенке вверх и оттуда, сквозь ветки с начинающими набухать почками, слышится его голос:
– Вам? Просто помнить, что княжьи голоса, это еще не голос всей земли. Бывает, голосят они по-разному… А-а-ай-ай-ай, матушка-царица небесная, ещё одна ужалила… Слушай, Сашка, после вечерней службы я одного послушника в келью зазову, Елеферием звать. Занятный, скажу тебе, парнишка. Молодой, да ранний. Он сын боярина Федора Бяконта. И, поговаривают, крестник самого Ивана Даниловича! Батюшка всё старается его при Великом князе в службу приспособить. В прошлом году даже с собой в Орду брал. Но у парня душа к другой стезе тянется. И, мнится мне, высоко взлететь может.
Будущая птица высокого полета оказалась худым, чуть сутулым парнем, уже переходящим в года молодого мужчины. Открытый высокий лоб, широкопосаженные глаза, пока еще по-юношески припухлые губы, в уголки которых закручивались реденькие усишки соломенного цвета. В келью он вошёл, смиренно спросив позволения; поцеловал руку у отче Нифонта и присел на лавку только после второго приглашения.
– Вот, Саня, послушник Елеферий… А это выученик мой мирской – Сашка сын Степанов, мечник княжеский, – представил нас друг другу святой отец. – Ну, вы покуда побеседуйте, пообнюхайте друг друга. Думаю, вам обоим знакомство на пользу пойдет. А я за кипяточком к братии сбегаю. А потом и посидим при лучинке, побеседуем славно, сбитенька попьём!
Елеферий разговорился не сразу. Выяснилось, что такое чудное имячко он получил при рождении, но в быту, в кругу семьи, все называли его проще – Семён. Ещё выяснилось, что наследственная вотчина его отца находится совсем рядышком с моим родным селом. Землячество сразу сблизило нас, повспоминали знакомые места.
В келью вернулся отец Нифонт:
– Расскажи-ка лучше, отрок, как ты в Сарай ездил. Сашке любопытно слышать будет, его давно мучает вопрос – что нам с татарами делать?
Елеферий рассмеялся:
– Для простого мечника это, конечно, самый важный вопрос в жизни! Только в советчики старшим я не гожусь.
– Скромничает, – сказал Нифонт. – Да Сашке советы не нужны, он на чужих советах уже хватил горячего до слез! А и мне интересно, как в Орде вас привечали.
– Обыкновенно, как… Отец послан был московский выход туда увезти. Хан выходом доволен остался: и деньгами, и товарами, что князь Иван ему прислал, так что пару слов ласковых отцу моему обронил.
– Вы сколько в Орде прожили? – спросил я.
– Чуть больше месяца. Юрий Данилович свадьбу отгулял, пайцзу на Великое княжение получил, да и все вместе стали домой собираться.
– Как тебе Сарай показался?
– Красивый город. Вольный такой, раскидистый, в центре всё больше дворцы стоят каменные, и дворец Великого хана там же, а на окраинах кибитки из кошмы. Народищу – уйма, много приезжих: ясы, хинове, магометане, генуэзцы. Наших, православных, тоже немало – кто поторговать приехал, кто давно уж там живёт, рукодельничает.
– Княжну-то новую, Кончаку-Агафью, видел?
– Почему не видел? Пару раз даже и поговорить пришлось…
– По-татарски разумеешь?
– Да она по-нашему тараторила – шуба заворачивается! Молоденькая, восемнадцати не исполнилось тогда ещё.
– Красивая?
– Это на чей погляд, – у послушника запунцовели щёки и уши.
– Значит, красивая… Отче, а ты не знаешь, сколько лет князю Юрию?
– Под сорок, – отец Нифонт потянулся к рукописям на полочке. – Могу и поточнее сказать, где-то у меня записана их родословная…
– Да ладно! – остановил я его. – Годом больше, годом меньше… Что ж она за старика-то пошла?
– Будут ее спрашивать! Сказал хан слово – и пошла как миленькая, – хмыкнул Елеферий. Малыш начинал нравиться мне всё больше. – У хана Узбека свой расчет, надо полагать, был. Да и Великий князь наш – парень не промах. Возьмется рассказывать про бои и походы – ушей не хватит переслушать! А девкам много ли надо? Хотя про Кончаку такого сказать не могу, её этим вряд ли пронять было. А тут еще история с…
Он замолчал, посмотрел мне прямо в глаза, как бы прикидывая какими размерами ограничить свою откровенность.
– Ты Сашку не опасайся, – заметив его колебания, сказал отче Нифонт. – Он не растрезвонит.
– Да я этого не боюсь, история известная – смутился Елеферий. – Просто не хочется сплетнями заниматься. В общем, Великий князь, после того как в первый раз овдовел, монахом не жил. И, говорят, Кончака уже после свадьбы застала его с какой-то давней зазнобой.
– Ничего себе… Как говорится, честный муж одну только жену обманывает. И кто ж была та счастливица?
– Не знаю, шум за пределы ханского дворца не вышел. Однако в тот же день из Сарая умчался по срочному делу один из суздальских князей. Так торопился, что из всего добра, с которым в Орду приехал, обратно захватить успел только свою сестру. Слышал я потом стороной: у той суздальской княжны деревенька здесь неподалёку имеется, в московском уделе.
– А Узбек что?
– Ходили слухи, что жаловалась ему Кончака, но он предпочел замять всю историю.
– Да и правильно, – рассудительно молвил отец Нифонт. – Что ему было обратно ярлык Великого князя у Юрия отбирать? За что? Какая выгода? По их магометовым законам вообще можно иметь несколько жен. Так что на женскую кончакову обиду ему плюнуть и растереть…
– А её смерть?
– Это другое дело. Тут, думаю, головы еще полетят. Виновные ли, безвинные, но полетят.
– Может она больная какая была?
– Не-е, – запротестовал Елеферий. – Девка – кровь с молоком.
– Шепотки идут: отравили её в Твери. Кто бы мог?
– Могли-то многие, да только смотреть надо кому это выгодно, – отец Нифонт поднялся и, захрустев суставами, потянулся, выгнувшись в пояснице. – Наломал я сегодня спину, побаливает… Ну, ребятки, давайте спать. Покойной ночи, Елеферий, ступай. Ты, Сашок, завтра когда поедешь?
– Чуть свет.
– Ладно, ложись на полатях, утром разбужу.
Глава четвертая
Исподволь и сырые дрова загораются
В светлый будний день на дворе митрополичьих летних палат, что поставлены на Яузе-реке, разговаривали двое. В первом намётанный глаз мог легко узнать дружинника московского князя, второй по обличью труднее поддавался определению: волосатая грудь распирала чёрный грубохолстый армяк, перешитый из сильно укороченной монашеской рясы, длинные волосы были спрятаны под шапчонку-камилавку, а ноги обуты в обильно смазанные дегтем сапоги с завороченными книзу голенищами. К монашествующим второй, очевидно, не принадлежал: кожаный пояс его оттягивала елмань – короткое широкое режущее оружие в грубых ножнах без оклада. В руке он держал каравай белого хлеба, от которого оба отламывали корочку и жевали.
Мужчины устроились под навесом, под которым кроме них нашли прибежище и корм десятка полтора лошадей, мирно теребивших сено из устроенных между столбами яслей. На этих конях тому часа три назад на двор к митрополиту всея Руси Петру прискакал московский князь с ближниками и охраной. И пока в высоких покоях шла тайная, с глазу на глаз, беседа между митрополитом и Иваном Даниловичем, а княжеские дружинники всей толпой отправились потчеваться на летней кухне, конюший митрополита развлекал разговорами оставшегося при лошадях дружинника. Рассказывал:
– Да я и в Царьград с нашим митрополитом ездил, когда его патриарх сюда поставлял. Так вот уж сколь лет и служу. Мы оба с Волыни.
– Это по говору заметно.
– Тому делу уже лет четырнадцать. Ведь как получилось: померли тогда и галицкий митрополит и владимирский. Ну, патриарх и решил одного митрополита на Русь поставить. А Пётр к тому времени уже в силе благодатной был – его ещё мальчонкой в иноки постригли, как зрелости достиг, стал игуменом в монастыре. Большой святости человек!
– А, поговаривали, он места за деньги раздавал.
– Брешут! Знаешь, как я у него очутился? В убийстве меня обвинили наши сельские. Да не кого-нибудь, а священника нашего. Вот и предстал я на духовный суд. Пётр и судил. Поглядел он мне в глаза: «Виновен?». Я как на духу: «Нет!». Поверил. А во мне всё перевернулось, я раньше, действительно, тихим нравом не отличался. По пьянке чего только не бывало…
– Не зря он поверил?
– Вот те крест, ни при чём я был. Да и словили позже настоящего-то душегубца. Но я игумена умолил, чтоб он меня не прогонял от себя. И вот уж сколько годов вместе!
– А как Пётр с князем нашим сдружился?
– Великий князь Михаил хотел в митрополиты своего человека поставить, да не смог царьградского патриарха убедить. Ну, и, видно, осердчал. Он эту бузу против Петра и замутил. В десятом году даже собор созвали, чтоб Петра сана лишить. А от Москвы на собор приехал Иван Данилович со всем священством. Иван Данилович такую речь держал, что тверские зубами скрежетали. В общем, не провалили они митрополита. Но Пётр с тех пор, понятно, к Твери и бывшему Великому князю Михайле любовью не пылает. Да… А вот в Москву мы из Владимира зачастили. Нравится преосвященному тут воздухом подышать.
В митрополичьих палатах безмятежностью меж тем не пахло. На лицах собеседников лежала печать государственных забот. Потный Иван Данилович пробежками перемещался от стены до стены горницы и слушал митрополита, сидевшего рядом с хорошо протопленной печью завернувшись в толстое лоскутное одеяло:
– Хотел, сын мой, посоветоваться с тобой… Брат твой, Великий князь Юрий, грамоту прислал. Кланяется. Пишет о делах новгородских. Михаила ругает. Но не сильно. Другая забота Великого князя гложет: спрашивает, разрешит ли церковь его новый брак?
– Ну дает… С Агафьей ещё ничего не решено, а он снова под венец торопится! Что же ты, преосвященный, ответить ему собираешься?
– Для того тебя и позвал, вместе обсудить. Или ты в этом деле стороной ходишь? И будь добр, пожалей старика – глаза устали, присядь, не егози.
Помолчали.
– С одной стороны, – осторожненько начал князь московский, – брата мне жалко. Прям сострадаю я ему, сил нету. В тридцать лет он в первый раз овдовел. Сказать честно, недолюбливал я свою невестку, но всё одно, когда Бог её прибрал, брата жалко было. Нарожала ему девок и отбыла в небесные кущи.
– Все под Богом ходим, – митрополит осенил себя крестом. – Его воля, его власть. Так что ж, разрешить Юрию третий раз венчание?
– Конечно, надо бы разрешить… С другой стороны опять же, канон не позволяет. Да и в народе как говорят: первая жена от Бога, вторая – от людей, третья – от чёрта.
– Помилуй, Господи, – снова перекрестился митрополит. – Вот, и мне думается, третий раз – нельзя…
– Ах, жалко брата! – Иван Данилович пригорюнился, сидел, по-бабьи подперев щеку. – Моя бы воля, всё б для него сделал, кровь-то родная. Да и Кончаку вроде б всерьёз можно не считать, басурманку. Другие короли я слышал, на сколько раз женятся, и всё им с рук сходит.
– Те короли иноземные нам, православным, не указ.
– Конечно, не указ, отче… Но ведь и сам помысли: нет у Юрия наследников. Кому землю свою передаст? Кому стол завещает родительский московский? А так, глядишь, новая жена сыночка ему родит, племянничка мне любимого.
– Да, хорошо бы было… А без наследника придется Юрию на твоё имя завещание писать на московский удел. Так что я, пожалуй, посоветовавшись с епископами, разре…
– Вот с архипастырями сложности могут быть. Ну, сарайский Варсоний – наш человек, ростовский Прохор тоже артачиться не будет, а что остальные скажут? Не посеять бы раскол и смуту…
– Смуту, это они могут, – передернуло пастыря, он поежился и поплотнее укутался в одеяло. – Похоже и выбирать нечего: нельзя Юрию в третий раз под венец!
– Мудрость твоя, отче, тебе правильное решение подсказала. Кстати, сказать тебе хотел: я на Даниловскую обитель ныне серебра изрядную кучку пожертвовать собираюсь.
– Это хорошо, сын мой. Вот бы подумать и о каменном храме в кремле московском. Не знаю, не ведаю, сколько отец небесный века отмерил, а упокоиться мне, грешному, хотелось бы на Москве. Глядишь, и следующие святители здесь престол архипастырский держать будут. Письмецо князю Юрию я завтра отпишу. У тебя оказии в Новгород не ожидается?
– Прости, батюшка, ты уж со своими нарочными пошли грамотку. А я, поеду с твоего позволения, дел много.
– Может, погодишь чуть, отобедаем?
– Спаси тебя Бог, отче. Лучше ты ко мне подъезжай, как полегче себя почувствуешь.
– Ну, ступай, сын мой. Помолюсь за тебя…
Глава пятая
Ехала кума, да неведомо куда
На заезжем дворе у той последней заставы, где меня должен был ожидать обещанный князем Иваном спутник, кипела жизнь: там стояла густая толпа народа разного звания. Поселяне развлекались зрелищем, при одном взгляде на которое у меня не по-хорошему ёкнуло сердце. Высокое крыльцо обширной избы, в которой горница обыкновенно служит столовой для проезжих, а выше расположены жилые комнаты, было облеплено десятком стражников, чей боевой наряд странно не сочетался с неуверенностью в движениях и робостью во взорах. Смотрели они, вытянув шеи, в одно место – в тёмный проём дверей гостевой избы, откуда доносились приглушенные крики, удары по мягкому, и откуда на моих глазах, направленные опытной рукой, один за другим вылетели два стражника, безоружные и простоволосые. Жертвы тёмной силы по пути задевали сорванную с верхней петли дверь, отчего та издавала железное бряцание, и обрушивались вниз по ступеням на руки боевых товарищей. Летунов уложили на вытоптанную траву подле крыльца и вновь, по команде молодцеватого десятника, державшегося несколько в стороне от линии вылета тел, трое воинов устремились в тесноту избы. Удары и жуткие крики там немедля возобновились.
– Что деется, православные? – спросил я, ни к кому особо не обращаясь.
– Да бес его знает, буянит какой-тось приезжий, – откликнулся молодой веснушчатый мужичок. – У них драка с купчиной случилась, – мужичок ткнул пальцем в угол двора. Там двое баб хлопотали над огромным толстяком с разбитым в кровь лицом. Бабы прыскали на верзилу водой и, причитая, утирали холстинками.
– Ну, а друзья купчины стражу на подмогу позвали, – мужичок отвлекся от повествования, восхищенным «ох, мать честная!» сопроводив очередного стражника камнем бухнувшегося с крыльца. – И вот уж сколь времени так воюют!
Но история шла к развязке. Собравшееся с духом христово воинство пошло на решительный приступ, сопровождая натиск отборными ругательствами и отчаянным «а-а-а»!
– Так он один, что ли, там бьется?
– Один, один! – восхищенно взвизгнул мужичок. – Вон, вон, смотри, повязали, сердешного!
Багровые от натуги стражники наконец вытащили буяна на свет и вся оравушка, сопя носами и стуча высокими каблуками, скатилась на широкий двор. В ее серёдке, схваченный множеством рук и, видимо, вконец обессиленый, качался тот, кому было предназначено волей князя Ивана стать моим товарищем по предстоящему делу. Положение надо было спасать, и я двинулся вслед за стражниками с их драчливой добычей. Народишко постепенно начал рассеиваться. Стражники, перетащив арестанта через улицу, забросили его в сарай при караульном помещении. Всё успокоилось.
Через пару часов я, договорившись с хозяином постоялого двора и заплатив вперед за ночлег двух человек, подстерег на улице молодца-десятника. От удалого воина разило, как из бочки – так нехитро он снимал напряжение боя.
– Колечко за свободу этого урода? – сразу въехал в моё предложение молодецкий десятник. И, не раздумывая, взял кольцо. – Как смеркается – приходи, забирай своего приятеля.
– А ты откуда такой благодетель выискался? – спросил узник, вновь очутившись на свободе, и, вдобавок, в том самом доме, над которым еще витал дух его утреннего геройства. Мы закусывали подгорелым пирогом с рыбой, а хозяин заведения, насупясь, кружил вокруг, томясь и не ожидая доброго от столь беспокойного постояльца.
– А прямо из московской темницы, – ответил я, – там некоторые, на коленях стоючи, всякие занятные случаи из своей жизни свет-князю Ивану Даниловичу рассказывают.
– Щас дам в рыло и пойду спать обратно к страже в кутузку, – преспокойно заявил неблагодарный негодяй.
– Это ты можешь, – у меня внутри все кипело, – ты бы ещё мозгами так работал, боярин, как руками! А за моё рыло тебе не перед этими беднягами-стражниками отвечать, а подымай выше.
– А-а-а, так это тебя со мной в Тверь посылают?
– Это не меня с тобой, это тебя со мной! – взял я быка за рога. – Мне же надо кого на посылках.
– Я – на посылках?!! – возмущение вылетело из него вместе с крошками пирога. – Да ты кто такой?!!
– Вольный слуга князя Ивана. Звать Сашкой.
– Из смердов что ли? – заикание моего собеседника грозило перейти в постоянное. – Да ты хоть знаешь, с кем говоришь?!! Хам, деревенщина! Да я… Да мы – князья Боровские…[3] Мой прадед, царство ему небесное, Мстислав Удалой, ваших низовских как зайцев гонял! А теперь мне, князю Корнею, какой-то…
Избавь нас, Боже, от лыса, коса, рыжа и кривоноса! И высокородных подчиненных.
– Верно баешь, князь, славный был у тебя предок, кто его на Руси не помнит! Да только ты – не Мстислав, ты – Корней. И от князя в тебе одна кровь голубая, пяток десятин землицы бурьянистой да вот эта спесь. Видали мы таких княжеских потомков: огарки делят, и то не без драки! Вас, рюриковичей, расплодилось больше чем мух на помойке… Уже и всё родовое промотали, ни кола ни двора, один кафтан шёлковый, и тот от Великого князя пожалован! А, нет, ходите, носы задравши…
Хотя всю родословную князя я излагал вполголоса, хозяин двора, что-то почуяв, насторожился и перестал перетирать посуду грязным полотенцем.
– Хозяин, комната готова? – я встал, прерывая приятный разговор.
Утром проснулся рано, на рассвете. Мой новый друг, нахохлившись, сидел у окна. Похоже, он так и не ложился. В руке он держал кружку, но был в такой задумчивости, что не замечал, как из накренённой чары содержимое наполовину перекапало на пол, образовав бурую, похожую на кровь, лужицу.
– Ага, проснулся начальник! – князь Корней криво усмехнулся и снова рассеянно посмотрел в окно. – Пора ехать. Было у Мокея четыре лакея, а нынче Мокей сам лакей!
– Да, пора. Только не ехать, а идти.
– Как это – идти?
– Обыкновенно, ногами. На, переоденься.
Он принял от меня котомку и, вытряхнув, с удивлением воззрился на содержимое: лапти, армяк, порты.
– Мы ограбили нищих и два года скрываемся в навозной куче?
– Зачем так преувеличивать? Одёжка, конечно, ношеная, но чистая. В ней ты перестанешь походить на одичалого князя. Кто-то даже сможет принять тебя за приличного человека. За ремесленника, скажем, или золотаря.
– Издеваешься?
– А ты думал в своем шёлковом полукафтанье прямо в Тверь заявиться: «Ну-ка, рассказывайте, кто Кончаку угробил?»
Я был убедителен. Корней, чертыхаясь, взялся переодеваться.
Жеребчика мы оставили на попечение хозяина постоялого двора. Тот был несколько удивлен произошедшими в моем напарнике изменениями, но сделал вид, что его это не касается. А каурого обязался за довольно большие деньги, что получил от меня, кормить и холить в течение месяца. После чего, если я не вернусь, мог распоряжаться им самостоятельно. Не сомневаюсь, толстяк мысленно пожелал мне сложить голову уже сегодня к вечеру.
А хороша тверская дорожка! Она протоптана ногами, утрамбована тележными колесами. С настеленными по болотистым топким местам гатями и прокинутыми через речушки мостами из саженных лиственниц дорога надёжно связывает две столицы. Целыми днями по ней в оба конца катят обозы и одиночные возки, тащатся калеки-богомольцы и шагают ватаги отхожих работников. На границе московских и тверских владений всю движущуюся православную братию встречают суровые пристава: тех, кто из Твери – московский, кто из Москвы – тверской.
– Чего везёшь? По какому делу? Вытряхивай котомку!
В сумерках запозднившихся калик и гостей иной раз ожидает и более строгая проверка. Свистнет в лесу дурным посвистом кто-то неведомый, и в ответ ему пойдет по всему лесу такой свист – волосы дыбом встают. Лезут из-за кустов и коряг страшенные чёрные бородачи:
– Чего везёшь? Вытряхивай котомку…
Отпустят голого, и то спасибо. В последние годы, правда, на московской стороне стало поспокойнее. У князя Ивана не забалуешь. Зато появилась в пути другая трудность: княжеские усобицы, хочешь или нет, втянули во вражду и поселковых.
– Во, робяты, гля – московские шагают мимо нашего села! Ох, язви их в душу, где моя оглобля?!!
Более-менее спокойно катятся по тверскому шляху возки духовного ведомства, на козлах которых покачивается инок-возничий в грубой чёрной рясе и остроконечной шапочке-скуфейке. А в самом возке, положив краплёные старческие длани на посох, сидит старый иерарх с худым лицом аскета. Им разбойнички не страшны:
– Уж прости нас, владыко, обознались маненько. Езжайте с Богом, молитесь за нас, грешных!
– Бог простит…
А там и рассвет. И снова идут и едут по дороге пешие и конные. В одной из строительных ватаг шагали и мы с князем Корнеем. Он уже приобвык к своей новой шкуре, идёт, не жалуясь, пошаркивая лаптями. Но дыхание трудное, с сипом: даёт себя знать рана, которую к тому же он растревожил памятной битвой на постоялом дворе.
В один из вечеров, день на третий, мы снова с князем говорили. Сидели у костра на обрубке полусожжёного бревна, любуясь предзакатным солнцем, садившимся за пойменный луг с белевшим слева на крутояре небольшим каменным монастырем. С реки тянуло свежестью.
– Смотрю и понять не могу, что ты за человек… – Корней пристроил над костром отсыревшие лапти, и с наслаждением шевелил помозоленными пальцами на ногах. – Грамоту разумеешь, бывал в иных местах, а всё в простых мечникам ходишь. Теперь вот даже подлазом стать согласился. Иль лестно, что князя в подручниках имеешь? Так это не навсегда. Сегодня ты надо мной, а уж завтра, не гневайся, наш верх будет. Я ведь плен свой быстро отслужу. А опалу не снимет Великий князь, так и хрен с ним. Не один он великий на свете, перебьёмся.
– Вам, князьям служилым что ни поп, тот и батька. Сегодня одному Великому князю служите, завтра – другому. Везде с почетом принимают. А я родился при Москве, при ней и помирать буду. Службу, какую дали, такую и служу. И тебя с собой у князя Ивана только потому отпросил, что пожалел в темнице. К тому же воин, видать, ты, князь, добрый. Так что не ради того, что б гордость свою тешить, а дела для.
– Смотри-ка, говоришь – как пишешь! Интересно б на тебя в бою поглядеть.
– А чего глядеть? Бывал в бою и не скрою: не по мне это. Особенно против своих.
– А сейчас против кого идешь? Тверь-то тоже свои.
– А сейчас ни против кого. Узнать правду о княгине.
Во взгляде князя Корнея я легко прочитал недоверие. Но разговор он не продолжил.
С огромным нескрываемым облегчением после недели пути князь услышал, наконец, перезвон тверских колоколов.
– Слава Богу, дошли!
Первая неделя жизни в Твери прошла почти впустую. С приютившими нас владимирскими каменщиками пришлось расстаться. Мужички к работе пока ещё не приступили – что-то сорвалось с подрядом, и наш старшой с легким сердцем согласился отпустить нас с Корнеем восвояси. Он притом и винился:
– Простите, братцы. Я ж понимаю, вам есть-пить надо, а у нас пока с работой туго, не прокормить мне всех. Вот разве после Пасхи приходите, обещался тут один боярин дело подкинуть – храмину у него на подворье срубить. А?
Я повздыхал притворно, хотя и был рад такому обороту. Владимирцы помогли нам, не привлекая ничьего внимания, попасть в Тверь. Но поливать трудовым потом здешние новостройки не входило в мои намерения. А как радовался мой князь – это надо было видеть! Его страшно пугала возможность нежданно-негаданно в одночасье превратиться в сермяжного работягу.
– Эй, Боровской, подсобником будешь? – подсмеивался я. – Кладку ты вести не можешь, известь затворять не умеешь. Значит быть тебе в подсобниках: «козу» на плечи и – айда! Камни на горбу таскать.
Князь от моих шуточек то бледнел, то покрывался пятнами. Его боярская спесь хоть и поутихла, но всё же давала о себе знать. Как выяснилось, он был младше меня на два года и свой двадцать третий день ангела встречал совсем недавно здесь, в Твери, колодником.
От гостеприимных каменщиков мы ушли и поселились на самой окраине городского посада в небогатом домишке бобыля-охотника. Это жильё давало то преимущество, что было крайним на улице, и сразу за огородом начинался густой лес.
– Есть какие соображения откуда искать начинать? – спросил я.
– Может, поймаем начальника стражи княжьего терема? – на полном серьёзе сказал Корней.
– И в морду ему, в морду. «Говори, вражина, кто Кончаку отравил?»
– Ага!
– А потом поймаем тысяцкого…
– И в морду ему…
– А потом князя…
– И в мо… Какого князя?!!
– Тверского. Михаила Ярославича.
– Ты чего несёшь?
– А ты чего? Это ведь твоё предложение начальника стражи словить?
– Моё.
– А если он нам ничего не скажет?
– Не скажет? Слушай, а ты чего предлагаешь?
– Караульщика твоего как звали?
– Голован.
– Вот Голована и будем искать. Найдём, а в морду бить не будем.
– Так это он?
– Вроде бы… Нет, точно, он!
– Тогда не вылазь ему на глаза, сдуру шум поднимет. Пойдем за ним, посмотрим, где живёт.
Все прошедшие дни с раннего утра до поздней ночи мы безотлучно околачивались возле одной из двенадцати башен тверского детинца, через ворота которой по нашим прикидкам должен был ходить на свою службу в острог Голован. Совсем близко от башни стояла небольшая рубленая церквушка. На её паперти мы и обосновались не вызывая ничьего любопытства. Наискосок, вниз по улице стояла недавно отстроенная и не успевшая потемнеть корчма, куда мы с Корнеем поочередно бегали греться. Я, оставаясь на улице один, сильно переживал, сумею ли при случае опознать Голована. Синего цвета штаны и каштановая борода – приметы по каким я должен был узнать его, казались недостаточными. Была и более точная примета – отсутствие мочки левого уха. Но он же мог пройти и в шапке! Тем не менее, с временными отлучками князя приходилось мириться. Существовала, правда, опасность, что моего товарища ненароком узнает кто-нибудь из тверских знакомцев, но я надеялся, что в его нынешнем обличье такое было маловероятно. Обряженный в простой мужицкий армяк, Корней, ничем не выделялся из огромной толпы пришлых мастеровых, нахлынувшей в город по случаю начинающегося лета. Так мы и сновали от церкви к кабаку, обращая помыслы то к Бахусу, то к Богу.
Тверь была городом богатым. Множество заказов от здешних вершинных людей, умевших тряхнуть мошной, привлекали работный люд. Рубились терема и хоромы боярам и купцам, строились дороги. Лично меня такое радовало, потому, что оживление строительства прерывало тот оцепенелый сон, в котором лежала вся залесская сторона после десятилетий татарских погромов. Радовало, хотя и бегала между тверскими и московскими здоровенная чёрная кошка и, промыслом Божиим, сами мы явились в Тверь непрошеными.
Голован князя узнал сразу. Мы крались за ним полгорода, и когда он уверенной рукой толкнул калитку одного из домов бронной слободы, окликнули его.
– Здравствуй, добрый человек. Не пустишь ли на постой двоих работничков?
На меня Голован взглянул только мельком, затем на его челе поочередно отразились удивление, растерянность и лёгкий испуг. Входить в Голованово душевное состояние нам было недосуг и, оттеснив его животом, я протиснулся во двор.
– Здравствуйте и вы, люди добрые, – запоздало откликнулся ошеломлённый хозяин.
– Здорово, Голован. Зашёл поблагодарить за давнюю доброту твою, – сказал Корней, стягивая с головы запыленный колпак с обвислыми краями. – В дом пустишь?
– Проходите, проходите, чего не пустить? Полкан, фу, свои…
– Ну, свои не свои, а поговорить бы хотелось, – засмеялся Корней, – ты не гляди на одежду, я, понимаешь, кафтан-то постирал.
– А я гляжу: князь не князь? А точно – князь! Чудно… – Голован неуверенно хихикнул. Надо полагать, он терялся в догадках: зачем мы к нему пожаловали? Кто бы стал чувствовать себя уютно при встрече с бывшим колодником, которого сам и сторожил в узилище. К тому же колодник этот – князь, непростой человек, а кому же неизвестно как обидчивы и мстительны князья?
– Ты бы потише с титлами, домашние услышат…
– Так нет никого в доме – сени заперты. Баба, чай, у соседки, а ребятишки на улице играют.
– Ну, всё равно, про то кто я – никому ни гугу. Каменщики мы знакомые.
– Что ж, за встречу? – Голован выставил на стол три глиняные кружки. – Так чего ищем?
– Правду ищем. Ходят слухи, не всех полонян московских князь Михаил отпустил. Кой-кого оставил в темнице. Брата моего меньшего так и не нашли на поле среди убитых, – князь врёт не запинаясь, но его наука стоила мне много пота. – Зовут его Мстислав, из князей Боровских. Ты ведь в страже служишь, может, знаешь чего?
– Мстислав? Не-е-а, не было такого. Да и ваших больше никого у нас не осталось. Тут наш князь молодец, раз обещался отпустить, всех и отпустил.
– Жаль, эх, где ж теперь и искать буду? Ладно, Голован, за встречу, да за твоё здоровье!
Кружки стукнули край о край. Медовуха у Голована оказалась отменная. Сама собой наладилась и беседа. Но только когда блеск в глазах моих собутыльников указал на полное слияние душ, я осторожно заговорил о главном.
– Слышь, Пётр Игнатьевич (так звали Голована), а чего новенького про княгиню Агафью говорят?
– А ничего я не слыхал.
– Ты ж сам говорил князю Корнею, мол, похоже, отравили её.
– Тёмное дело. Может, отравили, а, может, и сама Богу душу отдала, упокой Господи! – перекрестился Голован в красный угол. – А-а-а, вот и хозяюшка моя пришла.
В горницу вошла молодая женщина и, увидев чужих, смутилась. Сумерки не давали рассмотреть её лица, но была она рослой и крупной. Щупленький Голован рядом с ней мог казаться не более чем ручкой к кувшину. Она молча поклонилась нам, мы, привстав, тоже. Во взоре моего князя отразилось немое восхищение. Понять его было можно, но дело – прежде всего.
– Простите, хозяйка, зашли вот повидаться со старым знакомым, – сказал я, наступая Корнею на ногу.
– Ты пройди, пройди, Марьюшка, присядь с нами, – засуетился Голован. Не знаю как на людях, а дома он, похоже, в коренниках не ходил. Могучая Марьюшка скромно подсела к столу, прикрывая рот концом платка-убруса. Голован плеснул настойки в невесть откуда взявшуюся четвёртую кружку. Когда успел? И она, поздравствовав нас, выпила.
– А у нас тут, рыбка, разговор как раз о княгине московской зашел, которую похоронили…
Женщина пытливо взглянула на нас и спросила:
– На что она, царство небесное, понадобилась вам?
– Так князь московский послал нас узнать, – вдруг с маху брякнул Корней. – Э-э-э…
Ох, блин горелый, он глупел прямо на глазах. Пора было вмешиваться.
– Мы, хозяюшка, из артели. Построить там чего, или, скажем, памятничек над могилкой вытесать. Сейчас пока заказов не набрали. Вот и подумалось, узнать, где она схоронена, да и, может, подрядиться. На князя-то поработать всякому бы хотелось, – понятно, моя ложь выглядела не очень убедительно, но Голованова супруженица, чистая душа, не усомнилась.
– Да схоронили её на княжеской половине, в кремле. Сам архиерей и отпевал. Честь по чести. А крест ей тогда же и поставили. По велению князя Михаила! Красивый, с узорочьем. Вы сходите на кладбище, сходите!
Голован с увлечением разливал из кувшина, стараясь угадать всем поровну.
– И много народу ныне язва покосила?
– Какая язва?
– Так ведь княгиня от язвы моровой померла, у нас на Москве сказывали.
– Может и от язвы, – женщина округлила глаза и понизила голос. – А только как мучалась она, бедняжка. Ой, кричала как!
– Ай-ай-ай, – притворно заахал я, поощряя рассказчицу.
– Как княгине кончаться, нас, всю прислугу из терема выгнали. Стражу сразу всю сменили. А при ней одна служанка осталась, тоже больная сильно. Но она всё же поправилась, а княгинюшка кончалась к полудню. Монголка эта, служанка, Салгар её зовут, сказывают, и по сей день в том тереме живет за крепким караулом. Прямо и не знаю, чего бы им и не отпустить её?
Засиделись мы у гостеприимного Голована чуть не до первых петухов. Говорилось о погоде, о видах на предстоящий урожай, ценах на рынке. Мне не хотелось оставлять в хозяевах впечатления, будто судьба умершей княгини – единственное, что нас интересует. Давно угомонились хозяйские детишки, ушла на свою половину хозяйка, когда, наконец, Голован в опорках на босу ногу вышел провожать нас к воротам.
– Ты это… Голован, ежели кто будет спрашивать, отвечай, мол, заезжие каменщики знакомые заходили.
– Знамо дело, наше дело – сторона!
Тут его резко повело, и он ухватился за столб ворот. С другого бока его поддержал Корней.
– И хозяюшке своей накажи, пусть поостережется о нас судачить. Не ровён час, шепотки пойдут, что Головановы хлеб – соль с московскими водят! Вам же боком выйдет.
– Ништо! У меня замолчит! Я эть чуть что – косу на руку и учить… я эть… у меня… А московских не люблю! Вот вас с полным уважением – потому как князь ко мне с уважением. И я – с уважением!
– Ну, прощай…
Мы двинулись по улице. Голован махнул нам вслед, не отрывая второй руки от спасительного столба. Из его горла неожиданно вырвались такие мощные переливы, каких никак нельзя было ожидать от столь тщедушного тела:
– Не шуми ты, мати, зелёная дубравушка!
Мы перешли на рысь.
Пленная татарка, прислуга умершей княгини, была теперь единственной, как мне представлялось, ниточкой ведущей нас к разгадке. Если сдобная Головановская подруга жизни не привирала, Салгар до последнего времени держали в покоях правой стороны великокняжеского дворца. Они соединялись с центральным теремом, где проживал сам тверской князь с семьёй, длинным крытым переходом. Вообще, все богатые дворцы представляют собой скопище всевозможных хоромин. Некоторые были построены ранее, другие пристраивались позже, все случайно, без всякого рассуждения о благолепии, зачастую – единственно сообразуясь с хозяйственными надобностями. Вот в Литве мне приходилось видеть, как устраивают замки тамошние знатные люди. Обычно постройкой руководили литвины, обучавшиеся этому у немцев-рыцарей. Там всё по плану, всё «по шнурке». А наши нагромоздят, навертят одну хоромину на другую, и странно – выйдет удивительно хорошо.
Не знаю, на что рассчитывал Иван Данилович, когда отправлял нас в Тверь. На неземную удачу? Может, ему казалось, что мне подвернётся во вражеском гнезде словоохотливый тверячок, принимавший участие в тайных делишках князя Михаила? Подвернётся, и за кружкой пива расскажет, как они обтяпали это дельце с Кончакой?
Так думалось мне в бессонные ночи, последовавшие за посещением гостеприимного Голована. В тёмном как могила жилище охотника потрескивали рассыхающиеся бревна да наперебой храпели Корней и хозяин, заглушая пение распоясавшихся дедовых сверчков. А я лежал на лавке и таращил глаза в угольную черноту ночи, размышляя. Нет, скорее всего, князь московский не ждёт от меня большого проку в этом расследовании. Верный своей привычке не складывать все яйца в одну корзину, Иван Данилович, хочет использовать любую возможность что-нибудь вынюхать и разузнать. Может быть, мы с Корнеем не одни в Твери. Может и кто другой тайно распутывает следы. В этом случае нам следовало поторопиться. Мы торчим здесь уже полмесяца и чего добились? Ну, пропили чуть не все княжеские деньги, угощая случайных спутников в большом путешествии по городским корчмам. А узнали до обидного мало: точно, была у князя Михаила пленница – супруга князя московского Юрия (тут за Великого князя владимирского его не признавали), да младший брат его – Борис. Вместе с ними в плен после декабрьской сечи под селом Бортнево, сдались ещё и ханский посол Кавгадый, и с ним несколько татарских мурз, сопровождавших его.
Кавгадыя и татар в плену держали вольно. Многие из тверичей видели как Кавгадый чуть не в обнимку с князем Михаилом разъезжали по городским улицам, каждый божий день устраивая то пиры, то охоту. Кавгадый и освобождён был первым из всех. К исходу святок татары всей ордой оставили гостеприимную Тверь. Их провожали по первому разряду, как дорогих гостей. Михаил Ярославович лебезил, угождая Кавгадыю и пытаясь заручиться его дружбой. Как видно, хотел иметь заступника перед грозным Узбеком в своем споре с Юрием за Великое владимирское княжение.
Московские воины просидели в остроге до самой масленицы. Их мытарства я прекрасно знал из рассказов князя Корнея. Только когда князь Юрий с новгородцами миновал Валдай и приблизился к самым границам тверских земель, настал черёд их освобождения. Михаил вышел навстречу новгородцам с сильным войском. Обе рати больше недели простояли на берегах Волги, матеря друг друга, вернее – враг врага, через неширокую в верховьях реку, но на битву не отважились. Подписали мировую, по которой Михаил признавал Юрия Великим владимирским князем, то есть главным князем на Руси. Окончательно решить спор должны были в Орде, куда тот и другой согласились ехать летом. Зимних пленников-москвичей Михаил обещался отпустить тотчас. Среди освобождённых, уходивших из Твери под насмешки и хохот тверского народа был и князь Корней. Его не до конца зажившая рана и княжеский сан давали преимущество: он ехал в санях, на которых разместилось ещё с пяток увечных и калек.
В самый канун освобождения скончалась княгиня Агафья-Кончака.
Глава шестая
На смирного бог нанесет, резвый сам набежит
Весть о появлении на Неве шведских ладей, битком набитых королевскими стрелками, принес в Новгород молодой чухонец из рыбачьей деревеньки, стоявшей в самом устье реки. Он своими глазами видел, как в полдень со стороны Финского залива появилась флотилия под пёстрыми разноцветными парусами, и пристала к берегу. Тяжело нагруженные низко сидящие суденышки останавливались, не доходя до берега, с них прямо в воду горохом сыпались вооружённые люди и, ухватясь за смолёные борта, вытаскивали ладьи через прибой на прибрежный песок. Сам чухонец, бросив на берегу немудреные рыбацкие снасти, лежал за дюнами, и, плача от бессильной ярости, смотрел, как одна за другой вспыхивают огнём хижины его родни и соседей. Шведы согнали на берег всех жителей, отделили от толпы несколько молодых женщин, связав, затащили на корабли, затем деловито перебросали туда же понравившиеся им пожитки, что нашли в домах. Раздался звук рога, воины снова ухватились за борта, вытолкали ладьи на глубину и те, красиво разом повернувшись, побежали вверх по реке.