Читать онлайн И ты познаешь любовь бесплатно
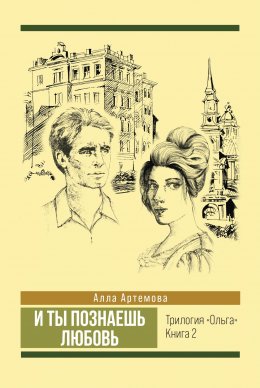
© Алла Артемова, 2023
© Общенациональная ассоциация молодых музыкантов, поэтов и прозаиков, 2023
* * *
Памяти горячо любимой дочери Ольги, трагически погибшей в автомобильной катастрофе, посвящаю
I
– Эй, друг, – Григорий несколько раз ударил ладонью по кабине грузовика, – останови машину. Мы приехали.
Шофер резко затормозил, и грузовик, подняв столб пыли, остановился посредине дороги. Григорий спрыгнул на землю и помог Маше вылезти из кузова.
– Спасибо, браток, что подвез, – Григорий крепко пожал руку пожилому в армейской гимнастерке шоферу.
– Да что уж, – шофер нажал на педаль сцепления, и грузовик рванул с места. – Будьте счастливы, – прокричал он, и машина через минуту скрылась из виду за поворотом, оставив после себя плотную завесу из пыли.
Маша помахала рукой вслед удаляющемуся грузовику, затем быстро подняла с земли маленький из плотного картона чемодан и тихо сказала:
– Гриша, я готова… Пошли?!
Григорий перекинул через плечо вещевой мешок и, опьяненный ароматом цветущих деревьев – сирени, яблони и абрикос, расправил грудь и глубоко вздохнул. Несколько минут он не двигался с места и молчаливым взором, полным радостного восторга и неподдельного счастья, любовался картиной деревенского простора.
– Пошли, – наконец сказал Григорий и уверенно зашагал по пыльной дороге.
– Гриша… – Маша чуть ли не бегом следовала за Орловым, – маленькие домики, которые виднеются вдали, это и есть твоя родная деревня?
– Да. Деревня Озерки, – не поворачивая головы, бодрым тоном ответил Григорий и ускорил шаг.
Ему казалось, он еле плетется по дороге, в то время как его душа, подобно птице, летела, не зная преград, к родному дому. Маша прекрасно понимала и уважала чувства, которые испытывал Григорий. Она и сама заметно нервничала от предстоящей встречи с родными и близкими Орлова. Как они встретят ее и как отнесутся к ней? В дороге они много говорили об этом, и Маша со слов Григория была уже заочно знакома со всеми, включая и родных Ольги Светловой, о которых Григорий рассказывал с такой любовью и нежностью, словно они были его вторая семья. Маша уже любила их и в первую очередь потому, что их любил Григорий, самый родной для нее на свете человек. Однако где-то в глубине души она побаивалась встречи с матерью Григория, женщиной умной и проницательной. Клавдия Ивановна никогда в детстве не баловала своих детей и не потакала их капризам. Она воспитала их честными и порядочными людьми, для которых соблюдение нравственных принципов человеческой морали – не пустые слова, а основной закон жизни. Григорий как-то сказал Маше, что он однолюб и его любовь к Ольге на всю жизнь.
– Возможно, эту черту характера я унаследовал от родителей, которые прожили в любви и согласии двадцать шесть лет, и я не помню случая, чтобы они не то чтобы поругались, но даже позволили бы себе хоть раз обратиться друг к другу в грубой форме. Их любовь была сильная и крепкая, и я не мог не восторгаться ею, она была для меня эталоном, – пояснил при этом он.
Почти четыре года прошло с того момента, как Григорий покинул родную деревню. И вот сейчас перед ним предстала совсем другая деревня, жестокая война наложила страшный отпечаток на ее внешний облик, который чувствовался на каждом шагу. Маша и Григорий торопливой походкой шли по главной деревенской улице, вдоль которой до самой церкви, стоявшей на возвышении на самом краю деревни, росли два ряда пирамидальных тополей. Григорий с интересом смотрел по сторонам и его взгляд постоянно натыкался то на глубокую воронку от бомбы, успевшую зарасти высоким бурьяном, то на разрушенный или сгоревший дом. На улице прогуливались кошки и собаки, гуси лениво пощипывали сочную траву, а куры бегали около домов. Мгновенно воспоминания о прошлом нахлынули на Григория. По этой улице он когда-то каждый день бегал в школу. То было яркое и незабываемое время счастливой юности. Этот дом и тот, напротив, любой укромный уголок или дерево имеют для него свое прошлое, которое на каждом шагу напоминает о себе, заставляя трепетно биться сердце. А вот и старый в три обхвата дуб. Как часто они с Ольгой Светловой сидели под ним на маленькой скамейке, обсуждали насущные проблемы, много и шумно спорили, смеялись или просто молча любовались красотами деревенской природы и слушали пение птиц.
– Ой… свят-свят… – высокая, дородная, в два обхвата женщина, шедшая по дороге навстречу Маше и Григорию, остановилась, опустила ведро с водой на землю и всплеснула руками. – Да никак, это Григорий, сын Клавдии Орловой.
– Да, Марфа Ивановна, это я.
– Боже мой… жив, жив, – Марфа Ивановна, тяжело ступая, сделала шаг навстречу Григорию и заключила его в объятиях. – Радость-то какая… радость… Дождалась Клавдия сынка своего.
Марфа Ивановна Скляр была женщина добрая, но слишком несдержанная на язык, и за это в деревне ее недолюбливали. Речь ее обычно текла, не имея ни начала, ни конца.
Но на этот раз женщина произнесла всего несколько пустых фраз, затем отстранила от себя Григория, размазала слезы по щекам и плаксивым голосом сказала:
– Мой-то, Гаврила Силыч, погиб в 1942 году под Ленинградом, а сынок, цветик ясноглазый, Сеня, вот уже почти год ни письма, ни весточки не шлет. Негодник… Вот, право, негодник. Может, ты, Григорий, где на фронте встречал сынка моего?
– Нет, Марфа Ивановна, не довелось, – Григорий пожал плечами.
– Жа-а-аль, – женщина сморщила нос. – Ой, а это кто? – воскликнула она и ткнула Машу в грудь. – Никак невесту привез с фронта или, того лучше, жену?
– И не то, и не другое. Это Маша Прохорова, медсестра. Она сопровождает меня из госпиталя домой.
– Сопровождает?! Что-то не пойму я… Чего сопровождать-то тебя? Вроде как руки-ноги целы, голова на плечах…
Григорий взял Машу за руку и потянул за собой.
– Извините, Марфа Ивановна, некогда нам…
– Ну-ну… – Марфа Ивановна некоторое время потопталась на месте, провожая взглядом Машу и Григория, затем подняла ведро и продолжила свой путь.
– Медсестра!? Тьфу ты… – Марфа Ивановна от досады, точно ее самым подлым образом обманули, сплюнула на землю и ускорила шаг.
Пройдя по улице метров двадцать, она свернула к дому Евдокии Усановой и вошла во двор. Кругом было тихо и безлюдно. Даже пес Мармышка, получивший столь странное прозвище за то, что постоянно сопровождал своего хозяина Никиту Себастьяновича на рыбалку и при этом проявлял особый интерес к этому делу, при виде Марфы Ивановны не подал голос.
– Евдокия, слышь, Евдокия… – прокричала Марфа Ивановна и раза два легонько ударила по стеклу.
Несколько минут в доме стояла тишина, затем послышался шум и легкие шаги.
– Чего тебе? – Евдокия Марковна, приходившаяся Марфе Ивановне двоюродной сестрой по материнской линии, распахнула окно.
– Чего-чего… – передразнила Марфа Ивановна сестру и поджала губы, явно недовольная столь нелюбезным приемом.
– Марфа, ладно тебе дуться. Делов у меня по горло, а ты, похоже, опять пришла почесать языком.
– А вот и нет. Лучше угадай, кого я сейчас встретила недалеко от твоего дома?
– И угадывать даже не буду, – Евдокия Марковна протянула руку, чтобы закрыть окно.
Марфа Ивановна перехватила ее руку.
– Да подожди ты. Я встретила Григория Орлова. Соображаешь?
– Кого? Кого?
– Да говорю тебе, Григория Орлова, сынка Клавдии, красавицы нашей. Идет себе по главной улице, шинель нараспашку, вещмешок за плечом. Хорош, ничего не скажешь.
– Надо же, – тихим восторженным голосом произнесла Евдокия Марковна. – Вернулся…
– Вернулся, вернулся, – затараторила Марфа Ивановна, – Больше того, вернулся не один, а с девушкой. Спрашиваю: «Кто такая?». Отвечает: «Медсестра. Сопровождает меня из госпиталя домой».
– Он серьезно ранен?
– Да нет. По крайней мере, явных признаков никаких.
– А девушка? Молода, красива?
– Молода? Да. А вот по части красоты, я бы сказала, дурнушка. Представь себе, цвет ее волос напоминает грязно-желтый цвет монеты, да еще по лицу разбросаны мелкие веснушки.
– Ты успела так хорошо разглядеть ее?
– Да как сказать… Просто ее некрасота слишком бросается в глаза. Знаешь, мне кажется, Орлов обманул меня. Никакая она не медсестра.
– Но зачем ему обманывать тебя?
– Сама не знаю. Просто предчувствие. Орлов так быстро заспешил домой, когда я стала расспрашивать об этой девушке. В какой-то момент мне показалось, он даже растерялся. Как ты думаешь, может быть, он женился на этой девушке, но до поры до времени хочет скрыть это? А может быть, у него была мимолетная связь с ней, и он не знает теперь, как отвязаться от нее, поэтому и представил ее медсестрой, чтобы было меньше разговоров.
– Марфа, перестань нести чушь. Твои фантазии до добра не доведут.
– Это не фантазии, а предчувствие, которое никогда меня не обманывает. А помнишь, перед самой войной у Григория была любовь с дочерью Светловых – Ольгой. Вся деревня тогда об этом только и говорила. И если бы не война, они обязательно поженились бы.
– Марфа, хватит, иди домой. И не смей об этом больше ни с кем говорить. Не дай Бог, твоя болтовня дойдет до Марии. Ты же ничего не знаешь наверняка, все это лишь твои домыслы.
– Домыслы!? Посмотрим…
Марфа Ивановна передернула плечами. Она не собиралась больше обсуждать новость со своей сестрой, так как та не проявила должного интереса к ее рассказу. Сама же Марфа Ивановна считала новость потрясающей и достойной, чтобы о ней узнала вся деревня со всеми пикантными подробностями. Уж об этом она позаботится. А тем временем Григорий с Машей подходили к дому Орловых. Григорий замедлил шаг и мгновенно почувствовал, как у него перехватило дыхание и учащенно забилось сердце. Маша посмотрела на Григория, он был белее бумаги.
– Григорий, что с тобой? Тебе плохо? – Маша тронула Григория за руку.
– Нет, Маша, все нормально. Мы пришли. Перед нами мой родной дом, в котором я не был целую вечность, – Григорий отворил калитку и вошел во двор.
Клавдия Ивановна ловкими и быстрыми движениями полола грядки с картошкой. Время от времени она вытирала рукой капельки пота, выступившие на лбу, и поправляла черную косынку, которую носила вот уже три года, после того как получила похоронку на мужа. Григорий остановился и от волнения не в силах был произнести ни единого слова. Клавдия Ивановна не увидела, скорее почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Она резко повернулась и от неожиданности на мгновение застыла.
– Сы-но-к… – она закричала так, словно хотела, чтобы весь мир услышал ее. – Сы-но-к…
– Ма-ма… – Григорий бросился к Клавдии Ивановне.
Маша, глядя со стороны на трогательную сцену встречи матери и сына, не смогла сдержать слез.
– Гришенька, ты жив… мальчик мой родной, – Клавдия Ивановна водила рукой по лицу сына и плакала. – Я так ждала тебя, сынок…
– Мама, не плачь, прошу тебя, – тихо шептал Григорий, стараясь изо всех сил не расплакаться сам.
– Я плачу от счастья. Ты жив… ты вернулся. Как же мне не плакать, сынок.
Лицо матери за годы войны почти не изменилось. Оно было такое же милое и родное, как и в детстве, когда Григорий, будучи маленьким мальчишкой, уткнувшись в подол ее платья, искал у нее поддержки и утешения в своих детских печалях.
Григорий еще раз обнял мать, после чего легонько отстранил и произнес:
– Ну все, успокойся…
Клавдии Ивановне с трудом удалось совладать с собой. Она улыбнулась сквозь слезы.
Григорий негромко откашлялся и, слегка смутившись, произнес:
– Мама, познакомься, это Маша Прохорова. Она медсестра.
Маша поставила чемодан на землю и протянула руку Клавдии Ивановне.
– Здравствуйте, Клавдия Ивановна, – зардевшись, произнесла она. – Я очень рада с вами познакомиться.
– Здравствуй, Маша, – с видом легкого изумления сказала мать Григория и пожала, протянутую руку. – Ой, что же мы стоим, пойдемте в дом.
Они вошли в дом. В доме пахло молоком, дымом и тем неопределенным запахом крестьянского дома, который со временем устоялся и стал неотъемлемой частью жилища. У печки, свернувшись в клубок, дремала кошка, а под лавкой в углу – собака. Медная и фаянсовая посуда была аккуратно расставлена на полке, которая висела напротив входной двери. Клавдия Ивановна вытерла руки о фартук и бросилась к печи.
– Вы, наверное, проголодались. Я сейчас вас накормлю. У меня сегодня очень вкусный борщ, твой любимый, Гришенька.
И пока Клавдия Ивановна хлопотала у печи, Григорий помог Маше снять пальто.
– Проходи, – сказал он и украдкой посмотрел на девушку.
Маша с интересом огляделась вокруг. Она столько раз представляла себе дом, в котором жил Григорий, что сейчас даже удивилась, как ее представления были близки к истине. В доме было три комнаты и маленькая кухня, скромная мебель, но все чисто и уютно. В большой комнате у окна стояла железная кровать, застланная светлым покрывалом, подушечка лежала на подушечке. Рядом с кроватью – этажерка, сплетенная из прутьев. На полке – два штабеля книг. На стене висели несколько фотографий, на одной из них под стеклом в большой крашенной раме были изображены молодые родители Григория: Клавдия Ивановна в белой фате и подвенечном платье сжимала в руке скромный букет полевых цветов, рядом с ней в строгом черном костюме стоял ее муж Всеслав Павлович.
– Какие они молодые и красивые! – воскликнула Маша, не в силах сдержать эмоции, внезапно нахлынувшие на нее.
– Нам было всего по двадцать лет, когда мы поженились, – сказала Клавдия Ивановна, входя в комнату с большой кастрюлей в руках. – Прошло столько лет, а мне кажется, словно это было вчера. Я помню все до мельчайшей подробности, особенно сейчас, когда Всеслава… не стало. – Клавдия Ивановна поставила кастрюлю на стол и тяжело вздохнула. – Григорий, приглашай гостью к столу.
Они сели обедать. Это был скромный деревенский обед, но длинный и оживленный.
– Так значит, ты, Машенька, медсестра? – мягким вкрадчивым голосом спросила Клавдия Ивановна и с интересом посмотрела на девушку.
– Да.
– Мама, я должен кое-что объяснить, чтобы тебе было все понятно в отношении Маши. Как я тебе уже писал, я был ранен в грудь и больше месяца провел в военном госпитале. Маша ухаживала за мной, а когда меня комиссовали, ей было поручено сопровождать меня из госпиталя домой.
– Гришенька, но ты же писал, что твоя рана не вызывает опасений, а на самом деле…
– Так и есть, мама. Ничего страшного. Ты сама видишь… Я жив, руки, ноги целы.
– Нет, Гришенька, ты что-то скрываешь от меня. Скажи честно, почему тебя комиссовали? Что с тобой?
– Клавдия Ивановна, – Маша отодвинула пустую тарелку в сторону и положила руки на стол, – любое ранение в грудь не может быть безобидным, так как в течение нескольких месяцев после операции возможны рецидивы.
– Маша! – прервал девушку Григорий и укоризненно покачал головой.
– Да, Гриша, возможны, – упорно повторила Маша и почувствовала, как кровь бросилась ей в голову и прилила к щекам.
Маша оказалась в щекотливом положении. С одной стороны, она не хотела расстраивать Клавдию Ивановну и рассказывать ей правду о ранении ее сына. А с другой стороны, если она промолчит и ничего не скажет, ее приезд в деревню будет выглядеть подозрительным и Клавдия Ивановна обо всем догадается. А ведь именно этого Маша меньше всего хотела. Никто не должен знать истинной причины, по которой она приехала в деревню. Никто… Даже Григорий.
– Однако Клавдия Ивановна, не стоит так сильно волноваться. Григорию первое время придется избегать физических нагрузок. Никаких лишних волнений и переживаний, хороший уход, чистый деревенский воздух – и поверьте мне, не пройдет и полугода, как у него все нормализуется.
– Ну, если так… – неуверенно произнесла Клавдия Ивановна.
– Да, мама, именно так. И давай больше не будем об этом говорить, – быстро, с каким-то тревожным беспокойством проговорил Григорий, затем встал, подошел к окну и отворил створки.
Легкие струйки теплого ветерка пробежали по его волосам. Птички щебетали как-то особенно нежно, тонкий, но сильный запах цветущих деревьев проникал повсюду.
– Мама, скажи, а от Ольги так и нет никаких известий?
– Никаких, сынок.
– А Наташа, – Григорий вдруг встрепенулся и всплеснул руками, – где она, где моя родная сестренка?
– Наталья!? – Клавдия Ивановна нервным движением руки провела по скатерти, расправляя складки. – Она два дня назад уехала к своей свекрови, – Клавдия Ивановна перевела взгляд на Машу и пояснила: – Наталья вышла замуж перед самой войной и, как полагается, переехала в соседнюю деревню в дом своего мужа. В самом начале войны ее муж Максим погиб, и Наталья еще год после его смерти жила вместе со свекровью. Со смертью сына та сильно сдала. У нее кроме Максима не было больше детей, а муж погиб еще в гражданскую. Тяжело ей было в одиночестве переносить свое горе, вот Наталья и пожалела ее. Моей дочери было двадцать три года, когда она овдовела. В этом возрасте женщина еще молода, полна сил и энергии. Поэтому просто грешно хоронить себя заживо, живя со старухой, матерью своего погибшего мужа. Я ей не раз об этом говорила. Наконец Наталья вернулась домой, и что же… Свекровь оказалась женщиной эгоистичной. Она не дает Наталье спокойно жить. То она заболела, то у нее какие-то неурядицы, а то просто приснился дурной сон. И твоя сестричка должна бросать все: дом, работу, и сломя голову мчаться к ней. Вот и сейчас, ее, видите ли, одолевают дурные предчувствия и она не может спокойно спать. Пропади она пропадом, – Клавдия Ивановна от злости сплюнула на пол.
– Мама, а может быть, ты ревнуешь Наташу к ее свекрови?
– Ревную? Нет, сынок. Я просто негодую на нее. Мы все к старости меняемся, становимся капризными, как малые дети, обидчивыми, а порой и просто вредными, но не до такой же степени. Старуха уже замучила своими капризами девочку. Наталья молчит, но я же вижу, как она устала. Под глазами появились темные круги, лицо бледное, без единой кровинки. Да ты сам, Гриша, посуди. До соседней деревни двадцать километров, и хорошо еще, если попутная машина подвезет, а если нет… Сколько раз бывало, что ее в пути заставал то дождь, то снег. Однажды она сильно промокла и целую неделю не вставала с постели. После этого случая я запретила Наталье ездить к свекрови, но куда там… А ты говоришь «ревную»! – Клавдия Ивановна от обиды надула губы.
– Мама, я вовсе не хотел тебя обидеть, – Григорий подошел к матери, сел рядом и обнял за плечи. – Успокойся. Я обещаю тебе поговорить с Наташиной свекровью и вразумить ее.
– Правда? Ты обещаешь? – обрадовалась Клавдия Ивановна.
– Конечно. Теперь расскажи местные новости. Кто-нибудь из ребят вернулся с фронта?
– Николай Басин вернулся еще прошлой осенью, правда, без руки… правой. Ефин Сенцов погиб в самом начале войны, Владимир Щербаков, кажется, в 1943-м, а Олег Лобов – 1944-м. Это все, о ком я знаю.
– Жаль ребят, очень жаль… – Григорий покачал головой. – Какие еще значительные события произошли за эти годы в деревне?
Клавдия Ивановна, соблюдая хронологическую последовательность, поведала сыну и Маше о свадьбах и рождениях, об умерших, о падении цен на рожь и новостях относительно скота. Самым забавным событием, произошедшим за последнее время, Клавдия Ивановна считала свадьбу (дед Евсей, семидесяти шести лет от роду сочетался церковным браком с бабкой Авдотьей восьмидесяти лет), которая состоялась поздней осенью 1944 года. Деревенские жители до сих пор без смеха не могут ее вспоминать. Дед Евсей за праздничным столом после второй рюмки самогонки решительно заявил, что поспешил со свадьбой, так как бабка Авдотья стара для него, и он завтра же обратится к батюшке Матвею с просьбой расторгнуть этот брак. Бабке Авдотье после таких слов сделалось дурно, и старушки еле откачали ее. Придя в себя, бабка Авдотья огрела своего мужа скалкой по голове и так же решительно заявила, что не позволит порочить свою девичью честь. Завязалась потасовка, которая, на радость всем гостям, закончилась любовным примирением. Григорий и Маша весело смеялись, слушая рассказ Клавдии Ивановны.
Радостная весть о возвращении Григория домой с молниеносной быстротой облетела деревню, и все жители от мала до велика поспешили в дом Орловых. В саду под сенью цветущих яблонь и вишен поставили несколько столов и деревянных лавок. Каждый, кто приходил к Орловым, считал своим долгом что-нибудь принести к столу. Даже дед Евсей расщедрился и принес две бутылки самогонки, которые он припрятал от жены. Счастливая Клавдия Ивановна не могла налюбоваться своим сыном, стоявшим в окружении деревенских женщин, которые, толкая и перебивая друг друга, наседали на Григория, пытаясь узнать, не встречал ли он на фронте их мужей и сыновей. Маша смущенно стояла в стороне и так же, как и Клавдия Ивановна, не могла оторвать взгляд от Григория. Однако не только Григорий пользовался всеобщим вниманием, но и она, Маша Прохорова. Женщины – кто тайком, а кто и с каким-то вызовом – смотрели на Машу, а некоторые даже показывали на нее пальцами и шепотом переговаривались между собой. Маша чувствовала на себе их осуждающие взгляды и не могла понять, почему эти люди, совсем не знавшие ее, так быстро вынесли ей обвинительный приговор. Мария Петровна Светлова пришла, когда все уже сидели за столом и первая рюмка – «За тех, кто погиб, защищая свою родину и свой народ» – была уже выпита. Она подошла к столу, прижала руки к груди и до боли прикусила губу, пытаясь сдержать рыдания, которые, точно железный обруч, сдавили ей горло. Григорий быстро встал и подошел к Марии Петровне.
– Гришенька, родной… – Мария Петровна разрыдалась.
Громкие голоса резко оборвались, и люди молчаливыми взорами смотрели, как Мария Петровна, уткнувшись в плечо Григория, плакала, вздрагивая всем телом.
– Мария, подружка, – Клавдия Ивановна решительно встала. – У меня сегодня такая радость… Сын вернулся, а ты, похоже, решила утопить его в море своих слез. Да разве мало мы с тобой пролили их, чтобы еще и сегодня, в такой счастливый день, дать им волю. Хватит слез, улыбнись и выпей с нами за победу, за сына моего и за тех, кто еще обязательно вернется. Мария, ты слышишь меня, обязательно вернется!
Мария Петровна смахнула слезы и встряхнула головой.
– Простите меня, люди добрые… Не сдержалась я. Все вдруг разом нахлынуло, набежало… Права ты, Клавдия, мы должны выпить за тех, кто еще не вернулся, но обязательно вернется. Бабоньки, за наших родных и любимых, за наших детей и мужей!
Кто-то услужливо протянул Марии Петровне граненый стаканчик, доверху наполненный самогонкой, и она разом осушила его до дна.
– Мария, иди к нам, закуси, – выкрикнула Юлиана Пенькова, сорокалетняя вдова, до войны не раз мужем битая, и потому, когда в 1944 году получила на него похоронку, не пролила ни единой слезинки, а лишь на миг взгрустнула.
Однако Юлиана строго чтила деревенские обычаи и черный платок по мужу носила, не снимая.
– А почему именно к вам? – подал голос дед Евсей и украдкой посмотрел на бабку Авдотью, которая, похоже, зазевалась и пропустила слова мужа мимо ушей. – Мария, иди ко мне под бочок… какой-никакой, а мужик я, – совсем расхрабрился дед Евсей.
– Это кто здесь мужик? – бабка Авдотья строго глянула на деда Евсея. – Бабоньки, да врет он все… Уже как я не пыталась его расшевелить, какими только травами не поила, а у него все на полшестого.
Веселый дружный смех грянул как гром.
– Ну, бабка, ты прямо, как молодая, все мужика тебе подавай, – крякнул конюх Степан Трофимович, вытирая мокрые от смеха глаза.
– А как же. Евсей, когда замуж звал, все намеки давал, мол он ого-го, – бабка Авдотья после второй рюмки захмелела и дала волю языку.
– Бабка, тебе ведь уже, почитай, сто лет, а ты все в сказки веришь, – Степан Трофимович подмигнул деду Евсею.
– Это кому это сто лет? – бабка Авдотья громко икнула и уставилась на конюха.
– Авдотья, перестань, – дед Евсей толкнул жену в бок.
Громкая перебранка между конюхом и бабкой Авдотьей внесла веселое оживление, и люди разом зашумели и повскакивали с мест. Пытаясь перекричать друг друга, они стали рассказывать забавные и смешные случаи из жизни, весело шутили и смеялись.
Мария Петровна взяла под руку Григория и, взглянув на Машу слегка презрительно, произнесла:
– Хочу, Григорий, спросить тебя кое о чем.
– Да-да, Мария Петровна. Но прежде разрешите познакомить вас с Машей Прохоровой, – Григорий сделал выразительный жест рукой в сторону Маши, но Мария Петровна не повернула даже головы.
Лицо ее было бледное и ничего кроме немого упрека не выражало. Повернувшись к Маше спиной, она села рядом с Григорием, показывая всем своим видом, что не только знать, но и знакомиться с девушкой не намерена. Машу мгновенно бросило в жар, и ей вдруг стало не по себе.
«Боже мой! Почему она так со мной поступает?» – Маша плотно сжала губы и низко опустила голову, стараясь не расплакаться от обиды прямо на глазах у всех.
Вдруг раскрасневшаяся от выпитой самогонки Юлиана с силой ударила рукой по столу, призывая всех к тишине.
– Бабоньки, давайте споем, – предложила она и, обняв Марфу и Клавдию за плечи, озорно улыбнулась.
Через минуту Юлиана запела звонким протяжным голосом:
- Хасбулат удалой,
- Бедна сакля твоя.
- Золотою казной
- Я осыплю тебя.
Женщины дружно подхватили слова, и вскоре задушевная песня понеслась над деревней:
- Дам коня, дам кинжал,
- Дам винтовку свою.
- А за это за все
- Ты отдай мне жену.
Дед Евсей скрутил самокрутку и сделал несколько глубоких затяжек. Его рука заметно дрожала, когда он подносил ее ко рту, а по щекам – то ли от того, что песня его растрогала, а может быть, домашний табачок был ядреный – текли слезы. Он несколько раз смачно шмыгнул носом и провел рукой по лицу. Бабка Авдотья вторила голосистым певуньям старческим, чуть охрипшим голосом, невольно предаваясь воспоминаниям о прошедшей молодости.
– Мария… – громким шепотом окликнула Светлову Клавдия Ивановна и махнула рукой, – пойдем со мной, поможешь принести из погреба соленые огурцы и помидоры. Смотрю, хорошо они пошли под самогоночку.
– Мама, давай я тебе помогу, – предложил Григорий.
– Нет-нет, сынок, не надо. Отдыхай, родной, – Клавдия Ивановна на мгновение прижалась щекой к плечу сына. – Отдыхай. Ну что, Мария, пошли?
Войдя в дом, Клавдия Ивановна плотно прикрыла за собой входную дверь и с обеспокоенным видом обратилась к Светловой:
– Мария, что с тобой?
– А что со мной? – после секундного колебания произнесла Мария Петровна.
– Почему ты так ведешь себя? Почему, когда Григорий хотел тебя познакомить с девушкой, ты даже не взглянула на нее?
– А что мне смотреть-то на нее? Это ты должна прыгать от радости, а меня это не касается, – Мария Петровна гордо вскинула голову и уставилась в потолок.
– Да о чем ты, подружка? Что-то не пойму я. Ты хоть знаешь, кто эта девушка?
– Еще бы! Не только я, но и вся деревня знает. Жена она твоего Григория. Же-на. А совсем скоро ты станешь бабушкой, так как твоя невестка беременная, да притом уже на пятом месяце, – с ехидной усмешкой процедила Мария Петровна.
– Что!? – Клавдия Ивановна всплеснула руками и без сил повалилась на скамейку. – Боже мой, какую чушь ты несешь, Мария!
– Чушь?! А вот ты лучше своего сынка спроси, как он мог так быстро завести на фронте шуры-муры с этой девицей, да еще оставить с животом. Хотя чему удивляться… мужик, он и есть мужик, а вот девица, небось, на седьмом небе от счастья. Еще бы, такого парня подцепила. Сама-то, как говорится, без слез не взглянешь…
– Мария, замолчи. Боже мой, сколько в тебе злости-то… Я никогда не думала, что ты способна очернить человека, даже не зная его, – Клавдия Ивановна с горечью посмотрела на Марию Петровну и покачала головой.
– Нет, Клавдия, это не злость, а боль, которая меня точно парализовала, когда я узнала все подробности о Григории и этой девице.
– Да кто тебе об этом сказал? Скажи, кто?
– Какая разница, кто сказал, – Мария Петровна махнула рукой.
– Я догадываюсь, кто такую гадость мог придумать, да еще растрезвонить по всей деревне, – Клавдия Ивановна резко встала и в нервном возбуждении стала метаться из угла в угол. – Это Марфа, конечно, Марфа Скляр.
Клавдия Ивановна остановись и, поставив руки на бедра, с вызовом посмотрела на Марию Петровну.
– Да, – вынуждена была согласиться Светлова после минуты молчания. – Только…
– Мария, никаких только. Я этой Марфе, этой змее подколодной, когда-нибудь язык вырву. Нет, надо же такое только придумать!? То-то я смотрю, все рассматривают Машу, точно она какой диковинный зверь в клетке. Хихикают, перешептываются, друг другу подмигивают… А девушка чуть не плачет. Бедная, она понять не может, почему вся деревня проявляет к ней такой живой интерес. Ма-ри-я! – Клавдия Ивановна ударила рукой по скамейке, на которой сидела Светлова. Мария Петровна от неожиданности вздрогнула. – Девушка, которая приехала вместе с моим сыном, всего-навсего медицинская сестра. Она работала в госпитале, в котором Григорий находился на лечении после ранения. Григорий был ранен в грудь и, похоже, серьезно, поэтому его и комиссовали из действующей армии и отправили домой, а Маше поручили сопровождать его. Ты поняла меня?
– Ты в этом уверена?
– В чем уверена? – негодуя, переспросила Клавдия Ивановна.
– Да в том, что у девушки не было другой причины приезжать с Григорием в деревню, кроме той, о которой ты сказала?
– Конечно.
Мария Петровна встала, подошла к окну и, прислонившись к стене, посмотрела на улицу. Скрывшееся солнце вдруг вышло из облаков и осветило кухню. Все кругом озарилось и заиграло.
– Тогда посмотри, – Мария Петровна жестом показала на Машу и Григория, которые, укрывшись от людских глаз, стояли и беседовали около ветвистой, точно невеста на выданье в бело-розовом наряде, яблони.
Маша нежно сжимала руку Григория, и в ее взгляде было столько нежности, любви и восхищения, что казалось, она обожает мужчину, стоявшего рядом с ней, как Бога, и стремится к нему не только душой.
II
Черный «Бьюик» проехал мимо здания университета, свернул направо и на большой скорости помчался вдоль набережной реки Рейн. Дул холодный пронизывающий ветер и моросил мелкий, словно манная крупа, дождь. На улицах было безлюдно, лишь кое-где встречались одинокие пешеходы. Часы на городской ратуше пробили одиннадцать часов дня. Резко затормозив, Генрих Дитрих свернул с дороги на стоянку позади кафе. Он не спешил, до назначенной встречи оставалось больше часа. Маленькое, но уютное кафе нравилось Генриху, и он время от времени посещал его. Хозяин кафе – француз Жан Венсен, худой, среднего роста, ни одной примечательной черты – мог сойти как за бармена шикарного ресторана, так и за бизнесмена средней руки. Он ставил своей целью завоевать расположение посетителя с первого мгновения его появления в кафе. И это ему прекрасно удавалось. Обычно кто хоть раз побывал в кафе, тот не мог отказать себе в удовольствии посетить его еще раз, и в конце концов становился завсегдатаем.
Как только Генрих переступил порог кафе, Венсен оторвался от работы и с любезной улыбкой произнес:
– Добрый день, господин Дитрих. Рад вас видеть. Проходите, садитесь. Ну и лето в этом году… Третий день моросит дождь, а ветер такой холодный и пронизывающий.
– Да, погода не из приятных, – отозвался Генрих. – Жан, мне, как всегда, чашечку кофе и грюйер.
– Будет исполнено. Сию минуту.
Генрих сел за столик у окна. Посетителей в эти часы было мало. Обеденный перерыв в близрасположенных заведениях и конторах начинался в одно и то же время – между двенадцатью и двумя, а редкие случайные прохожие, даже несмотря на дождь, проходили мимо. Венсен поставил перед Генрихом чашечку ароматного кофе и небольшую тарелку, на которой были аккуратно разложены кусочки грюйерского сыра.
– Приятного аппетита.
– Спасибо, Жан.
Сделав небольшой глоток кофе, Генрих посмотрел на улицу. Дождь усиливался, и улица постепенно совсем опустела. Генрих неслучайно решил поселиться в Базеле, который по численности населения занимал второе место в Швейцарии. В этом городе жил его дядя Рудольф. И хотя Генрих не видел дядю много лет, он не сомневался, что тот с радостью встретит своего единственного племянника и на первых порах поможет ему во всех его начинаниях. Дядя Рудольф год как овдовел. Он прожил с Бетти двенадцать счастливых и незабываемых лет. Они были созданы друг для друга, и даже разница в возрасте, равная двадцати восьми годам, не была помехой в их семейной жизни. Однако здоровье Бетти было подорвано еще в детстве, и она не дожила до возраста Христа всего один год. Дядя Рудольф тосковал по безвременно ушедшей из жизни жене и все чаще и чаще задумывался о собственной смерти. Именно в этот печальный период его жизни и появился Генрих вместе с девушкой Ольгой и денщиком Шульцем. Дядя Рудольф оказался на редкость тактичным, внимательным и гостеприимным человеком. Он ни разу не спросил, кем же приходится Ольга его племяннику, возможно, потому что сам когда-то ради девушки, которую любил, оставил семью. Наблюдая со стороны за дядей, Генрих удивлялся, какие они разные с его отцом. Отец был сильный волевой человек, не способный сострадать и прощать людям их грехи и ошибки. Дядя Рудольф – полная ему противоположность. Он сразу же обратил внимание, что Ольга больна, и, используя свое влияние в обществе и большие связи, созвал консилиум лучших врачей в Базеле. Врачи поставили диагноз: полное истощение организма. Дядя Рудольф окружил девушку вниманием и заботой и даже нанял сиделку, которая дни и ночи неотлучно находилась у ее постели. Ольга воспринимала все происходящее вокруг с полным равнодушием. Когда-то в силу своих убеждений Генрих был далек от мысли, что может встретить женщину, способную не только привязать к себе, но и завладеть всеми его помыслами. Но вот уже полгода как русская девушка Ольга, волей судьбы ворвавшаяся в его жизнь, стала частицей его самого. Все, что было до нее, ушло в прошлое и было если не забыто, то глубоко похоронено в его сердце. Отныне девушка стала самым главным в его жизни. Казалось, на свете не существовало ничего, что бы он не смог сделать для нее. Через два месяца состояние Ольги значительно улучшилось. Генрих купил прекрасный дом с садом в фешенебельном пригороде города, нанял дизайнеров, постаравшихся на славу, и когда все было устроено и оборудовано, вместе с Ольгой и Шульцем переехал. Теперь Ольга всегда была рядом, он видел ее каждый день. Но она все так же была равнодушна и безучастна ко всему. Генрих для нее просто не существовал. И тогда он потерял сон и покой, он неистовствовал. Но самое ужасное, что в результате языкового барьера Генрих не мог с ней объясниться. Генрих был немец, а Ольга – русская, он боготворил ее, а она – ненавидела. Но Генрих не собирался сдаваться.
«Пора», – взглянув на часы, подумал Генрих и щелкнул пальцами, подзывая хозяина кафе.
– О-о-о… господин Дитрих, спасибо господин Дитрих, – кланяясь, произнес Венсен при виде солидных пурбуаров, которыми Генрих щедро одарил хозяина кафе. – Заходите еще. Всегда рады вас видеть. Удачи вам, господин Дитрих, – Венсен, не переставая улыбаться, проводил Генриха до дверей.
В приемной агентства «Суллана» Генриха встретила молодая красивая секретарша. Голубая шифоновая кофта в мелкий черный горошек оттеняла голубизну ее глаз, а каштановые волосы кольцами ниспадали до плеч.
– Добрый день, – приветствовала она Генриха.
– Добрый день. Мне назначена встреча на 12:30.
– Одну минуточку, господин…
– Моя фамилия Дитрих.
– Я сейчас доложу, господин Дитрих, – секретарша, грациозно покачивая бедрами, скрылась за дверью.
Через минуту она вышла и широко распахнула дверь.
– Прошу вас, господин Дитрих. Вас ждут.
Навстречу Генриху уже спешил генеральный директор агентства господин Бюрле. Краснощекое, пышущее здоровьем лицо, облысевшая голова и вся его неуклюжая фигура со слишком широкими бедрами придавали ему вид неотесанного служаки.
– Я очень рад, господин Дитрих, что вы почтили вниманием наше скромное агентство. Прошу вас. Кофе, виски?
– Нет, спасибо. Если не возражаете, я хотел бы сразу же приступить к изложению своего дела.
– Да, конечно. Я слушаю вас, – Бюрле жестом предложил Генриху сесть.
– Господин Бюрле, не знаю, сможете ли вы мне помочь. Честно говоря, я уже потерял всякую надежду. Прежде чем обратиться в ваше агентство, я побывал в трех аналогичных агентствах, но увы…
– Такое, к сожалению, бывает. Но думаю, у нас вам больше повезет. Итак, в чем проблема? – Бюрле мило улыбнулся.
– Мне по роду моей деятельности необходима сотрудница по особо важным поручениям. Девушка должна быть не старше тридцати лет и…
– О-о-о… – Бюрле нескромно хихикнул. – Понимаю, понимаю… Конечно, всегда приятно видеть перед собой красивое женское лицо, такое, к примеру, как у моей секретарши. Кстати, как она вам?
– Очень мила.
– Вы находите? – в глазах Бюрле появился живой блеск, и он, слегка покраснев, продолжил: – Знаете, я иногда прихожу на работу в скверном настроении. Скажу вам как мужчина мужчине, моя семейная жизнь – это сущий ад. Кстати, вы женаты?
– Нет.
– Мой вам совет: никогда не женитесь. Это я к слову… Так вот, прихожу я в агентство после очередного семейного скандала, а навстречу мне моя секретарша Эльза. Прекрасно одетая, с милой улыбкой на лице и к тому же вся благоухающая французскими духами «Шанель», нежный аромат которых, точно длинный королевский шлейф, неотступно следует за ней. А эти божественные формы… бюст, бедра…
– Господин Бюрле, – Генрих повысил голос, – все это очень интересно, но разрешите мне продолжить.
– Извините, господин Дитрих, извините.
– Кроме того, девушка должна знать русский язык так же хорошо, как и немецкий. Это мое непременное условие.
– Русский язык? – удивленно переспросил Бюрле.
– Да.
– В нашей стране русский язык непопулярен, – откинувшись на спинку кресла, заметил Бюрле. Через минуту он с решительным, почти вызывающим видом вскинул глаза на Генриха. – Мне кажется, я смогу вам помочь, и при этом нам даже не понадобится картотека на русских эмигрантов, прибывших в Швейцарию. Эдит Витхайт, двадцать шесть лет, не замужем, живет с бабушкой на окраине Базеля.
Генрих с интересом посмотрел на генерального директора. Странное чувство. Уверенность Бюрле в том, что Витхайт и есть та девушка, которая ему необходима, мгновенно передалась Генриху.
– Видите ли, господин Дитрих, месяц назад ввиду финансовых затруднений, мы вынуждены были уволить несколько сотрудников. Среди них была и Витхайт, девушка трудолюбивая и исполнительная. Мне было жаль с ней расставаться. Но бизнес есть бизнес и здесь, как говорится, не до сантиментов.
Генрих подался вперед. Рассказ генерального директора заинтересовал его.
– Я не случайно сказал, что Витхайт живет с бабушкой – фамилия ее в девичестве была Лаврухина. Семья Лаврухиных когда-то принадлежала к известному русскому роду. Бабушка приехала в Швейцарию в конце прошлого века. Она прожила в нашей стране почти пятьдесят лет, но умереть хочет в России. Странные фантазии у старушки, не правда ли? Витхайт сильно привязана к ней. Старушка воспитала ее (родители Эдит умерли, когда ей было всего три года). Девушка унаследовала от бабушки любовь ко всему русскому. Она не только хорошо говорит, но и пишет по-русски.
– Прекрасно. Я хотел бы лично встретиться с этой девушкой и поговорить с ней.
– Назначьте время, когда вам будет удобно, а я предупрежу Витхайт.
– Завтра в 14:00, – и Генрих назвал адрес «Швейцеришен банкферейна».
Генрих и Бюрле расстались в дружеских отношениях и на прощание пожали друг другу руки. Каждый из них остался доволен встречей. Генрих в приподнятом настроении отправился в банк. «Швейцеришен банкферейн» принадлежал швейцарской корпорации, и было хорошо известно, что руководство предпочитало нанимать на ведущие посты только швейцарцев. Генриха взяли на руководящую должность только благодаря рекомендации дяди. Служба в «Швейцеришен банкферейне» была престижной, и ею можно было гордиться. Бытовало мнение: если служащий «Швейцеришен банкферейна» прыгает в окно – следуйте за ним, падая, вы наверняка заработаете деньги. После Второй мировой войны швейцарские банки (в их числе и «Швейцеришен банкферейн») не только окрепли в финансовом отношении, но и вышли с солидным международным капиталом. Они сумели уберечь от конфискации могущественными союзниками немалую долю награбленных нацистами богатств и тем самым создали себе репутацию самых надежных хранителей вкладов иностранных лиц. В «Швейцеришен банкферейне» было заведено, чтобы каждый, поступивший к ним на службу, проходил стажировку в финансовых подразделениях. Генриху Дитриху, кадровому военному, пришлось коренным образом изменить свою профессиональную ориентацию и заняться изучением банковского дела. Он успешно прошел стажировку, и ему было положено жалование, на которое он мог позволить себе жить на широкую ногу. Генрих быстро освоился и завел друзей среди бизнесменов, руководителей крупных и мелких фирм и агентств. Среди его друзей были даже журналисты. Однако хорошие отношения с непосредственным шефом господином Фишером у Генриха сложились не сразу. Карл Фишер – пятидесятилетний мужчина невысокого роста с высоким лбом, прямым носом и апостольской бородкой. Он сочетал в себе швейцарскую скрупулезность с итальянским воображением и темпераментом (мать Фишера родилась в многодетной итальянской семье и родом была из Милана) – роковая комбинация. Фишер прошел хорошую финансовую школу. Он лично следил за подбором кадров в свои подразделения. Генрих был исключением. Назначение Генриха на должность начальника одного из подразделений Фишера было полной неожиданностью для последнего, и он воспринял это как личное оскорбление. Почти две недели он не мог побороть в себе чувство неприязни к Генриху, которое, как ни старался он скрыть, проявлялось во всем, даже в рукопожатии.
«Время расставит все точки над i», – решил Генрих, стараясь не акцентировать внимание на том, как вел себя с ним шеф.
Они присматривались друг к другу.
«А Фишер слишком самолюбив. На этом при любом удобном случае могут неплохо сыграть его недруги», – сделал вывод Генрих, наблюдая за шефом.
«Надо признать, у этого Дитриха неплохие мозги, да к тому же он не ханжа», – в свою очередь отметил для себя Фишер.
Лед отчуждения в их отношениях тронулся после того, как однажды Генрих посоветовал Фишеру выпустить рекламные брошюры на арабском языке с описанием услуг, оказываемых «Швейцеришен банкферейном», и распространить их в странах ближнего востока. Фишера заинтересовала идея Генриха, и не позднее чем через неделю он воспользовался ею.
Здание «Швейцеришен банкферейна» представляло собой массивное пятиэтажное сооружение в граните с колонным подъездом и стоянкой для легковых автомашин. Изюминкой всей композиции был великолепный зимний сад, расположенный на первом этаже, в центре которого возвышалась круглая двойная парадная лестница. Перед фасадом здания стояли шеренги подстриженных деревьев, а справа на возвышении – два строгих шпиля соборной церкви. Кабинет Генриха был на пятом этаже. Интерьер – строгий, деловой. Два огромных с закругленными стеклами окна открывали незабываемо красивый вид на Рейн и на его мосты. Единственным украшением кабинета была картина неизвестного голландского художника конца XIX века, на которой был изображен незатейливый парковый ландшафт в осенний период времени.
Скоростной лифт поднял Генриха на пятый этаж. Дверь бесшумно отворилась. Генрих вышел и направился в свой рабочий кабинет. Сайда, закинув ногу на ногу, вполголоса разговаривала по телефону. При виде шефа она скороговоркой промурлыкала «Пока дорогой» и поспешно положила трубку.
– Господин Дитрих, – произнесла секретарша, придав своему голосу строгий официальный тон, – вас просил зайти господин Фишер.
– Хорошо. Что еще?
Сайда быстро пробежала по своим записям, сделанным в маленьком блокноте.
– Вам звонил господин Збинден, просил напомнить, что совещание в «Сандоце» завтра ровно в двенадцать. Господин Прост звонил дважды. У него к вам срочное дело. Будет ждать вашего звонка до восемнадцати. Всю корреспонденцию я положила к вам на стол. Справа – документы, требующие срочного рассмотрения, слева – могут подождать.
– Спасибо, Сайда. Я к шефу. Если кто будет звонить, скажешь, я скоро освобожусь.
Фишер встретил своего подчиненного чуть заметным кивком головы. Небрежно махнув рукой, он указал на кресло, а сам еще несколько минут продолжал что-то писать. Генрих сел напротив Фишера и, томясь в ожидании пока шеф освободится, блуждающим взором рассматривал кабинет. Наконец Фишер написал последнюю фразу, провел рукой по волосам и отодвинул бумаги в сторону.
– Мне давно хотелось, Генрих, поговорить с вами, не касаясь работы, так сказать, по душам, – голос Фишера, всегда властный, вдруг прозвучал мягко, даже с какой-то ленцой. – Курите, – Фишер протянул Генриху пачку сигарет «Данхилл».
Генрих молча закурил.
– Я слышал, вы быстро освоились в нашем городе, даже купили дом в пригороде?
– Да, – односложно ответил Генрих и стряхнул пепел от сигареты в пепельницу.
– Вам нравится ваша работа? Ведь вы прежде никогда не работали в банке?
– Господин Фишер, я вижу, вы прекрасно осведомлены, и это делает вам честь. Я действительно никогда не работал в банке, но несмотря на это, мне работа по душе.
– Знать о своих сотрудниках все или почти все – это моя прямая обязанность. Специфика нашей работы не терпит случайных людей. Мы здесь одна дружная семья и должны друг другу доверять, в противном случае наши клиенты предпочтут другие банки.
– Я это уже понял.
– Вы женаты?
– Думаю, вы успели это уже выяснить, – ответил с сарказмом Генрих.
– Напрасно вы, Генрих, иронизируете. Я знаю о вас больше, чем вы можете себе представить.
– Тогда зачем вы спрашиваете?
– Хотел услышать от вас лично, женаты вы или нет. Ну хорошо… Генрих Дитрих, вам двадцать семь лет, вы родились в Германии в семье кадрового офицера. Ваш отец – генерал в отставке, мать умерла, когда вам было всего тринадцать лет.
– Мне было пятнадцать лет, когда умерла моя мать, – вежливо перебил Фишера Генрих, в душе содрогнувшись от мысли: «Откуда у Фишера данная информация?».
В анкете, предоставленной Генрихом при поступлении на работу, ничего подобного не указывалось.
– Извините за маленькую неточность. Продолжим?
– Не вижу в этом никакого смысла. Знать о человеке все – это хорошо, но этого часто бывает недостаточно, чтобы доверять ему.
– Почему же? Ваши сокурсники по военной академии отзываются о вас, как о человеке смелом, честном и, самое главное, надежном. Прекрасная характеристика.
– И какой же из этого вывод?
– Вывод? Я не хочу ошибиться в вас, Генрих. Не скрою, у меня на вас большие виды. Но об этом мы еще поговорим. Ваш дядюшка все еще преподает в университете?
– Да.
– Мой старший сын Рауль хорошо о нем отзывается. Он учился у него. Я хотел бы вас познакомить с сыном, если вы не возражаете. После окончания университета он не стал работать по специальности, а ушел в большой спорт. Рауль – автогонщик. К сожалению, дети часто идут своей дорогой, а не той, какую им проторили родители.
– Вижу, вы не одобряете выбор вашего сына?
– Можно сказать, да. У него неплохие природные задатки, и он мог бы сделать блестящую карьеру. А спорт… Это несерьезно.
– Мне, кажется, вы не совсем правы.
– Точно так же говорит мне и мой сын. Мы часто с ним по этому поводу спорим, но в конце концов каждый остается при своем мнении.
Фишер улыбнулся и что-то невнятно пробормотал. Это была его обычная привычка перескакивать без связи от одной фразы к другой. Затем, погладив бородку, он стал с некоторой резкостью и горячностью сетовать на постоянные конфликты с сыном, на то, какой он строптивый и непочтительный, всегда и во всем перечит отцу. Монолог этот продолжался четверть часа. За это время Генрих выслушал массу информации не только о сыне своего шефа, но и о детях его родственников и друзей. В конце концов это стало ему надоедать, и он плотно сжал губы и нахмурил лоб. Вдруг Фишер, рассказывая очередную историю о сыне своего адвоката, который уже в возрасте двадцати лет стал владельцем собственной адвокатской конторы, невольно вскинул глаза на Генриха и оборвал свою речь на полуслове. Наступило неловкое молчание. Генрих негромко откашлялся и, чтобы как-то разрядить обстановку, хотел сказать несколько пустых фраз, что-то насчет погоды, но Фишер его опередил.
– По пятницам у нас дома собираются друзья, знакомые. Я приглашаю вас, Генрих. Приходите. Познакомитесь с моей семьей, и у нас будет возможность ближе узнать друг друга. А сейчас можете идти работать.
Генрих в знак согласия наклонил голову и направился к выходу.
– Генрих, у меня к вам еще один вопрос, – Фишер выразительно посмотрел на своего подчиненного. – Скажите, на острове Крит действительно экзотическая природа и жаркий климат?
Вопрос, прозвучавший неожиданно, застал Генриха врасплох, и он на секунду застыл, не в силах произнести ни единого слова.
– Извините, господин Фишер, я не знаю, так как никогда не был на Крите, – наконец решительно ответил он.
– Никогда? Вы в этом уверены?
– Да.
– В вашей характеристике не сказано, что вы страдаете плохой памятью.
Генрих, усмехнувшись, пожал плечами.
– Хорошо. Мы к этому вопросу в свое время еще вернемся. Вы свободны, – сказал Фишер и углубился в бумаги.
Генрих вышел из кабинета шефа с весьма озабоченным видом. Разговор с Фишером не только удивил его, но и встревожил. Фишер дал понять Генриху, что многое знает о нем. И это не простая осведомленность, а своеобразное предостережение. В случае если Генрих когда-нибудь вздумает перечить или ослушаться его приказаний, Фишер вполне может использовать известную ему информацию, чтобы поставить своего подчиненного на место. Кроме того, шеф спросил об острове Крит, и это тоже неспроста. Генрих действительно был там, и Фишер знает об этом. «У меня на вас особые виды», – сказал Фишер. Возможно… особые виды – не что иное, как остров Крит. Но что ему там понадобилось?
Остров Крит… В 1941 году на острове располагалась английская воздушно-морская база. Сохраняя в своих руках такую мощную базу, какой являлась база на острове Крит, английский военно-морской флот и авиация имели возможность контролировать восточную часть Средиземного моря и затруднять действие германской и итальянской авиаций против английских баз, находящихся в Египте. Удары, которые наносили истребители английской авиации с острова Крит по аэродромам неприятеля в Греции, были очень ощутимы для немецких вой ск. Операция по захвату острова Крит (кодовое название «Меркурий») была блестяще разработана германским командованием вермахта и вошла в историю Второй мировой войны как одна из самых крупных и удачных немецких воздушно-десантных операций. В середине мая 1941 года Генрих благодаря содействию полковника фон Вендлера, который еще в 1914 году воевал с его отцом в чине обер-ефрейтора, был переведен из Парижа в Берлин. Вилли фон Вендлер командовал отдельным артиллерийским полком. Генриху выпала честь принимать участие в критской операции под началом полковника фон Вендлера. И пока шла подготовка к предстоящей операции, ему был предоставлен недельный отпуск. Вилли Вендлер проявил в отношении сына своего бывшего командира прямо-таки отцовскую заботу. Он категорически воспротивился, когда Генрих хотел поселиться в гостинице. В его доме всегда найдется прекрасная комната для дорогого гостя, заявил он Генриху. Полковник недавно женился, оставив первую, значительно менее молодую подругу жизни в одиночестве в обширном поместье близь Дроссена. Нынешнее строптивое и капризное счастье Вендлера носило поэтическое имя Лора. Лоре было тридцать шесть лет, она была миловидна, но не блистала ни умом, ни манерой поведения. Глядя на полковника, Генрих жалел его, так как Лора вила из Вендлера крепкие морские узлы, а тот не смел даже пикнуть. Согласившись на предложение полковника пожить у него несколько дней, Генриха обрек себя на скучное и унылое времяпрепровождение, поскольку постоянно находился под неусыпным контролем хозяйки дома, считавшей своим долгом развлекать гостя. Особенно тяготили Генриха светские беседы, которые надо было поддерживать, прогуливаясь днем с Лорой по прекрасным аллеям парка. Лора была не в меру болтлива и уже через полчаса у Генриха болела голова от избытка ненужной информации. Мало-помалу Генрих стал отказываться от прогулок, чем обижал Лору. Иногда, когда у полковника выдавался час-другой свободного времени, Генрих удостаивался чести пройти вместе с ним по залам семейной картинной галереи и полюбоваться картинами, которые начал коллекционировать еще прадед Вендлера.
Картинная галерея была гордостью полковника, и он мог часами рассказывать, где и кем приобретена та или иная картина. Всего картин было триста пятьдесят две. Среди них – полотна Рембрандта, Метсю, Ван Лоо, Яна Стена и много других произведений старых немецких, нидерландских, итальянских и французских мастеров. Картины были истинной страстью Вендлера, и он готов был пойти ради них на любые жертвы и даже преступление. Наконец наступило долгожданное утро 20 мая. Критская операция началась. После авиационной подготовки в районах Малеме, Ханьи и Ираклиона были сброшены немецкие парашютные десанты, которым удалось блокировать шоссе Ираклион-Ретимнон и воспрепятствовать переброске английского подкрепления в северо-западные части Крита. Генрих был в первом эшелоне наступающих вой ск. Мощная сила, железный натиск и молниеносная быстрота, с которыми войска рейха действовали при проведении операции, застали врасплох и ошеломили английские вой ска, которые после десяти дней кровопролитных боев капитулировали. После оккупации немецкими войсками острова Крита там разместилась военно-морская база, просуществовавшая до ноября 1944 года. В июле 1941 года Генриха перевели в дивизию, которая одной из первых пересекла границу СССР. С этого момента военные дороги Генриха фон Дитриха и Вилли фон Вендлера разошлись и ни разу за годы войны не пересеклись. Все это невольно вспомнил Генрих по пути в свой кабинет. До конца дня он был молчалив, рассеян и курил одну сигарету за другой, неподвижно сидя за рабочим столом. И когда старинные часы в приемной пробили девять часов вечера, резко встрепенулся и стал быстро собираться домой.
Эдит Витхайт перед предстоящей встречей с господином Дитрихом почти всю ночь не могла сомкнуть глаз и лишь под утро забылась коротким беспокойным сном. Эдит поспешно встала, выпила безо всякого аппетита маленькую чашечку кофе с бутербродом и удалилась в свою комнату, чтобы спокойно без бабушкиных советов и причитаний причесаться перед зеркалом.
– Эдит, почему ты не помыла за собой чашку? – раздался из кухни громкий голос бабушки.
Эдит открыла дверь комнаты и, высунув взлохмаченную головку, с мольбой сказала:
– Бабушка, прошу тебя, оставь меня в покое. Ведь ты же знаешь, у меня сегодня в два часа дня очень важная встреча, и мне необходимо быть в форме. Ты поняла меня?
– Хорошо, внучка, молчу, молчу… Только разреши мне все-таки заметить. Ты у меня красавица и тебя просто не могут, не смеют не принять на работу.
– Ба-буш-ка! – выкрикнула Эдит и захлопнула за собой дверь. Она подошла к зеркалу и, обхватив лицо руками, с грустью тихо прошептала: – Красавица???
Природа была немилостива к Эдит. Девушка часто часами сидела перед зеркалом и изучала черты своего лица. Маленькие жесткие черные глаза не отличались ни красотой, ни величием, нос был слишком большой, да еще с горбинкой, большие скулы и высокий лоб. Но чем действительно не обделила природа Эдит, так это умом и сильно развитым самолюбием. Возможно, благодаря именно этим качествам Эдит однажды решила переделать себя и создать себе красоту. Она изобрела прическу – легкую, изящную, сумела придать глазам мягкость, нежность и огонь, она овладела ими, отучилась от привычки поджимать губы, следила за цветом своего лица, за безукоризненной белизной зубов, за свежестью дыхания, за спокойными и мягкими движениями. И постепенно Эдит достигла той условной красоты, которая заставляет многих находить ее привлекательной и оригинальной. Но в этот день она так сильно волновалась, что чувство уверенности покинуло ее. После того как Эдит уволили из агентства «Суллана», она пыталась найти работу в других агентствах и фирмах, но ее попытки оказались тщетными. Пенсии бабушки едва хватало на питание, а нужно было еще платить за квартиру, различные бытовые услуги, да и лекарства для бабушки, которая была преклонного возраста и часто болела, стоили немалых денег. Эдит была в отчаянии. И вдруг накануне вечером позвонил сам господин Бюрле. «Один влиятельный человек в мире банковского бизнеса, господин Дитрих, хочет поговорить с тобой, и если ты ему подойдешь, то он примет тебя на работу», – сказал он. Правда, господину Дитриху необходима девушка, прекрасно владеющая русским языком, так что Эдит придется постараться и блеснуть не только умом и обаянием, но и знанием русского языка. Что-что, а в знании языка она была уверена. Бабушке никогда не придется краснеть за свою ученицу, а вот что касается внешности…
«Нет… хватит раскисать!» – Эдит решительно взяла со столика расческу.
На пороге банка девушка появилась в строго указанное ей время.
– Господин Дитрих, – сказала секретарша, войдя в кабинет, – к вам пришла госпожа Витхайт. Она утверждает, что вы назначили ей встречу.
Генрих оторвался от бумаг, которые лежали перед ним, и быстро произнес:
– Да-да. Проси ее.
Эдит нерешительно вошла в кабинет и застыла у двери.
– Здравствуйте, – срывающимся от волнения голосом произнесла она и почувствовала неприятную дрожь во всем теле.
Генрих с интересом рассматривал девушку, скользя взглядом по ее лицу, фигуре и одежде.
«Если ее приодеть, она будет весьма недурна», – подумал он, а вслух произнес:
– Здравствуйте. Прошу вас, проходите, садитесь. Если не ошибаюсь, ваше имя Эдит Витхайт?
– Да.
– Господин Бюрле сказал вам мое условие?
– Да. Я владею русским языком довольно неплохо, но не в совершенстве. Русский язык в плане грамматики и произношения очень сложный язык.
– Но вам все-таки удалось его выучить.
– Конечно. Но только благодаря моей бабушке.
– Расскажите мне о ней, – Генрих сделал выразительный жест рукой.
– Моя бабушка приехала в Швейцарию в конце прошлого века. Сейчас ей семьдесят два года. Ее приезд в нашу страну связан с романтической, или лучше сказать, любовной историей. Она родилась в старинной дворянской семье и была последним пятым ребенком. Ей дали имя Татьяна… Татьяна Львовна. Детство ее прошло в родовом имении родителей радостно и беззаботно. Няньки, девки, иностранные гувернантки… Учили тогда хорошо, основательно. Бабушка знает три языка: французский, английский, немецкий и, конечно, свой родной язык, русский. Хотя сейчас трудно сказать, какой язык по-настоящему ей родной: русский или немецкий. Прожить в стране пятьдесят лет… это немалый срок. Когда бабушке исполнилось семнадцать лет, родители стали вывозить ее в свет: балы, благотворительные вечера, театры, и везде она блистала. Бабушка была хороша собой, и ее родители были уверены, что их дочь не засидится в девках. «Засидеться в девках» – это чисто русское выражение, – пояснила Эдит. – Женихи так и вились вокруг нее. Но судьба повернула все по-своему. Однажды бабушка случайно встретила в парке молодого человека. С первого мгновения они влюбились друг в друга. А потом были тайные встречи, любовная переписка… Молодого человека звали Вильям Витхайт, он был бедным студентом из Германии. Вильям, как порядочный и честный человек, попросил руки моей бабушки у ее родителей, но получил отказ. Причина? Он был беден. И тогда Вильям предложил своей возлюбленной бежать с ним в Германию. Оставить дом, семью, расстаться с роскошью, богатством и соединить судьбу с человеком, у которого и ломаного гроша нет за душой, – разве это не безумие? Но бабушка любила молодого человека и не задумываясь последовала за ним. Несколько лет они жили в Германии, потом переехали в Швейцарию и обосновались в Базеле. Вильям часто не мог найти работу, а на пособие по безработице молодые супруги еле-еле сводили концы с концами, но никогда, вплоть до смерти своего мужа (Вильям умер в возрасте тридцати восьми лет), бабушка не пожалела, что ради любви к молодому человеку покинула родину и отчий дом.
– Никогда не пожалела, – тихо прошептал Генрих и внезапно подумал об Ольге.
– Вы что-то сказали?
– Нет, нет… это я так, – Генрих решительно встал и прошелся по комнате.
Эдит сидела молча, теребя складки на платье.
– А твои родители живы? – Генрих непроизвольно обратился к девушке на «ты», но даже не заметил этого.
– Нет. Мой отец погиб в автомобильной катастрофе, а через несколько месяцев умерла мама. Мне было три года, когда родителей не стало и бабушка взяла меня к себе. С этого момента мы с ней не расставались.
– После окончания школы ты где-нибудь училась? – Генрих вынул из пачки сигарету и закурил.
– Да. Я окончила курсы стенографии и машинописи.
– Эдит, а почему ты не вышла замуж? – внезапно спросил Генрих и чуть прищурил глаза.
– Это мое личное дело и вас оно ни в коей мере не должно касаться, – высокомерно заметила Эдит и плотно сжала губы.
«Самолюбива чертовка… самолюбива», – подумал Генрих. Ему нравилась Эдит, ее манера говорить, держаться и даже то, как она выходила из себя, ему тоже нравилось.
– И все-таки, Эдит, почему?
– Хорошо, я отвечу, но только затем, чтобы вы подобных вопросов больше никогда не задавали. Я выйду замуж только за человека, которого полюблю, но, к сожалению, такого я еще не встретила.
– И, конечно, твоя любовь будет такой же сильной и беззаветной, как любовь твоих бабушки и дедушки.
– Господин Дитрих, – Эдит вспыхнула, уловив в голосе Генриха насмешливые нотки. – Я…
– Я беру тебя, Эдит, на работу, – перебил Генрих девушку, – и буду платить тебе ежемесячно полторы тысячи марок.
– Что??? – брови Эдит поползли вверх и она прижала руки к груди. – Господин Дитрих, вы, наверное, ошиблись? Полторы тысяч марок??? Это большие деньги, и мне их и за год не заработать.
– Нет, Эдит, ты не ослышалась. И чтобы ты не сомневалась, вот тебе половина этих денег, – Генрих достал бумажник, отсчитал несколько банкнот и протянул их Эдит.
– Бери, бери… Купи себе приличную одежду: платье, туфли, словом, все необходимое. И не волнуйся, эти деньги ты с лихвой отработаешь.
– Это невероятно… Но, господин Дитрих, я далеко не ребенок. Такие деньги просто так никто не платит. Вы еще ни словом не обмолвились о работе, которую мне предстоит выполнять. Предупреждаю вас, если она будет идти вразрез с моими жизненными принципами, противозаконна или преступна, я отказываюсь от такой работы.
– Успокойся. Работа на первый взгляд покажется тебе необычной, и это так, но никак не противозаконной, а тем более преступной.
– Вы можете в этом поклясться?
– Да.
– Хорошо, говорите.
– Итак, Эдит, я беру тебя на работу, но с условием. Ты должна быть мне преданна, как себе самой, не задавать лишних вопросов и беспрекословно выполнять все мои приказания.
– Ваши слова пугают меня.
– И напрасно. Я прошу тебя быть мне преданной, так как вручаю тебе свою жизнь и не хочу, чтобы ты когда-нибудь нанесла мне удар в спину.
– А теперь я совсем вас не понимаю, – Эдит широко раскрыла глаза.
– Постараюсь, насколько это возможно, объяснить, – Генрих подошел к окну и провел рукой по стеклу. – В моем доме живет русская девушка. Ее зовут Ольга. Эта девушка мне очень дорога, очень… – голос Генриха стал хриплым от усилия, которое он делал над собой, чтобы казаться спокойным.
Эдит смотрела на Генриха, и мало-помалу его волнение передавалось ей. Несколько минут оба молчали.
– Но есть одна сложность, – вскоре продолжил Генрих. – Девушка не говорит по-немецки, а я, естественно, по-русски…
– И вы хотите, чтобы я… – в радостном возбуждении воскликнула Эдит.
– Да, я хочу, чтобы ты познакомилась с Ольгой и обучила ее немецкому языку.
– Я согласна… – слишком поспешно произнесла девушка и грациозно вскинула головку.
– А теперь самое главное. Ольга не должна знать, что ты действуешь по моей просьбе. Все должно выглядеть естественно и непринужденно. Каждое утро Ольга прогуливается по саду. Найди предлог привлечь ее внимание и познакомься с ней. Стань ей подругой, ангелом-хранителем. Каждую среду ты будешь докладывать мне о проделанной работе.
– Следовательно, моя работа будет заключаться в том, чтобы обучать девушку немецкому языку?
– И не только в этом, – задумчиво произнес Генрих и как-то странно посмотрел на Витхайт. Его голос потерял суровый тон и принял умоляющий. – Не только.
III
Дом был великолепен. Двухэтажный, из розового кирпича с белыми колоннами, оконными наличниками на фронтоне, он возвышался посередине двух акров живописной местности и соединял в своем архитектурном решении все лучшее, что было накоплено в мировой архитектуре начиная с XVIII века. К дому вела извилистая тропа, окруженная дикорастущими лиственными деревьями, между которыми расположились аккуратно разложенные, поросшие мхом и травой большие камни. Из камней выложена и тропа, ведущая к арочному парадному входу.
На первом этаже дома вдоль длинного прямого коридора слева и справа были расположены комнаты. Несколько из них отведено под обширную библиотеку. Книг было великое множество – от энциклопедических томов Вальтера и Руссо до книг греческих и латинских авторов. За библиотекой – ряд жилых комнат, ванная и особо устроенный огромный бассейн. Самая большая комната – овальная столовая с пятью окнами, выходящими в сад. За столовой, где благодаря белым стенам и массе света всегда нарядно и красиво, расположена бильярдная, а за ней – гостиная с красной мебелью и зеленовато-фисташковыми обоями. Широкая, покрытая мягким ковром лестница, вся уставленная цветами, вела на второй этаж, который был полностью отдан под покои. Каждая из четырех спальных комнат имеет свой неповторимый интерьер, но теплые оранжевые и бежевые тона присутствуют везде: на мебели, фрамугах и дверях.
Комната Ольги, обставленная богато и с большим вкусом, напоминала спальню фаворитки французского короля Людовика XV, мадам Помпадур: широкая кровать, застланная белым атласным покрывалом, по которому разбросаны розы, вышитые бледно-розовыми шелковыми и золотыми нитями, большой платяной шкаф, трюмо с овальным зеркалом, маленький столик и несколько стульев. Мебель – белого цвета с позолотой. Дизайнер, который оформлял интерьер комнаты, предложил господину Дитриху несколько вариантов, учитывающих стиль и моду сороковых годов XX века, но Генрих отверг их и предложил свой, более изысканный и романтичный. Он хотел, чтобы спальня была самой красивой и уютной комнатой в доме и понравилась Ольге. Однако ни изысканно обставленная спальня, ни великолепный дом с садом не поразили воображение девушки. Она взирала на всю эту роскошь и богатство с полным равнодушием. Ольга смутно помнила, что было с ней после того, как она в замке убила американского офицера. События почему-то целиком выпали из ее памяти. Но зато она хорошо помнила тот момент, когда, проснувшись однажды утром, поняла, что находится не в замке. Прекрасно обставленная комната была ей совсем незнакома. Потом появился маленький щуплый старик. Он разговаривал с ней по-немецки – тихо, словно боялся, что кто-то услышит его, но Ольга ни слова не понимала, хотя нет… несколько слов она все-таки поняла. Старик, обращаясь к ней, все время называл ее милой девочкой.
«Где я? Что со мной произошло? Прошу вас, объясните мне», – хотела выкрикнуть Ольга старику, но в горле точно ком застрял.
Ольга попыталась глубоко вздохнуть, но боль в сердце парализовала ее, и она погрузилась в черную пустоту. Это состояние длилось бесконечно долго. Ольга то приходила в себя, то вновь погружалась в полузабытье. Иногда, как сквозь темную пелену, она видела перед собой немецкого офицера. Правда, тогда ей казалось, что это всего лишь сон. Офицер сменил немецкую форму на гражданский костюм, сидевший на нем безукоризненно, был чисто выбрит и… Нет, это просто невероятно, но его глаза не были похожи на те ледяные глаза, которые пугали ее жестоким бесчеловечным взором. В них была умоляющая нежность. Взгляд немца стал ясным, открытым и проникал в самую душу.
А между тем дни медленно сменялись днями. Унылые и безрадостные, они были похожи один на другой, и поэтому каждый час казался Ольге бесконечным – так много слез было пролито ею и так много мыслей проносилось в ее милой головке. И даже ночью она не могла заснуть крепким спокойным сном. К ней приходили зловещие видения, где все переплеталось: немец, дом, который был красив, но казался страшным снаружи и еще страшнее внутри, зловещие голоса и ее постоянные скитания по лабиринту, из которого она никак не могла выйти. Ольга просыпалась в ужасе и, оглядываясь вокруг, долго не могла понять, как и почему оказалась в этой незнакомой комнате. Мало-помалу к ней возвращалось сознание грустной действительности.
Дом, в который привез ее немец, не имел ничего общего с мрачным холодным замком, но несмотря на это, Ольга по-прежнему чувствовала себя пленницей. Что же делать и что предпринять, чтобы навсегда освободиться от немца? В голову ей приходили самые дикие фантазии: поджечь дом, убежать или вновь попытаться убить офицера. Думая о немце, она готова была стать убийцей, думая о себе – призывала смерть. Ольга вздрагивала от этих мыслей, но они, оставив ее на несколько минут, вновь возвращались, и она опять начинала искать выход из создавшегося положения, в котором оказалась не по собственной воле. Ее мозг и сознание были бесконечно напряжены, а от собственной беспомощности больно щемило сердце. Целыми днями Ольга проводила в каком-то странном движении, то ходила взад и вперед по комнате, то временами в каком-то исступлении бросалась на кровать и, уткнувшись лицом в подушку, замирала, то через минуту вставала и опять ходила. Она старалась привести в порядок мысли и чувства и на что-то решиться, но не могла. При этом она задавала себе один и тот же вопрос: «Почему я все еще нахожусь в этом доме?». Ольга более не узнавала себя и в первую очередь потому, что боялась взглянуть правде в глаза. Немецкий офицер, который совсем недавно был так жесток и безжалостен с ней, точно переродился в другого человека. Он держал ее подле себя, окружив заботой и вниманием, словно она королева. И вот однажды Ольга проснулась ранним утром, небрежно откинула руки на подушки и зачарованным взглядом окинула комнату, словно видела ее впервые. В лучах солнечного света она показалась ей великолепной. За окном было слышно пение птиц. Теплый воздух врывался в полуоткрытое окно и наполнял комнату ароматом цветущих роз. Ольга поднялась с постели, подошла к окну и распахнула его настежь. Нечто совсем незнакомое носилось в теплом воздухе. Ольга ощутила душевный подъем и необыкновенную легкость во всем теле. Ее душа точно вырвалась из темных застенков, где долгие месяцы была во власти страха и одиночества, и устремилась в новый, доселе неведомый ей мир. Ее охватило желание танцевать и петь, хотелось обнять само солнце. А ведь ничего особенного не произошло. Просто душа человека не способна постоянно пребывать в угнетенном состоянии и испытывать только тревогу и отчаяние. Невольно Ольга вспомнила слова, сказанные Ядвигой.
«Жизнь сама по себе не может быть дурной, она такова, какой мы сами себе ее представляем. Она слишком коротка, чтобы можно было терять драгоценные минуты, оплакивая свои неудачи. Никогда не следует руководствоваться ненавистью и гневом, они плохие советчики. Чтобы добиться желаемого, необходимо быть спокойной и рассудительной. Невозможное может стать возможным, если этого очень желать и направлять все свои силы на исполнение заветной цели».
Ольга только сейчас поняла истинный смысл этих слов. Проведя рукой по волосам, она с необычайной легкостью, которая появилась у нее вместе с чувством уверенности в себе, подошла к платяному шкафу и открыла его. Девушка выбрала креповое темно-синее платье в белый мелкий горошек с маленьким кружевным воротником, приложила к себе и посмотрела в зеркало. На Ольгу смотрела незнакомая девушка с бледным и печальным лицом. Однако эта девушка с прозрачной красотой призрака была хороша. Переодевшись, Ольга спустилась по лестнице и вышла в сад. Она пошла по дорожке вглубь сада. Вдоль дорожки рос кустарник, аккуратно подстриженный заботливой рукой садовника, а впереди виднелась плантация великолепных чайных роз. Ольга направилась к ним. При виде незнакомого мужчины, который полол сорную траву вокруг роз, Ольга невольно вздрогнула и настороженно застыла, не решаясь двинуться дальше.
Звук приближающихся шагов заставил мужчину прервать работу. Он выпрямился и, повернувшись в сторону Ольги, тихо по-немецки поздоровался. Ольга ответила ему легким кивком головы. Мужчина был явно смущен, это было заметно по его рукам, которые судорожно сжимали садовый инструмент. Ему было на вид лет пятьдесят, высокий, худощавого телосложения с крепкими мускулистыми руками. «Возможно, этот мужчина денщик немецкого офицера», – подумала Ольга и внутренне усмехнулась. Шульц (зрительная память не обманула Ольгу), пытаясь скрыть волнение, охватившее его при виде девушки, после минутного молчания произнес несколько фраз, смысл которых Ольга поняла только после того как мужчина срезал садовыми ножницами самую красивую розу и протянул ей.
– Спасибо. Она очень красивая, – сказала Ольга и осторожно, стараясь не уколоться, взяла розу.
– Красота этой розы не может затмить вашу красоту, – с восторгом произнес Шульц.
– Я не понимаю вас, – Ольга улыбнулась и покачала головой.
Шульц тоже улыбнулся и стал жестами объяснять смысл сказанных им слов.
– Поняла, поняла… Вы сказали, я красива, как и эта роза, – глаза у Ольги заблестели. – Вы с такой любовью ухаживаете за цветами, наверное, потому что любите их.
Теперь настала очередь Шульца покачать головой. Ольга показала на цветы, затем коснулась рукой Шульца.
– Да, я люблю цветы еще с детства. Мне доставляет большое удовольствие ухаживать за ними. Они живые и, так же как и люди, понимают доброе отношение. Когда мы переехали в этот дом и я увидел запущенный сад, мое сердце болезненно сжалось. Я предложил господину Дитриху свои услуги и стал помимо работ по дому выполнять работу садовника.
Из сказанного Шульцем Ольга поняла лишь фамилию Дитрих.
– Дитрих! Кто это? – Ольга с нескрываемым любопытством ждала ответа на свой вопрос.
Шульц, похоже, понял Ольгу и стал поспешно что-то говорить. И опять Ольга уловила только имя… Генрих Дитрих. Ей не составило большого труда понять, что садовник называл Генрихом Дитрихом немецкого офицера.
– А как зовут вас? – Ольга сделала выразительный жест рукой. – Ваше имя?
– О-о-о… Меня зовут Шульц Хофман. К вашим услугам.
– Спасибо, Шульц, вы очень любезны.
Держа розу в руке, Ольга продолжила свой путь. Она медленно шла по тропинке, любуясь великолепием летнего сада.
– Генрих Дитрих, – чуть слышно прошептала она и с силой сжала стебель цветка, но тут же острые шипы впились ей в кожу.
Ольга от неожиданности вскрикнула и разжала руку. Цветок упал на землю.
– Какая я глупая, причем же тут цветок? – укорила себя Ольга и наклонилась, чтобы поднять розу.
Но в этот момент она услышала женский голос. Ольга выпрямилась, так и не подняв цветок. В нескольких шагах от нее за садовой оградой стояла девушка и подавала ей какие-то знаки. Девушке на вид было лет двадцать пять, и во всей ее фигуре и манере держаться было что-то серьезное и строгое. Ольга удивленно пожала плечами и подошла к ограде. Девушка, продолжая жестикулировать, что-то говорила по-немецки, но Ольга не понимала ее.
И тогда девушка четко и ясно произнесла по-русски:
– Извините меня, но не могли бы вы сказать, который сейчас час?
Ольга поднесла руки к лицу и срывающимся от волнения голосом воскликнула:
– Вы-ы-ы… русская? – прижавшись к ограде, Ольга схватила девушку за руки. В ее глазах заблестели слезы, еще секунда – и она не справится с ними. – Говорите, прошу вас. Кто вы, как вас зовут? Вы русская?
Девушка застыла от неожиданности, не в силах произнести ни единого слова. Она ожидала любой реакции, но такого…
– Почему вы молчите?.. Говорите, прошу вас…
Наконец девушка преодолела минутное замешательство, охватившее ее, и сказала:
– Нет, я всего лишь на одну четвертую русская. Моя бабушка – русская, она родом из России.
– Бабушка!? Как зовут вашу бабушку? Ее имя?
– Татьяна Львовна.
– Татьяна Львовна… – Ольга запрокинула голову. – Боже, я чувствовала, что сегодня должно произойти что-то необычное. Прошу вас, говорите, говорите… Если бы вы знали, как приятно слышать родную речь. Мне казалось, я уже больше никогда не услышу ее. Го-во-ри-те…
– Успокойтесь, не надо так волноваться, – произнесла девушка и провела рукой по Ольгиному лицу, вытирая слезы. – Меня зовут Эдит Витхайт. Я проходила мимо и решила спросить, который сейчас час.
– Который час??? – Ольга посмотрела на Эдит и увидела у нее на руке маленькие часики.
Эдит перехватила взгляд Ольги и, зардевшись, пояснила:
– Мои часы все время отстают, и я всегда по их вине куда-нибудь опаздываю.
– А сейчас… вы спешите? – в голосе Ольги было столько мольбы и боли, что Эдит невольно содрогнулась.
– Нет, я свободна. Если хотите, мы можем с вами поговорить. Только вот эта решетка… – Эдит смущенно улыбнулась и провела рукой по металлическим прутьям ограды, отделявшим девушек друг от друга.
– Да, да… Пойдемте, там впереди есть калитка. Я покажу.
Ольга отворила калитку и повела девушку по садовой дорожке мимо дома вглубь сада.
– Здесь так красиво! – Эдит зачарованным взглядом окинула сад. – Как должно быть замечательно жить в таком великолепном доме и каждый день гулять по садовым дорожкам, любуясь красотами природы.
– Я не знаю, – безразличным тоном ответила Ольга. – Этот дом мне не принадлежит, я здесь всего лишь… – Ольга запнулась, не в силах произнести слово «пленница», и с болью посмотрела на Эдит.
– Вы, наверное, гостите в этом доме? – спросила Эдит первое, что пришло ей на ум.
– Нет, нет! – Ольга, сжав кулачки, резко выпрямилась.
– Простите меня, – Эдит невольно смешалась, – если я сказала что-то не то. Но поверьте, у меня даже в мыслях…
– Нет, это вы меня простите, – поспешно перебила Ольга девушку. – Этот дом, сад… – в голосе Ольги зазвенели нотки злости. – Прошу вас, давайте не будем об этом говорить, по крайней мере, сейчас.
Она замолчала, и они несколько минут шли по тенистой дорожке, прислушиваясь к долетавшему до них городскому шуму.
«Почему я не могу все рассказать этой девушке?» – внезапно подумала Ольга и внимательно посмотрела на Эдит.
Мгновенно ее охватило тревожное предчувствие, предчувствие, что девушка неслучайно оказалась около садовой ограды в тот момент, когда Ольга прогуливалась по саду. Эдит заговорила с ней по-русски. И если в первый момент это ошеломило Ольгу и она на какой-то период не смогла трезво оценить обстановку, то впоследствии поведение Эдит показалось ей подозрительным. Она решила рассеять свои сомнения и задала Эдит вопрос, который застал девушку врасплох, и та в первое мгновение не нашлась, что ответить. Девушка, словно рыба, выброшенная на берег, открывала и закрывала рот, пытаясь что-то сказать, и со стороны это выглядело забавно. Ольга невольно улыбнулась. Непонятно почему, но Эдит все больше и больше нравилась ей.
– Мне трудно сказать, почему я обратилась к вам именно по-русски, – наконец Эдит смогла сказать что-то вразумительное. – Мне показалось, вы не понимаете меня. А так как кроме немецкого языка, я знаю еще и русский, то я рискнула.
– И у вас это неплохо получилось, – заметила Ольга.
– Я вас не понимаю. Вы в чем-то меня подозреваете?
– Нет, что вы. Это я так… к слову, – глядя на Эдит, Ольга могла поклясться, что та говорит ей неправду.
– Вы так и не сказали, как вас зовут, – Эдит решила сменить тему разговора, боясь, что если Ольга задаст еще несколько вопросов, то она совсем запутается или, лучше того, расскажет ей всю правду.
– Меня зовут Ольга. Вы абсолютно правы, я действительно не знаю немецкий язык. В школе я изучала английский. Но это было так давно.
– А откуда вы родом?
– Из России. Есть такая деревушка с милым названием Озерки. Так вот там почти девятнадцать лет назад в семье Светловых родился четвертый ребенок. Это была я.
– А я была единственным ребенком в семье. Когда мне исполнилось три года, отец погиб в автомобильной катастрофе, а мать после непродолжительной болезни умерла. И если бы не бабушка… не знаю, что бы со мной стало.
– А ты хорошо говоришь по-русски, – Ольга бросила лукавый взгляд на Эдит и самопроизвольно перешла с ней на «ты».
– Моя бабушка была необычайно настойчива, когда учила меня русскому языку. Помню, как-то в детстве она целых два дня разговаривала со мной только по-русски. Я плохо ее понимала, но это совсем не смущало меня, поскольку я была сообразительна, как чертенок. И вот когда мне захотелось есть, но я не знала, как сказать это по-русски, то при помощи жестов попыталась объясниться с бабушкой. Но бабушка была непреклонна. «Эдит, говори только по-русски», – взорвалась она.
– Я никогда не видела твою бабушку, но, когда слушаю тебя, мне кажется, я знаю ее целую вечность.
Эдит замедлила шаг и, глядя на Ольгу, спросила:
– Ольга, а почему ты покинула родину и приехала в Швейцарию?
– В Швейцарию? – взволнованным голосом переспросила Ольга и остановилась как вкопанная. – Ты сказала…
Ее сердце учащенно забилось и она беспомощно посмотрела на Эдит. Известие поразило Ольгу, и жуткое волнение, овладевшее ею, моментально вызвало слезы на глазах.
– Так, значит, немец привез меня в Швейцарию… Боже мой… Как он посмел? Кто дал ему право распоряжаться моей судьбой, точно я какая-то вещь, принадлежащая ему лично? Немецкая сволочь! – тихо прошептала Ольга, и лицо ее побелело, как полотно.
Эдит ни слова из сказанного Ольгой не расслышала, но взволнованный вид девушки сильно удивил ее.
А между тем Ольга от бессилия прижимала руки то к груди, то к вискам и, не замечая ничего вокруг, продолжала шептать:
– Нет, нет… это слишком невероятно, чтобы быть правдой. Н-е-е-т…
– Ольга… – Эдит осторожно тронула девушку за руку. – Тебе плохо… Может быть, мне позвать кого-нибудь из дома? Ты слышишь меня? Ольга!
– Что? – Ольга встрепенулась и посмотрела на Эдит, словно видела ее впервые. – Нет, нет… не надо никого звать. У меня немного закружилась голова, я хочу присесть.
– Да, да, конечно, – Эдит осторожно обхватила Ольгу за плечи и повела к скамейке, стоявшей в двух шагах от них.
Ольга скорее упала, чем опустилась на деревянную скамью, и, казалось, сейчас же забыла о присутствии Эдит Витхайт.
– Тебе уже лучше? – через минуту заботливо спросила Эдит.
– Да, спасибо. Я долго болела и еще не совсем окрепла, – точно извиняясь, произнесла Ольга.
– И все-таки я позову кого-нибудь из дома. Ты такая бледная, а руки словно лед.
– Нет, прошу тебя… не надо. Просто посиди со мной, – Ольга опустила глаза, затем, точно на что-то решившись, посмотрела на Эдит. Глаза ее лихорадочно заблестели, и она решительно произнесла: – Эдит, расскажи мне о Швейцарии.
– Что?! – Эдит меньше всего ждала услышать этот вопрос.
– Прошу тебя… расскажи. Это, должно быть, красивая страна.
– Да, Швейцария сказочная страна. Если хочешь, я не только расскажу о ней, но и покажу. Базель – это еще не вся Швейцария, но, поверь, один из самых красивых городов страны. Я всей душой люблю этот город, я здесь родилась и выросла. Я – швейцарка.
– Скажи, Эдит, а Швейцария воевала с Германией? – неожиданно спросила Ольга.
– Нет. Наша страна, так же как и Швеция, соблюдала нейтралитет. Но мы сочувствовали России, ведь именно ей пришлось принять на себя основные тяготы в этой ужасной войне. О вступлении Германии в войну с Россией мы узнали по радио. Это известие поразило бабушку. Она ушла в свою комнату и долго плакала, уткнувшись в подушку. А вечером за чашкой чая она решительно сказала: «Эдит, запомни мои слова: Россия обязательно победит в войне с Германией, так как, по своей сути, она – страна-победитель и никогда не встанет на колени перед неприятелем, даже если для этого придется погибнуть всем русским до единого». Бабушка оказалась права. Россия победила… но какой ценой. Мы каждый день слушали по радио военные сводки. Потери русских исчислялись миллионами людей, особенно в первые годы войны. Бабушка никогда не верила в Бога, но в годы войны потянулась к нему всей душой. Выкраивая из своей скудной пенсии жалкие гроши, она шла в церковь и ставила свечку за упокой душ своих соотечественников. Она неистово молилась, прося Всевышнего защитить русский народ от фашистской чумы. Мне кажется, именно в годы войны бабушка чувствовала себя как никогда русской.
«Милая Эдит, – невольно подумала Ольга, не решаясь произнести вслух слова, которые так рвались из ее груди, – если бы ты знала, сколько пришлось пережить и испытать мне, через какой ад пройти в немецком концлагере, где меня били и истязали, пытаясь сломить волю и упорство, где обращались хуже, чем со скотиной. Но несмотря ни на что, никто не смог сломить меня».
Слова, горькие, душераздирающие слова. Кажется, еще мгновение – и Ольга упадет Эдит на грудь, разрыдается и все ей расскажет. Она попросит девушку о помощи. И девушка не откажет ей. Ольга была уверена в этом. С ее помощью она убежит из этого дома, затеряется на шумных улицах швейцарского города и навсегда вычеркнет из памяти образ ненавистного немецкого офицера. Она вернется на родину!
«Но нет, – Ольга гордо вскинула головку и чуть прищурила глаза. Гордость всколыхнула ее и наполнила силой. – Я – не преступница и не покину этот дом, точно вор, преследуемый сворой гончих псов. Я уйду гордо, с высоко поднятой головой, а на прощание плюну в лицо немецкому офицеру и на его родном языке скажу, как я ненавижу его. И если нет другого способа наказать его за все то зло, совершенное им по отношению ко мне, то пусть хотя бы это будет ему моим отмщением. Только так поступив, я смогу до конца своих дней чувствовать себя гордо и уверенно, только так я смогу уважать себя».
Решение было принято. Оно созрело неожиданно быстро и могло показаться безумным. Но Ольга, зная себя как никто другой, не сомневалась, что поступить по-другому уже не сможет. Нет, она не покорится судьбе, а лишь использует сложившуюся ситуацию в свою пользу.
– Эдит, ты хотела показать мне город. Ты не передумала? – Ольга мило улыбнулась и протянула девушке руку.
Эдит была приятно поражена, заметив, как Ольга вдруг преобразилась. Ее настроение радости и покоя мгновенно передалось Эдит. Девушки поднялись со скамейки и, взявшись за руки, весело побежали по садовой тропинке.
Ольга жадными глазами смотрела на новую страну, новых людей. Она долго была занята мыслями о себе и совсем забыла, что есть другая жизнь, жизнь, где люди рождаются и умирают, трудятся и веселятся, любят и страдают. И ей захотелось вместе с этими людьми дышать полной грудью, быть счастливой и беззаботной, как когда-то в детстве. Она с восторгом смотрела на изумрудный Рейн, по обе стороны которого раскинулся город Базель. Рейн шумел и местами клокотал, и это составляло особенно приятную музыку для слуха. Чувство свободы широко ударило сильным прибоем и отозвалось в груди Ольги. Ольга медленно, но бесповоротно возвращалась к жизни.
– Ольга, обрати внимание на каменный мост через Рейн, который слева от нас, – Эдит небрежно махнула рукой. – Правда, он кажется очень массивным и громоздким, так как построили его в 1226 году. За мостом справа виднеется маленькая часовенка. Видишь?
– Да, вижу. Очень милая часовенка, – Ольга прикрыла глаза, щурясь от яркого солнца.
– Эта «милая часовенка» вошла в историю как место, где в XVII–XVIII веках казнили самых красивых девушек города, обвиняемых святой инквизицией в колдовстве. Девушек поднимали на верхнюю башню часовни, а затем сбрасывали вниз в глубинные воды Рейна. А в XIX веке часовню использовали в качестве смотровой площадки, на которой выставляли напоказ публике девушек, ведущих дурной образ жизни, или, другими словами, проституток.
– Вот тебе и «миленькая часовенка».
– И, согласись, как хорошо, что прошли времена инквизиции, а то тебя бы, Ольга, обязательно казнили как одну из самых красивых девушек, – произнесла Эдит.
– Ты это серьезно?
– Вполне, – Эдит подхватила Ольгу под руку и весело засмеялась.
Девушки прошли через мост, миновали ратушу, рынок Рыб, построенный в готическом стиле, и направились к Базельскому собору. Ольгу поразили своей архитектурой дома, отчасти похожие на узкие вытянувшиеся немецкие дома, которые она наблюдала в Германии по пути от концлагеря до старинного немецкого замка, но все-таки носящие свой собственный облик. В Базеле она впервые увидела реку, протекавшую у самых домов так близко, что из окна можно было зачерпнуть воду стаканом. Эдит ни на минуту не умолкала и рассказывала удивительные истории, связанные с историческим прошлым города. Навстречу им непрерывным потоком двигались автомашины и трамваи, грузовики и мотоциклы. В скверах сидели на скамейках чопорные старушки и мило беседовали, время от времени бросая любопытные взгляды на прохожих. Тут же молодые мамаши играли с детьми, а уличный фотограф в радостном возбуждении щелкал их отпрысков, не забыв при этом вручить адрес своего фотоателье. Не оставили Ольгу равнодушной и витрины магазинов, которые каждый день обновлялись и представляли собой необычное зрелище. Выставленные за стеклами диковинные манекены – смешные и уродливые, с длинными изогнутыми телами, с плоскими лицами неестественных окрасок – привлекали внимание, а иногда просто развлекали людей, особенно молодых, которые, чтобы занять свой досуг, приходили поглазеть на них.
На углу одного из домов у блестящей витрины стояли два нищих шарманщика. Один старик, другой молодой, кисти его рук были обрезаны. Старик, тяжело дыша, крутил ручку шарманки, а молодой стоял в просящей позе, вытянув перед собой посиневшие обрубки. К ящику была прикреплена кружка для подаяний, на дне которой лежало несколько мелких монет. Девушки, проходя мимо нищих, остановились.
Ольга с болью посмотрела на молодого инвалида и, тронув Эдит за руку, прошептала:
– О-о-о… Эдит…
Старик, продолжая крутить ручку шарманки, чуть охрипшим голосом сказал:
– Красавицы, будьте милосердны, подайте на пропитание, и Господь Бог вас не забудет. Я старик, и дни мои сочтены, а вот мой бедный внук… Он добровольцем воевал в интернациональной бригаде против фашистов. Война не пощадила мальчика, – старик замолчал, и печальная мелодия зазвучала с новой силой.
– Эдит, что он сказал?
– Старик сказал, что его внук воевал против фашистов, и война не пощадила его, – перевела Эдит.
– Бедный юноша… – Ольга скорбно покачала головой.
Эдит нервным движением открыла дамскую сумочку, достала сто марок и протянула старику, который, не веря в свое счастье, смотрел на девушку, не решаясь взять деньги.
– Возьмите, это вам, – сказала Эдит и, не дождавшись пока старик возьмет деньги, положила их в кружку.
Музыка резко оборвалась. Старик дрожащей рукой достал банкноту из кружки и прижал ее к груди.
– О-о-о… красавицы мои… – срывающимся от волнения голосом произнес старик, – счастья вам и любви, и да хранит вас Господь Бог за вашу доброту.
Молодой парень за все время, пока говорил его дед, не произнес ни единого слова. Он нервно покусывал губы и не отрываясь смотрел на девушек, не пытаясь даже скрыть слезы, которые выступили у него на глазах.
– Ольга, пойдем, – быстро произнесла Эдит, не в силах смотреть, как плачет молодой парень.
– Да, да… – тихо отозвалась Ольга.
Девушки перешли на противоположную сторону улицы и свернули за угол дома. Они, не сговариваясь, шли быстрым шагом, точно хотели как можно быстрее покинуть место, где старик и его внук просили милостыню. Некоторое время девушки шли молча, не в силах выговорить ни единого слова от нахлынувших на них чувств. Но мало-помалу их стало тяготить молчание, и Эдит первая нарушила его. Она снова стала рассказывать Ольге об исторических достопримечательностях Базеля. Показывая на памятник Святому Якову, она поведала Ольге об одной тысяче двухсот конфедератах, смело сражавшихся в 1444 году против шестидесяти тысяч французского вой ска и погибших от рук неприятеля. Вино, которое делают в Базеле из лучших сортов красного винограда, до сих пор называют «Кровью швейцарцев».
В городе часто проживал император Карл Великий и его преемник Генрих IV, построивший в византийском стиле Базельский собор, который после землетрясения в 1356 году был разрушен и вновь перестроен, но уже в готическом стиле и лишь в 1536 году. Глубокой стариной веяло от разбегающихся от собора узких кривых улочек, небольших площадей, вымощенных камнем, таверн с причудливыми железными вывесками. За Базельским собором находились женский и мужской монастыри, у их стен покоились останки знаменитых людей XII и XVII столетий. Проходя между могилами, Эдит рассказывала о тех, кто похоронен в них, и что примечательного эти люди сделали для своей страны. Вокруг царила тишина. Ольга, думая о своем, скользила взглядом от одного памятника до другого, от одной надгробной плиты до другой.
Грустные, полные скорби слова, пришедшие ей на ум еще раньше, вдруг сами собой вырвались из ее груди:
– Как коротка человеческая жизнь… Как коротка… – Ольга печально усмехнулась и вдруг, резко повернувшись в сторону Эдит, сказала: – Эдит, я должна как можно быстрее выучить немецкий язык. Ты поможешь мне?
IV
– Господин Дитрих, – Эдит вскинула головку и с вызовом посмотрела в глаза Генриху, – девушка, которая живет в вашем доме, кто она?
Генрих небрежно откинулся на спинку кресла и ледяным голосом ответил:
– Эдит, если ты помнишь, когда я нанимал тебя на работу, то поставил одно условие: ты никогда не будешь задавать мне вопросов, я сам скажу тебе все, что сочту нужным. Ты была согласна со мной. Так в чем же дело? Ты отказываешься от работы?
– Н-е-е-т… Я-а-а, – Эдит плотно сжала губы и опустила голову, не в силах выдержать тяжелый взгляд Генриха.
Генрих нахмурил лоб.
– Ты познакомилась с Ольгой?
– Да. Я сделала все, как вы просили.
– Девушка тебе понравилась?
– Да.
– Расскажи все по порядку.
– Ольга мне понравилась. Но господин Дитрих… – Эдит запнулась, стараясь подобрать слова, которые помогли бы ей как можно точнее выразить свою мысль. – Ольга – необычная девушка и мне трудно охарактеризовать ее в двух словах. Я не смогла до конца ее понять. Бесспорно, она чистая и возвышенная натура, но скрытная. Похоже, в ее жизни произошла ужасная трагедия, поэтому она всего боится и никому не доверяет. А может быть, я ошибаюсь, и все это лишь плод моего воображения? – Эдит посмотрела на Генриха, ожидая, что тот по этому поводу что-то ей скажет.
Но Генрих молчал. Находясь под гнетом невеселых мыслей, он сидел в кресле неподвижно.
«А она умна, чертовка, и может скоро до всего докопаться», – подумал Генрих, глядя на Эдит.
Молчание Генриха Эдит истолковала по-своему и после некоторого колебания продолжила:
– Когда я заговорила с Ольгой по-русски, она обрадовалась, и от волнения даже заплакала. Мы познакомились. Ольга была спокойна до того момента, пока я не спросила ее, почему она покинула родину и приехала в Швейцарию.
– И что же она ответила тебе на это? – Генрих с нескрываемым любопытством посмотрел на девушку.
– В том-то и дело, что я ни слова не разобрала. Ольга говорила очень тихо. Но лицо… Вы бы видели ее лицо! Растерянность, боль, отчаяние, а затем гнев. Она была вне себя от гнева. Ольга понятия не имела, где она находится, и именно это ее разозлило. В какой-то момент мне показалось, что она хочет мне рассказать что-то, что не дает ей покоя и мучает ее. Но она сумела совладать с собой и ничего так мне и не сказала.
– И о чем же вы говорили?
– О-о-о… о многом, – Эдит улыбнулась. – Ольга с большой охотой вспоминала свое детство. Ее лицо становилось восторженно-милым, глаза загорались, а улыбка долго не сходила с лица. Она рассказала мне о своей семье, об отце и матери, о трех старших братьях, которые любили и баловали ее. Рассказала о деревне, в которой жила.
– А Ольга не сказала, когда она родилась? Точная дата.
– Разве это так важно?
– Эдит, запомни, все, что касается этой девушки… Словом, я должен знать о ней все.
– Она родилась 26 декабря 1926 года. Когда началась война, Ольга была еще девчонкой. О войне мы почти не говорили. Любой мой вопрос, касающийся этой темы, вызывал у нее какой-то внутренний протест, и она тут же замыкалась в себе. Война принесла Ольге много горя. Я поняла это после того, как она сказала, что три ее брата и отец погибли.
– А потом ты предложила Ольге показать ей город, и она согласилась.
– Да, именно так все и было. Но откуда вы знаете об этом? – воскликнула Эдит, не в силах скрыть удивление.
– Догадался.
Нет, Генрих не мог об этом догадаться. Ему рассказал Шульц, который, как только девушки покинули территорию виллы с намерением осмотреть достопримечательности города, позвонил по телефону Генриху, а тот, в свою очередь, приказал не упускать девушек из виду, следуя за ними на некотором расстоянии. Но об этом, естественно, ни Ольга, ни Эдит не знали.
– Мы почти весь день провели вместе, гуляя по городу. Я показала Ольге Базель. Нет, не тот, который знают многие швейцарцы, а мой Базель. Старинные узкие улочки и переулки, памятники древней архитектуры, великолепный собор, живописный парк в центре города с искусственными фонтанами и вечнозелеными лужайками и, конечно, зоопарк. Я думаю, наш город ее покорил или по крайней мере не оставил равнодушной.
– Скажи, Эдит, тебе удалось убедить Ольгу заняться изучением немецкого языка?
– В этом не было необходимости. Ольга сама попросила меня об этом.
– Неужели сама попросила?
– Да. Мы стояли у церкви, которая находится сразу же за женским монастырем. Не помню точно, но, кажется, я рассказывала о настоятельнице монастыря, когда Ольга произнесла: «Как коротка человеческая жизнь», а затем, резко повернувшись в мою сторону, попросила меня помочь ей выучить немецкий язык. К занятиям мы приступили на следующий же день.
– Хорошо, очень хорошо, – Генрих радостно встрепенулся. – Ну и как успехи?
– Все прекрасно. Русские обладают способностями быстро усваивать чужие языки. Об этом мне не раз говорила бабушка, в прошлом столкнувшаяся с этой проблемой лично. Это объясняется тем, что в русском языке существуют все звуки европейских языков. Не пройдет и полгода, как Ольга будет разговаривать по-немецки.
– Эдит, ты не представляешь, как обрадовала меня. Я не предполагал, что тебе удастся так быстро справиться с поставленной задачей. Всего полгода… – лицо Генриха озарила добрая и радостная улыбка.
В словах Генриха, а самое главное, в том, как они были сказаны, Эдит уловила нотки неподдельной нежности.
Это придало ей смелости, и она сказала:
– У меня есть еще одна новость, думаю, она вас заинтересует, – Эдит щелкнула замком дамкой сумочки и вынула небольшой лист белой бумаги, сложенный вдвое. – Вот, посмотрите.
Генрих развернул лист и стал с интересом рассматривать его.
– Этот рисунок Ольга сделала всего за две минуты. Но взгляните, какое поразительное сходство, а ведь я даже не позировала ей. Ольга просто взяла карандаш и как волшебник, легко и изящно провела несколько толстых и тонких штрихов, и вот… эскиз готов.
– Д-а-а, прекрасно, – Генрих словно зачарованный смотрел на рисунок, не в силах оторвать взгляд.
Он вдруг вспомнил, как неделю назад застал Ольгу одну в гостиной. Она любовалась картиной голландского художника портретиста Франса Халса, висевшей над камином. В ее взгляде было восхищение и какое-то благоговение, и Генрих невольно застыл у двери, любуясь девушкой. Ольга была необычайно обворожительна и мила, и Генрих еле сдержал себя, чтобы не заговорить с ней. Но это был миг, всего лишь миг. Ольга интуитивно почувствовала чье-то присутствие и резко повернулась. Она с презрением посмотрела на Генриха и, гордо вскинув головку, прошла мимо, даже не взглянув на него, словно он был пустым местом.
– Она этому училась где-нибудь? – спросил Генрих, продолжая любоваться рисунком.
– Непосредственное влияние, по словам Ольги, на нее оказал сельский учитель рисования, то ли Фоменко, то ли Федоренко… впрочем, это не столь важно. Он первым обратил внимание на способности Ольги к рисованию и стал заниматься с ней индивидуально помимо школьной программы. Ольга рассказала, что рисовать начала запоем очень рано, чуть ли не с трех лет. Она рисовала по воображению или с натуры, а вот перерисовывать с картинок не любила, остро ощущая, что это не ее. Ольгу занимал сам процесс рождения образа, как она выразилась, «ниоткуда». А когда ей исполнилось четырнадцать лет, – Эдит бросила робкий взгляд на Генриха. – Может быть, это вам неинтересно?
– Рассказывай, я слушаю тебя с большим вниманием, – Генрих положил рисунок на стол и потянулся за сигаретой.
– Отец за большие деньги купил ей краски. Ольга сделала кисть из шерсти, надерганной из шубы матери, прикрепила холст к деревянной рамке, которую смастерил старший брат, и стала по памяти рисовать свою деревню. Она была очень увлечена работой, но когда закончила картину, со злостью отбросила кисть на пол и обеими руками закрыла глаза. «Браво, брависсимо! – закричал вдруг старший брат и кинулся к Ольге. – Ты талант, огромный талант, ты наша гордость и наша слава». Но Ольга даже бровью не повела в ответ на пламенную речь брата. Она убрала руки с лица и воспаленными глазами уставилась на картину. С каждой секундой она становилась все мрачнее и мрачнее. Потом, болезненно сморщив лицо, Ольга с болью выкрикнула: «Картина мертвая, в ней нет жизни, нет звуков». «Ольга, о чем ты? Картина чудесная. Да и какие звуки могут быть в картине?» – возразил брат. «Она мертвая…» – со злостью повторила Ольга и, бросившись к картине, сорвала с рамы и стала рвать на куски. Брат был поражен поступком сестры и стоял как парализованный, не в силах ей помешать. Звуки… Мне это тоже непонятно. И когда я сказала об этом Ольге, она улыбнулась и задумчиво произнесла: «Мы живем ускоренным темпом и нам некогда прислушиваться к звукам, которые вокруг нас, которые в нас, и все это делает нашу жизнь серой, будничной. Скажи, ты когда-нибудь наблюдала зарево восхода или закат солнца?». Я смущенно пожала плечами. «Это потрясающее зрелище, оно целиком захватывает тебя и переносит в мир чувств, которые невозможно описать словами. Человеческий язык слишком беден, чтобы передать великое таинство природы, происходящее на твоих глазах. А художник, если он настоящий художник, посредством палитры красок может заставить тебя пережить эти чувства. Ты смотришь на картину, на которой изображен ураган, сметающий все на своем пути: деревья, хозяйственные постройки, ветхие жилища, и тебе кажется, еще мгновение – и ураган подхватит тебя, словно маленькую песчинку, и унесет за собой. И если художнику удалось внушить тебе подобные чувства, то его картина – живая и в ней есть звуки».
– Как, оказывается, можно красиво выражать свои мысли, – произнес Генрих и покачал головой. – Эдит, можно я оставлю себе этот рисунок?
– Конечно.
Вдруг раздался глухой треск, включился селектор, и секретарша сказала:
– Господин Дитрих, к вам господин Прост. Вы примете его или ему подождать?
Эдит встала и, сжимая в руках дамскую сумочку, поспешила откланяться.
– Не буду больше занимать ваше время, господин Дитрих, тем более я уже все вам рассказала. До свидания, – Эдит, поклонившись, направилась к двери.
– Эдит, – окликнул девушку Генрих.
Витхайт повернулась.
– Спасибо. Я жду тебя в следующую среду.
– Хорошо.
Генрих щелкнул тумблер селектора.
– Сайда, скажи господину Просту, что он может войти.
Эдит не успела взяться за дверную ручку, как дверь широко распахнулась, и на пороге возникла фигура молодого высокого мужчины плотного телосложения. При виде девушки на его лице моментально появилась обворожительная улыбка, которая, по мнению ее обладателя, не могла оставить равнодушной ни одну представительницу женского пола. Мужчина галантно отступил назад, пропуская Витхайт. При этом его взгляд скользнул по фигуре девушки и зафиксировал в памяти, как на кинопленке, все достоинства и недостатки рассматриваемого объекта.
Как только за Эдит закрылась дверь, мужчина с нескрываемым любопытством спросил:
– Кто эта девушка? Я никогда раньше не встречал ее у тебя. Она очередная вкладчица вашего банка или… – мужчина негромко хихикнул. Широко расставляя ноги, он приблизился к столу и, не дожидаясь приглашения, плюхнулся в кресло. – Ну и жара сегодня.
Генрих включил вентилятор.
– Питер, ты, как всегда, в своем репертуаре. Скажи честно, тебя кроме женщин еще что-нибудь в жизни волнует?
Прост плотно сжал губы и потер кончик носа.
Питер Прост, тридцатипятилетний сотрудник частного рекламного агентства «Ходжер», появился в поле зрения Генриха буквально на второй день его вступления в должность. Генрих не мог даже вспомнить, с каким вопросом Прост обратился тогда к нему. Через пять минут они были уже на «ты», а через час сидели в кафе напротив «Швейцеришен банкферейна». С первой минуты их знакомства Питер понравился Генриху. Он по характеру был похож на Ганса Вольфа, друга детства Генриха. Та же раскованность в общении с людьми и неуемная энергия, которую они оба направляли на то, чтобы привлечь к себе внимание женщин. Правда, Ганс, когда знакомился с женщиной, почти всегда влюблялся в нее, считая, что наконец-то встретил ее… единственную и неповторимую. Питер же был заведомо уверен, что бросит женщину, как только та уступит его мужским домоганиям, поскольку утратит для него всякую привлекательность. Питеру доставляло большое наслаждение добиваться своей цели, а не пожинать плоды своих любовных побед. Прост был женат на Мэрилен – единственной дочери миллионера Зиглера. Но он никогда не любил об этом распространяться. Его тесть – совладелец фирмы «Ротманс Интернэшнл», выпускавшей сигареты – был человеком крутого нрава, и на желание дочери выйти замуж за Питера ответил категорическим отказом. Он считал это очередным ее капризом. Но Зиглер совсем не знал свою дочь, которая не покорилась его воле и соединила свою судьбу с Простом. Они были женаты почти четырнадцать лет и жили на деньги, которые Питер получал, работая в рекламном агентстве. Единственный подарок, который сделал Зиглер своей дочери, был великолепный дом, расположенный в живописном месте на вершине горы. Он был построен для Мэрилен в то время, когда она еще не была замужем, но сделан предусмотрительно большим, чтобы в случае ее замужества было где разместить мужа и детей. В этом доме и жил Питер с женой. Детей у них не было, и это очень омрачало их жизнь.
– Волнует ли меня что в этой жизни? – Прост усмехнулся и, убрав руку с лица, тихонько забарабанил по краю стола. – Знаешь, Генрих, когда я был значительно моложе, то увлекался живописью, мечтал даже стать художником.
Генрих удивленно вскинул глаза на Питера.
«Положительно сегодня день сюрпризов», – подумал он и вслух произнес:
– Ты никогда мне об этом не рассказывал.
– Возможно. Давно это было. Зеленый я был тогда и наивный, мечтал о славе и мировой известности, поскольку считал себя талантливым. Когда мне исполнилось восемнадцать лет, поехал в Цюрих поступать в художественную академию. И, представь себе, на первом же экзамене провалился. Я не поверил… нет, этого не может быть, это ошибка. На следующий год – я опять в числе абитуриентов, и снова провал. «Молодой человек, вы безнадежно бездарны, – был приговор одного из профессоров академии. – Не тратьте попусту время, а займитесь лучше делом, которое соответствует вашим способностям». И опять я не поверил, больше того, разозлился и решил доказать всем, что они неправы. Нашел одного более-менее известного художника и стал брать у него уроки рисования. Учитель мой стойко занимался со мной два месяца, а на третий не выдержал. Он сказал мне почти то же самое, что и профессор в академии, только более корректно. Его устраивали деньги, которые я платил ему за работу, и поэтому он два месяца боролся с искушением потерять их. Но профессиональная гордость победила. После этого я долго не мог устроиться на работу. И вот однажды я прочитал в газете объявление рекламной фирмы «Ходжер», которая приглашала на конкурсной основе на работу художников-дизайнеров. Я решил рискнуть. И, на мое счастье, меня приняли. Художник из меня не получился, зато за годы работы в агентстве я стал неплохим специалистом в области рекламы.
– Слушай, рекламный работник, – Генрих не смог сдержать улыбки, – а что ты скажешь об этом?
Генрих протянул Просту эскиз, сделанный Ольгой.
Питер, рассматривая рисунок, прищурил глаза.
– Недурно, черт возьми, совсем недурно. Линии живые, легкие, подвижные, как бы сделанные с налета. Я бы сказал, это – музыка линий и штрихов. Генрих, откуда у тебя этот рисунок? Хотя постой… это же портрет девушки, которая выпорхнула из твоего кабинета. Точно, эта она. Генрих, скажи, а тебе не показалось, что я понравился ей? – Прост самодовольно улыбнулся, закинул ногу на ногу и щелкнул языком. – Думаю, мне следует познакомиться с ней поближе.
– Питер, прошу тебя, держись от этой девушки подальше.
– Почему? Впрочем, если ты сам имеешь на нее виды, тогда другое дело. Я никогда не встану на пути своего друга.
– Нет, я никакого отношения не имею к этой девушке. Но, зная тебя, не хочу, чтобы ты сделал ей больно, – категорично заявил Генрих, взял из рук Проста рисунок и положил на стол.
– Ты обижаешь меня. Что, по-твоему, означает «Сделать девушке больно»? – философским тоном вопросил Прост и погладил коленку. – Разреши мне дать тебе совет: никогда не решай за других. Человек непредсказуем, что плохо для тебя, для другого – рай небесный.
– Рай небесный?! Питер, не смеши. Ладно, оставим этот разговор, – Генрих откинулся на спинку кресла. – Так значит, ты считаешь, человек, сделавший этот рисунок, обладает талантом.
– Бесспорно.
– Прекрасно. Тогда еще один вопрос. Кто, по твоему мнению, из наиболее талантливых и почитаемых художников, проживающих в Швейцарии, может взяться обучать мастерству живописи?
– Интересный вопрос. Но, думаю, тобой руководит не только праздное любопытство.
– Несомненно.
– Хорошо… дай подумать, – Прост скрестил руки на груди. – Если тебя интересует мое мнение, то скажу следующее. Есть два художника, которые стоят на порядок выше тех, кого я знаю. Это голландец Карел Виллинк и швейцарец Жозе Говарт. Они разноплановые художники и каждый из них талантлив и неповторим по-своему, но все-таки я предпочел бы Говарта. Он ближе мне по стилю и духу восприятия окружающего мира. К тому же наша фирма не раз обращалась к нему за консультацией, как к специалисту высочайшего класса. Но хочу тебя огорчить, у Говарта никогда не было учеников. Какие только деньги ему не предлагали, какие только блага не сулили, но он был непреклонен. Похоже, не все талантливые живописцы могут быть хорошими педагогами, только так я могу объяснить нежелание Говарта иметь учеников.
– Жозе Говарт… Чем же он так примечателен, этот Говарт?
– Во-первых, это – европейский художник, и художник талантливый, а во-вторых, все его картины отличаются большим вкусом и особенным очарованием. Необычайно прелестны его женские портреты. Женские фигуры у него легки, грациозны и смотрят с полотен нежно и живо. Во всем творчестве Говарта прослеживается влияние романтизма, и это неслучайно, поскольку его учителями были знаменитые художники Круземан и Пико. В свое время о Говарте много писали, его имя часто мелькало на страницах газет и журналов. Сейчас шумиха вокруг него значительно утихла, и это вполне понятно, ведь художнику уже больше семидесяти лет, и он не так плодотворно работает, как в молодые годы. Последние две его картины выставлялись на Базельской международной выставке еще до войны и в мире искусства произвели фурор. – Питер посмотрел на Генриха и после минутного молчания без всякого перехода добавил: – Эскиз, который ты мне показал, выполнен девушкой и, возможно, очень молодой. Генрих, не возражай, – Питер поднял руки вверх. – Ты меня не обманешь… у меня глаз наметан. И знаешь, если тебе удастся уломать Говарта, то он придаст самородному таланту твоей протеже вид бриллианта в золотой оправе.
– Питер!!!
– Генрих!!!
А тем временем Ольга задумчиво сидела в гостиной и ждала Витхайт. Эдит была пунктуальной девушкой и больше чем на десять минут никогда не опаздывала. Раздался мелодичный звон часов. Ольга прислушалась.
Часы пробили три часа дня.
«Эдит заставляет ждать себя уже целый час», – подумала Ольга, глубоко вздохнула и взяла карандаш, который лежал перед ней на столе рядом с тетрадью, приготовленной для занятий по немецкому языку.
Она на минуту опустила голову, затем быстро выпрямилась. Что-то вспыхнуло и загорелось в глубине ее глаз, горькая улыбка искривила губы. Ольга открыла тетрадь на последней странице и крепко сжала карандаш. Перед глазами мгновенно появилась страшная картина. Девушка передернула плечами и под впечатлением нахлынувших чувств сделала несколько коротких и длинных пунктирных линий. Карандаш заскользил по бумаге виртуозно, быстро и уверенно, почти не увлекаясь деталями и тщательной разработкой формы, он был тверд и целенаправлен. Белая бумага в сопоставлении с линиями и штрихами и в их окружении постепенно превращалась в жанровую картинку. Полутемное пространство, лишь в самом центре несколько ярких лучей освещают фигуру немецкого офицера. Вид фашиста страшен. Он стоит, чуть согнувшись, широко расставив ноги. Мундир расстегнут, волосы взъерошены, одна рука запрокинута назад, другая сжата в кулак, который вот-вот обрушится на девушку, лежащую в бессознательном состоянии у ног немецкого офицера. Лицо девушки в крови. Темные пятна, следы крови видны повсюду. Именно на них Ольга акцентирует свое внимание, заставляя зрителя прийти в ужас и содрогнуться от увиденного на рисунке.
Ольга захлопнула тетрадь и, сжав кулаки, прошептала:
– Ненавижу!
V
– Кого я вижу! Подружка… заходи, заходи, – Мария Петровна широко распахнула входную дверь.
Клавдия Ивановна переступила порог и в нерешительности застыла посреди коридора.
– Мария, если я не вовремя, так ты скажи.
– Не узнаю тебя сегодня, Клавдия. Чудная ты какая-то. Что-то случилось? Так ты говори, не молчи… Знаешь ведь, нервы у меня на пределе, каждую минуту жду плохих известий, – с раздражением сказала Светлова.
– Успокойся, нет у меня никаких новостей для тебя. А зашла я поговорить с тобой, рассказать о своих проблемах. Но не знаю только, с чего начать, да и как ты к этому отнесешься.
– Не беспокойся, отнесусь, как надо, – с явным облегчением сказала Светлова. – Заходи, обсудим. Ты же знаешь, чем смогу, всегда помогу. Ну, а если нет, так не обессудь.
– Знаю… только вот вопрос больно щекотливый.
– Проходи на кухню. Я как раз перед твоим приходом напекла блинов, точно чувствовала, гости будут. Посидим, побалуемся чайком, ты и расскажешь о своих проблемах.
Клавдия Ивановна села на скамейку у окна и, положив руки на стол, при виде аппетитных, с подрумяненной корочкой блинов, которые высокой горкой лежали на тарелке, с явным одобрением покачала головой.
Мария Петровна поставила чашки, разлила в них чай и, пододвинув к гостье тарелку с блинами, сказала:
– Угощайся.
Клавдия Ивановна взяла самый верхний блин и, улыбнувшись, откусила маленький кусочек, затем потянулась за чаем. Светлова последовала ее примеру.
– Хороши, – похвалила Клавдия Ивановна и взяла еще один блин. – Я сама неплохо готовлю, но таких вкусных блинов печь не умею. Похоже, есть у тебя, Мария, особый секрет.
– Да какой там секрет, – Светлова махнула рукой. – Просто люблю я возиться с тестом, отношусь к нему с особой любовью и нежностью, вот результат и налицо.
– Хороши, – еще раз похвалила Орлова.
Подруги некоторое время помолчали.
– Слыхала, у Степаниды сын вернулся, – нарушила молчание Орлова и отодвинула пустую чашку в сторону.
Вытирая руки полотенцем, которое услужливо протянула ей хозяйка дома, она облизнула губы и поблагодарила за вкусные блины.
– Да, слыхала, – отозвалась Мария Петровна. – Бедный парень. Люди говорят, в концлагере он был. Фашисты отбили ему легкие, и теперь парень харкает кровью. Похоже, не жилец он на этом свете. Степаниду жаль. Помнишь, когда она получила известие, будто бы ее сын пропал без вести, так почернела, как обгоревшая головешка, а сейчас… с его возвращением стала еще чернее. Да и то сказать, каждый день смотреть на сына, который умирает на твоих глазах, и ни в силах ничем ему помочь. Разве есть более страшная мука для матери?
– И не говори… – Орлова плотно сжала губы и покачала головой. – Мой, вот, Григорий…
– А что с Григорием?
– Да все геройствует передо мной. Не беспокойся, мол, мать, все в порядке. Но разве материнское сердце обманешь? Вижу я, как мучают его жуткие боли, да такие, что он близок к обморочному состоянию. Но куда там… держится, не подает виду. И один Бог знает, чего это ему стоит.
– А Маша? Она ведь медсестра… Неужели и она не в силах ничем ему помочь?
– Нет. Кстати, о Маше. Хорошая она девушка, добрая и отзывчивая. Живет у нас всего два месяца, а стала уже полноправным членом семьи. Как-то спрашиваю ее: «Маша, тебе, наверное, пора домой уезжать. Родные, поди, заждались». Опустила она головку и тихо так отвечает: «Нет, никто меня не ждет. Одна я на белом свете. Родители бросили меня, когда мне было три года. Детдомовская я». И поверишь, Мария, так мне стало жалко ее. «А как же ты собираешься теперь жить?» – спрашиваю, с болью глядя на бедную девушку. «Хочу остаться в вашей деревне. Устроюсь работать медсестрой в больницу. С жильем, правда, не знаю, как быть. Возможно, со временем мне и дадут какую-нибудь комнатушку при больнице, но сейчас… Клавдия Ивановна, разрешите мне пока пожить у вас. Обещаю, как только устроюсь работать, так сразу же стану хлопотать о жилье». И что мне было делать, Мария? Согласилась я. А что было потом, ты сама знаешь. Устроилась девушка работать в больницу, а в жилье ей отказали. И все бы ничего, да… – Клавдия Ивановна глянула исподлобья на Светлову.
– Говори, чего уж там, – недовольным голосом сказала Светлова.
– Хорошо, скажу. Не буду ходить вокруг да около. Похоже, любит Маша Григория моего, без памяти любит.
– Ну а твой сын, что он?
– Григорий относится к Маше хорошо. Всегда внимателен к ней, предупредителен…
– Хватит, Клавдия, говори…
– Успокойся. Не любит он Машу, нет, не любит. Ведь ты это хотела услышать?
Мария Петровна, глядя поверх головы Орловой, молчала. В ее глазах появились слезы.
– Как-то ночью не спалось мне, – Орлова тяжело вздохнула, – пошла я на кухню воды попить. Прохожу мимо комнаты Григория… слышу: стонет он во сне и все Ольгу зовет.
– Боже мой, Боже мой, – Мария Петровна уронила голову и, обхватив ее руками, заплакала. – Олечка, девочка моя, где ты? Господи, молю тебя, спаси мою дочь. Если нужно, возьми мою жизнь, но спаси дочь. Гос-по-ди…
Клавдия Ивановна встала, подошла к Марии Петровне и обняла ее за плечи. Орлова громко всхлипнула.
– Подружка моя, Бог милостив. Он не допустит несправедливости. Жива твоя Ольга, жива.
– Ты так думаешь? – Мария Петровна еще раз всхлипнула и подняла глаза, полные слез, на Орлову.
– А ты верь, Мария, верь. Вера, ведь она что… она помогает не только жить человеку, но и спасает того, чье имя ты неустанно повторяешь в своих молитвах. И где бы сейчас не находилась твоя дочь, вера твоя защитит ее от всех несчастий и бед.
– Спасибо тебе, Клавдия, за добрые слова. Спасибо, – Мария Петровна покачала головой и вытерла слезы. – Так что ты хотела мне сказать? – через минуту напомнила она Орловой.
– Хотела попросить тебя принять Машу к себе на постой. Временно, конечно, пока она не получит комнату при больнице.
– Клавдия, но ведь…
– Мария, прошу тебя, не отказывай. Я бы никогда тебя об этом не попросила, но сплетни, которые носятся над Григорием и Машей, никак не утихают, а совсем наоборот – с новой силой разгораются. Маша девушка молодая, незамужняя, да и Григорий холостой. Лучше, как говорится, от греха подальше. Маша хорошая девушка, и тебе будет с ней не так одиноко дожидаться возвращения своих детей домой, – Клавдия Ивановна тронула Орлову за руку и заглянула ей в глаза, но та, резко отстранив ее, встала.
Подойдя к окну, Мария Петровна прислонилась к косяку и посмотрела на улицу. На бледном и утомленном лице Светловой были видны следы тяжелой внутренней борьбы.
– Хорошо, – наконец выдавила из себя Светлова, – приводи ее. Только… Сегодня у нас что? Понедельник? Так вот, приводи ее в четверг. Дай мне два дня. Должна же я привыкнуть к мысли, что девушка будет жить в моем доме.
– Договорились, – обрадовалась Орлова.
Клавдия Ивановна не сразу объявила Маше, что та должна переехать жить к Светловой. Лишь к исходу среды она решилась. Ее предложение было полной неожиданностью для девушки и повергло в смятение. Маша вмиг покраснела, потупила взор и до боли прикусила нижнюю губу. Глядя на девушку, Клавдии Ивановне стало жаль ее, ведь, в конце концов, она не виновата в том, что полюбила Григория.
– Маша, пойми меня правильно. Ты и Григорий… вы просто друзья, и я это знаю. Но люди… На каждый роток, как говорится, не накинешь платок.
– Да, да… я понимаю, – чуть не плача, произнесла Маша.
Тайна, которую она хранила в сердце и старательно скрывала от всех, была раскрыта. Тяжелое оцепенение, мешавшее собраться ей с мыслями, точно парализовало ее.
– Вот и хорошо, дочка. Собери свои вещи. Мария Петровна уже приготовила тебе комнату, так что завтра и пойдем.
Комната, в которую Мария Петровна решила поселить Машу, раньше принадлежала Ольге. В левом углу стояла железная кровать, рядом – массивный сундук, полученный Марией Петровной в качестве приданого от родителей, прямо напротив двери красовался стол из красного дерева, над которым висела самодельная книжная полка, а у окна – два стула. На подоконнике стояло несколько маленьких горшков с цветущей геранью. Тряпичная кукла, любимая игрушка Ольги, сидела на сундуке, покрытом самотканым покрывалом. На столе был сохранен тот же рабочий беспорядок, который царил и при Ольге. Стопка ученических тетрадей, несколько книг, затасканная картонная папка, в которой хранились рисунки и эскизы, сделанные Ольгой, черный уголек и перьевая ручка… Кажется, вот сейчас откроется дверь и войдет Ольга, и комната сразу же наполнится жизнью и солнечным светом.
– Живи, – распахнув дверь комнаты настежь, сказала Мария Петровна и удалилась на кухню, оставив девушку одну.
Маша, сжимая в руке маленький чемоданчик, нерешительно переступила порог и с нескрываемым любопытством оглядела комнату. Какая злая ирония судьбы! Она находится в комнате, в которой до недавнего прошлого жила, по существу, ее соперница, Ольга Светлова. Что было в этой девушке такого, чего нет в Маше Прохоровой? Почему Григорий, находясь рядом с Машей, все время вспоминает Ольгу? Ольга, даже находясь вдали от родных мест, стояла между ними. Дом, где жила Ольга, улица, по которой она ходила, школа, в которой она училась, и даже воздух – все дышало и жило воспоминанием о ней.
Григорий в первые дни приезда в деревню уделял Маше много внимания, так как знал, что у нее нет ни родных, ни знакомых, и поэтому чувствовал ответственность за судьбу девушки. Он показал ей деревню и познакомил со своими друзьями и знакомыми. Деревенская молодежь сначала отнеслась к Маше с некоторым предубеждением, но постепенно, по мере того как узнавали ее, изменили свое отношение к ней в лучшую сторону. Но даже после этого Маша не могла отделаться от мысли, что хотя они и приняли ее в свой круг, она никогда не станет им так же близка и любима, как Ольга Светлова. Решив остаться жить в деревне, Маша незаметно для себя прониклась ее духом и заботами. Ее покорили великолепные деревенские пейзажи, запах вспаханного чернозема, деревенская тишина и пение петухов. Особенно поэтично выглядела в жизни деревни так называемая «улица». Вечером после трудового дня деревенская молодежь собиралась на краю деревни у амбара. Гармонист Мишка Козлов, рыжеволосый, с вихрастым чубом парень, занимал самое почетное место на ступенях амбара, а молодежь рассаживалась рядом на бревнах. Пение задушевных песен и пляска под гармонь – какое же это было великолепное зрелище.
Однажды, поддавшись общему веселью, Маша не выдержала и запела:
- Бьется в тесной печурке огонь,
- На поленьях смола, как слеза.
- И поет мне в землянке гармонь,
- Про улыбку твою и глаза.
Мишка-гармонист тряхнул чубом, и его пальцы виртуозно забегали по клавишам музыкального инструмента. Молодежь сразу же притихла, а Маша, зардевшись, обхватила руками колени и продолжила песню уже под звуки гармони. Она пела и мысленно предавалась воспоминаниям о прошедшей фронтовой жизни. Григорий стоял у молоденькой березки и с нескрываемым любопытством наблюдал за девушкой, точно видел ее впервые. В его взгляде было столько восхищения и неподдельного интереса, что Маша мгновенно почувствовала себя счастливой, совершенно счастливой.
– А у тебя красивый голос и ты замечательно поешь, – похвалил Григорий Машу, когда они возвращались домой после «улицы».
Глядя на девушку, он улыбнулся ей той обворожительной улыбкой, какой мог улыбаться только он. От сказанных слов Маша вся встрепенулась и, поддавшись голосу страсти, стремительно прильнула к Григорию. Обжигая дыханием и страстным объятием, она почти лишила его воли. Григорий хотел отстранить девушку, но не мог. Маша с силой прижалась к нему, впилась в губы и он, почти безвольный, ответил ей на поцелуй. Лицо Маши залилось краской, а глаза вспыхнули, как яркие огоньки в ночи. Ее любовь к Григорию была велика, и она уже не могла таить ее глубоко в сердце.
– Гришенька, Гришенька… – в любовном экстазе шептала Маша, не в силах оторваться от сильного молодого тела Орлова.
Безумство овладело ею, затуманило разум и сломило волю. Маша жаждала страстных поцелуев, волнующих и пусть даже постыдных ласк. Однако Григорий быстро пришел в себя и решительно отстранил девушку. Его губы слегка дрогнули, черты лица приобрели ледяную суровость.
– Маша, прошу тебя… не надо.
Маша, приоткрыв рот, с секунду смотрела на Григория, потом, не говоря ни слова, повернулась и пошла к дому Светловых. Она не помнила, как очутилась в своей комнате. Бросившись на постель, Маша вцепилась зубами в наволочку, пытаясь изо всех сил не разрыдаться.
После этого случая в ее наивной душе воцарилось убеждение, что теперь Григорий не сможет относиться к ней, как прежде, по-дружески. Поцелуй, страстный, безумный… Ведь должен же он что-то значить для него! Но на поверку все было иначе. Григорий вдруг стал избегать девушку. Единственным местом, где молодые люди могли встретиться, была «улица». Но и туда Григорий стал наведываться от случая к случаю. Маша совсем загрустила. Любовь, дарующая людям радость и наслаждение, не имела ничего общего с любовью Маши, любовью безответной. Потребность видеть Григория каждый день была ей необходима так же, как потребность дышать. Она не в силах была жить без своего любимого, и от этого лишилась сна, аппетита, похудела и еще больше подурнела. Девушка в полной мере познала боль разочарования в любви, отчего и жить-то не хотелось, если бы не работа. Только на работе она чувствовала себя нужным и полезным человеком.
Больница, в которую устроилась работать Маша, была расположена в поселке городского типа Мураши, что в трех километрах от деревни Озерки. Поселок и деревню соединяла грунтовая дорога, вдоль которой тянулась посадка белой акации. Маша выходила из дома за полтора часа до начала работы, чтобы у нее было время подумать за время пути о своей жизни, складывавшейся не так, как она мечтала.
Руководил больницей главный врач Виктор Макарович Большой. Это был сорокалетний мужчина щуплого телосложения, невысокого роста, с темными, гладко зачесанными назад волосами, слегка поседевшими на висках. Виктор Макарович с радостью принял Машу на работу. Больница всегда испытывала потребность в квалифицированных кадрах, а тут – хирургическая медсестра, прошедшая войну с первых и до последних дней. Так сложилась судьба, что главврач не был на войне, хотя неоднократно подавал заявления с просьбой отправить его на фронт. В первые дни войны ему отказали в просьбе, посчитав, что он больше принесет пользы, если останется работать в своей поселковой больнице (русские вой ска при отступлении несли большой урон в живой силе), а затем пришли немецкие оккупанты, установившие ненавистный режим, просуществовавший до 1944 года. В годы оккупации главврач пережил ужасную трагедию, оправиться от которой так до конца и не смог. Маше об этом под большим секретом рассказала Кира Александровна Морозова, работавшая в больнице кастеляншей.
У Виктора Макаровича была жена и двое детей тринадцати и четырнадцати лет. Однажды группа комсомольцев-активистов казнила славившегося своей жестокостью полицая Козленко, повесив его прямо перед собственным домом. В ответ немцы жестоко расправились с местным населением. Они выгнали из домов, расположенных на окраине, женщин, стариков и детей, заперли их в амбаре и подожгли. Всего было сожжено пятьдесят человек, среди которых жена и дети главного врача. Виктор Макарович уцелел чудом. В самый последний момент, когда двери амбара закрывали на засов, за него вступился перед немецким полковником староста Масалкин, который до революции был преуспевающим купцом, а после – серым неприметным работником. В свое время главврач вылечил его единственную шестнадцатилетнюю дочь, которая долгие годы была прикована к постели. После нескольких операций она поправилась и снова смогла ходить. Какой-никакой, но Масалкин не забыл, чем был обязан Виктору Макаровичу, и за добро отплатил добром. Однако немцы подарили жизнь Большому не ради акта милосердия, а после того как староста заверил их, что Виктор Макарович – талантливый хирург и смог бы принести Германии больше пользы живой, чем мертвый. Но русский врач категорически отказался работать на немцев, за что был жестоко избит, а затем кастрирован.
Кирилл Сергеевич Потоцкий – седой, как лунь, с длинным мясистым носом – появился в больнице то ли в 1916 году, то ли в 1917-м. Потоцкий был фельдшером, правда, фельдшером неплохим, способным самостоятельно провести несложные операции. Но он старался этим не заниматься, а предпочитал ассистировать на операциях главврачу, перед талантом которого благоговел. О личной жизни Кирилла Сергеевича было мало что известно, поскольку от природы он был молчалив.
Кроме того, в больнице работали еще несколько сотрудников: сестры Дерюгины Верочка и Шурочка, исполнявшие обязанности медсестер, и две санитарки – Козлова Вероника Владимировна и Алексеева Дорофея Николаевна.
Маша проработала почти месяц в больнице, когда произошел трагический случай. День был воскресный. Примечательно, что в именно в этот день главврач впервые за долгие месяцы решил устроить себе выходной. Накопилось много работы по дому, да и потом… Приснился ему сон. Жена и дети, нарядные и улыбающиеся, шли ему навстречу по цветущему лугу. Он ускорил шаг, потом побежал… Еще мгновение, и Виктор Макарович заключит их в объятия, но вдруг милые образы развеялись, словно дым, и он проснулся. Наутро главврач решил в ближайшее воскресенье обязательно пойти на кладбище и навестить могилы жены и детей.
В девять часов утра Маша была уже в больнице. Дорофея Николаевна старательно мыла полы в коридоре, забывая споласкивать половую тряпку в ведре с водой, отчего весь пол был в грязных разводах. Маша покачала головой, но промолчала. Кивнув санитарке в знак приветствия, она проследовала в ординаторскую. Кирилл Сергеевич был уже на рабочем месте и каллиграфическим почерком старательно заполнял историю болезни Медынской, которую планировали выписать через несколько дней.
– Кирилл Сергеевич, доброе утро, – приветливо поздоровалась Маша с Потоцким, подошла к окну и распахнула его настежь. – День сегодня будет замечательный. Ну, а как у нас дела? Шурочка уже пришла?
– Дела, дела… – Потоцкий поднял голову и почесал затылок. – Шурочка? Ах да, Шурочка… Нет, она еще не пришла. Машенька, голубушка, вы же знаете… – Потоцкий не успел закончить фразу, как раздался невероятный по силе взрыв, потом еще и еще.
Стекла сильно зазвенели, входная дверь с шумом открылась.
– Кирилл Сергеевич, что это? – воскликнула Маша и, выглянув в окно, с тревогой оглядела местность.
Перед ней была липовая аллея, справа – убогие жилые дома, а за ними тянулись колхозные поля.
– Прямо как на войне. Нет, правда… Такое впечатление, что взорвалась противотанковая мина.
– Машенька, какой там взрыв, какая противотанковая мина… Глупости все это, – возразил Потоцкий и с невозмутимым видом продолжил работу.
– Слыхали? – в комнату заглянула Дорофея Николаевна. – Мальчишки, вот шалопаи… Затеяли войну… В шестой и седьмой палате оконных стекол как не бывало.
– Дорофея Николаевна, вы думаете, это мальчишки балуются? – засомневалась Маша.
– А кто же еще? Конечно, они, негодники. Узнать бы, кто именно, да рассказать все родителям. А те уж задали бы им трепки, – Дорофея Николаевна погрозила кулаком воображаемым мальчишкам и закрыла дверь.
– Мальчишки!? – с выражением полного изумления на лице произнесла Маша.
В 9:45 утра к зданию больницы, поднимая пыль столбом, подъехала телега, запряженная парой гнедых.
Рослый вихрастый парень выскочил из телеги и что есть мочи закричал:
– Помогите…
Маша, не помня себя, бросилась на крик. За ней бежали Шурочка, Дорофея Николаевна и больной Лобов из третьей палаты.
– Что, что случилось? – Маша подбежала к вихрастому парню и схватила его за руку.
– Я… я… я, – заикаясь, простонал парень.
От волнения он больше не мог произнести ни единого слова.
– Успокойся, слышишь, успокойся, – Маша с силой встряхнула парня за плечи. – А теперь спокойно и внятно рассказывай.
– Председатель наш, Ефим Васильевич, послал меня с запиской к счетоводу Марку… Марку… Вот черт, забыл его отчество, – парень все еще находился в шоковом состоянии.
– Алексеевич, – подсказала Шурочка.
– Да, точно, Марку Алексеевичу. Я запряг телегу и подумал: «Домчусь в один миг до поселкового Совета и все дела». Проезжаю мимо колхозного поля. Смотрю, Михась Ямпольский вместе с отцом пашут на тракторе землю. Я помахал Михасю рукой, мол «Здорово». Он в ответ: «Здорово». Мчусь дальше. Вдруг… – парень на миг замер, широко раскрыв глаза, – взрыв, затем еще… Кони от испуга заржали и шарахнулись в сторону. Ну, думаю, все, сейчас кони понесут, заднее колесо отвалится, поскольку вечно с ним одни проблемы, и мне каюк. Но ничего, обошлось. Поворачиваю голову назад… Ни Михася, ни его отца, ни трактора… Лишь плотная завеса из пыли стоит на том самом месте, где несколько минут назад они работали.
– Боже мой, какой ужас, – Маша прижала руки к груди.
Воцарилась мертвая тишина. Парень подошел к телеге и дрожащей рукой откинул рогожку в сторону.
– В-о-о-т, они здесь. Я их привез, – запинаясь, произнес он, наклонил голову и громко зарыдал.
Маша несколько минут стояла неподвижно, не в силах оторвать глаз от жуткой картины. Перед ней лежала груда окровавленного человеческого мяса.
– Как же ты смог их собрать? Как? – спросила Маша парня, не узнав собственного голоса.
– Я не знаю… не зна-ю-ю. Только… – парень, точно безумный, обвел взглядом всех присутствующих. – Михась… у него руки, ноги и голова на месте, они целы. А вдруг… он жив. Михась жив. Прошу вас, посмотрите… вдруг он жив, – парень рухнул на колени и стал руками бить по земле. – Он жив… ха-ха-ха…
Маша резко встрепенулась и, не поворачивая головы, закричала:
– Шура, сделай парню успокаивающий укол и позови Кирилла Сергеевича. Быстро.
Состояние ужаса и бессилия, охватившее Машу в первое мгновение, отошли на второй план. Она вдруг не столько поняла, сколько почувствовала, что должна все взять на себя и предпринять решительные действия. А что, если Михась действительно жив? Маша, призвав всю свою выдержку и самообладание, приступила к осмотру тела Михася, поскольку не сомневалась, что его отцу помочь уже никто не в состоянии. Михась лежал лицом вниз, неестественно вывернув правую руку и подогнув под себя ноги. Все тело было в крови, и трудно было определить, была ли это кровь парня или его отца. Маша перевернула Михася на спину и, не обращая внимания на кровь, припала к его груди.
– Есть! – в радостном возбуждении закричала Маша. – Он дышит… Кирилл Сергеевич, Кирилл Сергеевич…
– Что, голубушка? – подал голос старый фельдшер, стоявший на ступеньках больничного здания.
– Кирилл Сергеевич, посмотрите…
– Одну минуточку.
Потоцкий, приблизившись к телеге, взял руку парня, вынул из кармана брюк старинные позолоченные часы с цепочкой и, прищурив глаза, замер. Затем он поднял Михасю веки глаз и стал пристально изучать зрачки.
– Да, он жив, – подтвердил слова Маши Кирилл Сергеевич.
– Прекрасно. Дорофея Николаевна, и вы, Лобов, помогите мне. Надо парня отнести в операционную.
– Маша, – санитарка скривила лицо в брезгливой гримасе.
– В чем дело, Дорофея Николаевна? Вы что, оглохли?
Дорофея Николаевна нехотя подошла к телеге. С большим трудом они перенесли Михася в операционную, кое-как освободили от одежды, и Кирилл Сергеевич принялся его осматривать. Картина была жуткая. Поперек всего затылка тянулась огромная рваная рана, на спине и животе раны были чуть поменьше, но достаточно глубокие, кровь текла не только из ран, но из носа и ушей.
– Да-а-а… Осколком от снаряда повреждены почти все жизненно важные органы: почки, легкие, селезенка, не исключено, что и сердце. Кроме того, эта рана на голове. Если затронут мозг, а это так и есть, все бесполезно, парня не спасти. Машенька, надо кого-нибудь послать за Виктором Макаровичем. Вдруг, на наше счастье, он окажется дома.
– А если Виктора Макаровича нет дома? Что тогда?
– Тогда семье Ямпольских придется заказывать два гроба, – ничуть не смутившись, констатировал Потоцкий.
– Кирилл Сергеевич, неужели вы даже не попытаетесь спасти парня?
– Кто, я-а-а? Нет, голубушка. Во-первых, я – не врач, а во-вторых, если хотите знать мое мнение, то парень в лучшем случае во время операции умрет, а в худшем – останется инвалидом с перспективой быть прикованным к постели до конца своей жизни. А по мне, лучше смерть, чем парализованный полутруп.
– Вы это серьезно? Невероятно! Неужели вы забыли о святой обязанности медицинского работника, который должен до последнего вздоха больного бороться за его жизнь? А-а-а, что вам объяснять, – Маша махнула рукой, опустила голову и напряженно задумалась. – Нельзя терять ни минуты, – решительно произнесла она. – Дорофея Сергеевна, Дорофея Сергеевна…
Санитарка моментально появилась на пороге операционной, словно стояла за дверью и ждала, что ее непременно позовут.
– Дорофея Сергеевна, пошлите кого-нибудь за Виктором Макаровичем. Если его нет дома, то, возможно, он на кладбище. Он вчера что-то говорил об этом.
– Хорошо. Я сейчас пошлю сына. Он малый сообразительный и обязательно разыщет Виктора Макаровича.
– А где Шура?
– Она все еще возится с Олегом.
– С Олегом? Кто это?
– Да это тот парень, который привез… – Дорофея Сергеевна невольно запнулась.
– Ах, да. Как он?
– Олег-то? Шура сделала ему укол и сейчас парню значительно лучше. А сначала он сильно буйствовал, кричал и размахивал руками. Мы даже подумали: «Рехнулся парень». Да и то сказать, пережить такое способен не каждый мужик даже с крепкими нервами, а тут пацан. Ему ведь зимой исполнилось только четырнадцать лет.
– Да, да… – задумчиво вторила санитарке Маша. Казалось, она совсем не слушала ее, а напряженно думала о своем. – Вот что, Дорофея Сергеевна, позовите Шурочку, и будем готовить парня к операции.
– Но ведь… – санитарка попыталась возразить, но Маша перебила ее.
– Положение критическое, промедление смерти подобно. Поэтому операцию начну я. Вам все понятно?
Санитарка в знак согласия кивнула головой и поспешно покинула операционную.
– Маша, вы сумасшедшая. Брать на себя такую ответственность, – накинулся на девушку Потоцкий, как только санитарка скрылась за дверью. – Вы отдаете себе отчет в том, что хотите сейчас сделать? А если парень умрет под вашим ножом? Вас засудят. Сейчас не военное время, когда подобный поступок можно было бы списать на войну. Вам не простят смерти парня, и в первую очередь, потому что вы всего лишь медсестра и не имеете права самостоятельно оперировать. Давайте лучше подождем Виктора Макаровича. Он главный врач и ему решать, делать операцию или нет. А если парень умрет сейчас, значит, такова Божья воля.
– Вы все сказали? – Маша смерила фельдшера презрительным взглядом. – У вас есть две минуты, чтобы решить, будете ли вы помогать мне при операции или нет.
– Нет, голубушка, я отказываюсь принимать участие в подобном мероприятии. Вы самоубийца, поскольку подписываете смертный приговор не только бедному парню, но и себе.
– Уходите и закройте дверь за собой с той стороны, – сверкнув глазами, выкрикнула Маша и, демонстративно повернувшись к нему спиной, принялась готовить инструменты к операции.
Впоследствии, вспоминая этот случай, Маша не могла не подивиться тому, откуда у нее взялось столько смелости и отваги, чтобы решиться оперировать парня, который, можно сказать, стоял одной ногой в могиле. По жизни она никогда не причисляла себя к сильным личностям, способным пойти на риск и победить. Совсем наоборот, она была тихим и неприметным человеком, правда, трудолюбивым и глубоко ответственным за порученное дело. «Тихие воды глубоки» – гласит народная мудрость. Порой трудно и невозможно до конца определить и понять сущность человека, а тем более предсказать поступки, которые он может совершить, находясь в экстремальных условиях. Когда Маша приняла решение оперировать Михася, она совсем не думала о себе, не думала, что не справится, а тем более что парень умрет во время операции. Ею овладела одна единственная мысль: она должна вернуть Михася к жизни. И если для этого у нее есть один единственный шанс из тысячи, она воспользуется им.
– Тампон, – отрывисто сказала Маша.
– Есть тампон.
– Еще тампон, – Маша подняла голову и от неожиданности на миг замерла. – Виктор Макарович…
– Все хорошо, Маша, все хорошо, – произнес главврач, держа в руке пинцет с тампоном.
– Вы давно здесь?
– Уже минут десять, – Виктор Макарович посмотрел на Машу добрыми серыми глазами.
Его сильные руки хирурга уже делали свое дело. Маша отступила в сторону и заняла свое привычное место медсестры.
– Машенька, ты умница. Я наблюдал за тобой. Ты все делала правильно. А теперь, если не возражаешь, я продолжу операцию.
– Не возражаю, – с радостью ответила Маша.
Она вдруг почувствовала огромное облегчение при виде хирурга и невольно глубоко вздохнула:
– Не возражаю.
Через два часа после начала операции страшная весть о том, что Ефим Ямпольский и его сын Михась подорвались во время работы на немецкой мине, всколыхнула всех жителей поселка Мураши, и они, прервав работу и забыв о домашних делах и заботах, устремились к больнице. Люди столпились перед зданием и, негромко переговариваясь, ждали исхода операции. Мальчишки, кто был посмелее, забрались на деревья, которые росли перед больницей, и заглядывали в окна операционной палаты. Они зорко следили за всем происходящим там, а затем по цепочке сообщали об этом людям.
– Все, операция закончилась, – громко выкрикнул Антон Ветров, разбитной двенадцатилетний парень.
– Операция закончилась, операция закончилась, – сообщение взволновало людей, и они все разом зашумели.
– Виктор Макарович снял перчатки и обнимает медсестру Машу. Она плачет, – снова прокричал в толпу Антон и еще крепче прижался к дереву.
– Медсестра плачет, медсестра плачет… – передавали люди друг другу сказанные Антоном слова.
И от этих слов у всех собравшихся по телу пробежал неприятный холодок.
«Неужели Михась умер?» – невольно при этом подумал каждый из них.
– Главврач и медсестра покинули комнату, идут по коридору… – были последние слова, которые скороговоркой успел выкрикнуть Антон.
Входная дверь больницы открылась, и на пороге появились Виктор Макарович, Маша, Шурочка и Дорофея Сергеевна.
Главврач выступил вперед и пристальным взглядом окинул собравшихся перед больницей людей, те моментально прекратили все разговоры.
Виктор Макарович негромко откашлялся и с трудом начал говорить:
– Операция прошла без осложнений. Михась жив.
– Жив, жив… – люди в радостном возбуждении встрепенулись и стали обниматься, целовать друг друга и пожимать руки.
– Ура! – закричал Антон Ветров, да так эмоционально и громко, что чуть не свалился с дерева.
Виктор Макарович поднял правую руку вверх, призывая всех к тишине и спокойствию.
– Михась сейчас находится в коме. Сколько это продлится, я не знаю, – продолжил он. – Не хочу вас обнадеживать, но смерть может наступить в любой момент. Однако обещаю: я сделаю ВСЕ, – Виктор Макарович сделал ударение на последнем слове, – все, чтобы спасти парня. Я буду бороться до последнего. А сейчас прошу вас спокойно расходиться по домам.
– Ой-й-й, – громко вскрикнула одна из женщин и сделала несколько шагов, но вдруг почувствовала, что не может идти.
Она напрягла всю свою волю, пытаясь удержать уходящее сознание и не упасть без чувств на землю. Но все разом закружилось и поплыло, и она как подкошенная рухнула на землю. Виктор Макарович поспешил женщине на помощь.
– Кто это? – чуть слышно, взволнованным голосом спросила Маша стоявшую рядом с ней Шурочку.
– Это мать Михася, Анна Андреевна, – так же, чуть слышно ответила медсестра. – Бедная женщина… Сейчас ей потребуется необычайная сила и мужество, чтобы вынести все это.
Женщину подняли и осторожно посадили на скамейку. Прошел какой-то отрезок времени, прежде чем она пришла в себя, открыла глаза и затуманенным взором посмотрела на главного врача, который сидел рядом с ней и нежно, словно маленького ребенка, гладил по руке и тихим ласковым голосом что-то говорил. Его речь была какая-то убаюкивающая и одновременно успокаивающая. Анна Андреевна хотела что-то сказать, но не могла, во рту была неприятная сухость. На глаза навернулись слезы, и женщина отвернулась в сторону, чтобы скрыть их.
Чуть наклонив голову, она совсем тихо пробормотала:
– Виктор Макарович, мой сын… Михась… он умрет?
Главврач больше всего боялся услышать именно этот вопрос, поскольку ответить на него честно и откровенно было выше его человеческих сил.
– Анна Андреевна… я не знаю, – решил покривить душой главный врач, посчитав, что тем самым будет в ладах со своей совестью и одновременно гуманным по отношению к бедной женщине.
Женщина сосредоточенно молчала. Постепенно лицо ее становилось спокойнее и приобретало выражение твердости. Главврач молча следил за ней. Вдруг Анна Андреевна взглянула ему прямо в глаза. И взгляд этот все перевернул в нем и заставил болезненно сжаться сердце.
– Значит… он умрет, – произнесла Анна Андреевна.
Главврач содрогнулся.
– Виктор Макарович… я прошу вас, умоляю… разрешите мне быть с моим сыном до конца… до самого последнего его вздоха.
Двенадцать долгих и мучительных дней весь медперсонал больницы боролся за жизнь Михася Ямпольского. На пятый день наступил кризис. Главврач всю ночь не отходил от постели больного, и смерть отступила. На восьмой день – еще один кризис, и опять смерть отступила. На одиннадцатый отказали легкие, а на двенадцатый, в 22:45, Михась на короткий миг пришел в себя, открыл глаза и пошевелил пальцами, а затем… его сознание отключилось навечно.
VI
В среду утром дождь прекратился. Выглянуло солнце, и его золотистые лучи ложились густыми пятнами на умытую ночным дождем траву и кусты. Наступил новый день, который принес новые заботы, а вместе с тем новые мысли и переживания. Маша проснулась позднее обычного. Она встала, накинула на себя легкий ситцевый халатик и пошла на кухню. Мария Петровна давно ушла на работу. На столе она оставила Маше большую глиняную кружку с молоком, ломоть серого хлеба и яйцо, сваренное вкрутую. Девушка с большим аппетитом позавтракала, потом сполоснула кружку и лишь после этого вышла в сад. Осторожно ступая, чтобы не замочить ноги о еще мокрую после дождя траву, Маша прошла к скамейке и присела на самый краешек. Где-то вдали пел соловей, заливаясь и захлебываясь. Пение соловья время от времени нарушали удары топора, доносившиеся из дома напротив. Деревня постепенно возрождалась из пепелища, оставленного немецкими захватчиками. Вернувшиеся с войны мужики истосковались по родной земле, плотницкому делу и, вообще, по тихой, мирной семейной жизни. Правда, немногие семьи дождались своих кормильцев. К их числу относилась и Мария Петровна Светлова, у которой война отняла не только мужа, но и детей. И все, что у нее осталось – это вера и надежда, и она каждый вечер перед сном неистово молилась перед маленькой иконкой о скорейшем возвращении самых близких ей людей. При этом она тихо плакала, и Маша, глядя на хозяйку дома, нервно покусывала губы, стараясь сдержать слезы. В силу своего характера девушка всегда быстро и свободно сходилась с людьми. Но с Марией Петровной все обстояло иначе. Хозяйка дома с самого начала повела себя с Машей отчужденно: подчеркнуто вежливый тон, никаких расспросов и бесед по душам. Часто по вечерам, сидя за чашкой чая в полной тишине, Маша незаметно бросала взгляды на Марию Петровну и невольно думала: «А ведь она могла бы быть моей матерью, доброй и любящей».
Маша не сомневалась, что Мария Петровна, несмотря на свой суровый вид, который она пыталась придать себе, на самом деле не была такой холодной и неприступной. И вскоре Маша получила тому подтверждение.
Трагический случай в поселке Мураши, повлекший за собой смерть семнадцатилетнего парня и его отца, явился именно тем толчком, который сблизил женщин. В тот день, когда Михась Ямпольский умер, Маша пришла домой с работы поздно.
Она переступила порог дома и, глядя на Марию Петровну, с болью в голосе сказала:
– Мария Петровна, он умер… Михась Ямпольский, красивый черноволосый парень, любимец мурашовских девушек, сегодня умер.
Шатаясь из стороны в сторону, Маша прошла в свою комнату и со стоном повалилась на кровать.
Крупные слезы бежали по бледному, как полотно, лицу девушки, время от времени она выкрикивала полусвязные фразы:
– Мы так хотели его спасти… Двенадцать дней он умирал на наших глазах, и двенадцать дней мы боролись за его жизнь… Но, Боже, почему ты так жесток, почему ты дал ему умереть?
Мария Петровна знала о трагическом событии, произошедшем в поселке Мураши. Новость эта с молниеносной быстротой облетела близлежащие деревни и вызвала в душе каждого чувства боли и страха. Саперы, вызванные местными властями, обнаружили на колхозном поле, где подорвались на немецкой мине отец и сын Ямпольские, склад немецких боеприпасов. Потребовалось несколько дней, чтобы обезвредить их. Возможно, Михась и его отец своими смертями спасли не одну человеческую жизнь. Глядя на девушку, Мария Петровна почувствовала сильное волнение. Она села рядом с Машей на кровать и морщинистой старческой рукой стала гладить ее по волосам.
– Все, все… успокойся… Не надо так убиваться, – утешала Мария Петровна девушку.
Маша подняла мокрое от слез лицо, прерывисто всхлипнула и, опять зарыдав, бросилась в объятия Марии Петровны.
Так, обнявшись, они сидели долго в ночи, то плакали, то на какой-то миг замирали, успокаивая друг друга. Тяжело и больно было у обоих на сердце. Наконец, устав от рыданий и слез, они вдруг ощутили потребность излить друг другу души. Маша рассказала Марии Петровне о войне, о тяжелой изнурительной работе в военном госпитале, о первой своей операции, когда она чуть не лишилась чувств при виде раздробленного тела молодого бойца. Вспомнила она и о главном враче военного госпиталя – Соколове Петре Степановиче, которого, мало сказать, любила и уважала, Маша преклонялась перед ним. Именно он научил ее смотреть на жизнь широко раскрытыми глазами, любить людей, приходить им на помощь, не терять веру и бороться за их жизни до конца, даже несмотря на неизлечимость болезни. Мария Петровна слушала девушку и удрученно кивала головой. А Маша все говорила, говорила…
– Девочка моя, Машенька… прости меня. Несправедлива я была к тебе, – наконец не выдержала Мария Петровна и прижала девушку к груди.
– Это вы меня простите, Мария Петровна, простите, если я невольно чем-то вас обидела, – в ответ сказала Маша.
– Ну что ты, девочка, – смущенно промолвила Мария Петровна, ласково погладила девушку по волосам и посмотрела на нее с такой любовью и нежностью, как может смотреть только мать на своего обожаемого ребенка.
Неприязнь, обида и в какой-то мере даже злость на девушку за то, что та появилась в деревне и проявляла особый интерес к Григорию, который, если бы не война, мог бы стать ее зятем, показались Марии Петровне ничтожными и мелочными. Девушка вдруг предстала перед ней в ином свете, и она сначала нерешительно, потом все смелее и смелее стала рассказывать Маше о своей жизни.
Мария Петровна была очень молода, когда познакомилась с Савелием Назаровичем Светловым. Сильный, уверенный в себе, но порядком неотесанный в обращении с девушками, он был сначала отвергнут ею. Были женихи и получше. Но крепко запала парню в сердце Мария, свет не мил, только и грезил ею. «Моя будет, никому не отдам», – твердо решил Савелий и начал действовать. Теперь, куда бы ни шла Мария, где бы ни появлялась, он всегда был рядом, поблизости. Сначала Мария Петровна не обращала на него никакого внимания, как, впрочем, делала и раньше, но потом, когда обратила, – ее девичьему самолюбию стало льстить, что Светлов прибегнул к такому необычному способу проявления чувств. Постепенно она привыкла, что, просыпаясь утром, находила на подоконнике своего окна большой букет полевых цветов, а вечером ловила на себе его взгляды, полные обожания и любви. Прошло несколько месяцев. И вот однажды Мария Петровна не нашла на подоконнике привычный букет, а вечером лицо Савелия ни разу не мелькнуло среди деревенских парней. «Подумаешь!» – вздернув носик, подумала она. Но на другой день Мария Петровна уже сознательно искала глазами Савелия, но увы… все напрасно. А через несколько дней, когда она так и не увидела среди своих поклонников самого преданного кавалера, ей вдруг стало грустно, настроение моментально испортилось, и даже Валерий Петров, считавшийся самым удачливым претендентом на ее руку, не смог его улучшить. Шли дни. Савелий не появлялся. Тогда Мария Петровна, переступив через свою гордость и самолюбие, спросила у Николая Палкина, почему его друг Савелий Светлов перестал приходить на «улицу». Николай минуту-другую помолчал, прежде чем ответил, что, похоже, Светлову стало скучно и неинтересно на «улице», и он нашел себе занятие более увлекательное. «Скучно и неинтересно!» – уязвленная в самое сердце, чуть не выкрикнула Мария Петровна, но вовремя опомнилась. Но гордость… ее гордость была уже задета. Подумать только, Мария была так мила Савелию. Любящие взгляды, вздохи, разрывающие душу… что все это было, если не любовь! Нет, он не может так жестоко с ней поступать. Мария Петровна была готова разрыдаться от обиды и злости. Шутки деревенских парней, так забавлявшие ее раньше, их комплементы и ухаживания стали теперь злить и раздражать. Мария Петровна страдала. Она не могла найти этому объяснение, но ее самым заветным желанием было увидеть Савелия Светлова. И вот наступил день, когда она, вконец измученная и настрадавшаяся, постучала в дом Светловых. Савелий открыл ей дверь и от неожиданности застыл на месте. Мария надменно повела плечами и вдруг, громко зарыдав, со словами «Ну куда же ты пропал?» бросилась ему на грудь.
– Такова история моей любви, которую не назовешь романтичной, а скорее поучительной, – сказала Мария Петровна.
– А что было дальше? – девушка еще теснее прижалась к хозяйке дома и с нескрываемым любопытством посмотрела ей в глаза.
– Дальше? – задумчиво переспросила Мария Петровна. – Мы поженились и наша семейная жизнь, теперь, когда я смотрю на нее с позиции сегодняшнего дня, была счастливой. Конечно, в ней было все: горе, мелкие семейные неурядицы и крупные ссоры, счастливые и незабываемые моменты, связанные с рождением детей. Но самым главным в нашей с Савелием жизни была любовь. Если хочешь знать, именно от безумной любви появилась на свет Ольга.
– Как это? – Маша широко раскрыла глаза.
Мария Петровна с мечтательным видом посмотрела на девушку и начала свой рассказ, который так поразил и очаровал Машу, что та восторженно воскликнула: «Здорово!».
– Я сейчас покажу тебе этот рисунок, – сказала Мария Петровна. – С него все и началось. Правда, рисунок от времени пожелтел, стал ветхий, и мне пришлось снять его со стены и спрятать в сундук. Но когда мне становится на душе совсем муторно, я достаю его и подолгу любуюсь, вспоминая былые времена.
Мария Петровна подошла к сундуку и с трудом открыла тяжелую крышку. Рисунок был завернут в толстую холщовую тряпку. Мария Петровна развернула ее и протянула Маше небольшой лист пожелтевшей бумаги. Девушка с нескрываемым интересом стала рассматривать рисунок.
– Мария Петровна, а Ольга в детстве действительно была так похожа на малышку, изображенную на этом рисунке? – спросила Маша.
– Да. Одно лицо.
«Если в детстве Ольга была таким очаровательным ребенком, то я могу представить себе, как хороша она сейчас», – подумала Маша, и сердце ее сжалось от зависти, внезапно охватившей ее.
Девушка впервые подумала об Ольге в настоящем времени. Любовь эгоистична, и Маша в полной мере это испытала. Рядом с Григорием она видела только себя. Ей хотелось верить, что Ольги уже нет в живых, и именно этим она оправдывала все свои поступки. Маша вернула Марии Петровне рисунок, не смея даже взглянуть ей в глаза. Ей показалось, что Светлова догадалась, какие черные мысли витали в ее головке. И она была недалека от истины.
Звук топора вдруг резко прекратился. Маша томно изогнулась и задрала халатик чуть выше колен, обнажив стройные ноги для загара, а лицо, наоборот, прикрыла большим листом лопуха. Постепенно нега овладела Машей, и она незаметно для себя погрузилась в полудрему. В это время скрипнула садовая калитка, и во двор вошел мужчина в военной форме с орденами Боевой Славы и Красной Звезды на груди. При виде Маши, сидящей на скамейке под яблоней, на его лице появилась радостная улыбка и он, тихо ступая, направился к девушке.
Приблизившись, военный стремительно сбросил с плеча вещмешок на землю и, подняв Машу на руки, радостно воскликнул:
– Сестренка, солнышко мое! Я вернулся!
– А-а-а, – перепуганная насмерть, громко закричала Маша и стала руками отбиваться от мужчины, который опешил от крика и безмолвно застыл, продолжая держать девушку в своих объятиях.
– Да отпустите же меня, медведь, – девушка с силой уперлась руками в грудь мужчине.
– Вот черт, я, кажется, ошибся. Извините, – в недоумении пробормотал мужчина и опустил Машу на землю.
Девушка нервным движением одернула халатик и, поджав губы, устремила взор на незнакомца.
Перед ней стоял высокий военный в чине майора, на первый взгляд ему можно было дать лет тридцать – тридцать пять. Плотная сильная фигура была сложена безукоризненно. Чисто выбритое смуглое лицо с высоким лбом, серые глаза и зачесанные назад коротко подстриженные светлые волосы – внешний облик мужчины мало напоминал увальня медведя, он был даже симпатичный. Но руки… Они были большие, мускулистые и сильные, как у русского богатыря из народной былины.
«Медведь», – подумала Маша, а вслух произнесла:
– Кто вы?
– Я хозяин этого дома, вернулся с фронта. А вот кто ты и что здесь делаешь?
– Ой, – девушка радостно всплеснула руками. – Я знаю, кто вы. Мария Петровна не раз показывала мне вашу фотографию. Вы средний сын семейства Светловых, Сергей. Извините меня, что я так… но вы слишком неожиданно появились.
– Да, я Сергей, – все более изумляясь, согласился Светлов. – Я напугал тебя. Но поверь, это произошло непроизвольно. Просто я принял тебя за свою сестру Ольгу, но вижу…
– Я Маша Прохорова, – поспешила отрекомендоваться девушка и протянула военному руку, которую он после некоторого колебания крепко пожал.
– Что ж, Маша Прохорова, будем знакомы.
– Я работаю медсестрой в больнице в поселке Мураши. Мне негде было жить, и Мария Петровна приютила меня в вашем доме. Но вы не беспокойтесь, это временно. Больница должна обеспечить меня жильем.
– Да нет, живи. Я не возражаю. Только почему ты обращаешься ко мне на «вы»? Я старше тебя лет на семь, не больше. Так что брось эти вежливые обороты, будь проще и к тебе потянутся люди. Все поняла?
– Так точно, товарищ майор, – повеселев, выкрикнула Маша и вытянулась по стойке смирно.
– Вольно, – Сергей улыбнулся. – Была на фронте?
– Да, майор. Прошла с военным госпиталем от Москвы до немецкого города Кюстрин. Но об этом, майор, потом… Боже мой… если бы ты знал, как будет счастлива Мария Петровна твоему возвращению. Если бы ты знал!!! – Маша тронула Сергея за руку. – Я сейчас сбегаю за ней. Она с бригадой в колхозном саду собирает яблоки. Мама твоя – бригадир, так что сам понимаешь…
– Бригадир!? – Сергей покачал головой – Маша, а где Ольга?
– Разве ты ничего не знаешь? – девушка с растерянным видом посмотрела на Светлова.
– Нет, абсолютно ничего. Я почти год провел сначала в госпитале, потом в санатории. Меня ранило в голову, и я на какое-то время потерял память. Представь себе, я забыл собственное имя, не мог вспомнить, откуда родом, не говоря уже о том, в какой войсковой части служил и что со мной произошло. Ощущение ужасное. Голова словно ватная, ничего не тревожит и не беспокоит. Я был точно живой полутруп без прошлого и, можно сказать, без будущего.
– Ужасно! Теперь понятно, почему на тебя пришло известие как на без вести пропавшего.
– Даже так?! Впрочем, этого следовало ожидать. Но ты не ответила на мой вопрос. Ольга… где она?
– Ольга? – девушка на секунду застыла. – Знаешь, Сергей, ты лучше иди в дом, располагайся, а я сейчас приведу Марию Петровну. Я скоро, – Маша резко повернулась и бросилась к калитке.
– Маша! – попытался остановить ее Сергей, но девушка лишь махнула рукой.
Сергей поднял вещевой мешок с земли, блаженно расправил грудь и в радостном возбуждении чуть слышно прошептал:
– Я дома!
Мария Петровна что есть силы бежала домой через колхозное поле, огороды, мимо церкви и деревенского кладбища. От сильного бега она спотыкалась, на миг останавливалась, чтобы перевести дух, и вновь бежала. Маша еле поспевала за ней
– Сереженька, это ты! – задыхаясь от бега, радости и волнения, воскликнула седая мать и бросилась к сыну. – Какое счастье! – сил не было, и она беспомощно повисла на руках Сергея.
– Ма-ма… – Сергей подхватил Марию Петровну на руки и осторожно, как самую дорогую ношу, посадил на стул. – Что с тобой, мама?
– Сердце… что-то сдавило… дышать нечем, – Мария Петровна прижала руку к груди, лицо ее перекосила болезненная гримаса.
– Маша, помоги мне, – выкрикнул Сергей.
Девушка бросилась к Светловой.
– Мария Петровна, сделайте глубокий вдох и на миг задержите дыхание. Так… А теперь медленно выдохните. Хорошо. Повторите еще раз. Глубокий вдох и медленный выдох, – Маша повернулась к Сергею. – Принеси стакан воды. Вода в графине на кухне.
– Мария Петровна, выпейте воду маленькими глотками, не спеша, – Маша протянула Светловой стакан. – Вот так, хорошо.
– Спасибо, Маша, – через минуту тихо произнесла Мария Петровна и с благодарностью посмотрела на девушку. – Кажись, отпустило. Сынок…
– Я здесь, мама, – Сергей наклонился и нежно обнял мать.
Маша, тихо ступая, чтобы ненароком не прервать задушевный разговор матери и сына, принесла из кухни чай, заваренный из свежих листьев смородины, земляничное варенье и серые баранки, купленные в сельпо, а сама скромно устроилась на стуле у двери. Сергей зачерпнул из блюдца маленькой ложкой душистое варенье и запил его крепким чаем. Мария Петровна с нежностью смотрела на сына и время от времени гладила его по волосам, точно хотела удостовериться, что Сергей с ней, он рядышком. За два часа беседы она успела рассказать ему обо всем, что произошло за время его отсутствия, – как в семье, так и в деревне. Известие об Ольге, которую фашисты угнали в Германию, было полной неожиданностью для Сергея и поразило его в самое сердце. О гибели братьев и отца он узнал из писем матери еще в 1943 году.
– Ольга… Ольга, – горестно прошептал Сергей, сжимая кулаки.
Мария Петровна глянула на сына сквозь слезы и тяжело вздохнула.
– Сынок, а как вышло, что я получила известие, будто ты пропал без вести? – после некоторого раздумья спросила Мария Петровна. По всему было видно, вопрос этот давно не давал ей покоя.
– В феврале 1944 года командир части послал меня в разведку. Вместе со мной пошли рядовые Павел Степанов и Николай Фигурнов, – задумчиво начал свой рассказ Сергей. – Необходимо было выяснить место расположения немецких вой ск и их численность. Шли, как всегда, налегке: автомат, пара гранат на брата и никаких документов в карманах гимнастерки. Так уж принято у разведчиков.
Мария Петровна не шевелилась. И хотя ей страстно хотелось прижать к себе дорогую головку сына и осыпать его лицо бесчисленными поцелуями, она сумела побороть в себе это желание.
– Мы прошли полпути, как вдруг нарвались на засаду. Нас ждали, это было бесспорно. Николай Фигурнов, веселый жизнерадостный парень, предложил отвлечь внимание немцев на себя, чтобы дать нам возможность уйти из засады. Это был хоть какой-то шанс выполнить задание, и поэтому после некоторых колебаний я согласился. Фигурнов бросился вперед, а мы со Степановым залегли в овраге. Мы видели, как Фигурнов, утопая в снегу, пробирался от одного дерева к другому. При этом он что-то громко выкрикивал и делал одиночные выстрелы, отвлекая внимание на себя. Немцы заглотили наживку и стали преследовать его, автоматные очереди следовали одна за другой. Вскоре силуэт Николая скрылся за могучими стволами сосен и елей, и лишь глухие выстрелы время от времени раздавались в лесной тиши. Мы выждали некоторое время, прежде чем решили продолжить путь. Что стало с Николаем, я так до сих пор и не знаю. Но, похоже, он погиб, уводя немцев в лесную чащу как можно дальше от нашего местонахождения. В лесу воцарилась тишина. Но вдруг мы услышали, как в нескольких шагах от нас скрипнул снег, затем еще и еще…
«Немцы… смотри, – со злостью прошептал Павел и досадливо сплюнул на снег. – Раз, два, три… – через минуту стал медленно считать он, крепко сжимая в руке автомат. – Черт, да их тут целая рота. Что будем делать, Сергей?»
«А разве у нас есть выбор?» – я передернул затвор автомата.
«Жаль… – Павел чуть прищурил глаза. – Как там у Некрасова: „Жаль, что в эту пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе“».
«Не грусти, Паша. Светлое будущее увидят наши дети и внуки», – подбодрил я Степанова.
«Наши дети? – Павел сдвинул ушанку на затылок. – А есть ли они у тебя, эти дети?»
«Нет», – я покачал головой.
«Вот и у меня нет ни жены, ни детей, ни невесты. Поверишь, даже девушки не было. Я не имею ни малейшего представления о том, как это бывает… ну, словом… в постели с женщиной».
«Тогда пусть те, кто останутся в живых, их дети и внуки познают радость счастливого будущего», – оторвавшись от ствола дерева, выкрикнул я и дал короткую очередь, а затем бросился к кустам, видневшимся вдали.
Павел рванулся за мной. Вслед нам со стороны немцев не последовало ни единого выстрела.
«Сволочи, живыми хотят взять, – подумал я и повернулся в сторону Павла: – Береги патроны, Паша. Стреляй только в случае необходимости. Фашистские гады хотят взять нас измором, но не на тех напали. Мы еще покажем им, где раки зимуют».
Не знаю, кто кому показал зимовье раков, но положение наше было незавидное. Мы с трудом пробирались сквозь снежные заносы вперед. Немцы ни на шаг не отставали, плотным кольцом окружая нас со всех сторон. От изнеможения и усталости мы валились с ног, патроны были на исходе. И вот наступил момент, когда у нас осталась одна граната на двоих.
«Давай простимся, Паша», – хриплым голосом сказал я и крепко обнял Степанова.
Взявшись за руки, мы прислонились к сосне и стали ждать, пока немцы подойдут к нам как можно ближе, чтобы подороже продать им свою жизнь. Немцы двигались плотной цепью прямо на нас, держа перед собой наготове автоматы. Они уже не прятались за деревьями, а шли в полный рост, поскольку знали, что патроны у нас все израсходованы и им нечего бояться. Когда фашисты были в нескольких шагах от нас, я выкрикнул: «За Родину! За Сталина!», и метнул в них гранату. Раздался оглушительный взрыв. Тела фашистов вперемежку со снежной пылью и комьями земли разлетелись в разные стороны. У меня перед глазами в бешеном ритме все закружилось, земля словно уплывала из-под ног, и я, обливаясь кровью, упал на снег.
Сознание пришло ко мне лишь через несколько дней. Из безграничной темноты вдруг стали высвечиваться светлые пятна, которые то появлялись, то вновь пропадали. Постепенно я стал различать силуэты людей, находящихся около меня. В голове стоял невероятный шум и гам. Я негромко застонал, чем привлек к себе внимание врачей, и коснулся рукой головы. Она была туго забинтована. А дальше со мной произошла невероятная вещь – я полностью потерял память. По словам лечащего врача, Татьяны Ивановны, меня нашли в лесу партизаны. На самолете меня доставили в госпиталь, где врачи в течение нескольких часов боролись за мою жизнь. Итак, я выжил. Но это мало доставляло мне радости, поскольку я не имел ни малейшего представления, кто я.
– Мама, – взволнованно воскликнул Сергей, – если бы ты знала, как страшно не помнить собственного имени. Я закрывал глаза и до боли в затылке старался вспомнить хотя бы малейший эпизод из прошлой жизни. Но все было напрасно. В конце концов больные в госпитале окрестили меня «Непомнящий». Однообразные и пустые дни как тысячелетия тянулись сначала в госпитале, а потом в санатории, куда меня перевели, чтобы окончательно поправить мое здоровье. Имя «Непомнящий» прочно закрепилось за мной, и я со временем стал откликаться на него.
– Сынок, но как к тебе все-таки вернулась память? – нетерпеливо спросила Мария Петровна.
– Мама… меня спасла Ольга! Именно она помогла мне вспомнить все.
– Ольга!? – неожиданно громко воскликнула Светлова и недоверчиво посмотрела на сына, точно сомневалась, все ли у него в порядке с головой.
– Да, мама. И не смотри на меня так, точно я тронулся умом, – с обидой сказал Сергей.
– Сынок… – Мария Петровна виновато поджала губы.
– Однажды утром я вышел из санаторного корпуса, чтобы посидеть на скамейке и погреться на солнышке. Впереди, у большой клумбы, засаженной цветами, белокурая девочка лет трех-четырех играла в мячик. Она весело резвилась, и я невольно залюбовался ею. Девочка высоко бросала вверх мячик и, широко раскинув руки, пыталась поймать его. Раза два ей удалось это, но на третий мяч проскочил мимо детских ручонок, ударился о землю и покатился по песчаной дорожке в мою сторону. Девочка бросилась за мячиком, который закатился под мою скамейку. Она подбежала и, как взрослая, до комичности серьезно всплеснула руками и покачала головой. Я наклонился, достал мяч и протянул его девочке. «Спасибо», – вежливо поблагодарила она и резко повернулась с намерением убежать. Но я остановил ее. «Как тебя зовут, крошка?» – полюбопытствовал я, не в силах скрыть улыбку. Малышка повернулась. Густые черные ресницы взметнулись вверх, на меня смотрели небесно-голубые глаза. «А кто как, дяденька, – девочка скорчила рожицу. – Папа зовет меня „Мое солнышко“, мама – Ольгуша, а вообще-то меня зовут Ольга». «Солнышко… Ольга…» – взволнованно воскликнул я и обхватил голову руками. Эти два слова явились своеобразным кодом к утраченной мною памяти. Я вдруг вспомнил, как отец называл нашу Ольгу нежно и ласково «Солнышко». Память вернулась ко мне так же неожиданно, как и покинула. Я вспомнил, все вспомнил. Вот так Ольга помогла мне, даже сама не ведая об этом.
– Мария Петровна, Сергей, вы извините меня, что прерываю вас, – сказала Маша и смущенно улыбнулась. – Мне пора на работу. Я сегодня заступаю на ночное дежурство, поэтому хочу проститься с вами до завтрашнего утра.
– Да-да, Маша, иди. В дороге будь осторожна, и до завтра.
Сергей проводил Машу до двери.
– Мама, как все-таки эта дурнушка оказалась в нашем доме?
– Сережа, ну зачем ты так? – укорила мать сына. – Маша действительно не красавица, но добрая девушка, и это в полной мере компенсирует ее внешние недостатки. Она приехала в деревню с Григорием Орловым в мае этого года. В результате ранения в грудь Григория раньше времени комиссовали из армии. Маше было поручено сопровождать его из госпиталя домой.
– Гришка! Черт! Так он вернулся. Вот здорово! – Сергей взволнованно прошелся по комнате. – Ах да, ты, кажется, что-то хотела рассказать об этой девушке, Маше. Я слушаю тебя.
– Приехав в деревню, Маша решила остаться здесь навсегда. У нее нет ни дома, ни семьи. Она воспитывалась в детдоме.
– Бедняжка, – Сергей покачал головой.
– Сначала Маша жила у Орловых, но потом… Мария Петровна невольно запнулась и потупила взор. – Словом, Клавдия Орлова попросила меня временно приютить девушку у нас, пока ей в больнице не выделят комнату. Вот и все.
– Все!? – Сергей недоверчиво посмотрел на мать. – Мама, не темни, ты что-то явно недоговариваешь.
– Глупости все это, сынок, о которых даже не стоит и говорить, – Мария Петровна махнула рукой. – Ты лучше поди, приляг. А я тем временем приготовлю на стол, вечером позовем соседей. Надо же, сынок, отметить твое возвращение домой.
– Ой, мама-мама, – Сергей с лукавым видом погрозил Марии Петровне пальцем.
Маша торопливой походкой шла по главной деревенской улице, напевая веселую песенку. Приезд Сергея благотворно повлиял не только на Марию Петровну, но и на Машу. Она была в прекрасном настроении. Девушка от души была рада за Марию Петровну. Маша прошла мимо сельпо, мимо небольшой площади, в центре которой стояло трехэтажное здание школы из красного кирпича, уцелевшее только потому, что там во время войны была немецкая комендатура. Впереди виднелся небольшой пустырь, заросший полынью, ковылем и еще той травкой, с которой Маша любила сдергивать султанчик и загадывать, что останется в щепотке – петушок или курочка. Сразу же за пустырем стояло несколько утопающих в зелени деревянных и глинобитных домов, в одном из которых жил Григорий Орлов. Маша замедлила шаг. Всего несколько секунд потребовалось ей, чтобы принять решение. Девушка встряхнула головкой и направилась к дому Григория.
– Маша, это ты? – при виде девушки Григорий явно смутился.
– Да, это я. Можно?
– Конечно, проходи, садись, – Григорий сделал выразительный жест рукой в сторону стула, который стоял у окна, затем захлопнул толстую книгу и положил ее на стол.
– Вот шла мимо и решила заглянуть. Мы так давно с тобой не виделись, – тихо произнесла Маша и нервным движением одернула платье. – Гриша, ты что… избегаешь меня?
– Нет. С чего ты взяла?
– А мне кажется, ты не хочешь меня видеть, только я не пойму, почему, – слова давались Маше с трудом.
– Ты неправа. Просто последние дни я очень занят. Работаю в мастерских, ремонтирую трактора, да и маме нужно помочь по дому. Сама видишь, дом покосился, крыша прохудилась. А вечерами сижу за учебниками, пытаюсь вспомнить азы школьной программы. Я твердо решил поступать в ленинградский университет на факультет журналистики.
– Так, значит, ты скоро уезжаешь? – взволнованно воскликнула Маша.
– Да, через несколько дней.
– А как же я, Гриша… – Маша с болью посмотрела на Орлова.
– Маша, – Григорий опустил голову и на миг застыл, собираясь с мыслями, – я не хочу тебя обижать, но ты сама вынуждаешь меня сказать. Между нами ничего кроме дружбы не может быть. Я знаю, как больно тебе это слышать, но другого я тебе предложить не могу. Прости меня за эти слова.
– Гриша, но почему?
– Я люблю Ольгу, и это выше моих сил. Я – однолюб. Полюбив однажды, я полюбил на всю жизнь.
– Но как ты можешь любить человека, которого уже нет в живых? – зло выкрикнула Маша, пытаясь сдержать слезы и не разрыдаться от обиды.
– О чем ты?
– Ольга… Ты думаешь, она жива. Сомневаюсь. Если бы это было так, она давно вернулась бы. Гриша, она умерла, ее больше нет. А я из плоти и крови, я рядом, и так сильно люблю тебя.
– Маша, замолчи, прошу тебя, не надо.
– Да, я люблю тебя и готова на каждом перекрестке кричать об этом. Люблю… люблю… – Маша бросилась к Григорию.
Григорий попытался оттолкнуть Машу, но она с силой прижалась к нему и обвила его шею руками. Слезы струились по лицу девушки, и она всем телом вздрагивала.
– Гришенька, любимый, не отталкивай меня и не отказывайся от моей любви. Ее хватит на двоих, она так сильна. Пройдет время, и ты обо всем забудешь и сможешь полюбить меня.
– Успокойся, возьми себя в руки. Любовь не вымаливают, она приходит сама, это дар свыше, – Григорий разжал руки девушки и с силой усадил на кровать.
– Гришенька… Говори все что угодно, но только не отталкивай меня. Я не могу без тебя жить, ты для меня все, любимый. Гордость… к черту гордость, если я могу навсегда тебя потерять. Не можешь меня любить, хорошо, не надо. Я согласна быть с тобой рядом даже без твоей любви.
– О чем ты говоришь? Маша, опомнись, – Григорий подошел к окну и распахнул его настежь.
Свежий ветерок ворвался в комнату, и Орлов, пытаясь взять себя в руки и не наговорить Маше обидных слов, сделал глубокий вдох.
Через минуту он повернулся и тихо произнес:
– Я понимаю тебя и не осуждаю. Человек в любви бывает часто безрассуден и готов пойти на любые жертвы, лишь бы достичь желаемого. Вот и я… Ты говоришь, Ольги нет в живых. А я не верю, слышишь, не верю. И если она до сих пор не вернулась, то это еще не означает, что ее нет в живых. Я буду искать ее. И пусть на это уйдет вся моя жизнь, я не отступлюсь.
– Безумный. Ты отвергаешь живого человека и гонишься за призраком, – Маша покачала головой и досадливым жестом смахнула слезы с лица.
– Пусть так, но я не могу иначе. Маша, пойми меня и прости. В случившемся с нами никто не виноват. Это судьба.
– Но что мне делать, как жить без тебя, Гриша? Я приехала в эту деревню только ради тебя. Мне казалось, что узнав меня ближе, ты сможешь…
– Забыть Ольгу?
– Да.
– Маша, это невозможно. Невозможно так же, как жить на земле и не дышать воздухом. Что касается тебя… Пройдет время, и ты встретишь человека, которого полюбишь и будешь с ним счастлива.
– Гриша, а если ты найдешь подтверждение тому, что Ольги уже нет… Может быть, тогда мы сможем быть вместе? – Маша с надеждой посмотрела на Орлова.
– Не хочу тебя обнадеживать.
– Но я готова ждать сколько угодно, – Маша решительно встала.
– Нет, Маша.
– Нет… – девушка закусила губу и на мгновение застыла. – Тогда вот что я тебе скажу: ты никогда не найдешь свою Ольгу, слышишь, никогда!
Маша со злостью сжала кулачки и, метнувшись к двери, с шумом захлопнула ее за собой.
Через неделю Григорий уехал в Ленинград. После успешной сдачи вступительных экзаменов он был зачислен на первый курс Государственного университета на факультет журналистики.
VII
Грянул военный оркестр. Скорый поезд, следовавший из Германии в Ленинград, прибыл на первый путь Московского вокзала, украшенного в честь возвращения воинов-победителей государственными знаменами, красочными транспарантами и гирляндами из живых цветов. Город встречал своих героев. Это была уже вторая очередь демобилизованных фронтовиков, возвращавшихся домой, после того как они по тем или иным причинам вынуждены были задержаться в своих частях, дислоцированных на территории Германии. Перрон утопал в цветах, всюду счастливые лица, радостные возгласы, смех и улыбки, и конечно слезы, слезы счастья и любви.
– Андрей, нам спешить некуда, – Петр Степанович дружески потрепал Чернышова по плечу. – Никто нас не встречает и не ждет, так что подождем, пока основная масса людей схлынет, а затем спокойно отправимся домой.
Андрей сидел у окна и с радостным блеском в глазах следил за праздничной суматохой на перроне.
– Петр Степанович, а почему вы не сообщили дочери о своем возвращении? – не поворачивая головы, спросил он.
Петр Степанович чуть наклонился и, глядя через плечо Андрея на шумный вокзал, задумчивым голосом ответил:
– Знаешь, Андрей, я представляю нашу встречу с дочерью непременно дома. Я открою входную дверь своим ключом и тихонько войду. Танюша будет хлопотать по хозяйству на кухне, а я на цыпочках подкрадусь к ней, нежно обниму и ласково скажу: «Доченька, я вернулся». Она встрепенется, радостно вскрикнет и уронит из рук чашку или еще какой-нибудь бьющийся предмет. Чашка разлетится вдребезги, и она бросится обнимать меня.
– Здорово! – воскликнул Андрей и посмотрел на Соколова, который, пытаясь скрыть волнение, охватившее его при воспоминании о дочери, смущенно улыбнулся.
Вдруг раздался настойчивый стук, и тотчас дверь в купе с шумом открылась. На пороге стоял улыбающийся майор Валадзе, грузный черноволосый мужчина лет сорока.
– Вай-вай… дарагие мои друзья, – с сильным грузинским акцентом пропел Валадзе, – вот и пришло время расставаться. А жаль, честное слово, жаль! За время пути я привык к вам. Не говорю «прощайте», говорю «до свидания». Будете в Телави – непременно заходите. Улица Ленина, дом семь. Встречу, как самых желанных гостей, поскольку нет ничего крепче фронтовой дружбы. Нужна будет помощь – звоните, пишите, приезжайте. Валадзе сделает все возможное и невозможное, чтобы помочь.
– Вахтанг, а в Ленинграде у тебя родные живут? – спросил Андрей.
– Сестра. К ней еду в гости. Десять лет не виделись. Думаю, если и на этот раз не навещу, так кто знает, когда еще свидимся. Ну, до свидания, успехов вам, друзья, – майор сердечно пожал руку Петру Степановичу, затем Андрею.
– Будь счастлив, Вахтанг, – Петр Степанович лукаво подмигнул Валадзе.
– Буду, непременно буду. Мы не имеем права быть несчастливыми, после того как столько жизней за это положено, – майор поднял с пола маленький чемоданчик и, отдав честь, покинул купе.
В это время затрещал репродуктор, и раздался взволнованный голос комиссара Ленинграда, генерал-майора Расторгуева, который открыл торжественный митинг словами:
– Дорогие наши доблестные воины! Разрешите от всего сердца поздравить вас с возвращением на родную землю!
В ответ грянуло могучее «ура!» в честь Красной Армии и ее великого вождя Сталина.
– Пора, – сказал Петр Степанович, после того как митинг закончился и перрон почти опустел.
Он снял с верхней полки чемодан и помог Андрею подняться. Перекинув через плечо вещевой мешок и, опираясь на костыли, Андрей медленно вышел из купе вслед за Соколовым. Привокзальная площадь шумела и бурлила, как пчелиный улей. Октябрьский день на удивление выдался солнечным и ясным. Осень основательно вступила в свои права, облачив деревья и кусты в красочный багровый наряд. Светило солнце, которое уже почти не грело, но его яркие лучи веселым светом озаряли улицы и дома. В воздухе порхали запоздалые мошки и мотыльки. Природа словно последний раз раскрывала свои сокровища, прежде чем отдать все это во власть зимы. Подошел трамвай, и Петр Степанович с Андреем с трудом втиснулись в него. На одной из остановок маленькая щуплая старушка при виде Андрея, которого со всех сторон теснили люди, выходившие из трамвая, уступила ему место. Андрея мгновенно бросило в жар, и он смущенно стал отказываться занять освободившееся место. Но старушка была непреклонна.
– Сынок, – взволнованным голосом сказала она, – доставь старой женщине маленькую радость – присядь. Мне будет так приятно прижаться к твоему плечу.
Андрей уступил. Трамвай, дребезжа, с диким грохотом несся по городу. Петр Степанович с жадным упоением смотрел на родной Ленинград, который быстро мелькал перед его взором, и не мог наглядеться.
Сказочное творение Петра, город удивительный и неповторимый по своим архитектурным ансамблям и постройкам, город, красотой которого восхищались великие люди мира сего, возрождался из руин и становился еще краше. Всюду, куда ни бросишь взгляд, кипела работа. На Петроградской набережной бригада строителей, состоявшая в основном из молодых девушек, прокладывала городскую магистраль трубопровода, поврежденную в результате бомбежки еще в 1942 году. На Рузовской и Пушкинской улицах, в переулке Ильича и на Обводном канале трест «Ленгаз» восстанавливал газовую сеть. На Рыбинской улице возводили жилой дом на месте разрушенного старого. Люди, переполненные радостным оптимизмом, работали дружно и весело. Город жил, славно трудился и не менее славно отдыхал. Красочные плакаты, пестревшие по всему городу, гласили о приезде в Ленинград лауреата Сталинской премии Д. Д. Шостаковича, который исполнит партитуру недавно законченной им 9-й симфонии. Тут же еще один плакат – с изображением борзых собак. Любителей захватывающих зрелищ приглашали 25–27 октября на Лахтинские угодья, где водится болотная дичь и где общество собаководства будет проводить испытание собак. В испытаниях примут участие только чистокровные английские и ирландские сеттеры, сеттеры-гордон и спаниели.
Трамвай сделал резкий поворот и помчался по улице, со стороны которой прекрасно был виден некогда ветхий деревянный Казанский мост через реку Монастырку. Но… чудо! Петр Степанович, не веря своим глазам, смотрел на мост, который был полностью разрушен, а на его месте строители Ленмостостроя сооружали новый металлический.
– Красавец будет! – с нескрываемой гордостью произнес пожилой мужчина в роговых очках, стоявший рядом с Соколовым. – У меня сосед по квартире работает там. Он монтажник. Все конструкции моста электросварные, сам же мост будет длиной тридцать шесть метров и шириной десять. Береговые каменные уступы, сооруженные еще в середине XIX века, намечено капитально отремонтировать. К концу года все работы, которые не прекращаются и ночью, будут завершены.
Мужчина бросил самодовольный взгляд на Петра Степановича, который, сам не зная почему, кивнул ему в ответ. Трамвай остановился. Петр Степанович тронул Андрея за руку.
– На следующей остановке выходим, – сказал он и стал пробираться к выходу.
Красивый серый семиэтажный дом, в котором с 1922 года жил на последнем этаже Петр Степанович вместе с дочерью, был построен еще до революции и принадлежал купцу первой гильдии Рюмину. Дом был без лифта, и поэтому, чтобы подняться на последний этаж, Петру Степановичу и Андрею потребовались не только время, но и значительные усилия. Всякий раз, поднимаясь по этой лестнице, Петр Степанович поминал недобрым словом русскую лень и халатность. Построить такой высотный дом – и не предусмотреть лифта, тогда как даже пролет для этого есть! Обещали установить лифт еще до войны, но, как видно, пройдет не один год, прежде чем обещание будет выполнено. Соколов открыл входную дверь ключом и, стараясь не шуметь, обошел всю квартиру. Нигде не было ни души, и от этого родной дом показался Петру Степановичу холодным и непривычно пустым.
А Татьяна Соколова тем временем даже не подозревала, какой радостный сюрприз ждет ее дома. Она не спеша шла по Невскому проспекту, время от времени заглядывая то в один продовольственный магазин, то в другой. Поговаривали, что ввиду приближающегося праздника 28-й годовщины Октября могли раньше времени начать отоваривать продовольственные карточки на следующий месяц. На улице уже смеркалось, когда Татьяна вышла из трамвая и торопливой походкой направилась к своему дому. Ее удивило, что дверь квартиры без труда открылась, и кроме того, в коридоре горел свет. Но зная, какой она может быть рассеянной, Татьяна лишь покачала головой. Она сняла драповое пальто и потянулась к вешалке. Но в этот момент скрипнула половица, и девушка, вздрогнув от неожиданности, резко повернулась. Перед ней стоял улыбающийся Петр Степанович.
– Папка! – закричала Татьяна и, отбросив пальто в сторону на пол, с радостным визгом бросилась в объятия отца. – Папка, милый мой, папка… ты вернулся, – захлебываясь от счастья, шептала она, покрывая его лицо поцелуями.
А он, большой и сильный, словно нашаливший ребенок, смущенно моргал глазами, не в силах произнести ни единого слова.
– Мой родной… мой самый любимый, папка… Ты вернулся…
– Танюша… ну все, все, дочка, – Петр Степанович наконец пришел в себя, чмокнул девушку в щеку и легонько отстранил.
– Но почему ты не сообщил мне, что приезжаешь сегодня? Я бы обязательно тебя встретила. Но почему ты у меня не такой, как все, – наседая на отца, девушка ударяла его в грудь и теснила из коридора в комнату.
– Танюша… девочка моя…
– Нет, ты ответь мне, почему? У всех отцы, как отцы, а от тебя ни письма, ни весточки не дождешься. Ты же знаешь, как я волнуюсь, как жду тебя.
– Танюша, успокойся. Мы не одни, у нас гости, – Петру Степановичу после некоторых усилий удалось вставить слово и тем самым прервать словесную атаку дочери.
– Гости?
– Да, – ответил Петр Степанович и подвел дочь к дивану, на котором скромно сидел Чернышов. – Вот, познакомься, Танюша, – Андрей Чернышов. А это – моя дочь. Прошу, Андрей, любить и жаловать, – произнес счастливый отец и улыбнулся.
– Татьяна, я очень рад нашему знакомству, – произнес Андрей и попытался подняться, но костыли, лежавшие рядом с ним на диване, соскользнули на пол, и он беспомощно, с растерянной улыбкой на лице, застыл.
– Ничего, ничего… я сейчас, – девушка бросилась к Андрею и подняла костыли.
Татьяна была хорошенькой. Высокая, стройная, темно-синие глаза блестели искрами бодрости и молодого задора. Тяжелая коса, венцом уложенная на голове, красиво обрамляла изящный удлиненный овал лица с тонким носом и упрямым крутым изломом небольшого рта. В выражении ее глаз и лица было что-то от отца, и, возможно, поэтому тот так слепо и безрассудно любил ее. А было ей уже тридцать два года. Годы!? Эти проклятые годы! Ее подруги по школе и по библиотечному техникуму почти все давно были замужем, а некоторые даже успели развестись и снова выйти замуж. Татьяне иногда казалось, что мужчин отпугивает ее строгий вид и не менее строгий туалет, и будь она немного пораскованнее, все было бы иначе. Мужчину следует сначала очаровать и захватить в плен, а лишь затем показывать свой характер. Но на жизненном пути Татьяны не встретился такой мужчина, который вызвал бы у нее желание нравиться.
Татьяна подняла глаза на Андрея и ласково улыбнулась.
Петр Степанович негромко откашлялся и, точно извиняясь, произнес:
– Танюша, Андрей поживет у нас некоторое время, пока не устроится на работу и не подыщет себе жилье.
– Конечно, папа. Комната большая, и вам вдвоем не будет в ней тесно. Ты будешь спать на своей излюбленной кровати за ширмой, а Андрей – на диване. А теперь, мои дорогие мужчины, когда основной вопрос мы решили, быстро мыть руки и к столу.
Петр Степанович сморщил нос и подобострастно произнес:
– Вот так-то, Андрей. В этом доме Танюша – генерал, а мы…
– Солдаты, – подсказал Андрей и мгновенно почувствовал, как волна душевного покоя и тихой радости захлестнула его.
– Разговорчики в строю, – подыграла мужчинам Татьяна. Затем, спрятав руки за спину, добавила: – Папа, помнишь вишневую наливку, которую ты перед войной два дня искал и не мог найти?
– Конечно, помню.
– Так вот, я думаю, она будет сейчас как нельзя кстати.
На город медленно надвигалась темная ночь. На звездном небе появилась луна, озарившая бледным светом дома и деревья, которые смутно отражались в окнах. Татьяна собрала со стола грязную посуду, отнесла ее на кухню и через несколько минут вернулась в комнату.
Она села рядом с отцом, нежно обняла его за плечи и обратилась к Андрею:
– Андрей, а родители твои живы? Ты женат?
– Танюша, не слишком ли ты любопытна? – укорил дочь Петр Степанович.
– Вовсе нет. Я любопытна не более, чем все женщины.
– Нет-нет, Петр Степанович, ничего страшного. Будет справедливо, если Татьяна с самого начала узнает все обо мне. Мне скрывать нечего, моя прошлая жизнь была ничуть не лучше и не хуже, чем у молодых людей моего возраста. Я, Татьяна, незаконнорожденный. Воспитала меня мать, отца же я никогда не знал.
– И у тебя никогда не было желания увидеть своего отца? – спросила девушка, не в силах побороть в себе любопытство.
– Было, конечно, было. Особенно в детстве. Все дети имели отца и мать, а я только мать. Во дворе мальчишки часто дразнили меня «безотцовщиной». Я бросался на обидчика с кулаками, избивал его, а приходя домой, сильно плакал. Мать утешала меня, как могла. В такие минуты она была мне особенно близка, и я просил ее рассказать мне об отце. Кто он, любила ли она его и почему он с нами не живет. Мать гладила меня по голове и горестно вздыхала.
– Сынок, разве тебе плохо жить со мной? Зачем тебе отец? Забудь о нем, – говорила она.
– Но, мама, я хочу знать, кто мой отец, – настаивал я.
Но мои просьбы и мольбы были напрасны, она крепко хранила тайну моего рождения и унесла ее в могилу, так ничего мне и не сказав. А насчет того, женат ли я, могу сказать: имел «такое счастье». Но и здесь мне не повезло. Жена бросила меня ради мужчины, которого полюбила.
– Да… все это печально, – с грустью произнесла Татьяна. – Ну ничего, жизнь продолжается, и ты будешь еще счастлив. Скажи, а куда бы ты хотел пойти работать? – Татьяна решила переменить тему разговора.
– До войны я окончил Московский политехнический институт и несколько лет работал на заводе инженером-механиком. Но сейчас… эта работа уже не для меня. Кто захочет взять на работу беспомощного жалкого калеку?
– Зачем ты так? – произнес Петр Степанович. – Ведь мы с тобой уже об этом говорили. Знаешь, Танюша, Андрей неплохой инженер. Я предложил ему применить свои силы и знания в области протезирования, и надо отдать ему должное: он разработал несколько совершенно новых по конструкции схем протезов ног. Надо обязательно показать эти чертежи специалистам. Сейчас, после окончания войны, проблема вернуть инвалидам утраченную способность самостоятельно передвигаться будет самой актуальной.
– Папа прав, – поддержала Татьяна Петра Степановича. – В Ленинграде есть научно-исследовательский институт протезирования и протезостроения, и тебе нужно обратиться именно туда. Папа, ты поможешь Андрею в этом вопросе? У тебя есть друзья, позвони им.
– Я думаю, мы что-нибудь придумаем, – согласился Соколов. – А пока пусть Андрей отдыхает, набирается сил.
– Но мне бы не хотелось слишком увлекаться отдыхом и злоупотреблять вашим гостеприимством.
– Нет, вы только посмотрите на него, – с веселым задором воскликнул Петр Степанович. – Минуту назад он куксился, как ребенок, а сейчас рвется в бой, словно бойцовый петух.
Татьяна и Петр Степанович весело рассмеялись. Андрей же смущенно пожал плечами, но через минуту, поддавшись общему веселью, составил им компанию.
Быстро летели дни. В семье Соколовых царила атмосфера любви, доброжелательности и уважения, и именно она явилась самым лучшим лекарством – чем-то наподобие волшебного бальзама на израненную и опустошенную душу Андрея. Он словно заново родился и заново познавал мир, мир удивительный и неповторимый, многие грани которого были ему неведомы, и, познав которые, он не мог не подивиться, как все-таки прекрасно жить. Потеряв на войне ногу, Андрей вместе с тем потерял и интерес к жизни, поскольку остро ощутил свое бесполезное существование. Он никогда не думал, что его молодое, вечно подвижное тело превратится в беспомощное. Что возьмешь с такого калеки, кому он нужен и на что он годится? Но судьба, как бы порой она ни была жестока, свела его с Петром Степановичем и его дочерью, которые помогли ему вернуть веру в себя, свои силы и, самое главное – свою значимость в этом мире. С самого первого мгновения знакомства с Андреем Татьяна почувствовала к нему невыразимую жалость и вместе с тем симпатию. Но женская интуиция подсказала ей, что именно жалость во всех ее проявлениях будет воспринята Андреем как самое жестокое оскорбление. И тогда она повела себя с ним, как с человеком вполне здоровым, даже позволяла себе иногда подшучивать над его инвалидностью, но не зло, а с любовью. Долгими часами они вели задушевные беседы о жизни и искусстве, вспоминали детство и военные годы, весело потешали друг друга забавными и смешными историями из своей жизни. Татьяна была откровенна, так же как и Андрей, и рассказала ему свою историю, не менее печальную.
С самых ранних лет она была больше привязана к отцу, чем к матери. Отец ее баловал, а мать была к ней строга и требовала непременного послушания. С отцом всегда было весело, легко и свободно. Он играл с Татьяной во все детские игры, дурачился, как маленький, часами рассказывал сказки, а мать лишь заставляла убирать за собой постель, мыть посуду и подметать пол. А какому ребенку это понравится? Шли годы, Татьяна выросла. Ее любовь к отцу все крепла, а мать… она уважала и старалась не огорчать. И вот случилось ужасное – мать умерла. Татьяна вдруг ощутила, каким пустым и печальным стал без нее дом. Сердце разрывалось от боли. Но самое ужасное – Татьяна только после смерти матери осознала, что многим она обязана именно ей. Все, что она знала и умела в жизни, было заслугой только ее матери.
Слушая Татьяну, Андрей невольно проникся ее бедой. Впервые он подумал, что жизнь других людей состоит не только из радостей и наслаждения. Эта мысль, естественно, не могла принести ему облегчения, но она отвлекала и тем самым заставляла думать не только о себе. Случилось вдруг так, что Татьяна всецело завладела всеми его помыслами и желаниями. Андрея неотвратимо влекло к девушке – не только ее красота, оригинальные мысли и взгляды, но и душа, чистая и возвышенная. Постепенно он преобразился. Это уже не был физически утомленный, нравственно апатичный и опустошенный душой человек. Грустные и бесцветные глаза приобрели живой здоровый блеск, движения перестали быть робкими и неестественными, и даже передвигаться на костылях он стал как-то особенно мягко. А когда они сидели рядом, и Андрей смотрел пристальным нежным взглядом в глаза девушки, ему стоило невероятных усилий, чтобы не поддаться чувству и не поцеловать ее. Татьяна не осуждала Андрея, а совсем наоборот, ей казалось, если он что-то подобное предпримет, то она не будет сопротивляться. Девушка вдруг сделала для себя открытие – ее влекло к Андрею, и это было прекрасно. Теперь она подолгу крутилась перед зеркалом, тщательно причесывала волосы и подбирала наряды ярких тонов и расцветок.
Каждый вечер Андрей с нетерпением ждал возвращения Татьяны после работы домой.
Она переступала порог дома и в радостном возбуждении восклицала:
– Андрюша, мальчик мой, как дела?
Обращение было по-детски шутливое и больше подходило малышу, нежели взрослому мужчине тридцати лет, коим был Андрей. Но именно это и нравилось Чернышову. Любой мужчина до глубокой старости в душе всегда остается ребенком. Андрей обстоятельно и подробно рассказывал ей, чем он занимался в течение дня. Обычно он читал книги по протезированию и технологии материалов, которые приносила ему Татьяна из районной библиотеки, где работала заведующей. А иногда, в минуты наивысшего творческого подъема, он разрабатывал новые схемы протезно-ортопедических изделий, которые потом и показывал девушке. Татьяна мало что в них понимала, но всегда делала вид, что ей жутко интересно. Она знала, как важна для Андрея эта работа. Потом Татьяна повелительным жестом приглашала Андрея на кухню, где он, выступая в роли подсобного рабочего, помогал ей готовить ужин. При этом Татьяна делала вид, что без помощи Андрея она точно без рук и не в состоянии приготовить вкусный ужин. Эта ее хитрая уловка действовала безотказно, и вскоре Андрей сам без приказов Татьяны выполнял все работы по дому, требовавшие мужского вмешательства. Но это была лишь ничтожная малость из того, чем Андрей мог занять свой досуг. Татьяна прекрасно это понимала. Поэтому девушка терялась в догадках, чем бы еще разнообразить скучную и монотонную жизнь Чернышова. Помог случай. Однажды, находясь в хранилище для книг, расположенном в подвальном помещении районной библиотеки, она обнаружила на одной из полок тоненькую папку. На обложке в правом верхнем углу неизвестным размашистым почерком красным карандашом было написано: «Срочно уничтожить». Татьяна некоторое время помедлила, прежде чем открыла папку. Содержимое папки удивило ее. Это была небольшая брошюра на немецком языке, изданная в Германии в 1940 году. Используя все свои познания в немецком языке, ей удалось выяснить, что брошюру написал немецкий профессор по фамилии Данглай. Дальше было еще интереснее. В статье упоминалось о каких-то разработках в области протезирования. Этого было достаточно, чтобы Татьяна спрятала папку в хозяйственную сумку и принесла ее домой.
– Вот, посмотри, – сказала девушка и протянула Андрею папку.
– Что это?
– Если честно сказать, я и сама не знаю, но мне почему-то кажется, это может тебя заинтересовать.
Андрей с интересом стал листать брошюру.
– Но брошюра на немецком языке. А я всегда был с языками не в ладах. В школе учил немецкий, в институте английский, но так ни один и не знаю.
– Я тоже. Но посмотри, здесь есть какие-то чертежи и рисунки. Они тебе ничего не напоминают?
– Нет. Хотя постой… Вот этот. Что-то очень знакомое…
– Обрати внимание, под каждым чертежом и рисунком есть условные обозначения, – подсказала Татьяна.
– Спасибо. Они тоже на немецком языке. Не понимаю, что тебя могло заинтересовать в этой писанине кроме чертежей?
– Может быть, я что-то не так перевела, но в этой, как ты выразился, писанине упоминается о протезировании.
– О протезировании?! Ты в этом уверена? – недоверчиво переспросил Чернышов.
– Нет. Я ни в чем не уверена. Но знаешь, меня удивила надпись, сделанная на папке. Посмотри. Срочно уничтожить. Кому и зачем понадобилось уничтожать эту брошюру?
– Этот вопрос не ко мне, а к соответствующим органам.
– Ты прав. Но все-таки… А что, если в статье приведены данные, которые могут представлять интерес, но кто-то заинтересован, чтобы они не дошли до читателя?
– Не думаю. Все намного проще. Посмотри на дату, 1940 год. Брошюра издана в Германии, в стране, враждебной нашей. И уже одно это могло послужить поводом, чтобы уничтожить брошюру, даже не читая ее.
– Так ли это? К сожалению, я не могу об этом спросить у своих сотрудников.
– Почему?
– Неужели ты сам не понимаешь? Все из-за этой резолюции. Кому-то было поручено уничтожить брошюру, однако этого не сделали. И если я сейчас буду расспрашивать, почему и как, то могу поставить под удар людей, не выполнивших соответствующее предписание. Ясно одно: это распоряжение появилось после того, как я ушла на фронт, иначе я знала бы о нем.
– А где ты обнаружила брошюру?
– В подвале библиотеки. Там есть небольшое помещение, где хранятся книги, многие из которых очень редкие, но они в плачевном состоянии, и мы не можем выдавать их читателям. Папка лежала на верхней полке одного из стеллажей. Тоненькая, неприметная, и я даже не знаю, почему она привлекла мое внимание.
– Но как бы там ни было, ты принесла ее домой и нам остается ее уничтожить или…
– Или? Андрей, неужели тебе неинтересно узнать, что написано в брошюре?
– Интересно.
– Тогда чего же мы ждем? Приступим. На всякий случай я принесла два немецко-русских словаря.
– Но почему два?
– Чтобы удобнее было работать. В брошюре тридцать страниц. Первые пятнадцать страниц буду переводить я, а ты – остальные.
– Татьяна!!! У меня нет слов, – Андрей озорно улыбнулся и послал девушке воздушный поцелуй.
Работа по переводу статьи продвигалась с большим трудом. Сложные языковые обороты, слова, одинаково звучащие, но имеющие несколько значений, терминология, понятная только специалистам, и отсутствие соответствующей практики по научным переводам – все это делало их труд просто каторжным. За два часа работы каждый из них перевел всего по одному абзацу.
– Да-а-а, – с тоской произнес Андрей и почесал затылок. – Похоже, мы зря тратим время. Нам никогда не перевести эту статью, она нам не по зубам. Специалист по протезированию, и тот возьмется за голову, разбираясь во всей этой чертовщине.
– Андрей, перестань хныкать. Лучше послушай, – Татьяна прочитала переведенный абзац. – Ну как?
– Ничего интересного. Общие фразы.
– Ты так думаешь? А что получилось у тебя?
– Набор слов, и я не знаю, как их увязать в единое целое, если это вообще возможно, – Андрей отодвинул исписанный лист в сторону и нервно забарабанил по столу.
– И что ты предлагаешь?
– Не знаю. Может быть, стоит найти переводчика немецкого языка и заплатить ему?
– Нет. Мы должны сами перевести эту статью, и ты знаешь, почему. Кроме того, я не люблю отступать перед трудностями и презираю людей, которые это делают.
Наступила полночь. Татьяна время от времени терла усталые глаза и прикрывала рукой рот, пытаясь сдержать зевоту. Андрей с недовольным видом листал словарь, но молчал.
– Так-так, молодые люди… Чем это вы тут занимаетесь? – Петр Степанович появился так неожиданно, что Татьяна и Андрей, боровшиеся со сном и усталостью, невольно вздрогнули.
– А-а-а… папа, это ты? – произнесла Татьяна и сладко потянулась. – Почему так поздно?
– Заболел Губерман. Пришлось его подменить. Больные ждать не могут. Три операции, одна сложнее другой. Устал… смертельно устал. Единственное желание – как можно быстрее добраться до постели, – Петр Степанович, точно в подтверждение сказанных слов, блаженно прикрыл глаза.
– Тогда иди и ложись, а мы с Андреем еще немного поработаем, – сказала Татьяна и помахала отцу рукой. – Бай-бай…
– Да, да… – Петр Степанович взял брошюру, лежавшую на кухонном столе, и с рассеянным видом стал листать. – Что это?
– Пока сказать трудно, – Андрей недовольно шмыгнул носом. – Но боюсь, все, чем мы сейчас занимаемся, иначе как ерундой не назовешь.
– Андрей, перестань, – резко оборвала Татьяна Чернышова. – Папа, видишь ли в чем дело… – Татьяна на миг запнулась, прежде чем рассказать отцу о таинственной папке, обнаруженной ею в библиотечном хранилище для книг. – Что-то подсказывает мне, папа, что материал, напечатанный в этой статье, содержит много интересного и полезного для специалистов по протезированию. Андрей сомневается, а я верю… верю, что так и есть.
– Дочка, я всегда учил тебя не отступать перед трудностями. Если веришь, то продолжай работу, несмотря ни на что.
– Петр Степанович, а если мы попусту тратим время, если все, написанное в брошюре, не стоит и выеденного яйца?
– Попусту тратим время? – Татьяна резко встала. – Подумаешь, занятой какой! Ты всего несколько часов напрягаешь свои мозги, а разговоров…
– Дети, дети, – Петр Степанович сделал примирительный жест рукой. – Не надо ссориться. А ты, Танюша, будь более сдержанной. У тебя вечно – чуть что не по-твоему, сразу встаешь в позу. Андрей в чем-то прав.
– Но, папа…
– Материал, который вы переводите, возможно, не представляет никакого интереса, а может быть, совсем наоборот. Поэтому, Андрей, пока есть сомнения, следует продолжать работу.
– Вот видишь, папа меня поддерживает, – сказала Татьяна и с победоносным видом посмотрела на Андрея, и он после некоторых раздумий утвердительно кивнул головой.
– Вот и хорошо, – Петр Степанович, довольный, что все благополучно разрешилось, удалился в свою спальню.
Раздевшись, он быстро нырнул под одеяло. Однако сон долго не шел. Мозг, перегруженный за день всевозможной информацией, зачастую не вызывающей положительные эмоции, продолжал работать. На фронте он часто мечтал о том, что закончится война и работать станет легче. Но в мирное время перед советскими хирургами встали другие, не менее трудные, чем в годы войны, проблемы, одна из которых потребовала даже создания восстановительно-реставрационной хирургии. Центральные травматологические центры и институты не справлялись с потоком больных, которым требовалась помощь в плане ликвидации последствий от огнестрельных ран. Поэтому эта работа была возложена и на районные больницы. Районная больница № 36, в которой тридцать лет работал Петр Степанович, не была исключением. Соколову и его коллегам теперь приходилось делать не только традиционные операции, но и сложные пластические операции, сшивать и реставрировать нервы, пересаживать кожу, сухожилия и мышцы. Петр Степанович, как и прежде, в довоенные годы, весь без остатка отдался работе и находился в стенах больницы с раннего утра до поздней ночи. Только теперь делал он это со спокойной душой. Его дочь, ожидая отца с работы, не коротает долгие вечера в полном одиночестве, с ней постоянно был Андрей. Это успокаивало его, хотя подсознательно, нет-нет, а возникала мысль – а вдруг Татьяна, проводя так много времени вместе с Андреем, увлечется им. Тогда ее любовь к отцу уже не будет такой крепкой и нежной, как прежде, а отойдет на второй план. Конечно, Петр Степанович отдавал себе отчет в том, что рано или поздно Татьяна встретит человека, с которым захочет соединить свою судьбу. Но он боялся этого и даже предпочитал, чтобы дочь так и осталась до конца своей жизни старой девой. Эгоизм, обычный отцовский эгоизм. То, что Татьяна полюбила Андрея, Петр Степанович понял не сразу, а лишь спустя два месяца, когда все не просто говорило об этом, но уже и кричало: яркая модная одежда, которую теперь предпочитала носить дочь, чтобы выглядеть привлекательной, новая прическа, счастливая улыбка на лице и легкая, полная грации походка. Никаких сомнений не было – Татьяна влюблена, и ее любовь взаимна. И когда Петр Степанович понял это, понял, что уже не в его власти что-либо изменить, ему пришлось смириться, хотя и с болью в сердце.
Но не все так просто и гладко было в отношениях молодых людей. Первая крупная ссора произошла между ними, когда они работали над переводом той самой злополучной брошюры, которую Татьяна принесла из библиотечного хранилища. В принципе, Андрей был согласен с Татьяной. Любое начатое дело следует доводить до конца, но ему не хватало элементарной выдержки и терпения. Первые несколько дней девушке удавалось, правда, с трудом, сдерживать неоднократные порывы Андрея прекратить перевод статьи. Но буря надвигалась, и она была неминуема. Однажды Татьяна вернулась работы раньше обычного.
– Ты систематизировал материал, который мы с тобой вчера перевели? – спросила она Андрея.
– Нет, – Андрей скрестил руки на груди и посмотрел на девушку так, точно бросал ей дерзкий вызов.
– Почему?
– Мне все осточертело. Хватит, не желаю больше заниматься всей этой ерундой. Оставь меня в покое.
– Андрей, как же трудно с тобой. Неужели ты не понимаешь – все, чем мы занимаемся, нужно в первую очередь тебе? Какой же ты еще безответственный глупый ребенок.
– Пусть я, как ты выразилась, глупый ребенок, а вот ты – упрямая дура.
– Что? – Татьяна вздрогнула, словно Чернышов вонзил ей кинжал в самое сердце, и резко встала. – Что ты сказал? – она размахнулась и ударила его по лицу.
– Таня, Таня… – Андрей прижал руку к щеке и с болью посмотрел на девушку, которая, задыхаясь от слез, выбежала из столовой.
Она влетела в свою комнату, с шумом захлопнула дверь и бросилась на кровать.
– За что? За что? – девушка металась по подушке, чувствуя себя разбитой и униженной.
Было невыносимо больно, и жгучие слезы обиды и разочарования текли по лицу без остановки.
Андрей мгновенно пришел в себя и понял, какой отвратительный поступок он совершил. Нет, он не только грубо оскорбил девушку, он в одночасье порушил все то хорошее, что она сделала для него. Как он мог так поступить? Татьяна, не жалея ни сил, ни времени, старалась помочь ему справиться с невыносимой болью, отчаянием и злобой на весь мир, которые поселились в его душе. Но, самое главное, она вселила в него веру в себя. А он!? Андрей, сгорбившись, опираясь на костыли, подошел к Татьяне.
– Танечка… прости меня… умоляю, – Андрей робко провел рукой по волосам девушки. – Я не хотел тебя обидеть. Я дурак, глупый мальчишка. Не плачь, твои слезы разрывают мне душу. Хочешь, я сейчас пойду и переведу до конца эту статью, будь она проклята. Ну, хочешь? Я сделаю все, только прости.
– Нет, – Татьяна оторвалась от подушки и дрожащей рукой отбросила с лица мокрую от слез прядь волос, – ничего не надо делать. Ты прав. Зачем заниматься делом, которое считаешь ненужным и бесполезным? Я больше не буду вторгаться в твою жизнь и пытаться помочь тебе ее переделать. Живи, как знаешь и как можешь. А сейчас, прошу тебя, оставь меня одну. Я не хочу тебя видеть.
С этого дня Татьяна точно очнулась от волшебного сна, в котором пребывала с момента появления Чернышова в их доме. В том, что он сорвался и оскорбил ее, Татьяна видела скорее закономерность, чем случайность. Девушка вспомнила еще несколько моментов, когда Чернышов был не на высоте. Конечно, несчастье, постигшее Андрея, повлияло на его характер, но не настолько, чтобы из сильного и целеустремленного человека он превратился бы в слабого и безвольного. Скорее всего, он был от рождения слабохарактерным человеком, а несчастье лишь усугубило эту черту. Но она любила этого человека, любила всей душой. Правда, ее любовь была больше основана на жалости, чем на преклонении перед любимым человеком. Но разве любить, это не значит жалеть и прощать? Сердцем Татьяна простила Андрея сразу же, не задумываясь, но как быть с разумом… Разумнее всего было бы воплотить в жизнь сказанное ею во время их ссоры. Но это равносильно предательству, а она не могла так поступить, впрочем, как и сделать вид, будто бы Андрей прощен ею с легкостью игривой кокетки. Тогда Татьяна решила не торопить события, другими словами, занять выжидательную позицию.
А Андрей страдал и от этого по ночам плохо спал. Он искал выход из создавшейся ситуации. Но придумать ничего лучше, чем продолжить работу по переводу немецкой статьи, не смог. Его ссора с девушкой не прошла для него бесследно. Приступив к работе, Андрей перво-наперво внимательно прочитал весь материал, который они перевели с Татьяной. Он вдумывался в каждое слово, каждую фразу, напрягая свои мозги так, что, казалось, голова расколется пополам.
– Что, что означает эта фраза? Какой смысл немецкий профессор вложил в эти слова?
Андрей листал книги и справочники по протезированию, затем снова и снова перечитывал свой перевод. Запрокинув голову, он напряженно думал, в то время как рука самопроизвольно чертила карандашом по бумаге какие-то линии, кружки и зигзаги.
– Сравнительно малый общий вес протеза и его оптимальные масс-инерционные характеристики должны обеспечивать снижение абсолютных значений поршневых движений протеза соответственно фазам шага, – методично раскачиваясь взад и вперед, Андрей тысячу раз повторял эту фразу. – Оптимальные масс-инерционные характеристики… оптимальные…
Полистав немецкую брошюру, он нашел восемнадцатую страницу, на которой был чертеж под номером восемь. Вдруг его осенило.
– Бо-о-о-же мой!!! Как же это просто! Гениально просто! – закричал Андрей во всю мощь своих легких.
Он пошарил рукой по столу и нашел папку со своими чертежами, над которыми бился столько времени, но что-то не получалось, что-то было не так. Теперь он знал, в чем была его ошибка. Нет, этот немецкий профессор просто гений! Как все просто, очень просто… Стоит всего лишь на каких-то десять миллиметров произвести смещение парциональных центров масс протеза, как это в корне изменит схему самой конструкции протеза, а следовательно, даст возможность значительно разгрузить сохраненную, обычно неполноценную конечность. Андрей от радости захлопал в ладоши и засмеялся, как ребенок.
– У меня получилось, все получилось…
Его радость и восторг были так сильны, что он не мог дождаться, пока Татьяна вернется с работы домой. И когда Андрей услышал звук открывающейся двери в квартиру, он резко вскочил и, забыв о костылях, чуть не рухнул на пол.
– Танечка… Танечка… – закричал он в радостном возбуждении.
– Что? Что случилось? – девушка, не раздеваясь, влетела в столовую, где при виде Андрея, который стоял без костылей у дивана и держался за край стола, чтобы не упасть, в растерянности застыла.
– Я люблю тебя! Я люблю тебя! – кричал как безумный Андрей. – Ты даже не представляешь себе, какая ты замечательная. Ты была права. Я перевел немецкую статью до конца. Я нашел в ней то, над чем бился все эти месяцы. У меня получилось, все получилось.
Татьяна, не пытаясь даже сдерживать слезы, слезы счастья и восторга, бросилась в объятия Андрея.
VIII
– Молодой человек, я третий раз вам повторяю: Ефим Казимирович не может вас принять. У него совещание, а после совещания он поедет на завод. Директор такого крупного учреждения, как наше, человек занятой. У него каждый день расписан по минутам, – с раздражением сказала секретарша, упитанная брюнетка неопределенного возраста с прической, напоминающей крупные завитки горного барана.