Читать онлайн Взять живым (сборник) бесплатно
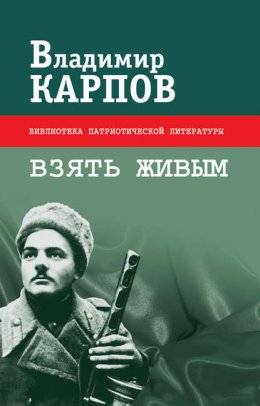
Введение
Лев Николаевич Толстой к концу жизни, опираясь на свой огромный и многолетний творческий опыт, пришел к выводу, что в старых формах, в тех, в которых он и его современники работали, уже писать нельзя. Жизнь с ее многообразными горестями и радостями, реальные судьбы людей будут содержанием литературных произведений.
Ни один сочинитель не может придумать таких невероятных событий и глубоких переживаний, какие повседневно происходят в жизни людей.
Вот подлинные слова Толстого: «Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Ивановича или Марью Петровну. Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случалось наблюдать в жизни».
В книге «Взять живым» нет выдуманных эпизодов, изменены только некоторые фамилии. Все, о чем в ней рассказано, несмотря на, казалось бы, невозможное скопление в жизни одного человека стольких невероятных событий, происходило в действительности. Автор не только свидетель, но и участник, а порой исполнитель многих описанных разведывательных заданий.
Но книга эта – не мемуары, а художественная проза со свойственным для нее многоплановым описанием героев, их поступков, обобщениями и размышлениями автора, а также изображением исторических событий, в которых живут и действуют персонажи книги.
Напряженность и насыщенность экстремальными ситуациями из жизни разведчика Ромашкина могут успешно соперничать с самыми головокружительными выдумками и приключениями детективных сочинений.
Книга написана в несколько облегченной манере, без глубоких психологических ремарок о переживаниях героев, этого требует динамичный сюжет. Тем же объясняются и броские названия глав и разделов. Но еще раз повторяю, книга эта – не мемуары и не детектив, а традиционно серьезная проза, потому что охватывает более чем полувековую жизнь разведчика с большим набором исторических событий и множеством эпизодов, показывающих конкретное участие героев в этих событиях, – каждый человек бросает свой хворост в костер истории.
Пусть читателей не удивляет дата написания книги, поставленная на последней странице, – 1970—2000 годы. Книга действительно создавалась так долго. При первом издании в 1972 году были изъяты несколько первых глав, потому что тогда еще нельзя было печатать о лагерях, штрафных ротах и прочих теневых сторонах, компрометирующих социалистический строй. В таком виде она была издана несколько раз. Третью часть о службе Ромашкина в Главном разведывательном управлении, об агентурных делах нельзя было писать и печатать по соображениям секретности. Но прошли годы, многое утратило секретность, и я написал третью часть. Кое-что я замаскировал, изменив имена, города, чтобы не навредить действующей и в наши дни службе.
От счастья до расстрела – один шаг
Трудно поверить, что все это могло выпасть на долю одного человека. Вот несколько эпизодов из его жизни.
…Идут соревнования по боксу. Ринг установлен на арене цирка. Судья поднимает руку очередного победителя. Зрители аплодируют, кричат, кто-то свистит от восторга. Этот боец – совсем юный паренек – особенно понравился своей отличной техникой. Он нокаутировал противника во втором раунде. Стройный, ладный, блестящий от пота, как бронзовая статуя, боксер улыбается. Рад победе. Это Василий Ромашкин.
А теперь другая ситуация. В тюремной бане под холодными струями лежит человек. Он без сознания. Из носа, с губ стекает сукровица. Его били трое следователей. Били ногами. Буквально месили сапогами. А потом охранники приволокли сюда, в тюремную баню. И бросили под холодный душ. На подоконнике за разбитым стеклом с решеткой грязный снег. А лежит под ледяными струями Василий Ромашкин. Тот самый красивый спортсмен с ринга…
В одном из лагерных бараков в Сибири идет страшная драка воров и бандитов. Сверкающий нож взметнулся над грудью вора в законе Серого. Возможно, этот удар стал бы смертельным, но с верхних нар кинулся, как голкипер, на руку с ножом зэк и ловко отвел удар. Это тоже был Василий Ромашкин.
На Калининском фронте стоят под направленными на них винтовками шесть штрафников – их расстреляют. Один из приговоренных – Ромашкин.
Английская контрразведка не может выявить советского разведчика, который регулярно появлялся в их стране. Много лет продолжалась эта охота, но Василия Ромашкина так и не поймали.
Существуют два противоположных мнения о судьбе. Первое – все предопределяет провидение, а второе, наоборот, – сочетать судьбу и свободу человека невозможно.
Наверное, судьба – это не то, что впереди, не то, что предстоит, а что уже пройдено, то, что позади, уже сложилось, на что оглядываясь, одни не видят ничего – зачем жил? А у других волосы встают дыбом – неужели все это было?!
У Ромашкина судьба лихая!
Слово «лихая» подразумевает несколько значений – лихая, в смысле трудная, со многими тяжкими испытаниями, лихолетье наваливается иногда на целые народы или государства. Содержит в себе это слово еще и бесшабашную смелость, отчаянные выходки, когда человек совершает нечто непосильное другим, показывая при этом свою изобретательность в увертывании от смерти. Владимир Даль в своем бесценном словаре приводит к этому слову целое ожерелье ярких синонимов: лихой – молодецкий, хваткий, бойкий, проворный, щегольской, удалой, ухарский, смелый и решительный.
Вот всего этого не было у Василия Ромашкина в юношеские годы, когда он вступал в жизнь. Но не только это, а еще многое сверх того приобрел он, пройдя свой сложный жизненный путь.
Рос Василий в обычной городской семье. Жил в Оренбурге, в доме, построенном после Русско-японской войны дедом Михаилом Гавриловичем – яикским казаком. Дед был коренастый, с русой непокорной шевелюрой, характера твердого, на войне показал себя храбрым – два Георгиевских креста и медаль заслужил, а также звание есаула. Михаил Гаврилович успел понянчить внука Васю, покормил его пельменями (несмотря на верещание баб: «Нешто можно младенцу такую тяжелую еду!»). Дед ухмылялся, отмахивался от женщин: «…Я же ему не целые, нажеванные даю. Парнишке силы набирать надо. Какая сила с ваших сосок. Он русский человек, ему пельмени полагаются».
Недолго радовался внуку Михаил Гаврилович, дождался, правда, чтоб Васенька на своих ногах пошел, погулял с ним по саду, держа за маленькую розовую ручонку, но, когда Васе было четыре годика, скончался дед от какой-то тяжелой, не излечимой в те годы болезни.
Отец Васи – Владимир Михайлович – тоже помахал саблей в Первую мировую и в Гражданскую войны. Но был он казак, как говорится, городского разлива, в станице не жил, рос и учился в Оренбурге. Как и отец, был он стройный, с буйными русыми кудрями да серыми, с веселой лукавинкой глазами.
О женитьбе он не думал – война, не до того.
Может быть, Василий вообще бы на свет не появился, если бы не приехала беженка из Петербурга. Звали ее Лиза, росла она в интеллигентной семье, окончила гимназию, владела французским и румынским языками.
Родители ее: отец – нотариус, мать – воспитанница женского пансиона стремились дать хорошее образование своим детям: Лизе и Сергею. Еще в годы учебы в гимназии летом их возили во Францию и Румынию для изучения языков и, как говорила мама, «для развития общего кругозора».
В годы военных и революционных передряг мать умерла от тифа, а отец – от тоски по ней. Брат Сережа пропал без вести на фронте, будучи уже штабс-капитаном.
Лиза, спасаясь от голода, уехала из Питера в Оренбург с соседкой, вдовой-генеральшей Матильдой Николаевной. Они сняли по комнате в доме Ромашкиных.
Владимир Михайлович в год их приезда воевал против атамана Дутова на стороне красных. Приезжая навестить родителей, он громыхал сапогами и саблей на лестнице, поднимаясь на второй этаж. Лихой кавалерист с кудрявым чубом и серыми шалыми глазами с первой встречи сразил наповал столичную барышню. Он уезжал воевать, а она молилась, просила Бога, чтобы он сохранил этого человека, потому что сознавала, что встретила его на всю жизнь.
Лихой вояка тоже приметил петербургскую красавицу, после этой встречи его внимание к родителям утроилось, он навещал их очень часто, а в результате Лиза родила сына Васю, о котором пойдет рассказ в этой книге. Произошло это в лето 1920 года. Грех был велик: не венчанные, не расписанные – и сразу дитя! Красноармейцу в те годы венчание было противопоказано. Регистрация в загсе? Где он, тот загс?
В часы недолгих свиданий не до загса было – не могли наглядеться друг на друга, нарадоваться, что судьба их свела. Между собой так объяснились. Он ей сказал: «Спасибо тебе, жена, за то, что сына подарила». Она ответила ему: «А ты мне подарил счастье».
Вот такие истоки или корни были причиной появления на свет Василия Ромашкина. И хоть был он незаконнорожденный, плод любви, дед Михаил Гаврилович и бабушка Анисья Борисовна крестили внука по христианскому обычаю и приняли его в семью Ромашкиных с великой радостью.
Из личных достоинств Василия, сыгравших определенную роль в его жизни, отметим два.
В школьные годы появилась у Василия склонность к писанию стихов. В шестом классе у него уже была толстая, столистовая тетрадь с переписанными набело, так сказать, избранными стихотворениями. Эту тетрадь однажды случайно взяла и раскрыла учительница литературы Таисия Петровна. Прочитав несколько стихов, она попросила у Ромашкина разрешения взять его тетрадь домой, чтобы ознакомиться подробнее. Василий, краснея, с замиранием сердца согласился. На следующий день Таисия Петровна после занятий, отпустив всех, попросила Ромашкина остаться в классе.
Когда ребята вышли, учительница посадила Василия на стул около своего стола, внимательно посмотрела ему в глаза и значительно произнесла:
– Вася, ты должен понять, это очень серьезно, у тебя талант.
С поэтическими делами Ромашкина мы соприкоснемся еще не раз, поэтому перейдем ко второму важному обстоятельству в его жизни.
Ромашкин, как и многие его сверстники, увлекался книгами Майна Рида, Виктора Гюго, О’Генри. Но самым близким стал для него Джек Лондон, особенно его рассказы о боксерах. «Мексиканец» просто завораживал Василия, в нем все трепетало, когда он перечитывал строки о схватке мексиканского паренька Риверы с искусным бойцом, прославленным Денни. Василий часто в более поздние годы, в безвыходных ситуациях вспоминал мексиканца, и это помогало ему вывернуться из костлявых лап смерти.
А тогда, в Оренбурге, он не раз перечитывал рассказ Джека Лондона с неослабевающим волнением. И вот однажды Василию очень повезло. Счастливый случай как раз и стал причиной, породившей второе достоинство, очень пригодившееся Василию в его дальнейшей жизни.
А произошло вот что. В 1935 году в стране прошла волна открытия дворцов пионеров. Создали такой «дворец» и в Оренбурге. Василий шел как-то по центральной Советской улице и увидел об этом объявление. Пионерам предлагалось выбрать любой кружок: авиамодельный, литературный, рисования и лепки. И вдруг Василий, не веря глазам, прочитал: «Бокс – желающие заниматься, обращайтесь к товарищу Сиднею Дику». Василий не пошел, а побежал искать этого Дика. Он представлялся здоровяком с перебитым носом и бугристыми мышцами. И каково же было разочарование, когда Сидней оказался маленьким седым старичком, но, правда, с перебитым носом. И еще был он настоящий американец. Во время каких-то соревнований еще до революции приехал с командой в Россию, но в первом же бою в Москве сломал палец и не мог выходить на ринг. «Мухач» большой привлекательности для публики не представляет, без него можно обойтись, и антрепренер, чтобы не тратиться на гостиницу и обратный билет, просто выгнал Сиднея, сказав: «Заработай на возвращение сам. Ты и так мне дорого стоил. Я привез тебя работать, а ты стал балластом».
Сидней устроился тренером на работу в Российскую лигу бокса, его знания там оценили не только профессионально, но и материально. Хорошо зарабатывая, Сидней подумал: «Зачем уезжать – дома мне так платить не будут. Поработаю и вернусь с хорошими деньгами». И заработал бы, но вспыхнула революция. Русским стало не до бокса, драки не на рингах, а по всей стране заполыхали. Сидней не остался в стороне. Классовый инстинкт забурлил и в нем. Сидней в Америке работал на заводе, поэтому записался в интернациональную роту, дошел с боями до Оренбурга, а когда кончилась Гражданская война, осел здесь до лучших времен для возвращения на родину. А потом прижился, завел семью – жену и детей. Работал тренером в «Динамо», а затем вот еще и во Дворце пионеров.
Здесь дети ему и он им пришлись очень по душе. Возился он с ребятами с утра до ночи, был им и другом, и добрым наставником. Вырастил Сидней до войны немало хороших боксеров, даже чемпионов разных соревнований. В том числе и Василия, который выиграл первенство области.
Ни знаменитым поэтом, ни большим чемпионом Ромашкин не стал – помешали не только война, но и события, выпавшие на его долю еще до нападения Германии.
А произошло вот что. В те годы Оренбург назывался Чкалов, в честь легендарного летчика. Было в городе летное военное училище. Профессия военного в те годы была самая престижная. Летчики-командиры в их синей форме, при белых сорочках с галстуком, с золотыми крылышками на рукаве покоряли не только девушек, но и юношей. Не был исключением и Василий. Написал первый в своей жизни рапорт с просьбой допустить к экзаменам и принять в училище. Допустили. А экзамены конкурсные: восемь желающих на каждое место. Василий преодолел это препятствие легко – в школе хорошо учился да и готовился специально к сдаче каждого предмета. Сдал он все, что полагалось, на «отлично», но вдруг врачи обнаружили, что правый глаз видит на одну сотую слабее левого. Это для летчика недопустимо. Зачем брать такого, когда есть восемь человек на место – с полноценным зрением.
Но сжалились члены комиссии над парнем, который так успешно сдал трудные экзамены, к тому же спортсмен, командир из него получится хороший, предложили Ромашкину поступать в пехотное училище, куда он со своим зрением проходит.
Василий посоветовался с отцом, тот, как всегда, немногословно ответил: «Смотри, тебе служить». Мать запорхала вокруг него, понимая огорчение сына, утешала: «И пехотный офицер – тоже хорошо. Вон мой брат Сережа был пехотный, а какой красавец! Усы отпустишь, будешь бравый капитан».
Стать военным очень хотелось, поэтому Василий согласился с предложением комиссии. Ближайшее к Оренбургу пехотное училище находилось в Ташкенте, в него и направили Ромашкина.
Два года учебы промелькнули быстро. Василий окреп, загорел под азиатским солнышком. Продолжая тренировки в боксе, достиг высоких результатов: стал чемпионом Среднеазиатского военного округа в среднем весе. И с поэзией дело продвигалось: стихи Василия печатали в окружной газете, редактор ее, опытный журналист, полковой комиссар Федоров советовал не оставлять стихи, даже когда станет командиром.
В училище Ромашкин был местной знаменитостью: у всех на виду как чемпион и как поэт. Начальник училища генерал Иванов (два ордена Красного Знамени за бои в Гражданской войне) отмечал Василия благодарностями, грамотами, ценными подарками, не раз приглашал к себе в кабинет, расспрашивал о планах, давал добрые советы в будущей службе, даже намекал на то, что может оставить его после окончания командиром курсантского взвода.
Выпуск намечали приурочить ко Дню Красной армии – 23 февраля 1940 года. Выпускникам заранее шили комсоставскую форму: гимнастерки и шинели. Василий на примерке смотрел на себя в зеркало, и сердце его замирало от предвкушения радости мамы и папы, когда они его увидят в этом блеске. Мелькали самонадеянные мысли и о том, что девушки тоже (особенно Зина!) будут на него посматривать благосклонно. Да как же им не залюбоваться: здоровый, плечистый, загорелый, два рубиновых кубаря на малиновых петлицах с золотой окантовкой, на рукавах малиновые шевроны, опять же с золотыми галунами, ремень комсоставский, с латунной пряжкой, на которой сияет, как солнышко, звезда. При малейшем движении ремень поскрипывал с обворожительной солидностью, ну и сапоги хромовые, комсоставские тоже скрипели добротной кожей, правда, сапоги еще были складской бледности, но Василий знал, как только он их получит – начистит до зеркального сияния.
Казалось, все складывалось прекрасно, и командирская жизнь с ее трудной, но увлекательной армейской романтикой для Ромашкина уже начинается.
Но та самая судьба, о которой мы упоминали, распорядилась иначе.
В полночь, когда рота спала здоровым, богатырским сном после напряженных дневных занятий, в спальню вошли трое. Они подошли к тумбочке Ромашкина, вынули из нее тетради и письма, раскрыли вещевой мешок и из него извлекли тетрадь со стихами, которую там хранил Василий. Затем капитан со шпалой на петлице тронул спящего за плечо и негромко, чтобы не будить соседей, сказал:
– Ромашкин, вставайте.
Василий, ничего не понимая, посмотрел на стоявших перед ним командиров.
– Одевайтесь, Ромашкин, пойдете с нами.
В канцелярии роты все тот же капитан спросил строгим и официальным голосом:
– Ваша фамилия, имя, отчество?
Василий удивился: несколько минут назад капитан называл его по фамилии… Но ответил:
– Василий Владимирович Ромашкин. А в чем дело?
Капитан еще более холодно произнес:
– Василий Ромашкин, вы арестованы. Вот ордер на арест. – Капитан показал небольшой бумажный квадратик. – Понятых прошу ознакомиться.
Василий посмотрел на тех, кого капитан назвал понятыми, – это были физрук училища, старший лейтенант Речицкий и майор из учебного отдела, фамилии его Ромашкин не знал.
– Понятых прошу засвидетельствовать: все бумаги, изъятые при вас, принадлежат арестованному Ромашкину. Распишитесь вот здесь.
Василий даже не волновался, в оцепенении он ждал, что сейчас вся эта фантасмагория кончится и он проснется.
Но дурной сон продолжался.
* * *
Не в «черном вороне», а в обычной легковой эмке Ромашкина привезли во двор дома в центре Ташкента. Не раз проходил Василий мимо этого дома и не подозревал, что в подвале его – тюрьма. Здесь его раздели догола, осмотрели, чтобы не пронес… А что пронесешь, например, в заднем проходе? Но заглянули и туда. Сфотографировали в фас и профиль, с номером на дощечке, которую велели держать на уровне груди. Сняли отпечатки не только пальцев, но и целой ладони. Затем вывели из подвала и направились к какому-то возвышению вроде большой собачьей будки в глубине двора. «Неужели будут держать меня в этом курятнике?» – подумал Василий и тут же смекнул, что это хорошо – в тюрьме не оставили, значит, в этой будке подержат до выяснения, что все это недоразумение, ошибка, и отпустят.
Но предположение Василия тут же разлетелось вдребезги – будка оказалась входом, тамбуром в подземную, так называемую внутреннюю тюрьму. Спустившись в сопровождении молчаливых конвоиров под землю, Василий увидел здесь целое переплетение расходящихся в разных направлениях коридоров. Электрический свет освещал в каждом из них ряды железных дверей.
В подземелье была гробовая тишина. Василия поразило: внутренние охранники ходили в валенках (летом!).
Лязгнула задвижка, щелкнул замок, тяжело отворилась толстая дверь, обитая железом. Василий шагнул через порог, и дверь тут же захлопнулась. И опять лязгнула задвижка и клацнул замок. Тут же откинулось окошечко на середине двери, и дежурный сказал:
– Откинь койку. Ложись до утра. Днем спать не положено.
Камера была маленькая, над дверью за металлической решеткой горела яркая лампочка. Она освещала побеленный квадрат, что-то вроде внутренности контейнера – четыре шага в длину, два – в ширину, к стене прикреплена откидная полка, как в железнодорожном вагоне, у двери маленькая параша, накрытая ржавой крышкой. Больше ничего в камере не было. Поскольку все это находилось глубоко под землей, в левом верхнем углу было отверстие с кулак шириной. «Чтобы не задохнулся», – догадался Ромашкин.
Он отстегнул полку, которая ударилась о бетонный пол двумя откинувшимися подпорками. На койке были матрац без простыней, подушка в серой застиранной наволочке и армейское одеяло, такое же, каким накрывался в училище, только старое, потрепанное.
Не раздеваясь, Василий лег. Собрался спокойно все обдумать, прикинуть, что же произошло, за что его арестовали. Но сколько он ни перебирал в памяти свою жизнь за последние годы, ничего преступного, наказуемого вспомнить не мог.
Мешала думать яркая электрическая лампочка над дверью – она светила прямо в лицо. Ромашкин повернулся к стене и натянул одеяло на голову. Тут же клацнуло окошечко в двери, и надзиратель строго сказал:
– Ложись на спину, лицо закрывать не положено.
«Неужели он постоянно наблюдает за мной? – подумал Василий. – Не может быть, сколько же их надо, чтобы следить за каждой камерой? Ага, вот почему они в валенках! Подходят неслышно к волчку и периодически заглядывают».
Заснуть Василий так и не смог. О том, что настало утро, он понял по команде:
– Закрыть койку, приготовиться на оправку.
Его сводили в тюремную вонючую уборную, там же было несколько ржавых, оббитых, когда-то эмалированных раковин, над ними такие же старые ржавые краны. Запах застоявшейся мочи тянулся до середины длинного коридора. И даже в камере Василий чувствовал, что этой вонью пропиталась его одежда.
Ромашкин ждал допроса, чтобы наконец выяснить, за что его упекли в это подземелье. Но прошел день, а его не вызывали. Прошел и второй, и третий день, а допроса все не было. «Куда они подевались? – удивлялся Василий. – Неужели можно держать так долго невинного человека?»
У него затекли не только ноги, но и все тело от повседневного стояния или тыканья от стены к стене – четыре шага туда и четыре обратно. Днем лежать не разрешали.
На пятый день Василий постучал в дверь и, когда охранник открыл окошечко, сказал:
– Когда же меня вызовут на допрос? Забыли, что ли?
– Это не наше дело. Вызовут, когда надо будет.
– Так вы скажите им. Надо же разобраться. Мне госэкзамены надо сдавать.
Охранник ухмыльнулся.
– Экзамены для тебя уже начались. Будешь усе и усех сдавать, как положено.
Василий возмущался: «Заколдованный круг какой-то. Даже эта рожа что-то знает. А я не могу понять, что происходит».
Его вызвали через неделю. Провели по коридорам подземелья, затем через двор в то красивое здание, которое выходило фасадом на улицу.
Комната следователя чуть больше камеры, ничего лишнего: письменный стол с настольной лампой, стул для следователя и второй, у двери, для допрашиваемого.
Следователь лет на пять старше Ромашкина, чисто выбритый, холеный красивый шатен, волосы лежат своими, не парикмахерскими волнами. Одет в форму политработника: петлицы без золотой окантовки, на рукавах звезды вместо шевронов. На петлицах три кубаря, значит, его звание – политрук.
Следователь весело посмотрел на Василия и очень приветливо, будто продолжая прерванный разговор, сказал:
– Моя фамилия Иосифов, я буду вести ваше дело. —
И сразу после этого перешел на «ты». – Так за что же тебя, Вася, посадили?
Василий ожидал все, что угодно, только не такого вопроса. Он с искренним удивлением пожал плечами и ответил:
– Не знаю. Я в полной растерянности. Ничего не могу припомнить предосудительного.
– Значит, плохо вспоминал. Или скрываешь. Ну, что же, дам тебе еще недельку, иди, подумай, может быть, вспомнишь.
Василий с ужасом представил: еще неделю в этом вонючем, душном подземелье, он даже встал со стула от волнения.
– Товарищ политрук, вы что, какая неделя, госэкзамены же скоро в училище.
– Садись! Во-первых, я тебе не товарищ, а гражданин следователь, во-вторых, об училище забудь. Это для тебя этап пройденный. Хотя нет, я не прав, об училище ты должен все хорошенько вспомнить и откровенно рассказать мне о своей преступной антисоветской деятельности.
Василий даже улыбнулся – наконец-то проясняется!
– О какой антисоветской деятельности вы говорите, товарищ… гражданин следователь, я что, враг, что ли? Вы меня с кем-то перепутали. Давайте побыстрее разберемся, и отпускайте меня. Надо же такое придумать – антисоветский деятель! Нашли врага. Я же комсомолец. Меня не только наша рота, все училище знает. Генерал несколько раз награждал. Нет, вы что-то путаете!
Следователь добро посмотрел на Ромашкина и доверительно молвил:
– Я и так тебе кое-что лишнее сказал. Не я тебе, а ты мне должен говорить о своих преступных делах. Открытое признание облегчит твою участь. Иди, подумай и вспомни все хорошенько. А главное, не запирайся. Ты должен понять – если ты здесь, значит, нам все известно.
Следователь вызвал конвоира и коротко приказал:
– Уведите.
Ромашкин от порога обернулся и с надеждой попросил:
– Если вам все известно, так давайте об этом говорить. Что известно? Я не чувствую за собой никакой вины.
– А ты, оказывается, хитрее, чем я думал. Значит, будем говорить о том, что нам известно? А о том, что нам пока не известно, ты будешь помалкивать?
– Да скажите наконец, в чем моя вина! – не выдержал и почти крикнул Ромашкин.
Следователь по-прежнему добро улыбался и ответил с укоризной:
– Не шуми, у нас шуметь не принято. Иди и думай. Время на размышление я тебе дам.
И дал. На следующий допрос Ромашкина привели через десять дней. Чего только не передумал Василий за эти казавшиеся годами долгие дни в подземной гробовой тишине. Как ни странно, от тишины у него стала появляться ломота в ушах. Выхода из камеры на оправку, раздачи баланды и хлеба он теперь ждал, как приятного отдохновения. Появлялись охранники, начиналось какое-то движение.
Ромашкин еще раз перебрал всю жизнь в училище и не мог найти никакого криминала в своем поведении. Мысленно перечитал свои стихи, напечатанные в окружной газете «Фрунзевец». Ни одного предосудительного слова в них нет. В тех, которые не опубликованы, кое-что может не понравиться. Но они записаны в тетради, и читал их Василий только в узком кругу приятелей, в классе во время самоподготовки или вечером перед сном, когда лежали в постели.
Может быть, стихотворение о Ленине они имеют в виду? Но в нем теплая любовь к Владимиру Ильичу и сожаление, что в наши годы забывают. Неужели кто-то из курсантов донес? В стихотворении говорилось только о Ленине, но после прочтения его ребятам он добавил: «Зачем Ленина заслонять Сталиным? Он в годы революции не был вторым после Ильича деятелем в партии. Были покрупнее него». Наверное, болтал еще что-нибудь в таком же духе. Значит, были во взводе стукачи. Ромашкин перебрал всех друзей, вспоминал их лица, поступки, кто как к нему относился, какие задавал вопросы. Ни одного похожего на стукача не выявил, все ребята нормальные, настоящие друзья, все уважали его, даже гордились, что в их взводе чемпион и поэт. Может, из зависти кто-то хотел напакостить? Непохоже. Все парни – искренние однокашники, друзья на всю жизнь.
Обнаружив некоторую вину в своих стихах, Ромашкин на следующем допросе сам высказал это предположение следователю. Тот стал еще добрее.
– Молодец, додумался наконец до того, в чем надо признаваться. Значит, говорил о товарище Сталине оскорбительные слова?
– Нет, что вы! Наоборот, я говорил о Сталине уважительно, что он много добрых дел совершил и ему не надо приписывать то, что сделал Ленин.
– Хорошо. А теперь скажи, зачем ты заводил разговоры, порождающие сомнения в деятельности товарища Сталина?
Ромашкин честно ответил:
– Не было у меня никаких замыслов.
– Э нет, так не бывает! Вот представь, ребенок берет лопаточку и идет к песочнице. Зачем? Копать. Так это ребенок, а ты курсант, выпускник, почти командир. Не может у тебя быть такого – «не думал». Думал! А теперь признавайся, зачем ты вел пропаганду, оскорбляющую вождя народов?
Ромашкин понимал, удавка затягивается все туже, и, самое обидное, не мог ничем возразить логике следователя. Он прав, не мог Ромашкин жить и поступать бездумно.
– Хорошо, гражданин следователь, я признаю, говорил такие слова о Сталине. Но политического, антисоветского умысла у меня не было. За слова готов отвечать, виноват.
– Ишь, как у тебя все просто – «поговорил, виноват», и делу конец. Нет, милый мой, сомнения, которые ты вызывал у людей, оставались в их памяти. Порождали неуверенность.
А может быть, те, кто тебя слушал, делились своими сомнениями с другими? Цепная реакция получается. А разве можно допустить утрату веры в наши советские идеалы среди будущих командиров? Среди тех, кто эти идеалы должен защищать с оружием в руках? Вот поэтому мы тебя, Ромашкин, и арестовали, что нельзя допустить такую разлагающую антисоветскую пропаганду в армии.
Ромашкин был подавлен и раздавлен этими словами Иосифова, но тихо и настойчиво повторял:
– Не было у меня таких намерений. Не было. Что хотите со мной делайте. Не вел я антисоветской агитации. Просто говорил, без злого умысла.
– Опять отпираешься. Может быть, тебе про ребенка с лопаточкой напомнить? Не юли, признай свою вину, и оформим протокол.
Ромашкин только сейчас обратил внимание: на всех предыдущих допросах следователь не оформлял протоколов. Вел вроде бы простой предварительный разговор. «Готовил меня. Ждал, пока созрею. Когда одиночка, неизвестность доведут меня до состояния необходимой ему сговорчивости, чтобы признал свою вину, подписал протокол, и дело завершено. Он меня и в одиночке держал, чтобы другие, более опытные арестованные не научили, как вести себя на допросах».
А следователь, будто читая его мысли, тут же опровергал предположения Ромашкина, проявляя еще большую доброту:
– Ладно, поверю тебе. Ты сам не мог прийти к таким широкомасштабным сомнениям. Значит, кто-то навел тебя, натолкнул на эти мысли. Ты редактору газеты, полковому комиссару Федорову эти или похожие стихи читал? Что он сказал о них? Каково его мнение?
Ромашкин старался припомнить свои беседы с редактором, но на политические темы он никогда не говорил.
– Федорову читал стихи по его просьбе, не только те, которые печатал, но и другие.
– Вот видишь, – подхватил следователь, – были задушевные беседы. Ну и что он говорил о Сталине?
– О Сталине ни разу не упоминал. Слушал мои стихи. Хвалил. Или подсказывал, где рифма слабая или я с ритма сбиваюсь.
Политрук стал строгим.
– С ритма у него ты, может быть, и сбивался, а у меня не собьешься. Иди и вспоминай, о чем с тобой говорил полковник Федоров. Ты его не выгораживай, тебе же легче будет. Ты курсант, с тебя спрос невелик, а он полковник, главный редактор газеты, у него масштабы не то, что у тебя. Понял? Иди и думай. Думай хорошо, Ромашкин. Твоя судьба решается.
Думал, перебирал Василий не только прошлое, но и настоящее. Каждый вопрос следователя и свой ответ тщательно проанализировал. Получалось, Иосифов относится к нему доброжелательно. Даже облегчить вину хочет, намек на полковника не случаен. «И действительно, что я для них? Нашли врага – курсанта, сцапали. Невелика заслуга».
И вдруг Ромашкина осенило: «Им же громкое дело надо создать. Я действительно мелочь, а вот если Федорова пристегнуть или еще кого-нибудь, получится целый заговор. Честь и хвала Иосифову – такую вражескую группу разоблачил!»
Василий слышал об арестах по ночам еще в Оренбурге, ходили разговоры о том, что забирают много невиновных. Не верилось тогда – как можно брать ни за что? В чем-то все же виноваты те, кто в НКВД попадает, зря не возьмут, не может быть такого.
И вот теперь Ромашкин сам угодил в такую же историю. Он понимал, что полностью невиновным себя считать не может: болтал, было дело, но о последствиях, о которых говорит следователь, не думал: «Разложение армии, зародить сомнение у командиров! Надо же такое придумать! А с другой стороны, следователь вроде бы прав. Это я не думал о таком разлагающем влиянии моих разговоров, но объективно Иосифов прав – разговорчики эти приносили вред».
Но, понимая теперь, что виноват, Ромашкин все же считал слишком суровым арест, сидение в этой страшной подземной тюрьме, что его болтовне придают такое большое политическое значение. «Вызвал бы наш политрук роты или на комсомольском собрании продраили, и никогда бы я больше не болтал, учел бы горькую науку. А теперь, наверное, будут судить. Сколько же мне дадут за такие разговорчики? Да, жизнь сломана. Не стал я командиром Красной армии. А что сейчас дома происходит? Мама и папа, наверное, уже знают об аресте. Что они думают? Теряются в догадках – что я натворил? Как же выпутаться из этой истории? Следователь советует ослабить свою вину ссылкой на кого-то, кто натолкнул на критические суждения. Но, во-первых, Федоров на такие мысли меня не побуждал, очень умный, образованный журналист – помогал мне разобраться в технике писания стихов. Все разговоры с ним шли только о литературе».
На очередном допросе, несмотря на настойчивость Иосифова, Ромашкин отклонил его предположения и даже предложение сделать редактора причастным к антисоветским разговорам.
Тогда следователь поразил Ромашкина еще более нелепым вопросом:
– А может быть, генерал Иванов тебя склонял на свою сторону в таких рассуждениях? Ты у него бывал. Он с тобой беседовал каждый раз не меньше часа. Что он говорил о недостатках в нашей армии, кого-то осуждал, наверное, кто-то ему не нравился?
Ромашкин с облегчением отвечал на это совсем фантастическое предположение:
– Ну что вы! Будет генерал со мной о политике разговаривать! С какой стати. Тем более что-то критическое высказывать. Вы же знаете, он в боях за советскую власть воевал, два боевых ордена получил. Он сам любого за какие-нибудь разговорчики против советской власти возьмет за шкирку.
Иосифов настаивал:
– Для маскировки враг может вести правильные разговоры и совершать хорошие поступки. Для маскировки! Ты все же припомни все детали ваших бесед. Может быть, ты сразу и не обратил внимания, а он на что-то намекал, тебя прощупывал? Я не случайно об этом говорю, у нас есть данные, что у генерала Иванова нездоровый душок проявляется. Иди. Вспоминай все тщательно, до самых тонких тонкостей.
И опять шли дни. Вспоминал Ромашкин то, чего не было. Мучился и страдал из-за гадкой неопределенности, из-за липкой паутины, которой обволакивал его следователь. Василий уже понимал: из этой истории ему не выпутаться. Он был готов понести наказание, но только за себя. От желания следователя сколотить группу он ускользал, не давал нужных Иосифову улик. Ромашкин поражался: оказывается, надо совсем немного, чтобы погубить человека. Вот сказал бы одну неосторожную фразу или по совету следователя решил бы отодвинуть себя на второй план, спрятаться за редактора или начальника училища; одна фраза – и они погибли бы! Даже не верилось такие крупные личности – редактор окружной газеты, генерал, герой Гражданской войны, и какой-то энкавэдэшный политрук Иосифов ни за что может сломать их судьбу ради того, чтобы самому выдвинуться, показать свое служебное рвение, прибавить себе авторитета, а может быть, заслужить награду за разоблачение «крупной антисоветской организации».
А Иосифов между тем начинал нервничать. Время шло, а дело с созданием группы не продвигалось. Начальство уже не раз упрекало его в медлительности: «Пора, пора кончать с этим курсантиком, нечего с ним миндальничать. Насиделся, наверное, в одиночке. А будет упорствовать… ну, вы сами знаете, что делать…»
– Ну что же, Ромашкин, будем, как говорится, подбивать бабки. – Иосифов положил на край стола бумаги. – Читай и подписывай последний протокол и будешь ждать заседания трибунала. Я надеюсь, дадут тебе немного, лет пять, учтут откровенное признание и желание помочь следствию. Иди сюда. Бери свой стул. Садись, читай.
Ромашкин читал ровные, четко написанные строки, у Иосифова был хороший почерк. Написано ясно, понятно, никаких завитушек. Но смысл написанного просто ошарашил Василия. Он не верил своим глазам. Протокол фиксировал не только то, что брал на себя Ромашкин, но и выводы следователя, высказанные в предварительных беседах, о том, что он «умышленно проводил антисоветскую агитацию с целью разложения командного состава армии».
Дальше было записано, что Ромашкин не подтвердил на допросах, будто генерал Иванов и полковой комиссар Федоров пробуждали в нем антисоветские настроения.
Ромашкин с изумлением, вопросительно посмотрел на Иосифова, тот понял его.
– Подписывай, тебе же легче будет, меньший срок получишь.
Но Ромашкин понимал – это только начало еще больших мучений. Федорова и Иванова арестуют. Начнутся очные ставки. Какими глазами он посмотрит на этих уважаемых людей, даже если не подтвердит вот этих ложных показаний?
Отодвинув бумаги, Ромашкин твердо сказал:
– Я этого не говорил и подписывать не буду.
Иосифов вскочил, глаза его стали свирепыми, он закричал:
– Ах ты, курва антисоветская! Я тебе хотел помочь, а ты упираешься! Подписывай!
– Не буду, – буркнул Василий.
И тут же Иосифов с размаху ударил его по лицу.
Ромашкин не успел сообразить, что произошло, боксерская реакция сработала мгновенно: на удар он тут же ответил хуком в челюсть, и следователь упал, опрокинув свой стул.
Иосифов лежал неподвижно. Точным ударом Ромашкин его нокаутировал.
«Что же я натворил! – растерянно думал Василий. – Теперь мне еще попытку побега припишут».
Чтобы этого не произошло, сначала хотел позвонить по телефону, вызвать конвоира, но не знал номера телефона. Понимая, что в каждом военном учреждении должен быть дежурный, Ромашкин открыл дверь в коридор и стал громко звать:
– Дежурный! Дежурный!
Сначала появились работники из соседних комнат.
– В чем дело?
И тут же действительно по коридору прибежал дежурный с красной повязкой на рукаве.
– Со следователем что-то. Ему плохо, – сказал Ромашкин, показывая на ноги Иосифова, торчавшие из-за стола. Про себя решил: «Не буду говорить о том, что случилось, он погорячился, а я машинально ответил. Уладим сами этот инцидент».
Ромашкина отвели в бокс, их было несколько в этом здании. Ряд железных дверей, за которыми бетонный мешок метр на метр, здесь арестованных содержали, если случался перерыв в допросе или по каким-то другим надобностям.
Пришли за Ромашкиным минут через тридцать. Его отвели в комнату Иосифова. Он стоял за своим столом, бледный, с хищным выражением лица.
На принесенных в комнату дополнительных стульях сидели еще трое – двое в форме, третий в гражданском.
Василий понял, что затевается. Решил: «Если будут бить – отвечу! Этих троих без особых хлопот уложу!»
Иосифов показал на бумаги.
– Будешь подписывать?
– Нет, – твердо ответил Ромашкин и, поскольку терять уже было нечего, добавил: – Ты это сочинил, ты и подписывай!
– Ах ты, ублюдок! Читай. Там кое-что поправил.
Когда Ромашкин склонился над протоколом, его ударили чем-то тяжелым по затылку. Энкавэдэшники правильно предположили: им и втроем не справиться с чемпионом округа.
Ромашкин упал, и его принялись месить сапогами, пинали, били каблуками в грудь. Иногда от очень резкого удара по почкам у Василия лиловыми проблесками мелькали перед глазами комната и суетящиеся вокруг него следователи.
Потом он ничего не помнил. Очнулся от холода в тюремной бане. Холодные струи текли на него сверху. Он лежал в одежде, которая пропиталась водой. Бил мелкий озноб. Василий попытался отстраниться от холодных струй, но резкая боль во всем теле опять затуманила сознание. Придя в себя, он еще раз попробовал избавиться от льющейся сверху ледяной воды; перевернулся со спины на живот, потом с живота на спину. Отдышался, пересиливая боль. Увидел снег за выбитым стеклом небольшого окна под потолком. «Замерзну. Неужели так просто умру? Ах, сволочи, как легко и безнаказанно убивают человека. Спишут как попытку к побегу или сердечный приступ. Даже Ривера после тяжелого боя со зверем Денни не был таким мешком с костями, как я. Наверное, никого еще так на ринге не разделывали».
Ромашкин осмотрелся, увидел батарею парового отопления – пыльная, с облупившейся краской, она была неподалеку. «Отопление в тюрьме общее, наверное, она теплая», – подумал Василий и, превозмогая боль, пополз к батарее. Она действительно была теплой. Василий прижался к ней сначала спиной, потом животом. Таким образом стал отогреваться.
Лязгнул запор, и в баню вошли двое охранников. Один из них, увидев Василия прижавшимся к батарее, воскликнул:
– Смотри, что придумал, гад!
Подошел, спросил:
– Ну, сам пойдешь или помочь?
– Сам, – ответил Ромашкин и попытался подняться, но резкая боль словно током ударила изнутри, и он потерял сознание. Приходя в себя, ощутил, что его волокут за ноги вниз, в подземелье, и он стукается затылком о ступени лестницы.
Он узнал дверь своей одиночки. «Вот я и дома, слава богу, хоть отлежусь».
Через раскрытую дверь охранники швырнули его на бетонный пол камеры.
Даже койки не опустили. Ромашкин прикидывал, сможет ли сделать это сам. С большим трудом, порой теряя сознание от боли, он отстегнул полку. Но как только Василий лег и вздохнул с облегчением, раскрылось окошечко в двери, и коридорный сказал:
– Встать. Днем койка должна быть убрана.
– Я не могу двигаться, – ответил Василий.
– Поможем, – сказал охранник, открыл дверь, сбросил Василия на пол и пристегнул полку к стене.
Вечером полка откинулась от стены, отшвырнув Василия к параше. Он отдышался и все же заполз на свое строптивое ложе.
На очередной встрече Иосифов коротко сказал:
– Или подпишешь, или сдохнешь.
Ромашкин ответил так же коротко и решительно:
– О том, что я говорил, подпишу. На Федорова и генерала клеветать не буду. Сдохну, но не подпишу.
Большие неприятности имел Иосифов из-за Ромашкина. Не за то, что избивал его, это было здесь обычным делом. Не справился с пацаном, не сломал его, не выбил показаний, так необходимых для создания громкого дела.
Василий после еще нескольких допросов «с пристрастием», так и не подписал поклепов на других.
Больше полугода провозился следователь со строптивым курсантиком, заговор создать не удалось.
После завершения следствия Ромашкина перевели в общую камеру. Она находилась в этой же тюрьме, здесь ждали суда шестеро арестованных. Камера небольшая, вдоль стены общие нары, на них лежат ветхие серые матрацы. Обитатели камеры сидели на нарах, опустив ноги в проход. Все они были небритые, худые и бледные. По возрасту старше Ромашкина, по одежде – гражданские.
Ромашкину указали на свободный тюфяк.
– Располагайся. Рассказывай, кто ты, за что сюда угодил.
Василий коротко поведал свою недолгую жизнь и в чем его обвиняют.
Сначала все сокамерники показались одинаковыми, потом он стал их различать по цвету щетины: у одного жесткая, седая, торчит, как патефонные иголки, у другого – рыжая, густая, третий – тоже пожилой, борода с белым, алюминиевым отливом.
Утомленный разговорами с новыми знакомыми и довольно долгим рассказом о себе, лег на нары – в общей камере не запрещалось спать днем.
То ли он спал недолго, то ли еще не успел глубоко погрузиться в сон, в общем, был в состоянии мягкого теплого погружения, когда вдруг услыхал негромкий разговор о себе. Сон отлетел, Василий, не открывая глаз, прислушался.
– Жалко парня, совсем молоденький и, видно, толковый. Да и собой хорош, – говорил пожилой, в серебряной щетине.
Ему вторил рыжий:
– Да, вышка ему светит неотвратимо.
– А может быть, найдут чего-нибудь смягчающее?
– Кто? Трибунал найдет! От нас сколько на гражданский суд ушли из этой камеры? И половина получила вышку! За треп! Разговорчики, пропаганду вел? А этот где пропаганду вел? В армии, разлагал вооруженные силы. Нет, вышка ему, точно, светит.
Собеседник, которому явно было жаль Василия, искал смягчающие обстоятельства – молодой, по сути дела, рядовой, болтал в узком кругу друзей. Но, помолчав, и сам неожиданно пришел к выводу:
– Ты прав – расстреляют. Трибунал даже в мирное время не пощадит, к стенке поставит. Тем более за разложение армии.
Василий слушал этот разговор сначала спокойно, будто говорили не о нем, но когда соседи замолкли и смысл их слов дошел наконец до сознания, стало не по себе – сначала жарко, потом холод сдавил сердце, стало трудно дышать. Василию нечем было даже мысленно возразить тому, что он услышал, все правильно и объективно оценили соседи: и беспощадность трибунала, и особую его строгость, и, главное, тяжесть преступления – разложение армии! Да, расстрел неотвратим.
Как неожиданно все перевернулось – недавно примерял командирскую форму, которую шили выпускникам училища, любовался на себя в зеркало, мечтал о работе в войсках, о радости, которую принесет родителям. И вдруг все рухнуло! Оказалось, от счастья до расстрела – один шаг!
Как перенесут и вынесут такую весть мама и папа? Ну, отец – мужчина, перестрадает, а мать едва ли… Василий почувствовал, как слезы потекли по щекам. Он натянул одеяло на голову, чтобы никто не видел, что он плачет. За время пребывания в тюрьме Василий плакал первый раз, даже когда избивали, не расслаблялся, а вот теперь, перед расстрелом, не выдержал: жалко было не себя, а маму…
Заседание Военного трибунала Среднеазиатского военного округа проходило в большом пустом зале. Трое судей сидели за массивным столом, их лица показались Василию такими же каменными, как бюст Сталина, который возвышался за их спинами.
В пустом зале слова обвинителя и судей рикошетили от высоких стен и били по Ромашкину, как жесткие хлысты. Он стоял, одинокий, в этой величественной, государственной судебной махине и в последнем слове, понимая свою полную обреченность, кратко сказал:
– Я признаю, говорил то, в чем меня обвиняют, но делал это не умышленно, просто так, как в обычном разговоре.
Василий даже не просил снисхождения или учесть какие-то смягчающие его вину обстоятельства, махнул безнадежно рукой и сел на скамью.
После недолгого совещания в соседней комнате судья все так же строго и холодно отчеканил слова, которые отскакивали от стен пустого зала. Перечислив еще раз всю вину и указав наказание, положенное по статье 58.10 за эти деяния, судья произнес роковые слова:
– Высшая мера – расстрел.
Ромашкин отнесся к приговору спокойно, потому что заранее был готов к этому и понимал, что иного быть не могло.
Но судья, сделав паузу, продолжил:
– Но, учитывая… – дальше он перечислял, что именно учитывалось, но Ромашкин не понимал его слов, не улавливал их смысла, в голове все закружилось, заметалось, и в этом вихре выплескивалось только одно – жив! Оставили жить!
Расстрел заменили на десять лет, но это уже прозвучало как благо!
После суда Ромашкина отправили в городскую тюрьму. Затем последовала пересылочная тюрьма, здесь тысячи осужденных были заперты в длинных, как скотные хлева, бараках и ожидали формирования эшелонов.
Эшелон, в который попал Ромашкин, был составлен из многих красных товарных вагонов с нарами и зарешеченными оконцами. Две недели тащился эшелон по неведомым для Василия просторам. Мелькали названия станций и городов, о которых он никогда не слышал. Грохотали тяжелые эшелоны с танками, пушками – все на запад. А Ромашкина везли на восток, через Сибирь. Кормили в пути: пайка хлеба – четыреста граммов (как неработающим) и два ведра на вагон пареной брюквы или кормовой белой свеклы. Воды тоже в обрез, не потому, что ее не хватало: охранники ленились таскать много ведер.
На разъездах били по стенам вагонов огромными деревянными молотками-колотушками: проверяли – не подпилены ли доски изнутри, не готовятся ли к побегу?
Эшелон разгрузили на глухой конечной станции, где, как пели зэки, «рельсы кончились и шпалов нет». Собственно, и станции не было, раздвоенные пути упирались в насыпные бугры. И все – дальше конец цивилизации. Дальше – тайга.
Сибирь встретила холодом, глубоким снегом, дремучей, угрюмой тайгой. От этой удручающей картины Василий, спрыгнув из вагона, замерз не сразу всем телом, а сначала почувствовал, как сжалось и похолодело в нем сердце.
В зоне, за колючей проволокой, занесенные сверху и снизу снегом стояли рядами приземистые бараки. Только ряды окошек выглядывали из сугробов, будто рассматривали вновь прибывших.
После первой ночи в не очень теплом бараке, на голых нарах разбудили звонкие на морозе удары железкой по обрубку рельса. Это означало подъем. Быстро все куда-то побежали, и Ромашкин за ними в общем людском потоке. Оказалось, спешили занять очередь к окошкам, где выдается баланда. Здесь же бригадиры раздавали пайки хлеба. Пока подойдет очередь до черпака баланды, многие успевали умять пайку.
После завтрака построение бригад около вахты для выхода на работу. А там – лесоповал. Что значит валить лес на пятидесятиградусном морозе с рассвета до темна – месяцами, годами… описать невозможно. Скажем коротко: для многих это кончается печально – мороз, голод, непосильная работа превращают человека в то существо, которое очень точно называют сами зэки – доходяга.
Дорога в бандиты
Вторая зима для Ромашкина могла стать последней. У него начиналась цинга. Много ли мы знаем об этой болезни? Обычно считают: при цинге выпадают зубы. Это не совсем так. Начинают гнить десны, отчего во рту появляется сладковатый привкус. Чем пахнут гниющие раны, известно, вот такой запах идет изо рта. Зубы расшатываются, могут выпадать сами собой, дряблые десны их не держат. И еще. По телу пойдут коричневатые пятна. Ходит человек еще живой, но признаки трупа на нем уже появились. Валят его усталость, апатия. В конце концов больной становится мертвым, настоящим трупом. Обычно это случается ночью – заснет зэк, и все, цинга его приласкает, избавит от страданий. Утром по команде «подъем!» все пойдут на построение, а те, кого приютила цинга, останутся лежать на нарах. Выволокут их к двери, а там стоят сани-розвальни с запряженной в них, покрытой инеем лошадкой. Процедура эта обычная, годами отработанная. Всех, кто не поднялся с нар и не подает признаков жизни, погрузят на эти сани, и побредет лошадка на вахту, к проходной. А там бригады после подсчета выходят из зоны для следования на работу.
У нарядчика на фанерке записано в соответствующие графы, сколько выходят на работу, сколько придурков (обслуги разной) остаются в зоне. А сколько не хватает до общей численности лагпункта на сегодня, должно лежать на этих санях. Когда все цифры сойдутся, бригады под конвоем пошагают к месту работы. А сани с покойниками заскрипят на кладбище. Не на общее, а на лагерное. Там специально выделенная похоронная команда целый день долбит промерзшую землю, заготавливая могилы впрок. Работа в этой команде считается легкой, потому что большую часть дня зэки сидят у костра. Продолбят ломами и кирками жесткую, как бетон, мерзлоту – и к огоньку греться. Главное, мерзлоту пробить – она с полметра, а дальше земля мягче пойдет и работа полегче. Углубляют могилу посменно три-четыре человека. В яме не развернешься. Остальные у костра греются. В общем, блатная работа, не лесоповал… Поэтому никто не хочет потерять такое теплое место. Стараются ладить с конвоем и с доктором. Друг другу поблажки дают. Конвой не требует от зэков, чтобы рыли могилы на положенную глубину. А зэки избавляют конвой и доктора от лишних хлопот. Доктор должен на бумаге зафиксировать факт смерти. Не будет же он холодные трупы брать за руки и пульс прощупывать или на колени вставать и трубку прикладывать: не трепыхнется ли еще сердце в тощей, костлявой груди доходяги?
Доктора избавляет от этой неприятной процедуры какой-нибудь услужливый похоронщик. Он идет с доктором вдоль выложенных в ряд покойников (специально для доктора и учетчика их в такой лежачий строй выкладывают). Учетчик определяет номер умершего и уточняет его фамилию. Доктор заносит в протокол. А факт смерти фиксирует ломом зэк, сопровождающий доктора. Ломом он после легкого взмаха ударяет в грудь трупа, и какие еще нужны после этого подтверждения смерти? Не надо ни пульс искать, ни трубочку к груди прикладывать. Доктору, конвоиру и учетчику эта процедура удобна: никаких сомнений в факте смерти не может быть. Лом с легким хрустом прошибает грудь покойника до самой земли.
Говорят, бывали случаи – замахнется «фиксатор» ломом, а труп глаза раскрывал, просто доходяга в беспамятстве был, когда его волокли в сани и везли сюда, на кладбище. Ну что с ним делать? Назад везти? Это же сколько мороки! На вахте уже зафиксировали: столько-то живых на работу ушло, столько-то мертвых на кладбище вывезено. А теперь что же получится: один или два покойника назад в зону вернулись. Это что же за порядки на лагпункте – живого от мертвого отличить не могут?
И не было ли под видом таких покойников беглецов? Нет, такие сомнения и подозрения начальство не устраивают… И лом на замахе не замирает. Раскрывшихся глаз не замечают ни доктор, ни учетчик. Почти неслышно хрустнет грудная клетка, и лом ударит о землю. И факт смерти, как говорится, налицо.
А совесть у всех чиста – документ оформлен, цифры в лагерной канцелярии сойдутся. Ну а насчет того, что вроде бы труп открыл глаза, никто не знает. А если и знает, кого это колышет? Подумаешь, еще один доходяга богу душу отдал, обычное дело. Сколько их и до, и после этого в землю полегло! Может быть, для него же лучше сделали, избавили от мучений – днем раньше, днем позже…
Печальная такая участь ожидала и Ромашкина. От его былой боксерской прочности почти ничего не осталось. Следователи помесили его сапогами основательно. Почки да и другие органы внутри побаливали. В общем, потихоньку доходил Ромашкин.
Резко переменил существование Василия его величество случай.
Все началось с того, что Ромашкин спас жизнь Серому. Тому Серому, который держал в руках весь лагерь, пожалуй, крепче охраны, он мог одним словом решить судьбу любого зэка. Он был пахан. Провинившихся или по какому-то поводу не угодных убивал не сам. А покуривая самокрутку из махорки в окружении своих приближенных, мог сказать: «Надо убрать такого-то».
И этого достаточно. Кто замочит приговоренного, не важно. Обычно никто не знал исполнителя. Догадывались. Но никогда о своей догадке не говорили. Мокрое дело нешуточное, за такое вышку дают. Догадливого, если он не свой, тоже могли убрать. Серый, конечно, знал, кто замочил, и отмечал его преданность какими-то привилегиями.
Василий был далек от шайки приближенных к Серому. До этого случая пахан, наверное, не знал о его существовании. Василий – простой работяга, или, как их звали блатные, баклан. Да еще и статья у него – политическая.
В тот день зэки пришли с работы, как всегда, усталые, злые. Лесоповал от темна до темна на морозе. В бараке после черпака баланды повалились на нары, не снимая телогреек и обувки. Постели не испачкаешь: ни матрасов, ни одеял нет, спали на голых досках.
Нары двухъярусные. Место Ромашкина на верхнем этаже, там теплее.
Внизу в проходе между нарами стоял железный бак с кружкой, прикрепленной к бачку цепью. В баке хвойный настой. Обычные сосновые и еловые веточки, залитые кипятком.
В лагере гуляла цинга. Чтобы как-то унять ее, делали этот хвойный настой: терпкий, горький, пахнущий дегтем. Противное пойло, не все его пили. Ромашкин пил. Цинга поселилась в нем уже довольно прочно.
Хлебнув целительного пойла, Ромашкин забрался на второй ярус нар, снял бушлат. Под бушлатом у него еще телогрейка. Снял и ее. Обычно телогрейку стелил на нары, а бушлатом накрывался. Тело, задубевшее за долгий день на морозе, расслабилось, охватывала теплая истома. Горячая баланда, которую проглотил по возвращении в зону, грела изнутри и опьяняла, разливая слабость по всему телу.
Наверное, и в этот вечер он мгновенно заснул бы, как это бывало прежде. Но вдруг у бачка с хвойным настоем произошел скандал. Василию сверху хорошо было видно все, что происходило внизу. Двое узбеков (Василий знал их как обитателей своего барака) пили настой хвои. Вернее, один – пожилой – пил, а другой, моложе, усатый, ждал, когда он передаст ему кружку. В это время вошел в барак и подошел хлебнуть хвои Волков. Здоровый, грудастый, плечистый, с перебитым носом, жесткие волосы с обильной сединой, красное с мороза лицо. Глядя на его перебитый нос и несколько шрамов, любой мог безошибочно определить – уголовник. А кличку Серый, как узнал позднее Ромашкин, ему дали не по его фамилии – Волков, фамилий у него было немало. Волков – по последней судимости. Кличка эта с ним шла из молодости. Его так прозвали за не очень большую сообразительность, мозги у него негибкие были – грабил без какой-либо изобретательности, нахрапом. Одним словом, был серый по способностям. Так его определили старые воры того времени. Но с годами накопились судимости, рос авторитет.
И вот теперь он вор в законе – пахан на весь этот лагпункт.
Он, конечно же, не мог ждать, пока будут распивать настои какие-то узбеки.
– Ну, хватит, – коротко сказал Серый и выхватил кружку из рук пожилого узбека, облив его при этом выплеснувшимися остатками настоя.
Пахан склонился к крану, чтобы нацедить отвар, а в этот миг пожилой узбек выхватил из-за голенища нож и ударил этим ножом обидчика почему-то по голове.
Никогда Василий не видел прежде, чтобы глаза сверкали натуральным огнем, как у того старика узбека. Он, видно, был очень вспыльчивый человек. От обиды просто потерял способность здраво мыслить и в крайнем остервенении стал бить ножом по голове Серого. А может быть, он бил по голове потому, что у склонившегося Серого именно голова как раз была под рукой.
Волков вскинулся, завопил:
– Ты что?!
А узбек все кидался на него, целился и бил ножом в голову. Серый пятился, отмахивался голыми руками. Раз он ухватил нож за лезвие. А узбек, рванув нож, располосовал ладонь Серого. Кровь лилась из ран на голове, брызгала из почти развалившейся пополам кисти.
А узбек замахнулся ножом для очередного удара, и кто знает, куда бы на этот раз он засадил свой нож.
Вот тут Василий и прыгнул сверху на того узбека. Вид хлещущей крови, сверкающий нож, явно гибнущий человек – все это бросило его с нар на руку с занесенным ножом. Он не успел ни о чем подумать. Схватил на лету руку узбека с ножом и вместе с ним рухнул на пол. Рука старика была сухонькая, но крепкая. Ромашкин вывернул ее, и нож выскользнул на пол. Кто-то подхватил и спрятал его. Серый, облитый кровью, стоял в полной растерянности. Его приближенные прижимали тряпки к ранам на голове, старались забинтовать поврежденную руку.
Наверное, кто-то крикнул от двери барака или сбегали на вахту и сообщили о драке. В барак влетели охранники. Они схватили старого узбека и его напарника. Серого не тронули. Он личность в зоне известная. Вохровцы удивленно смотрели на пахана. Уж очень все непонятно было! Если бы кто-то лежал окровавленный у ног Серого, это было бы в норме.
А тут сам высший авторитет в крови и в полной растерянности, такое понять трудно. Узбеков повели на вахту.
Позвали и Василия, как свидетеля. На вахте он оказался необходим и как переводчик. В годы учебы в Ташкенте он запомнил немало узбекских слов. Здесь, в лагере, иногда говорил с узбеками, вставляя слова из их родного языка. Они за это к нему относились по-доброму.
Пока шли на вахту, пожилой узбек шепнул:
– Не говори, что я его резал…
У Василия не было к нему неприязни. Ну, погорячился человек. Тем более Серый сам виноват. Ромашкин даже зауважал этого узбека за то, что сумел за себя постоять.
На вахте старик говорил только на своем языке, заявив, что не знает по-русски. Василий понял его замысел и стал помогать выкрутиться. Переводил, добавляя по своему разумению то, что поможет старику.
– Он простой колхозник, Хасан Булатов, по-русски не говорит.
– Колхозник? А зачем нож при себе носил? Где его взял? Человека чуть не зарезал! За это срок добавят.
Ромашкин глядел в черные, теперь спокойные глаза узбека. Он все понимал, но делал вид, что ждет перевода. Василию и своему другу подсказывал по-узбекски:
– Говорите, что у меня не было ножа. И вообще это не я дрался. Меня случайно замели.
Напарник старика, широколицый усатый здоровяк, забасил:
– Я видел: он не дрался. Он другой, я видел. Я свидетель, он другой.
– А кто ножом бил? Вон кровь на нем…
Усатый продолжал:
– Ой, начальник, там все в крови. Много крови было. Тот человек по бараку бегал, всех кровью пачкал.
Охранники спросили Ромашкина:
– А ты что скажешь – он или не он?
Василий, изображая на лице полную преданность и честность, заявил:
– Нет, это не он. По-моему, те двое вообще не из нашего барака. Поэтому Волков и хотел их прогнать. Чужие те были.
– Так зачем мы этих привели? – Охранники переглядывались.
– Я не знаю. Вы заскочили и взяли этих. Может, ближе стояли…
– Ну, ты не мудри! Если не эти, говори, какие другие?
– Я же сказал, чужие, не из нашего барака те были. Я их не знаю.
Охранник, сидевший за столом, отложил лист, приготовленный для составления протокола.
– Кончай, Петро, у них разве чего-нибудь добьешься. Эти не те. Тех никто не знает. Концы в воду. Давайте ужинать, жрать охота. Гони их к… матери.
И, не дожидаясь согласия, крикнул:
– А ну, выметайтесь!
Когда шли к бараку, узбек сказал:
– Спасибо тебе, не заложил. Булатов добрых дел не забывает. Меня Хасан зовут. А его Дадахан. Он басмач. А я старый вор. Меня еще при царе к виселице приговорили. Но я убежал в Турцию. – Старик расстегнул телогрейку и рубаху, открыл грудь, и Василий увидел красивую татуировку: изогнутые арабские буквы, с точками и завитушками над ними. – Это из Корана. Аллах меня хранит долгие годы от пули, виселицы и болезней.
Сказанное было для Ромашкина очень неожиданным. Он принимал старика за сельского жителя из далекого кишлака, и вдруг он старый вор. Как же теперь Серый с ним встретится?
Убить этого Хасана просто так нельзя, по лагерным понятиям он вор в законе. Воровская компания должна «качать права» и решить, как поступить. Но Серый может отказать в законе какому-то лашпеку, так его покалечившему. Все зависит от степени обиды Серого. Но после того, как его публично полосовали ножом и все видели его растерянность, Василий полагал, Серый не простит. Судьба старика, наверное, уже решена.
В бараке Ромашкина сразу позвали в угол, где было место Серого. У него на нарах матрас, стеганое одеяло и подушка в наволочке.
Серый сидел с забинтованной головой. Кисть руки, все еще кровоточащая, обмотана разорванной простыней. Он поддерживал и прижимал руку к груди, как запеленатого ребенка. Вид у него впервые был не атаманский.
– Ну, что там? – коротко спросил Серый, имея в виду разговор на вахте.
– Поговорили и отпустили. Этот отмазался. Доказал, что не он тебя резал, – ответил Василий.
Серый зло спросил Ромашкина:
– Ну а ты чего же? Ты же все видел.
Василий – не новичок в лагерной жизни, закон в таком случае на его стороне, поэтому, не опасаясь за последствия, ответил:
– Я не стукач. Если человек говорит, что не он тебя резал, я что же, буду его закладывать?
Серый помолчал, подумал и рассудил:
– Ты прав. Обиды не имею. И вообще ты, может быть, мне жизнь спас. Кто знает, куда бы еще он мне свое перо засадил. Садись, потолкуем. Ты кто? По какой статье паришься? Какой срок имеешь?
Ромашкин сел с ним рядом. Несколько парней из постоянного окружения пахана сели: кто на полу у его ног, кто на нары.
Василий стал рассказывать, соображая, как же подать этой компании свою жизнь. Каждый может рассказать свою биографию в зависимости от обстоятельств и того, кто слушает. Человеку обычно хочется произвести благоприятное впечатление. Того же хотелось и Ромашкину. Тем более от этой блатной компании зависело многое, а срок у Василия большой.
– Зовут меня Василий Ромашкин. До судимости жил в Ташкенте…
– Город хлебный. Теплые края. Эх, бывали мы там на воле! – вставил Борька Хруст, конопатый, щупленький, волосы с рыжинкой.
Фамилии его Ромашкин не знал, а кличку – Хруст – слышал. Даже размышлял, почему его так прозвали. Думал, что кличка эта связана с хрустом денег (рубль на жаргоне – хруст). Предположение совпало. Борька не только рублями хрустел, но и чеками и всякими денежными бумагами. В облигациях, например, номера подделывал на выигрышные. На крупные выигрыши не зарился, знал, такие облигации посылают на экспертизу. Он и по небольшим выигрышам, которые выдают без экспертизы, набирал немало денег.
Кличку воры сами себе не придумывают. Кличку дают их друзья. Порой она может звучать даже обидно, однако прозвище прилипает на всю жизнь. Фамилий у вора может быть несколько. Обычно сколько судимостей, столько и фамилий. Каждый раз, попадая в тюрьму, вор называет новую фамилию, чтобы не нашли старые дела и они не обременили бы его положения при новой судимости. Кличка рождается по какому-нибудь самому неожиданному поводу. Словцо сказал не к месту или, наоборот, очень к месту и прилепил его сам себе навсегда. Был в зоне вор по кличке Е-мое. У него чуть не в каждой фразе была эта присказка «Е-мое». Вот и стал он известен среди воров как Витька Е-мое. Или вот Гаврила, который сидел рядом при разговоре в компании Серого. Ему подошла бы кличка Горилла, он похож на нее. Позднее Василий узнал его кличку – Боров. А прозвали его так явно за внешность: он действительно похож больше, чем на обезьяну, на это хрюкающее животное – тело без шеи, голова лежит на жирных круглых плечах. Короткие, как клешни, руки и ноги. Волосы топорщатся, похожие на щетину. Глаза заплыли жиром – вылитый боров.
Не нравилась Гавриле кличка, обижался, когда слышал, что его Боровом называют. Но ничего не поделаешь – прилипло навсегда.
Попадая при очередной посадке в какой-нибудь далекий лагерь, при знакомстве с местной компанией блатных сам предъявлял эту кличку, как удостоверение личности: «Я Гаврила». – «Какой Гаврила?» – «Боров». – «А… слыхали». И порядок. И действительно, слыхали. Дела и клички воров, как своеобразные удостоверения личности, живут среди блатного мира и разносятся по беспроволочному телефону. В дни долгих отсидок в камерах и лагерях времени много, можно вспомнить и рассказать тысячи историй. Причем рассказы эти, как характеристики, порой идут впереди вора. Привезут его на какой-то людьми и богом забытый лагпункт, только представился, кто он есть и как зовется, а там уже его встречают как своего, доброжелательными возгласами: «Привет, Хруст или Боров, подгребай к нашему шалашу». Как говорится, «свой свояка видит издалека».
У Василия клички не было, потому что не уголовник. Судился по не уважаемой среди блатных политической статье – за антисоветскую пропаганду и агитацию.
Как об этом рассказать Серому и его компании? Но и врать нельзя, все равно узнают правду, и тогда будет хуже.
Но этот вечер слагался из счастливых для Василия случайностей. Продолжались они и во время разговора в блатной компании. Как опытный уже лагерный житель, Василий неплохо «ботал по фене», то есть знал блатной жаргон. Поэтому, рассказывая о себе, старался применять слова, близкие тем, кто его слушает. Коротко свою жизнь пересказал, но оттягивал момент, когда надо признаться, по какой статье судился, понимал, тут к нему всякий интерес и симпатия поблекнут. Однако никуда не денешься, они ждут, и наконец он сказал:
– Осужден я по 66-й статье, часть первая, получил червонец.
– Срок солидный, – сказал Борька Хруст. – А об чем эта статья?
Василий не успел ответить, Гаврила Боров, желая, наверное, показать свою образованность, вдруг выпалил:
– Конокрад! Точно! С нами такой же сидел. Коня увел – у него тоже шестьдесят шестая была…
Василий не врал: 66-я статья Уголовного кодекса Узбекской ССР соответствует 58-й по кодексу РСФСР, а пункт первый – пункту десятому. Что и там, и там соответствует проведению агитации в одиночку, а не в группе, не в заговоре.
Когда Боров определил Василия в конокрады, он опровергать не стал.
А тут еще сам Серый подковырнул:
– Лошадник!
Воры заржали.
– А что значит часть первая? – спросил Хруст.
Василий воспользовался их настроением и ответил шуткой:
– Халатность – кобылу украл, а жеребенка оставил. Он матку стал искать и привел легавых туда, где кобыла спрятана.
Громкий хохот был явным одобрением.
– Ну, ты даешь! Правильно тебе влепили за халатность! Соображать надо – жеребенок обязательно мать найдет. И мусора, падлы, тоже сообразили жеребенка выпустить!
Василий, учитывая, что когда-нибудь выяснится его военное прошлое, скрывать не стал, рассказал, что учился в военном училище, чуть-чуть не стал лейтенантом. Он не подозревал, что этим определил себе кличку: и стал с этого вечера Васька Лейтенант. Ну и как конокрада, хоть и не чистой породы вор, но все же вор, тоже приблизили к своей компании. Многое, конечно, зависело от Серого. Он Василия зауважал не только за то, что жизнь спас, но еще и за смелость. Он прямо об этом сказал:
– Лейтенант не сдрейфил, на нож кинулся, а вы, падлы, ни один не помог.
– Да мы при этом не были, – огрызнулся Егорка Шкет. —
Я бы того чучмека пришил не моргнув. – Егорке за тридцать, но ростом мал, поэтому и кличка – Шкет.
– Пришил, – передразнил Серый. – А чего будем с тем чучмеком делать? Лейтенант, ты говоришь, вроде бы старик из ворья?
– Он мне так сказал. Еще до революции, говорит, к повешению присуждали. У него на груди наколка, слова из Корана. Говорит, в Турции сделал.
– Вор забугорного класса, – задумчиво сказал Гена Тихушник. Этот Гена был очень своеобразный тип: внешность его ничем не приметная, в лице ни одной запоминающейся черточки, он – как тень. И говорит как-то приглушенно, слова у него тихие, неживые. При очередном аресте эту свою особенность он применил к фамилии (сам рассказывал). Когда взяли, терять нечего, вот он и дурачился. Дежурный по отделению милиции составлял протокол о задержании, плохо улавливал его тихие ответы и рявкнул: «Ты чего там шушукаешь! А ну, отвечай громче!» Гена голоса не прибавил и так же тихо прошелестел: «А у меня, гражданин начальник, фамилия такая – Шушукин». Так и прошел в последней судимости с такой фамилией.
Но кличку свою Гена получил раньше. Он был опытный «скокарь», домушник, любил курочить квартиры в одиночку, по-тихому. Никто не знал, где поработал Гена: ни те, кого он обокрал, ни воры, с которыми он общался. Вот его и прозвали Тихушник. Он и телосложением был худенький, слабенький, нуждался в покровительстве, вот и притулился к сильному пахану, Серому и был ему в лагере верным прислужником.
– Нехорошо получилось, – подвел итог Серый. – Придется извиняться. Я же не знал, что он вор.
На этом и разошлись. Василий лег на свое место на нарах в хорошем настроении. Думал: «У Серого нехорошо получилось, а у меня во всех отношениях ладно. Теперь мне Хасан Булатов и его узбекская компания будут приятелями. И Серый со своими урками тоже. И то, что я между ними какой-то полезный посредник, и те и другие понимают, не говоря уже о том, что я помог избавиться и тем, и другим от „дела”, которое могли бы завести вохровцы. Хорош был бы вор в законе Серый, который подставил под новый срок старого вора узбека! Или, наоборот, старик узбек пришил бы своим ножом вора в законе Серого. Очень вовремя я прыгнул с нар!»
В общем, не только этот вечер оказался для Ромашкина удачным. Вся его жизнь после этого случая стала поворачивать в новое, полезное для лагерника русло, но в то же время, как выяснилось позднее, русло, чреватое очень многими, опасными для жизни событиями.
* * *
Продолжалась обычная лагерная жизнь с ее однообразной тягомотиной: подъем и бегом в столовую, к окошечку раздачи баланды, черпак в котелке (у кого он есть), а у большинства – литровые железные банки от консервов. Похлебали баланду – и к вахте, на построение. Побригадный подсчет. Дорога в тайгу, враскачку, не торопясь. Холод пробирает до кишок. Только когда лесину валишь, разогреешься: пока подпилишь да свалишь сосну, пот по хребту потечет. А повалил – сучья отруби, тоже по глубокому снегу напрыгаешься. Ну а потом у костра посидеть, отдышаться можно. И так весь день, весь месяц, весь год… А стемнело, пошагали в лагерь. Притопали – уже черно вокруг, только лампочки, окаймляющие зону, тусклыми шарами светят. Опять к окошечку в столовой. Баланды похлебал, пайку доел, если в течение дня удержал за пазухой. Редко такое бывает. Запах хлеба из-за пазухи опьяняет, не удержишься, доешь хлеб еще в лесу. Ну а в зоне поскорее спать, забыться. Ромашкин ложился с тайной мечтой, что приснится кто-нибудь из родных или близких. И снились иногда.
Так вот шли дни однообразной чередой, и оставалось их отбывать до освобождения очень и очень много.
Иногда Серый приглашал Ромашкина в свой угол, здесь вечерами «романы» рассказывал Миша Печеный. Он был по внешности полной противоположностью Серому. Если у пахана с его перебитым носом на физиономии было запечатлено его уголовное прошлое и настоящее, то Миша являл собой тип обаятельнейшего человека. У него мягкие, приятные черты лица, яркие, открытые собеседнику карие глаза. С первых слов он располагает к себе человека. Говорить он великий мастер! Слова у него льются свободно и привлекательно, смысл того, о чем он говорит, убедительный, он сам верит в свои аргументы и другого заставляет верить ему. Миша умело пользовался своим обаянием и красноречием – он мошенник высочайшей квалификации, продавал автомобили, дачи, дорогие дефицитные товары, которых у него не было. Клиенты верили ему безоглядно и вручали крупные суммы денег.
Было у Миши одно слабое место. Может быть, родители в чем-то были виноваты, а может, природа, зная его преступные наклонности, хотела насторожить тех, кто сталкивался с Мишей, такой редкой отметиной («Бог шельму метит»): у него были разного цвета уши: правое обычное, как у всех людей, белое, а левое – сморщенное, как печеное яблоко. Отсюда и кличка – Печеный. Казалось бы, пустяковая отметина, но она приносила Мише крупные неприятности – ее запоминали почти все обманутые «клиенты», а следователи по этой примете находили старые дела Миши. Человек – не машина, новой запчастью ухо не заменишь, так вот и мучился Миша со своим печеным ухом.
У Миши была прекрасная память, он пересказывал почти дословно когда-то прочитанные книги. Василий слышал, как он рассказывал несколько вечеров подряд «Пещеру Лейхтвейса», о захватывающих похождениях разбойников. В свое время читал Ромашкин эту книгу на воле. А теперь поражался, как Миша излагал все подробно, с пейзажами, с переживаниями героев и авторскими ремарками.
Несколько раз приглашал Серый посмотреть игру в карты:
– Посиди с нами, поучись, может, пригодится.
Карты были самодельные. Их делают так: склеивают клейстером (протертый через ткань хлеб) ровно нарезанные бумажные листки, после просушки натирают чесноком, и становятся они скользкие, как атласные. Карточные знаки – буби, черви, пики, трефы – наносят через трафарет. Умельцы искусно вырезают трафареты для королей, дам и валетов. Краска, на все масти черная, делается из сажи: накоптят сажи от подожженной резины (кусок калоши) на дно миски, а потом сажу смешивают с тем же хлебным клейстером, и получается, как типографская краска. Бывали искусники – с помощью марганцовки делали цветные масти.
Играли азартно, с выкриками и стонами. Чаще в очко, стос или буру. Борька Хруст, когда случался перебор или недобор очков, ломал и даже грыз до крови пальцы. У Борова разбухали на шее вены, казалось, при очередном проигрыше они лопнут и его кондрашка хватит. Егорка Шкет сопровождал ставки шутками и прибаутками. Гена Тихушник играл по-тихому, не горячился, редко проигрывал. Мишка Печеный некоторое время не играл, сидел сбоку, болел. Болел мучительно, но в игру не вступал. Однажды он «заигрался» (то есть проиграл все, до трусов), а партнер со странной кличкой Шуба, куражась, делал такие предложения: «Ставлю шкары (брюки) за пуговицу». А пуговицу в случае проигрыша Миша должен был пришить к голому телу.
И проиграл Миша два ряда по три пуговицы. Кровь текла из-под иголок, больно было ужасно. Но не отдать карточный долг еще страшнее, отвергнут от своего круга урки, превратишься в самого обычного доходягу.
Миша, матерясь и рыча, вытерпел, пока ему пришили к пузу проклятые пуговицы. После этого Миша дал зарок некоторое время не играть, боялся «заиграться». Но, наверное, наблюдать за чужой игрой и оставаться в стороне было для него не меньшим мучением.
Говорят, воры во время игры мухлюют. Василий такого не видел. Это очень опасно. Может, они с чужими жульничают, а со своими соблюдают все правила. Даже при подозрении в нечистой игре обиженный да и обидчик хватаются за ножи, и кончается нечистая игра печально. И все же о некоторых (да и о том же Сером) ходил слушок, что он передергивает и при крупном банке у него часто к десятке туз приходит или наоборот. Может быть, Серому просто везло. А впрочем, кто его знает, во всяком случае, за все время, что его знал Василий, он ни разу не был в большом проигрыше. По мелочи бывало. Или день-другой не везло. Но, как правило, он «вантажи держал», то есть был удачлив. Кстати, Серый очень берег свой авторитет и порой вел себя как тонкий делец. Вот хотя бы после драки со стариком вором. Инцидент надо было улаживать официальным извинением перед Хасаном. Но Серый не знал, как это будет выглядеть. Извинение должно быть принесено публично, на разборе, или, как еще называют, на «токовище», когда «качают права». Пахан не знал, как поведет себя старый вор. Может не принять извинения и послать его грубым словом куда-нибудь очень далеко. Предвидя и такой оборот, Серый попросил Василия:
– Ты пойди, потолкуй со стариком, ты по-ихнему кумекаешь. Скажи, что я хочу извиниться. Примет мое извинение при всех ворах или нет?
Василий не знал тонкостей блатных законов и наивно спросил:
– А зачем тебе извиняться? Он же тебя ножом полосовал, а не ты его.
– Нет, Лейтенант, я первый начал – кружку вырвал, оттолкнул его. Я виноват. Был бы простой лашпек, я бы его и за дверь вышвырнул, нет вопросов. А он старый вор, вор в законе, а я его обидел.
Василий побеседовал с Хасаном Булатовым, передал ему намерение пахана. Старик согласился не сразу. Почернело его лицо, видно, вспомнил, как его Серый оскорблял. Спросил Дадахана:
– Как думаешь?
Тот пожал плечами, покрутил ус, ничего не ответил: не считал возможным давать совет мудрому Хасану.
Старик был немногословен и величав:
– Скажи – приду.
Однако Ромашкин, как настоящий посол, добивался большей определенности: придет, но простит ли? Не выкинет ли какой оскорбительный номер? Все может быть. Поэтому уточнил:
– Ты примешь извинения? Помиришься?
Старик глянул на него искоса своим черным, как маслина, оком.
– Сказал, приду, значит, замиримся. Если бы не мирился, не пошел бы.
Дело было сделано. Василий все пересказал Серому. И в один из вечеров состоялся разбор. В другом бараке жил старый больной вор Яков, по кличке Хромой. У него вместо одной ноги был протез, отсюда и кличка. Где он потерял ногу – неизвестно. Кроме этого дефекта, точила его еще какая-то неизлечимая болезнь – то ли открытая форма туберкулеза, то ли скрытая форма сифилиса. Он почти всю жизнь прожил в тюрьмах и лагерях, болезнь была запущена. Был знаменит громкими делами, совершенными в давние времена. Он был полноценный и авторитетный вор в законе. Поэтому его и пригласили вести разбор.
Собрались воры со всего лагпункта. Обитателей барака выгнали – погуляйте часок. Зэки знали, что тут готовится, такое бывает нечасто. Возражать блатным никто не посмел. Все удалились покорно. Василия пригласили не как приблатненного, а как свидетеля, видевшего драку от начала до конца.
Воры расселись на нарах, спустив ноги в проход. Никто не шутил. Говорили негромко. Все усердно дымили самокрутками и папиросами. Яков солидно покашлял и сказал:
– Люди (так воры называют себя в отличие от бакланов)! Два вора в законе погорячились, и один другого обидел.
Очень точно и четко излагал Хромой суть дела: именно один другого обидел, а горячились оба.
– Что скажешь, Серый? – спросил Волкова Яков.
– Я виноват и прошу Хасана меня извинить.
Хасан не спешил с ответом. Оглядел всех присутствующих. Потом, как он это умел, значительно сбоку глянул на Серого и, не торопясь, сказал по-русски:
– Я против тебя зуб не имею.
Все длилось не больше пятнадцати минут. Василия ни о чем не спросили – не было необходимости. Дело было решено по-хорошему. Все были довольны: получили удовольствие от значительности происходящего и своего участия в разборке.
* * *
В феврале сорок первого года, после очередной игры в карты, уже поздно ночью, когда компания разбредалась по своим нарам, Серый сделал Василию знак остаться. Когда все удалились, Серый очень пристально посмотрел Ромашкину в глаза. Он умел так по-особенному пронзить взглядом, от которого человек просто цепенел.
– Скажу тебе, Лейтенант, такое, за что головой отвечаешь.
Ромашкин сразу же хотел избавиться от такой опасности:
– Может быть, не надо…
– Надо, – прервал Серый решительно, – я все прикинул. Ты нам нужен. Устал я от лагерной жизни, пора на волю подаваться. Тюрьма для вора – дом родной. На свободе всегда живешь в тревоге, вот-вот заметут. Даже спишь там неспокойно, что-то брякнет, вскакиваешь – брать пришли! А когда возьмут и дверь камеры захлопнется, вот тут и приходит покой.
Я всегда отдыхаю в камере. Какое дело пришьют, какой срок дадут – для меня не важно. Лишь бы не вышак. А в лагере годик, или сколько захочу покантуюсь и опять на волю погулять, баб пощупать, водочки вдоволь попить, жратвы хорошей от пуза поесть, шмотки поносить настоящие, в бане с веником попариться, в постели чистой поспать. В общем, время пришло. Устал я здесь жить, на волю пойду. И ты, если хочешь, пойдем со мной. Я тебе верю, ты верный человек.
– Я не думал об этом. За побег срок добавят, – невпопад ответил Василий.
– А мы побежим так, что не поймают. Я все обмозговал. Долгие ночи лежал вот здесь, в своем кутке, и вычислял. И получается – теперь мне надо уходить не в город, а в тайгу. Потому что это, видно, в последний раз. Накопилось у меня и судимостей, и делишек столько, что если завалюсь – вышак светит. Вот и решил я – подберем хорошую компанию и рванем в леса! Тайга, она укроет. На тысячи километров простор. Там, говорят, есть и по сей день поселения белогвардейцев и лихих в те годы отрядов, которые, спасаясь от красных, ушли в глухомань и живут там, промышляя охотой, рыбалкой, да и огороды разводят.
– Они ушли с оружием, патронами, было чем охотиться…
– Верно говоришь. И мы уйдем с оружием. – Он помолчал, понимая ответственность того, что доверит. – Будем вахту брать. Всю смену снимем – вот тебе и оружие. А те, что на вышках, не трекнутся, все по тихой сделаем.
Василий похолодел. Серый слов на ветер не бросает, если говорит, это не треп, дело решенное. Действительно, все обдумал и рассчитал. Но Ромашкину это ни с какой стороны не подходит. Он не собирался заделываться профессиональным бандитом. Надеялся наладить жизнь после освобождения.
Серый будто читал его мысли, наверное, это было нетрудно по озабоченной физиономии собеседника.
– Ты не сомневайся, с нами не пропадешь. На гражданке тебе все равно жизни не будет. Срок отсидишь, уже немолодой выйдешь. Армия для тебя накрылась. А чего ты еще, кроме службы, умеешь? Лошадей воровать? И то плохо – срок вот получил.
А нам ты, как военный, нужен во как! – Он чиркнул себя ладонью по горлу. – В тайге, я же говорил, беляки могут встретиться, да и мы в тайге не наглухо засядем, будем выходить иногда, налеты делать: запасы на зиму надо будет заготовлять. В таких делах твоя военная голова очень пригодится. А парень ты с мозгой. Вот мы с корешами и решили тебя позвать в компанию.
Видя на лице Василия растерянность, Серый стал заманивать:
– Ты не думай, мы не станем жить, как какие-нибудь староверы в скитах. По липовым ксивам даже на курорты ездить будем. В налетах баб хороших заберем с собой в тайгу, женами сделаем. А захочешь, целый гарем заведешь. Ха-ха! Слыхал про Стеньку Разина и про княжну поют: «И за борт ее бросает в набежавшую волну!» В тайге ты вольный человек – как хочешь, так и поступаешь.
Загибал пахан. Василий уже знал лагерные законы. Разговоры о блатной романтике – чепуха. В блатном мире строжайшая диктатура: всюду хозяин пахан – в бараке, в лагере, в тюрьме, – везде свой владыка. И в тайге будет Серый помыкать, как ему вздумается.
Понимал Василий и то, что говорит пахан, с одной стороны, предложение, а с другой – приговор. Если откажется, замочат как можно скорее. Доверить подготовку такого крупного побега, судьбу всей шайки и не знать, как человек распорядится тайной, – тут двух мнений быть не может: надо, чтобы посвященный надежно замолчал, а среди воров для этого один верный способ – замочить. Понимая опасность подозрения, все же Ромашкин сказал:
– Дай мне подумать…
– Думай, – согласился Серый, – но думай по-скорому, надо продукты в дорогу заготавливать. Первое время в тайге туго придется. Надо все при себе иметь. Ну, это моя забота.
А ты думай побыстрее. – Он опять посмотрел своим леденящим взглядом, у Василия на затылке кожа похолодела и съежилась. Значительно сказал, будто прочитал все мысли: – Думать тебе, лейтенант, надо только в одну сторону – в нашу. Иначе, сам понимаешь…
Этим было сказано все. Даже в ближайшую ночь Василий мог заснуть и не проснуться.
Могло сложиться и удачно, как предполагал Серый: банда осела бы где-то в тайге и выходила бы «на дело» в далекий от этого места район, и жизнь такая хоть и недолго (все равно выследили бы), но все же некоторое время продлилась. В этом случае, как прикидывал Ромашкин, он избегал смерти здесь, в зоне, и появлялась возможность в будущем где-то ускользнуть из банды. А дальше что? Существовать на нелегальном положении? В каком качестве? Где достать фальшивые документы? На какие деньги? Воровать? Честно жить и зарабатывать по липовым ксивам долго не удастся. Разоблачат! А значит, ждет верный расстрел. Один раз заменили на десять лет. Теперь прибавятся побег, бандитские дела, все старое припомнят.
В общем, как прикидывал Василий свое будущее, гибель подступала всюду, лишь с некоторой разницей во времени.
Когда встает вопрос о смерти – сейчас или потом, человек, вполне естественно, выбирает это «потом», даже если оно страшнее и мучительнее сегодняшней. И Василий тоже выбрал более позднюю смерть, тем более что в том будущем маячили какие-то нерадостные, но все же варианты спасения. В общем, он решил идти по бандитской дороге. На следующее утро он сказал Серому: «Я согласен, пойду с тобой».
Началась обстоятельная подготовка к побегу. В том углу, где спал Серый, самое безопасное место, туда, кроме своих, никто не смел подходить – под нарами глухой ночью оторвали доски полового настила и затащили туда железный мусорный бачок (чтобы мыши продукты не пожрали!). Бачки стояли у кухни для отходов. Один из них хорошенько вымыли и стали туда складывать все, что удавалось добыть на кухне или на складе. А там воров боялись, подкидывали на повседневное пропитание, даже не подозревая, что крупа, сухари, сахар, чай, махорка – все это для побега накапливается.
Охрану разоружить решили после обсуждения многих вариантов так.
– Устроим в бараке шухер мы сами, – излагал окончательный план Серый. – Как тогда, помнишь, Лейтенант, когда меня резали? Охранники тогда втроем прибежали в барак разнимать. Вот и ты, Лейтенант, побежишь на вахту, они тебя помнят, наверное, еще с той драки, или вот Мишка Печеный побежит, у него морда, как у ангелочка, сразу поверят, на вахте скажете: ворье в бараке режется! Ну, коли режутся, они прибегут, может быть, даже с пушками. Тут мы их и уделаем. Если не вчистую, так оглушим и свяжем. Хотя за такое в случае неудачи все равно всем нам вышка светит. Учтите и действуйте бесповоротно. Назад ходу нет – только на свободу или к стенке!
Он помолчал, обвел всех спокойным, уверенным взглядом и продолжал:
– Стволы заберем. Переоденемся в их форму и поведем – руки назад! – остальную нашу компанию и харчи в мешках понесем на вахту. Ну а на вахте остальных не так много, да и те, наверное, дрыхнуть будут. Тут мы их и повяжем А кто за оружие схватится, будем кончать. И все! Рвем когти! Тайга рядом, пока хватятся, мы уже далеко будем! Да они и не пойдут за нами в глухомань. Побоятся. У нас же винтари, патронов наберем, мы же с вахты все унесем. Я знаю, у них там есть ящик с запасом патронов на случай тревоги. Ну а если пошлют небольшой отряд – куда ему идти? Мы же рванем в начале лета, когда земля просохнет, никаких следов не будет. Тайга – как море, в какую сторону мы двинем, откуда им знать. Верняк полнейший. Уйдем! Век свободы не видать – головой ручаюсь, уйдем!
План этот весь март и апрель не раз уточнялся. Продукты накапливались. Все шло путем.
Ромашкин несколько раз видел в углу Серого двух незнакомых парней. Они приходили порознь. О чем-то шептались с паханом и уходили… Это, по-видимому, были молодые воры. Они жили в другом бараке.
Василий не спросил о них Серого. Задавать вопросы среди блатных вообще считается признаком плохой воспитанности. Серый сам посчитал нужным сказать ему об этих незнакомцах:
– Уходить будем ранним летом, в лесу еще ни грибов, ни ягод. Мясных консервов у нас маловато. А без мяса мы ослабеем, силы потеряем, далеко не уйдем. Вот и решил я двух баранов прихватить.
Ромашкин не понял, о каких баранах он ведет речь. Может быть, на кухне перед побегом собирается прихватить две туши?
– Как же мы потащим две туши да мешки с крупой, мукой и другими продуктами? Много нести и быстро уходить не сможем. Могут нас догнать.
Серый хитро улыбнулся.
– Недогадливый ты, Лейтенант. Бараны сами побегут, их нести не нужно.
Совсем он сбил Василия с толку: откуда в зоне живые бараны?
А Серый смотрел пристально в глаза и улыбался дьявольской улыбкой.
– Ну, допер?
– Нет.
– Эх ты, а еще командир. Бараны будут с нами в побеге. Когда из сил выбьемся – одного прикомстролим… Когда понадобится, и второго уделаем.
И только теперь Ромашкин вспомнил жуткий рассказ бывалого зэка о том, как в одном из побегов группа заблудилась в тайге и, выбившись из сил, убила одного из своих же беглецов и питалась его мясом. Потом убили еще одного. Наконец остались двое. Они не спали несколько ночей, каждый опасался нападения спутника и в то же время ждал, чтобы сосед заснул и можно было прикончить его. В конце концов один из них уснул. Оставшийся в живых заготовил мяса и, питаясь им, вернулся в лагерь, где рассказал обо всем лагерникам и вскоре сошел с ума и повесился. Вот тогда Василий впервые услышал слово «баран» в том значении, в каком употреблял его Серый. Вспомнив об этом, Василий подумал: «Не „баран” ли я сам?» И Серый, как это бывало раньше, будто прочитал его мысли:
– Не бойся, я же тебе все вчистую объяснил, ты нам нужен, как военный. Ну, «бараны» эти на крайний случай.
А могут и не понадобиться, если охота будет удачной. Но рисковать я не могу. Я должен все предусмотреть – это мой последний побег. Уловил?
По мере приближения назначенного срока тревога и даже страх у Василия все разрастались. Приближение лета не радовало. Он был в полной растерянности – умирать не хотелось, а смерть ожидала в любом случае: не пойдет с бандой – пришьют, а пойди – уверен, конец будет роковой: если сразу не догонят и не перебьют, то спустя некоторое время где-нибудь выследят и подстерегут. Или, что еще вернее, сами от болезней и усталости будут в тайге дохнуть, а то и начнут пожирать друг друга с голодухи и полного одичания.
Что делать?
Был еще один вариант, но Василий сразу прогнал эту мысль. Но реальная возможность была: пойти тайком на вахту и предупредить о побеге. Грубо говоря, заложить. По своему характеру Василий не мог стать предателем даже блатной шайки, даже тех, кто может стать его убийцами. У него не такое нутро. Решил: «Пусть это глупо, но умру благородно. Лучше погибну дураком, нежели стукачом».
Весенние дни полетели быстро. Серый при выходе на лесоповал присматривался, как просохли обочины. Сошел ли снег в лесной чаще? Радостно и значительно посматривал на своих: свобода, мол, близка!
И вдруг однажды, это было в конце мая, при выходе на работу, когда бригады считали и пятерками выпускали за ворота, вдруг из проходной высыпали человек пятнадцать охранников с винтовками, а некоторые с автоматами. Они окружили бригаду уже за воротами, и старший, показывая пальцем в грудь Серому, приказал:
– Ты выйди!
Потом ткнул в Ромашкина.
– И ты выйди.
И так всех, всю гоп-компанию, вывели из строя, окружили, завели на вахту, а здесь наставили со всех сторон оружие и по одному вызывали в соседнюю комнату. Когда настала очередь Ромашкина, он тоже шагнул туда через порог, и как только закрылась дверь, четверо стоявших за дверью заломили назад руки и связали их веревкой (тогда еще наручников не было).
Тут Василий увидел всех – Серого, Гаврилу Борова, Гену Тихушника, Егорку Шкета, они тоже были связаны. За дверью еще ждали своей очереди Миша Печеный и Борька Хруст.
Когда всех повязали, начальник лагпункта, краснорожий от возбуждения майор Катин ехидно сказал:
– Ну, беглецы, с приездом! Не успели тронуться, как сели! Я вам, паскуды, всем срока добавлю. Сегодня же на каждого будет заведено дело! – И обращаясь к конвоирам: – Отведите их в БУР! И стреляйте без предупреждения, если какая б… только ворохнется!
Их вывели к воротам, построили по два. Начальник конвоя, жирный верзила с длинными грязными волосами, свисающими из-под фуражки, зычно скомандовал, будто урки стояли не рядом или были глухие:
– Шаг управо, шаг улево считаю побегом! Огонь открываю без предупреждения! Уперед!
И побрели молча, не поднимая глаз от земли, не понимая, как и почему все это произошло. Ясно было одно – кто-то их заложил! Но кто? Единственное, что Василий знал определенно, это не он. Но в то же время ему думалось, что первым, на кого падет подозрение, будет именно он, потому что не свой, не блатняк.
Ромашкин шагал, а ноги плохо слушались. Он шел в БУР, как на казнь. БУР – это барак усиленного режима, тюрьма в лагере, он отгорожен от общей зоны двойным проволочным забором. Здесь содержатся подследственные, те, кто совершил преступление, уже будучи в лагере.
Всех заперли в одиночки. Веревки с рук сняли. Василий растирал посиневшие кисти и красные глубокие рубцы от веревок. Видно, очень боялись конвоиры, опасались, что урки дружно бросятся на них. Скрутили во всю силу, не думали, больно или нет, главное, понадежнее. От зэков, решившихся на групповой побег, всего можно ожидать!
На следующий день загремели замки и засовы на железных дверях и одиночные шаги тукали в коридоре. Василий понял – по одному вызывают на допрос. Пришла и его очередь. Допрашивал лагерный кум – так зовут оперуполномоченного. Он молодой, наверное, всего на несколько лет старше Ромашкина. Худой, гимнастерка с тремя кубарями висит на худых плечах, как на вешалке. Сухая кожа лица обтягивает костистые скулы. Глаза колючие. И вообще он весь издерганный, его будто какая-то внутренняя болезнь ломает. И еще у него дурная привычка: говорит-говорит, а потом повернет голову вбок и вроде бы плюется, тьфу-тьфу, слюны нет, а он сам не осознает того и вроде бы плевок имитирует.
С Ромашкиным кум начал говорить как со своим, доверительно:
– Давай, рассказывай все по порядку.
– Что рассказывать?
– Дурака не валяй, знаешь, за что вас замели? – Кум считает нужным применять блатную лексику, наверное, хочет этим показать глубокое знание лагерной жизни и свою опытность.
– Понятия не имею. Остановили бригаду и почему-то меня и тех, других, вызвали.
– Ты давай (тьфу-тьфу) не темни. Ты же почти лейтенант – колись начистоту. Тебе с блатными не по пути. Я тебя не продам, ты не бойся. Понимаю, что ты случайно в их компании оказался.
Василий решил сразу поставить все точки над «i», пусть он не надеется:
– Знаешь, старшой, ты на понт меня не бери. Я хоть и почти лейтенант, но в стукачи к тебе не пойду. Есть у тебя конкретные вопросы, спрашивай.
– Есть (тьфу-тьфу) и конкретные: когда и как бежать собирались?
Ромашкин изобразил крайнее удивление.
– Бежать? Я? Ну ты даешь! Это я тебя должен спросить: куда и как? Надо же придумать такое! Зачем мне бежать? Я свое получил, год отсидел. Работал нормально. Надеюсь, срок мне скостят. Да и дело у меня пустое, подумаешь, чего-то кому-то не понравилось. Вы же из меня контру сделали. А я никогда каэром не был и не буду. И родину не меньше твоего люблю.
– Ты не митингуй. Правильно тебя за антисоветскую агитацию осудили, вон уже и передо мной речь толкаешь. Удивляюсь я, глядя на тебя, бывший комсомолец, а с ворьем связался. Срок ему скостят! Да я тебе такую телегу накатаю, что еще червонец получишь. Колись по-хорошему, может, твое честное поведение оценим, вот тогда и насчет срока подумать можно (тьфу-тьфу).
Заманивал кум и другими посулами. Но ничего не добился и отправил Ромашкина в камеру. Раза три подряд плюнув насухую, пригрозил напоследок:
– Еще пожалеешь. Я тебе веселую жизнь устрою.
Допросы продолжались с неделю. Видимо, и от других опер подробностей не получил. Кроме этого дела, у кума было немало других в производстве. В БУРе сидели много подследственных.
А за те дни, в которые он с «беглецами» маялся, обокрали санчасть: унесли не только лекарства на спирту, но и таблетки всякие. Это работа наркоманов, их ломает от отсутствия наркотиков, вот они и готовы глотать любую химию, лишь бы мозги мутило. В общем, надо оперу искать. Даже не искать, а признания добиваться, у него все ханурики на учете. А через несколько дней зэки нарядчика зарубили. Тут уж камеры-одиночки для других понадобились. Беглецов перевели в общую. Встретился Ромашкин со своими однодельцами, прямо скажем, без всякого энтузиазма. Но приняли его, к удивлению, очень радушно, как своего. Это еще больше насторожило – может быть, маскируются, а приговор уже вынесен? Хотят усыпить бдительность, чтоб ночью спал спокойно, легче будет удавку накинуть. Такой прием применяли, Василий не раз об этом слышал.
Однако из разговора с Серым Василий узнал, что воры сначала вычислили, а потом точно определили стукача. Им оказался бухгалтер-растратчик Четвериков. Он спал на нарах через проход от угла, в котором жил Серый и где урки частенько собирались. Он всех видел, а может быть, и слышал какие-то обрывки из разговоров. Кум его, наверное, давно вербанул, он ему и стучал. Ну и про ночные встречи, не совсем обычные, донес. Получил приказ присмотреться, уточнить. Вот он и заложил. У блатных своя разведка действует. Сработала она и на этот раз, на счастье Ромашкина.
Пахан рассказал подробно, как провел свое расследование.
– О том, что никто из наших не раскололся, – рассудительно начал Серый, – я определил по складу. Запасы наши под полом целые. Все мы о них знали, а стукач не знал. – Дальше Серый повел рассказ, основанный на его многолетней лагерной жизни. – Кум как со своими стукачами встречается? Напрямую нельзя – засекут. Вот он и заводит передатчиков записок. Этот передатчик, может, сам и не стукач, он только записки принимает и передает оперу. Чаще всего это хлеборез, библиотекарь или кто-то из работающих на кухне. К любому из них можно, не вызывая подозрений, подойти, записочку сунуть и пойти себе в сторону. А придурки эти своими теплыми местами дорожат, не хотят на морозе или под дождем лес валить, вот и не отказывают куму.
Бывает, в неотложном случае прибежит стукачок в управление лагпункта, там покрутится в коридорчике между дверей начальства: кадровика, хозяйственника, бухгалтерии, для отвода глаз плакатики, объявления на стенках почитает. А есть там еще одна дверь. Вот там и сидит опер. Стукачок выберет момент, когда никого нет в коридоре, и шмыгнет в ту дверь. А после беседы кум дверь приоткроет, в щелочку поглядит и, когда коридор пуст, стукача и выпустит. – Серый значительно помолчал, потом лукаво и зловеще улыбнулся и продолжил: – А щелочку можно сделать не только в двери опера… Другую дверь тихо-тихо приоткрывал и смотрел наш человек. Он придурком в управлении работает. Он и наколол суку-бухгалтеришку. Засек не раз и не два! В общем, это он нас заложил. Но подробностей нашего отрыва да вот и о складе с харчами не знал. Сорвалось у опера! Не пришил нам дело! Теперь как бы нас по разным лагпунктам не раскидали. Устраивают они такое для профилактики. Ну а стукача мы на толковище приговорили.
Через два дня бухгалтера Четверикова нашли в выгребной яме уборной, что сколочена из горбыля и находится в дальнем углу зоны. У трупа, кроме проломленной головы, еще и рот был зашит черными нитками. Говорят, рот ему зашили после удара по голове в назидание другим лагерным стукачам.
У всей компании было железное алиби: они сидели в БУРе под надежной охраной, за двойной оградой из колючей проволоки, а Четверикова убили в общей зоне. Ромашкин даже не догадывался, кто это сделал.
Больше месяца продержали всю группу в БУРе и в июне почему-то вернули в старую зону. Вернее, не почему-то, а не до того стало…
* * *
В июне 1941 года далеко на западе заполыхала война.
В лагерную жизнь она тоже внесла перемены. Появились зэки с новыми статьями и обвинениями: дезертиры, самострелы, окруженцы или бежавшие из немецкого плена, но не сумевшие доказать, что не шпионы и не сотрудничали с немцами.
Забурлили слухи о том, что будет амнистия. Кто сидел по военным статьям да и другие, кто помоложе, писали письма с просьбой направить на фронт.
Серый по-своему воспринял перемены, связанные с войной. Авторитет Ромашкина как военного в блатной компании очень вырос. Его о многом спрашивали, советовались, просили разъяснить.
Однажды Серый позвал в свой угол. Он начал так:
– Я думаю, Лейтенант, хорошее для нас время пришло. Попросимся на фронт. Оружие нам сами дадут. Не надо будет из-за него рисковать. Охрану не тронем. Ну а по дороге на фронт в любом месте можно когти рвать. Леса везде есть. Или в тайгу вернемся. Главное, на свободу выйти и оружие получить. На воле и запас харчей найдем, и патронов побольше прихватим. Что на это скажешь, Лейтенант?
Предложение было неожиданное. О просьбе отправить на фронт Василий тоже думал, но только не с такими последствиями. Он действительно хотел на передовую и мечтал показать себя там как смелый командир или красноармеец. Такого, о чем говорил Серый, у него и в мыслях не было. Но не согласиться, не поддержать его сейчас нельзя. Главное, выбраться из лагеря, а на воле пути разойдутся. Там власть Серого кончится. Там Ромашкин – вольный орел. Армия – это уже его стихия.
Серому ответил:
– Прикидываешь ты правильно, только освобождение не придет сразу всем тем, кого ты с собой взять хочешь.
– Ну, месяц туда, месяц сюда – перебьемся. Назначим место сбора. На воле я знаю малины, где отсидеться можно.
А когда все съедутся – и двинем на природу.
– А если кто-то не приедет? Ну, не получится, по дороге застрянет или раздумает?
– На воле блатных знаешь сколько ходит? Подберем других, надежных, правильных партнеров!
– Надо думать. Дело ты непростое затеваешь.
– Вот и я говорю, давай думать вместе. Ты насчет службы больше меня петришь. Соображай: куда писать, как писать, чего просить, чего обещать…
И стали они прикидывать, кого на такое дело пригласить.
В первую очередь, конечно, тех, кто раньше в побег собирался: Гаврила Боров, Гена Тихушник, Миша Печеный, Егор Шкет, Борька Хруст. «Баранов» теперь брать не нужно, такая братва на воле сколько угодно продуктов и всего необходимого добудет. Как сказал Серый:
– Один-два магазина колупнем – и вот тебе запас хоть на год, от консервов до шмоток. Спиртного много брать не будем. Водка – штука опасная. Многих она подвела. Ну, после освобождения немного покиряем. А как делом займемся, все – сухой закон! Только иногда праздники будем устраивать после большой удачи.
…И стал Ромашкин по вечерам сочинять прошения товарищу Калинину, председателю Президиума Верховного Совета от имени каждого члена компании. Уж чего только он не придумывал: и ошибки по молодости лет, и несправедливость судей и следователей, и горячее желание доказать свою преданность Родине. И многое другое, что разжалобило бы старичка Калинина, и он велел отправить в армию. Ромашкин искренне верил, что Михаил Иванович будет сам читать эти письма. И не может он не пожалеть молодых, полных сил парней и обязательно прикажет отправить их на передовую. Тем более что на фронте дела идут неважно, наши отступают, потери большие, лихие ребята там очень нужны.
И не ошибся. Вскоре стали приходить бумаги об освобождении из-под стражи и отправке на фронт. Сначала освобождение получили те, кто раньше Ромашкина написал. А потом вдруг кучно (чего Василий никак не ожидал) пришло распоряжение, в списке которого была вся шайка. Вот радости-то было! Только не Ромашкину. Его положение от этого усложнялось. Теперь надо было думать, как избавиться от блатных. Это сначала показалось сложным. А потом, поразмыслив, Василий понял: на воле уже не будет лагерных законов. «Не пойду с ними на малину, к месту сбора. Они уйдут, а я останусь. И все. Разойдемся по лагерной поговорке – „как в море трактора”».
Все было хорошо – только одно предположение не оправдалось: освобожденных направляли не в обычную воинскую часть, а в штрафную роту. Это было не помилование, а предоставлялась возможность «кровью искупить свою вину перед Родиной».
А если не проявишь себя в боях и не будешь убит или ранен, то «отсиживать оставшийся срок после окончания войны».
Зачисление в штрафную роту осложняло затею Серого. По его понятиям, в штрафной роте должен быть конвой или охрана. Насчет ранения или смерти, а тем более отсидки после войны – все это был пустой звук. Их жизненный путь после освобождения поворачивал в противоположную от фронта сторону и сулил очень радужные картины привольной жизни в лесах, в полной независимости. Воры превращались в бандитов. В общем, старые мечты оставались в силе.
После вызова: «С вещами на вахту!» – жизнь понеслась в новом стремительном людском потоке. На вахте собрались сорок освобождаемых. Начальник лагпункта Катин вычитывал фамилии по списку. Каждый бодро отвечал: «Здесь!» Общевойсковой стройный капитан с усиками просто и неожиданно сказал: «Здравствуйте, товарищи!» Это ошарашило: пять минут назад зэки, преступники, и вот «товарищи!». Давненько так не называли!
Капитан объяснил: поедем поездом до Нижнего Тагила. Попросил не отставать и не теряться, потому что пока на всех один документ – вот этот список. Он тут же положил список на стол, и оба начальника расписались: «Сдал», «Принял». Василий слышал, как Катин негромко сказал своему заместителю по воспитательной работе: «Напрасная трата денег на обмундирование, кормежку, перевозку. Я бы их здесь в тайгу вывел и пострелял». Этот Катин раньше был какой-то большой начальник, а потом сгорел: кого-то из своих же заложил, причем нечестно, с наговором, его разоблачили, но совсем из органов не выгнали, послали с понижением. И вот теперь он весь свет ненавидел.
Как, оказывается, просто и легко выйти на свободу, всего одна подпись – принял, и все, решетчатая дверь с лязгом отворяется, и вот она – воля! Та же дорога, по которой брели на работу, те же тропки, протоптанные в траве и уходящие к окраине деревни, но между Ромашкиным и всем этим нет теперь конвоиров, отделяющих его силой оружия от прекрасной, обыкновенной жизни.
Ромашкин озирался, не верил, не понимал, как же это он идет просто так, сам. Капитан впереди, он даже не оглядывался. Освобожденные за ним гурьбой, без построения. А раньше за ворота выходили пересчитанные – первая пятерка, вторая пятерка.
Теперь зашагали, не сутулясь, в тех же телогрейках и бушлатах, но спины стали ровными, глаза сияющими. Воля распрямляет человека!
Серый значительно посмотрел на Василия, показал большой палец – мол, все идет «на пять»!
В военкомате заполняли на каждого анкету. Ну анкетами не удивишь, а вот некоторые вопросы очень неожиданные: «Был в плену или в окружении?» Ромашкин написал ответ – «нет» и подумал: «Наверное, это считается для воина большим недостатком, если у него нет опыта окружения».
После оформления документов построили, распределили по взводам, отделениям. Командир роты, немолодой уже капитан (видно, из запаса), прошел вдоль строя, отсчитал двадцать пять человек, сказал:
– Первый взвод. – Показал пальцем на грудь высокого, здорового парня. – Вы старший до прибытия командира взвода. Распределите бойцов на три отделения, назначьте отделкомов.
Ромашкин попал во второй взвод. Его назначили командиром отделения. Поскольку в строю стояли рядом, в его отделение попали вся компания Серого и еще трое незнакомых парней, из другого лагеря.
Серый был доволен.
– Порядок, свой командир! Ты узнай, когда оружие будут давать.
– Я думаю, сначала научат, как им пользоваться.
– Чего нас учить, мы умеем.
– А другие?
Василий не ошибся. Через день, когда в роте набралось пять взводов, прибыли кадровые сержанты с треугольниками на петлицах. Их назначили командирами, и они стали заниматься ежедневно огневой (изучали устройство винтовки), строевой – шагали по плацу перед казармой, в которой жили, и тактикой – вывели за ограду военного городка, расчленили в цепь (пять-шесть метров друг от друга) и «В атаку, вперед! Ура!». Сначала все бегали с удовольствием. Дружное «ура» придавало силы, уверенности. Казалось, будь перед ними враг, всех смяли бы и перебили. Через час-другой устали, пот побежал между лопаток. А сержант все командует:
– Назад. Занять исходное положение. Не отставать! Равнение в цепи. А ну-ка, еще разок – «Вперед!», «Ура!».
Особенно мучительны были занятия по строевой. Шагать по плацу казалось таким бесцельным, ненужным делом, что не могли дождаться, когда эта чертова шагистика кончится.
А сержант покрикивал:
– Строевым! Крепче ножку! Не слышу. А ну, четче! Раз! Раз!
Командовал и Ромашкин своим отделением, и втайне ему даже смешно было – ходят строем отпетые воры и покорно выполняют его команды. И это люди, для которых ни государственных, ни нравственных законов и порядков не существует.
– Зачем нам эта мура? – спросил сержанта Гена Тихушник в курилке во время перерыва. – Мы же не на парад собираемся. Воевать поедем. Где там строевым ходить?
Сержант пояснял:
– Дело не в шагистике. В строю человек приучается к быстрому выполнению команды. Исполнительность доводится до автоматизма. Дали команду – «На-пра-во!», и ты тут же повернул. Скомандовали – «На-ле-во!», и ты мгновенно, без рассуждений выполнил. А в бою это особенно нужно. Понял?
Через неделю роту вывели на стрельбище, и каждый отстрелял первое упражнение: три патрона по грудной мишени; оценка от 25 до 30 очков – отлично, 20—25 – хорошо, 15—20 – удовлетворительно. Ромашкин, конечно, выполнил на «отлично» – выбил 28 очков. Серый тоже стрелял кучно – 26, остальные мазали, не все даже на «удочку» вытянули. Стреляли по очереди из двух винтовок, выделенных на роту для этой стрельбы.
Через две недели (слава богу!) занятия закончились. Роту еще раз сводили в баню и после помывки выдали стиранное, б/у (бывшее в употреблении), армейское х/б (хлопчатобумажное) обмундирование, кирзовые сапоги, поношенные шинели и пилотки с новой красной звездой.
Все преобразились – не узнать! Серый, от природы рослый и широкогрудый, выглядел настоящим богатырем. Гена Тихушник и Миша Печеный в армейской одежде (которую они тщательно подобрали по росту) выглядели даже элегантно. Правильно говорят, мало иметь, надо уметь носить одежду. Остальные компаньоны смотрелись не очень браво, форма на них не легла, топорщилась, сразу видно – новобранцы.
Настал день погрузки в эшелон. Товарный красный вагон с двухъярусными нарами на взвод. В эшелоне двадцать вагонов, значит, четыре роты – целый батальон. В каждом вагоне старшим тот же сержант, который проводил занятия. Оружия пока не выдали.
– Когда дадут? – спросил Боров явно по поручению Серого.
– На фронте, – ответил сержант.
Дорога от Сибири до фронта, который изгибался где-то на линии Ленинград – Смоленск – Ростов, длинная, эшелон останавливался часто, стояли подолгу. Ехали весело, харчей вдоволь. Кроме того, что давали в армейском пайке (кухня походная в переднем вагоне на ходу готовила горячую пищу), на станциях компания ловкостью рук добывала и деньги, и продукты. Местные жители выносили на продажу вареную картошку, жареных кур, уток, яйца, творог, овощи и другую снедь. По прибытии эшелон встречали, как и положено встречать бойцов Красной армии, доброжелательно, с улыбками. Женщины зазывали к своим корзинам:
– Берите яблочки! А вот сальце с чесноком соленое!
И братва берет… особенно когда эшелон трогается – хватают и бегом в вагон. А вслед крик:
– Ах, чтоб тебя! Вот так бойцы! Мы таких эшелонов не видали!
В вагонах смех и возбужденная суета. Рассказывают о только что происшедшем на станции.