Читать онлайн Теплый хлеб (сборник) бесплатно
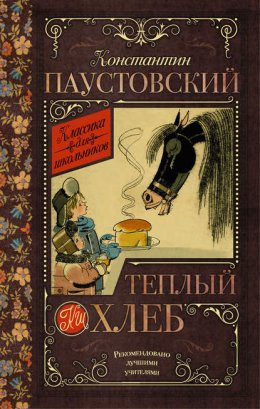
© Паустовский К.Г., наследники, 2016
© Сазонов А.П., наследники, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016
Повести
Созвездие Гончих псов
Всю осень дули ветры с океана. Воздух дрожал, и наблюдать звезды по ночам было очень трудно.
Астроном Мэро был болен и стар. Он не мог сам раздвинуть маленький купол обсерватории и звал на помощь садовника. Они вдвоем тянули за тонкий канат. Створки купола тихо визжали, расходились, и, как всегда, в совершенной темноте появлялось холодное звездное небо.
Мэро садился отдохнуть на лесенку и горестно качал головой: «Ну, конечно, опять ветер! Опять воздух разной плотности летит над землей, перепутывая световые лучи».
Сухие дубовые листья залетали в обсерваторию. Деревья шумели за стенами, и садовник говорил, что если ветер срывает даже дубовые листья, то, значит, будет дуть очень долго.
Мэро любил поговорить с садовником. В горной обсерватории жило всего восемь человек. До ближайшего городка было тридцать километров каменистой трудной дороги. Товарищи Мэро – астрономы – отличались молчаливостью. Они разговаривали редко, – все, что можно рассказать, уже было рассказано. Они избегали расспросов и делали вид, что поглощены вычислениями.
Старуха Тереза – тоже молчаливая и суровая – готовила астрономам скромный обед. С каждым месяцем обед в одни и те же часы, в обществе одних и тех же людей становился все тягостнее. С каждым годом все крепче овладевала людьми привычка к одиночеству. Тишина была так постоянна, что даже случайно прочитанные книги Мэро воспринимал как шум. Читая книгу, он, конечно, не слышал никаких звуков, но живо представлял их себе и сердился тем сильнее, чем больше было в книге сутолоки и громких разговоров.
– Какая крикливая книга! – говорил он и морщился. – В ней люди невыносимо орут, спорят, плачут… Нет сил разобраться в этом вопле.
Слух его за несколько лет жизни в обсерватории очень окреп. Он слышал много звуков, которых раньше не замечал. Они были однообразны. Ветер посвистывал в проволочных канатах, поддерживавших мачту; на ней по праздничным дням подымали флаг. Тогда прибавлялся еще один звук – веселое хлопанье флага. Оно вызывало воспоминания о праздниках в детстве, когда их городок так шумел от флагов, что у бабушки Мэро начиналась мигрень.
В детстве было много солнца, гораздо больше, чем теперь, и солнце тогда было совсем иное – очень яркое, огромное, занимавшее полнеба.
– Мне кажется, – говорил Мэро садовнику, – что солнце остывает на наших глазах. Свет уже не тот, да, не тот, как будто его закрыли пыльным стеклом.
Садовник соглашался со всем, – не ему было спорить с таким ученым человеком, как Мэро.
Кроме шума ветра, были еще другие звуки. Зимой мистраль нес через горные перевалы сухой снег и шуршал им, как песком, по окнам лабораторий. Изредка кричали орлы. Иногда дождь журчал в каменных водостоках. Летом был слышен редкий гром. Его раскаты возникали не над головой, как обычно, а внизу, в долинах. Грозовые тучи теснились гораздо ниже высот, на которых стояла обсерватория.
Этим, пожалуй, исчерпывались все звуки, если не считать плача заблудившихся коз и крика автомобиля, – раз в неделю шофер привозил из городка продукты, газеты и почту.
Газеты забирал к себе в комнату молодой астроном Ньюстэд – неуклюжий норвежец – и никогда не возвращал. Сначала астрономы ворчали на невежливого норвежца, потом привыкли к этому и забыли о существовании газет. Изредка они спрашивали Ньюстэда, что происходит внизу, в человеческом мире, откуда можно было ждать одних неприятностей. Ньюстэд неизменно отвечал, что мир по-прежнему сходит с ума. Этот ответ удовлетворял всех.
В конце осени Мэро, проводивший ночи около телескопа, – он изучал в то время созвездие Гончих Псов, – впервые услышал новые звуки. Они напоминали гул отдаленных горных обвалов. Вначале они были так слабы, что Мэро их плохо различал. Мэро терялся в догадках, но даже не пытался рассказывать о своих наблюдениях астрономам, – его и так считали чудаком. Но звуки усиливались. В одну из ночей сотрясение было уже так велико, что звезды сместились и раздвоились в зеркале телескопа.
Звуки шли со стороны побережья. Мэро вышел на железный балкон обсерватории и долго всматривался в горы.
Он видел все то же: снега, лунный блеск, звезды, лежавшие прямо на утесах, как сигнальные огни, – но нигде не было белой пыли, обычной спутницы снежных лавин.
– Матвей, – окликнул Мэро садовника, – вы ничего не слышали? Должно быть, в горах снежные обвалы.
– Слишком мало снега для обвалов, – ответил садовник. – Надо прислушаться.
Они замолчали. За оградой был слышен мерный плеск воды, будто падавшей на стекло. Это шумел ручей, кое-где уже покрытый коркой льда. Тишина длилась долго. Потом тяжелый удар прокатился с востока и, отраженный горами, вернулся обратно на запад и стих.
– Это не обвал, – пробормотал садовник.
– Что же тогда?
– Это дальнобойные, – ответил неуверенно садовник. – Война бродит кругом, но сюда она не подымется. Слишком высоко. Здесь ей нечего делать.
Тогда Мэро вспомнил скупые рассказы Ньюстэда о гражданской войне, опустошавшей в долинах старинные города и скудные поля крестьян. Вспомнил жалобы шофера на то, что в городке остались одни женщины и старики и ему приходится самому грузить продукты и потому опаздывать. Вспомнил, что Тереза начала готовить обеды гораздо худшие, чем раньше, но на это никто не обратил внимания.
Надо было тотчас все узнать. Мэро закрыл обсерваторию и спустился к жилому дому.
Астрономы сидели за ужином. Каминная труба в столовой пела глухо и сонно, – так она пела уже много лет.
– Друзья, – сказал, задыхаясь, Мэро. Он остановился в дверях и торопливо разматывал теплый шарф. – Я слышу отдаленную канонаду.
Астрономы подняли головы от тарелок.
– Ньюстэд, – продолжал Мэро очень громко и возбужденно, и астрономы оглянулись, но не на Мэро, а куда-то в угол, как бы не допуская мысли, что громкий голос может принадлежать больному старику. – Ньюстэд, вы должны подробно рассказать нам, что происходит.
Ньюстэд не ответил. Он взглянул на часы, встал и подошел к радиоприемнику. Все с удивлением наблюдали за ним.
Ньюстэд наклонился над рычагами. Красным накалом загорелись электрические колбы, и печальный мужественный голос начал говорить об уличных боях в Мадриде, о воздушных бомбардировках, о сотнях изуродованных снарядами детей и о гибели дворца Альбы, где горят полотна Веласкеса и Риберы.
Астрономы слушали молча. Голос умолк так же внезапно, как и начал говорить.
– Что вы думаете об этом? – спросил Мэро в наступившей тишине и понял, что вопрос его был не совсем уместен.
Ньюстэд лениво вернулся к столу. Он сидел, вытянувшись, как бы прислушиваясь, и крепко держался за стол большими руками.
Сухой старик в сером костюме, сейсмолог Дюфур, отличавшийся изысканностью речи, первый нарушил молчание.
– Каждый из нас, – сказал он, усмехаясь, – чувствует себя в осажденной крепости с того дня, как он прибыл в обсерваторию. Мы окружены горами, где нет ни лесов, ни руды, ни угля. Нас осаждают ветры и снега. Миру нет дела до нас – и нам нет дела до мира. Люди безумствуют в долинах, но сюда им незачем подыматься. Здесь только звезды. Нельзя перелить их на орудия или добыть из них ядовитые газы. Они бесполезны для разумного человечества. Поэтому мы в безопасности.
– Не шутите так, Дюфур, – сказал Ньюстэд. – Война длится уже пять месяцев.
– Глупости, глупости, – пробормотал дребезжащим голосом молчавший до сих пор Эрве. Это был человек, словно лишенный возраста: ему можно было дать, не ошибившись, и сорок и шестьдесят лет. – Меня интересует другое: как может человек огорчаться из-за того, что сгорел кусок холста, хотя бы и покрытый красивыми красками? Я говорю о картинах Веласкеса. Всю жизнь я вожусь со звездами, это научило меня не волноваться из-за пустяков. Что может быть более непрочным, чем кусок полотна? А ради него люди мучаются, радуются и даже умирают. Это непонятно! Как можно связывать свою жизнь с такими вещами, когда существуют мысль и небо!
Разговор прервал Дюфур. Он быстро вышел и вернулся с тонкой бумажной полоской.
– Вот, – сказал он с торжеством, – еще одно доказательство точности моего сейсмографа. Он записал за последние дни около двухсот небольших сотрясений земли. Очевидно, это и есть разрывы снарядов. Я только сейчас об этом догадался.
Астрономы наклонились над бумажной полоской. Карандаш вычертил на ней ломаную линию, отражавшую колебания земной коры.
Ньюстэд провел пальцем по изломанной линии. Глаза его были прищурены, а папироса крепко зажата прокуренными выпуклыми зубами, – Ньюстэд злился.
– Каждый излом, – сказал он, – означает удар снаряда. Ваша машина, Дюфур, лучше всего записывает убийства.
Дюфур хотел возразить, но не успел, – ясный удар возник за окнами. Горное эхо превратило его в раскаты и обрушило вниз, в каменные пропасти. Все притихли.
Мэро молчал. Ему не хотелось участвовать в бесплодном разговоре. Всю жизнь он думал, что изучение неба, так же как раскрытие всех других загадок вселенной, роднит человека с землей. Мэро был стар, добр и весь запас своих знаний берег не для себя. Он начал даже писать книгу о небе для тех веселых и вихрастых школьников, что должны были завидовать ему, старику, там, далеко, в глубоких земных долинах.
Непривычные мысли и воспоминания владели им в последнее время. Он вспоминал детство, а старики очень не любят вспоминать эту пору своей жизни. Он вспоминал елку. Пока ее не зажигали, она таинственно жила в соседней комнате за закрытой дверью, и только слабый запах хвои тревожил детское воображение. Потом дверь распахивалась, он робко входил и видел сверкающее дерево. Он мог рассматривать его, трогать хвою и золотые орехи, стеклянные нити и хлопушки, мог нюхать апельсины и инжир, висевшие на ветках, – он мог изучать елку, но, несмотря на это, ощущение тайны и прекрасных вещей, наполнявших комнату, не покидало его ни на минуту.
Такое же чувство он испытывал от познания вселенной.
– Все существует для человека, – говорил Мэро. – Если исчезнут люди, то, боюсь, мне, астроному, будет ненужно даже звездное небо.
Эти мысли Мэро не решался высказывать часто, – они не встречали сочувствия. Сегодняшний разговор в столовой вызвал у него раздражение. Он не замечал раньше у своих собратьев по науке такой сухости мыслей и чувств. Грубый и ленивый Ньюстэд был, пожалуй, лучше их всех.
Гражданская война в долинах, отзвуки сражений и неприятный разговор в столовой как будто не нарушили жизни ученых. Астрономы работали по ночам, спали первую половину дня, а вечера проводили в лабораториях. Там они сличали снимки звездного неба за многие годы, стремясь найти незначительные изменения. Каждое изменение в знакомой путанице звезд являлось открытием и давало повод для интересных догадок.
Ничто не изменилось, но все же непонятная тревога овладела учеными. Ее мог заметить только опытный глаз.
Мэро, сидя у телескопа, что-то сердито и подолгу бормотал. Ньюстэд два раза был замечен в том, что среди дня наводил искатель телескопа на край отдаленных гор. Остальные делали вид, что не замечают этого, – по астрономической традиции, рассматривание в телескоп земли считалось занятием для дураков.
Дюфур изредка говорил, что ощущение близкой, но безопасной для него войны укрепляет его нервы. Когда падал снег, астрономы бывали не в духе, – облачное небо останавливало работу. Больше всех негодовал Эрве. Теперь же, когда пошел густой снег, Эрве заметил, что снег, к счастью, сделает дорогу в обсерваторию непроходимой для вооруженных отрядов. Дюфур ядовито усмехнулся.
Библиотекарь Бодэн начал отбирать газеты у Ньюстэда и прочитывал их от доски до доски. При этом он так морщился, будто газетные заметки причиняли ему назойливую боль.
Как-то декабрьской ночью в обсерваторию Мэро вошел Ньюстэд. Это было нарушением правил, – никто не должен был мешать друг другу во время наблюдений, Мэро оглянулся и встал.
Ньюстэд остановился. Он расставил ноги и засунул руки в карманы брюк. Оба молчали.
Мэро почувствовал легкий запах вина. Это было уже слишком. Поведение норвежца делалось вызывающим.
– Я пришел, – сказал Ньюстэд так громко, будто он говорил с глухим, – помочь вам закрыть купол, потому что удар будет внезапным.
«Он пьян, – подумал Мэро. Впервые он видел пьяного человека в обсерватории. – О каком ударе он говорит?»
– Удар будет внезапным, – сердито повторил Ньюстэд. – Не упрямьтесь. Выйдите и посмотрите.
Ньюстэд закрыл купол, взял Мэро за локоть и вывел на железный балкон. Мэро шел безропотно, – в словах Ньюстэда он почувствовал тревогу и угрозу.
– Вот. – Ньюстэд кивнул на горы. – Какое прекрасное зрелище!
Над зубцами гор подымалась отвесная облачная стена. Она была освещена неизвестно откуда исходившим тусклым светом. Она протянулась от одного края горизонта до другого и на глазах росла, светлела, как бы распухала, закрывала звезды.
– Ураган, – сказал Ньюстэд и засмеялся. – Через десять минут он будет здесь. Дайте только ветру прорваться через горы.
– Почему же так тихо? – спросил Мэро.
– Ураганы всегда подходят в тишине.
Тишина была такой напряженной, что звуки собственных голосов казались им надтреснутыми и неприятными. Не было слышно даже привычного шума ручья. Горы уже курились серым дымом.
– Надвигается, – прошептал Ньюстэд.
Мэро наклонился вперед. Он вслушивался. В невыносимой тишине далеко и слабо жужжал мотор.
– Там человек. – Мэро показал на горы.
Снежные смерчи уже взлетали взрывами к черному небу.
– Где? – спросил Ньюстэд.
Мэро схватил его за плечо.
– Там, там! – кричал он и показывал на вершины, где Ньюстэд не видел уже ничего, кроме урагана, стремительно падавшего в ущелья дымными потоками. – Я слышу аэроплан.
– Вы… – крикнул Ньюстэд, но удар ветра оборвал его хриплый крик.
Земля вздрогнула, и тяжелый непрерывный вой урагана уничтожил все звуки. Ветер оторвал Мэро от перил балкона и прижал к стене обсерватории. Снег хлестал в глаза, в рот, не давал дышать. Ньюстэд схватил Мэро за руку и потащил вниз, – норвежец был уже весь белый от снега.
Они пробивались через тяжелые потоки воздуха к жилому дому, хватались за деревья, за кусты, почти падали на землю, закрывали руками глаза от мелкой гальки, больно бившей по лицу. Все дрожало вокруг и выло на разные голоса. Мачта напряженно гудела, голый сад свистел, как сотни яростных флейт, трещала разбитая черепица, звенели стекла, коротким непрерывным громом гремели железные крыши.
Фонари на столбах не качались на проволочных канатах, а были вытянуты наискось к земле, – ветер не давал им качаться, он отклонял их в сторону и каждую минуту мог сорвать и унести.
Ньюстэд втащил Мэро в столовую и только тогда окончил прерванную ветром фразу.
– Вы ошиблись, – сказал он, снимая пиджак и стряхивая с него снег, – аэроплана не было. А если он и был, то теперь его уже нет. Осталась только куча щепок.
Мэро не возражал.
Вскоре в столовую собрались астрономы. Буря объединяет людей. Она подогревает воображение. Даже скучные люди находят во время бури слова, чтобы передать легкое возбуждение, что охватывает человека, когда за стенами безумствует ветер.
Астрономы разошлись очень поздно. Мэро не спал. Он лежал на своей узкой кровати, прислушиваясь к вою ветра, и чувство одиночества сжимало ему сердце. Неужели так и придется жить до смерти в этих горах, в белой комнате, похожей на больничную палату? Неужели никто не придет, не погладит седую голову и не скажет: «Спи, я посижу около тебя и почитаю, пока ты уснешь?»
Мэро лежал свернувшись и казался себе мальчиком. Он вспомнил слова Эрве: «Астрономы не должны иметь любимых людей». «Да и старики, должно быть, тоже», – подумал Мэро.
Он встал, поднял штору и снова лег. Ему хотелось быть поближе к урагану, а опущенная штора казалась железным занавесом. Теперь ураган был совсем рядом, за двойными рамами окон. Он не только визжал, распевал в скалах и плескал снегом в стекла, но и светил. Тихий свет сочился от снегов. Он был чуть синеватым, будто за окнами кто-то зажег большие спиртовые горелки.
– Не надо засыпать, – пробормотал Мэро и начал думать об аэроплане, пролетевшем перед бурей над горами. Летчик не мог оглянуться, – впереди торчали отвесные скалы, – и только спиной, одной беспомощной спиной он ощущал ураган, догонявший его, как гончая зайца.
Ветер стучал ставнями. Болело сердце, и мысли медленно запутывались, пока Мэро не задремал.
Ему приснился странный сон. Будто он садится в запыленный серый автомобиль, чтобы ехать на юг Испании. Вместе с ним садится высокий тощий старик с седой дрожащей бородкой. Потертый костюм старика топорщится и гремит, и Мэро с испугом замечает под пиджаком у своего спутника заржавленные старые латы.
– Мы поедем туда и обратно, – говорит старик, и латы его скрежещут и скрипят в тесной машине, – и вы увидите всё. Постарайтесь сдержать слезы.
И вот они мчатся по узким дорогам среди гор, и с каждого перевала открываются внизу громадные, как море, пространства разноцветной земли, то коричневой и сожженной небом, то черной от листвы лимонных деревьев, то медной от спелых колосьев, то голубой от воздуха, застоявшегося над лесами. И каждый раз при виде новых долин старик в латах встает, протягивает руку вперед и с торжеством кричит одно и то же слово:
– Испания!
Так они мчатся мимо городов, где столько солнца, что оно не помещается на черепичных крышах и стенах домов и проникает даже в самые дальние углы погребков, где Мэро пьет со стариком вино и ест сыр, пахнущий гвоздикой.
Так они мчатся мимо старинных соборов, как будто покрытых серой копотью жары, мимо рек, из которых лениво пьют чистую воду терпеливые быки, мимо школ, где поют дети, мимо дворцов, где за полотняными занавесями сверкают в сумраке картины великих мастеров, мимо садов и полей, где каждый комок земли взвешен на руке и растерт твердыми ладонями спокойных поселян, мимо парков и заводов, жужжащих, как шмели, колесами горячих машин, мимо страны, летящей навстречу в ветре, хохоте, песнях, приветствиях и разнообразных отзвуках прекрасного труда.
В пустынном городке они проносятся мимо памятника какому-то высокому старику с седой бородкой. Мэро узнает в этой бронзовой фигуре своего спутника и успевает прочесть на памятнике надпись: «Мигель Сервантес».
– Так это вы – Сервантес? – кричит Мэро старику.
Старик снимает шляпу и рассеянно отвечает:
– Да, я когда-то жил в этом городе.
Они поворачивают обратно и снова несутся мимо тех же городов, теперь уже лежащих в развалинах, наполненных тяжелым смрадом трупов, мимо школ, где на порогах валяются убитые дети с жалобно открытыми ртами, мимо безумных женщин, бегущих по дорогам с остекленевшими глазами, мимо расстрелянных, привязанных за руки к ручкам дверей, мимо облетевших от пожара садов, мимо надписей, сделанных сажей на белых оградах: «Смерть всем, кто думает о свободе и справедливости! Смерть всем, кто не с нами!», мимо дворцов, превращенных в кучи черного мусора.
Отряд пехотинцев останавливает машину. У солдат тяжелые сапоги, похожие на ведра, красные лица, рыжеватые усы. Командует ими белобрысый офицер с оттопыренными ушами и сухим затылком.
– Вы кто? – кричит офицер.
Старик в латах встает, глаза его чернеют от гнева, руки трясутся.
– Собаки! – кричит он. – Наемные убийцы, обросшие кровавой шерстью! Прочь из моей страны! Я – Мигель Сервантес, я сын и поэт Испании, я солдат и честный человек!
Старик широко расставляет руки, он хочет задержать солдат.
– Огонь! – кричит офицер и взвизгивает от злости.
Солдаты стреляют, и Мэро слышит, как пули бьют по заржавленным латам старика, и старик падает лицом в пыль и, умирая, гладит худыми теплыми руками щебень родной дороги.
– Испания! – говорит он страстно, и редкие слезы падают на горячую землю. – Испания, мать моя, страна моих детей!
Снова щелкают пули по латам, но почему-то очень негромко.
Мэро проснулся. Как будто кто-то стучал в дверь. Он прислушался. Ветер еще шумел, но не так сильно, как вечером. Ураган уставал. Хлопнула ставня, и кто-то застучал в дверь сильнее.
– Кто там? – спросил Мэро почти шепотом.
– Я, сударь, – ответил из-за двери садовник.
– Что случилось?
– В ущелье, за ручьем, стреляют, – сказал садовник. – Может быть, вы встанете, и мы послушаем. Я думаю, что случилась беда.
Мэро начал поспешно одеваться. Неужели война поднялась и сюда, в никому не нужные горы? Он вспомнил только что виденный сон, и ему показалось, будто кто-то медленно стискивает ему горло.
– Должно быть, это хлопают ставни, Матвей, – сказал он шепотом, боясь разбудить Эрве, спавшего за стеной. Ему хотелось верить, что садовник ошибся и никаких выстрелов нет. Кто и в кого может посылать пули в этой пустыне?
Садовник ничего не ответил. Они вышли. Снег уже не падал. Ветер стихал, и на востоке смутно виднелись громады туч, задержанных горами. Начинался рассвет. Он просачивался сквозь разрывы тяжелого неба, и можно было уже различить деревья, покрытые снежными шапками, и зеленую воду в бассейне, где плавали маленькие вылинявшие рыбки.
Садовник провел Мэро к ограде. За ней дымилась пропасть и бормотал ручей. Дна пропасти не было видно, – темнота в горах дольше всего держится в ущельях и уходит оттуда медленно – пожалуй, не быстрее, чем испаряется снег.
– Это здесь, – сказал садовник и показал за ограду.
Мэро заглянул вниз, но ничего не увидел.
– Мое зрение ослабло, – сказал он печально. – Я ничего не вижу. Может быть, вы увидите лучше меня.
– Страшновато заглядывать, – ответил садовник. – Давайте лучше немного послушаем.
Они замолчали. И тогда Мэро услышал как будто слабый человеческий стон или хриплый короткий крик. Он был очень неожиданным. Потом два глухих выстрела прогремели в темноте на берегу ручья.
Мэро отшатнулся от ограды и быстро пошел к жилому дому. Садовник, ничего не понимая, растерянно шел следом. Снова прогремели два коротких выстрела.
Мэро прошел в лабораторию. Садовник шел за ним. Мэро открыл нишу в стене. Руки его дрожали. Он нажал кнопку, и пять колоколов начали яростно звонить в разных концах дома и в обсерваториях. Это был сигнал тревоги. Его давали только в случае серьезной опасности или необходимости немедленно созвать всех обитателей обсерватории.
Колокола гремели оглушительно.
В комнатах зажегся свет, захлопали двери, – и через несколько минут в лаборатории собрались взволнованные астрономы.
Один Ньюстэд был спокоен. Он подошел к Мэро, крепко взял его за плечо и слегка встряхнул.
– Что случилось? – спросил он очень громко.
Никто не обратил внимания на грубый поступок Ньюстэда.
– В ущелье, – ответил Мэро, – кто-то погибает. Он просит помощи.
– Откуда вы это взяли? – рассердился Дюфур. – Он кричит?
– Он кричит и стреляет через равные промежутки времени.
Наступило молчание.
– Кто пойдет со мной? – спросил неожиданно Ньюстэд. – Если он разбился, надо идти вчетвером. Иначе мы его не вытащим.
– Я бы пошел с вами, – ответил садовник.
– Этого мало.
– Тогда возьмите меня, – тихо попросил Бодэн.
– Все равно мало. Надо идти вчетвером, – повторил Ньюстэд.
Мэро молчал. Он не мог спуститься в ущелье. Даже в автомобиле, когда машина подымалась в горы, и то Мэро уставал. Ему передавалось напряжение мотора.
– Ну что же, – сказал Эрве, – я очень вынослив, хотя и выгляжу стариком.
– Это не имеет значения, – ответил Ньюстэд. – Идемте.
Когда они оделись и вышли, было уже светло, но туманно. Ньюстэд первый пролез через ограду и начал спускаться. В руках у него был канат. Вторым перелез садовник. Бодэн и Эрве спускались последними. Щебень осыпался у них из-под ног и громко шуршал по откосам.
Мэро и Дюфур стояли около ограды. Взошло солнце, снег начал таять, с деревьев падали крупные капли воды.
Ньюстэд и его спутники растворились в тумане. Сначала ничего не было слышно, кроме стука скачущих по обрыву камней, потом Ньюстэд закричал:
– Эге-гей, эге-гей! – И в ответ где-то очень близко хлопнул выстрел.
Ньюстэд крикнул:
– Стреляйте вверх, а не в скалы, черт вас возьми! Может быть рикошет.
Чей-то незнакомый голос несколько раз позвал:
– Сюда, сюда! Перейдите ручей, сюда!
Голоса были слышны отчетливо, будто из соседней комнаты.
– Рикошет, – повторил Мэро с удивлением. Он знал значение этого слова, но произнес его в первый раз в жизни и удивился. – Какое неприятное слово – рикошет.
– Думаю, что мы услышим еще худшие слова, – холодно сказал Дюфур.
Из тумана доносились голоса, но гораздо глуше, чем раньше.
– Дайте нож разрезать веревки, он сильно запутался, – послышался голос Ньюстэда. – Все равно, давайте садовый, только скорей.
– Что там? – крикнул Мэро, но никто не ответил.
Была слышна возня, потом слабый крик, и Бодэн сказал сердито:
– Да не спотыкайтесь вы, ради бога!
Разговоры надолго стихли, и было слышно только хриплое дыхание взбирающихся по откосу людей.
– Пусть отдохнет, – сказал садовник где-то совсем рядом.
– Ничего, идите, – ответил Бодэн.
Мэро уже различал темное пятно, медленно подымавшееся по склону.
– Держите крепче, Матвей, – попросил Эрве.
– Ничего, – ответил глухо садовник. – У меня руки липкие от крови, я не выпущу.
Наконец они поднялись к самой ограде, и Мэро увидел у них на руках окровавленного человека в синем брезентовом костюме. Лица его нельзя было различить из-за спутанных и слипшихся волос. Серые брюки Ньюстэда были измазаны кровью.
Человека быстро внесли в комнату Эрве и положили на кровать. Бодэн, исполнявший в обсерватории обязанности не только библиотекаря, но и врача, раздел неизвестного, промыл раны и наложил перевязки. Ему помогал Ньюстэд.
В комнатах запахло лекарствами. Полы были затоптаны, на них стояли лужи от растаявшего снега.
Обитатели обсерватории собрались в столовой. Они смотрели на капли густой крови, тянувшейся наискось по ковру, и ждали Ньюстэда и Бодэна. Те долго не шли.
У Мэро дрожали руки.
– Надо бы истопить камин, Тереза, – сказал он служанке, но она, сидя в углу, что-то шептала, должно быть молилась, и не расслышала просьбы Мэро.
Первым вошел Ньюстэд. Он подошел к камину и начал греть руки, деланно засмеялся и набил трубку.
– Ну вот, – сказал он, – война наконец добралась и до нас. Поздравляю с ней всех собравшихся.
– Что с ним? – спросил Мэро.
– Он, должно быть, умрет, – ответил Ньюстэд. – У него переломано все, что может быть переломано у человека. Прыжки с парашютом в горах – отчаянное дело. Он летел из Франции в Мадрид.
– Военный? – спросил Дюфур.
– Нет, он поэт.
– Я не настроен шутить, – сказал ледяным голосом Дюфур.
– А я вам говорю, что это так, – рассердился Ньюстэд. – Ураган перевел машину в штопор, он успел выброситься с парашютом. Все остальное понятно.
– Главное никому не понятно, – пробормотал Дюфур. – Вы что-то упомянули насчет войны.
Вошел Бодэн. Он снял очки и посмотрел на всех красными близорукими глазами.
– Нужен настоящий врач, – сказал он растерянно. – Я слишком мало знаю, чтобы спасти этого человека.
Решение было принято тут же. Машина пойдет в городок за врачом. Поедут шофер и Ньюстэд. Бодэн и Мэро должны дежурить около разбившегося человека. Тереза им будет помогать. Все астрономические наблюдения будут пока вести Дюфур и Эрве.
– Настоящий ученый никогда не поступил бы так опрометчиво, как Мэро и Ньюстэд, – сказал Дюфур Эрве, когда Ньюстэд уехал. – Я не уверен в том, что можно срывать многолетние наблюдения из-за бесполезной суеты вокруг этого человека. Он все равно не выживет.
Эрве молчал.
– Война, – сказал он наконец и вздохнул. – Я знаю, что астрономы никогда не будут стрелять друг в друга. А об остальном я предпочитаю не думать.
– А следовало бы подумать о том, что наша французская обсерватория находится на испанской земле, – сказал Дюфур.
Ньюстэд уехал. Снег стаял, и мокрые горы блестели под солнцем. По скалам бежала ледяная вода. Небо подымалось все выше, делалось бледнее, из пустынной долины потянуло теплом.
Шофер резко затормозил и показал Ньюстэду на красные скалы. У их подножия валялась куча железа и дерева.
– Это его машина, – сказал шофер.
Ньюстэд вышел, собрал в тени от скалы слежавшийся снег и очистил им от своих брюк бурые пятна крови.
– Едемте, – сказал он шоферу. – Как бы наши старики его не уморили.
Они легко понеслись вниз. Казалось, что машина сорвалась, тормоза лопнули и они не смогут остановиться до самого городка. На поворотах машину заносило, и она с размаху сбрасывала в пропасти груды щебня.
Ньюстэд был доволен. Он пел. Земля приближалась. Он уже слышал запах дыма из нищих очагов. На голых склонах паслось маленькое стадо коз. Его сторожила высокая старуха в черном платке. Она стояла у дороги и даже не оглянулась, когда машина промчалась рядом.
Городок был пуст и тесен. Толпа худых крикливых женщин окружила машину. Женщины говорили все сразу. Ньюстэд плохо знал испанский язык. Он с трудом разобрал из их слов, что негодяй доктор бежал с семьей в Уэску, а в городе остался только аптекарь.
Одна из женщин держала за руку девочку в черном платке, таком же, как у всех женщин и у старухи, сторожившей коз. Девочка исподлобья смотрела на Ньюстэда, а женщина о чем-то просила, вытирая глаза грязным фартуком.
– Чего она хочет? – спросил Ньюстэд шофера.
– Она просит, чтобы мы взяли эту девочку с собой. У девочки фашисты недавно убили отца. Под Уэской. Она говорит – в горах не так опасно, они туда не придут.
– Кто «они»?
Шофер пожал плечами:
– Понятно.
– Мы не можем ее взять, – сказал Ньюстэд. – Кто с ней будет возиться? И так у нас раненый человек.
Шофер молчал.
– Кто с ней будет возиться? – повторил Ньюстэд.
– Мое дело – руль, а ваше дело – решать все остальное.
– Ах, так?!
Ньюстэд открыл дверцу машины и втащил девочку. Мать засмеялась и что-то закричала девочке, поправляя черные седеющие волосы.
Шофер дал ход. Машина рванулась вверх по улице, к аптеке. Ньюстэд обернулся. Женщины махали вслед черными платками и были похожи на стаю худых птиц, бесшумно хлопающих крыльями. Девочка упрямо смотрела в спину шофера глазами, полными слез.
– Скажите ей, чтобы она не боялась, – сказал шоферу Ньюстэд. – Когда все пройдет, мы ее привезем обратно.
Шофер кивнул головой.
Аптекарь спал. Ньюстэд попросил разбудить его. Вышел желтый горбун. Он сонно поздоровался и стал на скамейку за прилавком, чтобы быть выше.
Ньюстэд не знал, что нужно купить для разбившегося человека. Он коротко рассказал о случившемся и попросил совета. Аптекарь удивленно посмотрел на Ньюстэда и сдержал зевоту.
– У меня ничего нет. Могу поклясться. Есть немного гипса, марли и шесть ампул морфия. Это все, что я могу дать. Без врача вы не справитесь. Йод есть у вас в обсерватории. Господин Бодэн год назад купил столько йоду, что его хватит на всю республиканскую армию, а не только на одного человека из этой армии.
– Почему вы думаете, что он республиканец?
– Кто же будет лететь из Франции ночью? Вы нашли самолет?
– Нет, – ответил Ньюстэд. Он не был расположен к болтовне.
– Дело не в человеке, а в самолете, – проворчал аптекарь и пошел в заднюю комнату. Он что-то бормотал там, долго копался и наконец вынес небольшой пакет.
Ньюстэд попрощался. Аптекарь вышел за ним на каменное крыльцо. Серый свет стоял над городком. Снег на горах казался отсюда очень тусклым.
– А где сейчас дерутся? – спросил Ньюстэд.
– Всюду, – ответил аптекарь и усмехнулся.
Обратно ехали медленно: подъем делался все круче. Девочка сидела сгорбившись, уставившись круглыми, полными слез глазами в спину шофера. Ньюстэд не знал, как ее утешить, молчал и насвистывал.
Снова встретилась высокая старуха около маленького стада коз. Она, нахмурившись, оглянулась на машину.
Выцветшее небо простиралось над головой. Горы были рыжие, покрытые голыми дубовыми кустами. Долину затянуло сероватым дымом.
Ньюстэд впервые понял, как ему надоело жить в обсерватории, хотя бы и так близко от звездного неба. Хорошо бы очутиться в Мадриде, где люди живые, шумные и упорные, где они дерутся за очень понятные вещи! Может быть, все это будет длиться очень недолго, но что с того?
– Что с того? – вслух повторил Ньюстэд.
Девочка не оглянулась. Она сидела все так же неподвижно.
«Большое горе», – подумал Ньюстэд, глядя на нее. Он хотел потрепать ее по плечу, но не решился.
Отсюда, из долины, обитатели обсерватории показались ему мертвецами, которые только притворяются живыми и спорят, говорят, едят и наблюдают звезды, как заводные куклы. Особенно раздражал Дюфур – ходячий часовой механизм с изысканным звоном. Тихоня Эрве казался неплохим человеком, но жизнь в обсерватории вышелушила его и иссушила, как мумию.
– Один Мэро, – пробормотал Ньюстэд, – но он так стар, что может умереть от сильного порыва ветра.
За одним из поворотов, откуда уже была видна обсерватория, шофер остановил машину.
– Теперь не стоит торопиться, – сказал он. – Посмотрите на мачту.
Ньюстэд всмотрелся и увидел флаг. Он был приспущен до половины. Эта традиция была близка Ньюстэду. Сын морского капитана, любителя астрономии, он хорошо знал морские нравы, и приспущенный флаг – знак траура – всегда вызывал у него ощущение несчастья. С давних пор многие обсерватории Европы придерживались этого морского обычая.
Ньюстэд понял, что опоздал.
Ворота обсерватории были закрыты. Несмотря на гудки, никто не вышел навстречу. Шофер вылез из машины и сам открыл ворота.
Ньюстэд взял девочку за руку и повел ее к Терезе.
– Как тебя зовут? – спросил он ее по дороге.
– Си, – шепотом ответила девочка.
– Сесиль? – переспросил Ньюстэд.
– Си, – повторила девочка, и из глаз ее потекли слезы.
Больше Ньюстэд ничего не спрашивал.
Заплаканная Тереза встретила девочку спокойно, будто только ее и ждала. Она вытерла руки о передник и, присев на корточки, начала разматывать на девочке рваный черный платок. Она заговорила с ней своим грубым, мужским голосом. Девочка отвечала шепотом, но не плакала. Ньюстэд ушел, недоумевая, – он так и не понял, в чем заключена эта чертовская тайна общения с детьми.
Он прошел в комнату Эрве, где лежал умерший. В столовой зеркало было завешено старым холстом.
В коридоре он встретил Матвея. Садовник нес только что срезанные ветки сосен и тиса с темной листвой. Они вместе вошли в комнату.
Человек лежал, вытянувшись, под простыней, на кровати. Волосы его были причесаны, и через лоб тянулся запекшийся шрам.
Матвей разбросал по полу хвою. На столике горели две восковые свечи. Пламя трещало. Шторы были спущены.
– Это зажгла Тереза, – сказал тихо садовник. – Женщины знают, как обряжать умерших.
Ньюстэд посмотрел на лицо неизвестного. Оно было молодым, но очень измученным. Две глубокие морщины, как шрамы, лежали на щеках. Выражение губ было таким, будто человек кого-то вполголоса звал.
– Вот и смерть погостила у нас, сударь, – сказал Матвей. – Профессор Эрве приказал вырыть могилу около ограды, под старым тисом.
– Где Мэро? – спросил Ньюстэд.
– Он у себя. Он очень расстроен. Человек умер у него на руках.
Ньюстэд медлил идти к Мэро. Вошел Эрве.
– Ньюстэд, – сказал он и криво улыбнулся, – вот видите, жизнь впервые ворвалась в нашу обитель, но и то под видом смерти.
– Не только, – ответил Ньюстэд. – Я привез из города маленькое существо. Оно нуждается в помощи.
– Неужели мы еще кому-нибудь нужны? – спросил Эрве с искренним удивлением.
Мэро сидел в своей комнате за письменным столом. Он сжимал виски слабыми руками – хотел сдержать слезы.
Стол был пуст. Он не написал за этим холодным лакированным столом ни одной строчки любимому человеку, здесь он писал только вычисления и вежливые письма астрономам. Ни любимых, ни любящих не было. Нет, они были когда-то, но Мэро забыл о них. Должно быть, они давно уже умерли, как умер этот человек. «Нельзя забывать любящих, лучше их убить, чем забыть», – говорила его мать, и Мэро теперь понял, что она была права.
Человек умер во время дежурства Мэро. Он почти не говорил. Он все время стонал и один только раз окликнул Мэро.
– Отец, – сказал он, и Мэро вздрогнул от этого забытого слова, – возьмите в сумке письмо и бумаги… Прочтите… Отправьте… Если приедет, вы расскажете… Я думаю только о ней, бесполезно думать о другом… Совсем бесполезно…
Мэро нашел письмо и бумаги. Человек затих, потом начал бредить. В бреду он пел. Это было очень страшно, и Мэро позвал Бодэна.
Когда Бодэн пришел, человек был уже мертв.
Письмо и бумаги Мэро забрал к себе и все никак не мог дочитать до конца, – множество мыслей возникало после каждой прочитанной строчки.
Человека похоронили в сумерки. Все стояли молча, обнажив головы, пока садовник и Ньюстэд засыпали могилу мокрым щебнем. На могиле поставили маленький деревянный столб с дощечкой. На ней Бодэн написал:
Виктор Фришар, поэт, француз. Разбился во время перелета из Франции в Мадрид. Пусть к именам людей, отличавшихся мужеством, прибавится еще одно имя неизвестного нам, но благородного человека!
Астрономы и сотрудники французской обсерватории Сиерра дель Кампо (Пиренеи).
После похорон астрономы собрались в лаборатории. Ньюстэд созвал всех, чтобы сделать, как он сказал, чрезвычайное сообщение. Все были утомлены и молчали, – прожитый день стоил нескольких лет прежней невозмутимой жизни.
– Профессор Мэро, – сказал Ньюстэд и встал, этим он подчеркнул важность своих слов, – передал мне бумаги и письмо, оставшиеся после умершего. Перед смертью он просил огласить их и отправить по назначению. Я выполняю волю неизвестного мне человека с тем большей охотой, что содержание этих бумаг, – Ньюстэд положил на них тяжелую руку, – заставляет меня отказаться на время от работы в обсерватории и спуститься в долины, где вот уже пять месяцев, как вам известно, свирепствует гражданская война.
– Я знал, что вы филантроп, – заметил Дюфур.
– Это делает честь вашей проницательности, – спокойно ответил Ньюстэд. – Человек, которого мы пытались спасти и только что похоронили, – французский поэт. Поэты – братья астрономов. Прекрасное содержание окружающей жизни проявляется не только в законах звездного неба, но и в законах поэзии.
– Понятно, – пробормотал Дюфур. – Читайте письмо!
– Если бы вам это было понятно, – ответил Ньюстэд, – то вы бы не занимались сейчас вычислением орбиты планеты за номером тысяча двести двенадцать. Диаметр этой планеты не больше километра. Я считаю эту работу такой же ненужной, как подсчет пылинок на земле.
– Спасибо! – воскликнул Дюфур и деланно засмеялся. – И после этого вы считаете себя ученым?
– Да, – грубо ответил Ньюстэд. – Вы – Дюфур, я – Ньюстэд, и мы никогда не поменяемся мозгами. Но я еще не окончил. Поэты и писатели Франции приобрели несколько аэропланов и оружие для помощи испанской Народной армии. Фришар вызвался перебросить эти аэропланы в Мадрид. Причина его гибели известна. В разбитом самолете осталось оружие – винтовки, патроны и пулеметы.
– Очень хорошо, – сказал Эрве, – но мы-то ими не воспользуемся.
– Письмо адресовано в Бриэк, женщине, – сказал Ньюстэд, как будто не слыша всех замечаний. – Вряд ли нужно называть ее имя. Я читаю письмо.
«Это письмо отправят тебе, если я умру. Ты помнишь последний день в Бриэке, когда я уезжал, помнишь черные скалы и запах старых рыбачьих сетей? Дул очень холодный ветер с океана, и у тебя зябли маленькие милые руки. Мы были одни в нищем городке. Мы были тогда совсем одиноки с тобой, и ты была для меня не только любимой, но и матерью, сестрой, самым преданным другом.
Через час я вылетаю в Испанию. Я храню в своей памяти твои слова о том, что ты не могла бы любить ничтожного человека. Для иных людей трудно сохранить достоинство в наше время, когда низость, вооруженная пулеметами и фосгеном, начала схватку со всем лучшим, чем жило и будет жить человечество. Для иных лучше бежать на край земли и спрятаться в теплые норы, размышляя о том, что жизнь дается только раз и ее надо прожить для себя. Но во имя того, что она дается только раз, что она неповторима и замечательна, – во имя этого мне легче идти навстречу опасности с открытым лицом и завоевать эту жизнь или умереть за нее, чем писать красивые слова и страдать от дурного запаха собственной совести.
Ты поймешь меня, я знаю. Я не умею утешить тебя. Я люблю землю, потому что ты живешь на ней, люблю воздух, потому что он прикасается к твоему лицу, люблю каждую травинку, на которой останавливаются твои глаза, люблю каждый твой след на сыром песке и ночную тишину, потому что тогда я слышу твое дыхание, – и вместе с тем я лечу умирать. Я почти уверен в этом.
Прощай! Ты расскажи о своем горе рыбачкам, если у тебя хватит сил рассказать. Никто лучше этих простых, рано постаревших женщин не сможет понять его, – ведь у них нет ни одной семьи, где бы не было горя».
Ньюстэд окончил читать и, наклонив голову, перебирал на столе бумаги. Все молчали. Эрве начал задыхаться, судорожно вынул платок и высморкался.
– Хорошо, что вы прочли письмо, – тихо сказал Мэро. – Хорошо, я знаю… Но позвольте мне уйти, я не могу дольше оставаться.
Мэро вышел. Дюфур сидел с потухшей папиросой во рту.
Мэро заперся в своей комнате, подошел к окну и заплакал. Колючая тяжесть в груди причиняла боль. Мэро думал, что она растворится от слез, стекавших по его желтым щекам, но она все усиливалась, и Мэро уж ничего не видел за окном, – звезды мутными пятнами расползались по стеклу.
Ему было жаль умершего, жаль молодую осиротевшую женщину, жаль себя, Эрве, всех, кто так бесприютен, затерян в этом громадном и неласковом мире.
Поздно вечером Мэро вошел в комнату Ньюстэда. Норвежец стоял у стола и рвал какие-то бумаги.
– Ньюстэд, – сказал Мэро, – я уезжаю. Я хочу сам отвезти письмо в Бриэк. Я, как и вы, на время бросаю обсерваторию.
– Что ж, – ответил Ньюстэд, – ведь у вас нет ни сына, ни дочери… Это понятно.
Мэро с благодарностью посмотрел на Ньюстэда. Ньюстэд обнял его за плечи и сказал:
– Мы никогда не должны забывать друг друга.
– Конечно, – ответил Мэро.
У себя в комнате Мэро увидел на столе последние астрономические вычисления и тщательно спрятал их в ящик.
Созвездие Гончих Псов играло далеким светом за стеклами, и Мэро, взглянув на него, подумал, что Бриэк лежит как раз в той стороне.
Утром ни Ньюстэд, ни Мэро не уехали. На рассвете в обсерваторию прибежала из города измученная женщина, мать девочки. Голосом, хриплым от волнения, она рассказала, что городок занят небольшим отрядом фашистов, что аптекарь донес командиру отряда, будто в обсерватории скрывается раненый человек, летевший из Франции в Мадрид, и утром отряд выступает в обсерваторию.
– Они думают, что он вез секретные бумаги, и хотят его расстрелять, – сказала женщина. – Так хвастались солдаты.
– Единственная секретная бумага погибшего у меня, – сказал Мэро. – Я ее никому не отдам.
Женщина посмотрела на Мэро с удивлением. Она не поняла слов этого старика.
Снова был созван военный совет.
– Что же делать? – спросил Бодэн.
– Не выдавать его, даже мертвого, – ответил Ньюстэд.
Дюфур не удержался.
– Придется защищать от них звезды, – сказал он, усмехаясь. – Их много? – спросил он женщину.
– Тридцать человек.
– Все равно, – сказал Ньюстэд. – Начнем действовать.
– Конечно, – согласился Дюфур. – Для астрономов не составит труда разбить эту воинскую часть. Тем более что в ней нет наших собратьев по науке, и потому даже Эрве может участвовать в схватке.
Через час шофер и Ньюстэд привезли на машине двадцать винтовок, патроны и пулемет. Они подобрали их среди обломков самолета. Несколько винтовок было испорчено, пулемет тоже. Шофер к полудню починил его и хотел испробовать, но Ньюстэд запретил пробу, – звуки выстрелов могли заставить отряд насторожиться раньше времени.
Ньюстэд распоряжался невозмутимо. По молчаливому соглашению он был избран начальником вооруженной обсерватории. Вопреки его ожиданиям, никто не сомневался в необходимости дать отпор отряду, подымавшемуся из долины. Непонятное веселье охватило обитателей обсерватории, – очевидно, то возбуждение, какое появляется у человека во время большой опасности.
План обороны был прост. Он был рассчитан на то, чтобы ошеломить нападавших и взять их под перекрестный огонь. Это, по мнению Ньюстэда, должно было привести к бесспорной победе.
Невдалеке от обсерватории, на скале, установили пулемет. Со скалы было удобно обстреливать поворот дороги. У пулемета лежал шофер. Около него дежурили с винтовками садовник и Ньюстэд. Садовник замаскировал пулемет и скалу сухими дубовыми ветками.
Дюфур наблюдал за дорогой в искатель малого телескопа. За пятнадцать километров были хорошо видны ее белые безлюдные изгибы.
Вход в обсерваторию был забаррикадирован тяжелыми ящиками от инструментов.
Бодэн, Эрве и Мэро сидели на скамейке около ограды, откуда им был виден тот же поворот дороги, что и Ньюстэду, засевшему на скале. Эрве впервые за многие годы закурил. Три старика тихо беседовали, и только по сухому блеску их глаз можно было догадаться, что они взволнованы.
Винтовки стояли поодаль, прислоненные к стене. Был солнечный день, с гор дул прохладный ветер, и белый петух взлетел на ограду и кричал, хлопая крыльями. Было слышно, как в кухне Тереза громко беседовала с горожанкой и говорила, что старики, пожалуй, еще могут постоять за себя.
Никто из астрономов не верил, что бой действительно будет. Мэро следил за тенью от мачты. Она сначала закрыла одну винтовку, потом другую и уже подходила к третьей.
– Может быть, они повернули обратно? – спросил Бодэн, и в голосе его послышалась тревога.
– Эй, вы, – сказал Мэро, – старый наполеоновский гвардеец! Потерпите еще час-другой, не огорчайтесь!
Мэро смотрел на тень мачты. Она закрыла уже третью винтовку. Что-то темное поползло рядом с тенью. Мэро поднял голову и увидел флаг. Он подымался вверх, раскрываясь и шурша. Это Дюфур давал знать Ньюстэду, что на дороге замечен отряд.
– Наконец-то старина Дюфур высмотрел то, что ему нужно, – сказал Бодэн.
Он вздрагивал от волнения. Быстро подошел Дюфур.
– Двадцать пять! – прокричал он возбужденно. – Двадцать пять королевских молодчиков! Впереди идет командир, рыжий, как огонь.
– Почему вы думаете, что это командир? – спросил Мэро.
– С каких пор вы начали сомневаться в точности наших приборов? Я видел нашивки на его воротнике.
– Ну, в таком случае мы не спорим, – сказал, улыбаясь, Эрве.
– Они будут на повороте через двадцать минут, – сказал Дюфур.
– Если не ошибаюсь, – пробормотал Бодэн, – тот способ обстрела, который предложил нам Ньюстэд, носит название флангового огня?
– Совершенно верно, – подтвердил Дюфур. – Они попадут в засаду. Но вы подумали, что нам делать, если они все же прорвутся через ограду?
– Они не прорвутся, – сказал Мэро, – или мы умрем.
– Надо предвидеть всё, – возразил Эрве. – Мы можем отступить на наблюдательные вышки. Их три, и все они построены из гранита. Посмотрите: лесенка, балкончик, железная дверь. Два узких окна заменят бойницы. Других окон нет.
– Замечательные боевые сооружения! – воскликнул Бодэн. – Как мы раньше не видели этого?
– Это будет лучше всего, – сказал Мэро. – По крайней мере, мы погибнем, как принято писать в военных приказах, на боевом посту, около своих спектрографов и зеркал.
Все засмеялись. Никто не верил в возможность настоящего боя.
– Но в общем, – сказал Дюфур, – пора идти за Терезой.
Он позвал Терезу. Ее появление прекратило шутки. Тереза была в короткой юбке, а грудь она крест-накрест туго перевязала черным платком. Она осмотрела винтовки, выбрала себе самую новую и сказала:
– Девчонкой отец учил меня стрелять по коршунам. Они часто воровали у нас цыплят.
– Ну, друзья, – сказал Бодэн, – давайте приготовимся.
Старики взяли винтовки. Каждый из них уже давно выбрал себе выступ ограды, из-за которого собирался стрелять.
Дюфур посмотрел на часы.
– Очень скоро, – сказал он шепотом.
Все, кроме Мэро, заняли свои места. Мэро решил подойти к ограде в последнюю минуту, – ему было трудно стоять.
– Как будто видна пыль, – таинственно сказал Бодэн.
– Посмотрите, Тереза.
– Недавно стаял снег, – ответила так же тихо Тереза. – Откуда же быть пыли?
Мэро потрогал карман. В нем зашуршало письмо в Бриэк. Он предупредил всех, что письмо у него, и потому был спокоен.
– А! – тихо вскрикнул Дюфур.
Мэро торопливо подошел к своему выступу. Все, не двигаясь, смотрели на дорогу. Из-за поворота медленно выходили солдаты. Они несли винтовки на ремнях и шли вразброд.
– Когда будете нажимать спуск, старайтесь не дышать, – предупредила Тереза.
– Вы настоящая маркитантка, Тереза, – ответил Дюфур. – Но почему же Ньюстэд так долго молчит?
– Наш шофер был на фронте. Он знает, когда начинать.
Дорога уже чернела от солдат. Они остановились, пропуская вперед офицера, и в ту же минуту торопливо забил и залаял пулемет Ньюстэда. Желтые дубовые листья полетели вихрем. Горное эхо перебрасывало стук пулемета со скалы на скалу; он отскакивал от отвесных стен, шарахался с размаху на дно пропастей, падал, подымался, звучал то глухо, то нарастал до оглушительного треска, будто стальные молотки били по пустым пароходным котлам. Щебень и пули свистели по дороге. Солдаты бросились за каменный парапет. Офицер что-то кричал, закрывая рукой голову, потом упал и больше не двигался. Дюфур насчитал на дороге десять упавших, но в это время первая пуля звякнула об ограду и с тихим воем прошла рикошетом через сад, сбив несколько веток со старой сосны.
– Друзья, – крикнул Бодэн, – не зевайте!
Солдаты, лежавшие за парапетом, не были видны Ньюстэду, но их легко было обстреливать из-за ограды. Первым выстрелил Бодэн. Тереза щурилась, у нее из-под платка выбилась прядь седых волос, и она, сердясь, судорожно и часто ее поправляла. Дюфур долго целился и стрелял спокойно. Эрве старался попасть в парапет: от удачных выстрелов над ним взвивались белые струйки пыли. У Мэро после первого же выстрела заболело плечо от удара прикладом, но он продолжал стрелять, почти не целясь.
Часть солдат перенесла огонь на ограду. Все чаще щелкали пули. Белый петух, испуганный выстрелами, с кудахтаньем взлетел на сосну, сорвался и тяжело ударился о землю – он был разорван пулей.
Огонь учащался. Мэро слышал за своей спиной звон стекла. Пули били по окнам второго этажа. Он подумал, что лаборатория в первом этаже, и это очень хорошо, – все приборы останутся целы.
Пулеметные пули прошли по верхушке ограды и запорошили пылью глаза.
– Все по пулеметчику! – приказал Бодэн. – У них один пулемет, больше нет. Как они успели его поставить!
Мэро стрелял, почти не сознавая, что происходит. Очень трудно было вставлять обойму в винтовку. Он несколько раз больно защемил себе кожу на ладони, из пальца текла кровь.
Он видел, как солдаты медленно отползли вниз по склону, прячась за камнями. Судя по выражению их лиц, они что-то кричали и ругались. Он хорошо видел ноги пулеметчика – очень худые и кривые, в грязных обмотках. Потом он увидел, как пулеметчик привстал, упал на бок и покатился по крутому склону, точно зеленый мешок. Он докатился до дубового куста и застрял в нем.
Пулемет затих. Теперь работал только пулемет Ньюстэда. Солдаты вскочили и побежали, пригибаясь к земле. Они прыгали вниз, с камня на камень, некоторые бросали винтовки.
Мэро видел, как Ньюстэд и шофер быстро спустили пулемет со скалы на дорогу, бегом прокатили его до поворота и залегли. Снова пулемет задрожал и залаял, и по дороге понеслись длинные ленты пыли. Ньюстэд махал рукой.
– Поздравляю вас, старики, – сказал Дюфур. – Они отступают.
– Значит, это конец? – спросил Эрве.
– Да, мы, кажется, ловко отделались, – ответил Бодэн.
Пулемет стих. Раздался последний одинокий выстрел. Это еще стреляла Тереза. Эрве потряс ее за плечо. На дороге видно было всего несколько солдат, бежавших вниз. Они исчезли за поворотом.
Мэро бросил винтовку и выпрямился. Солнце сверкало над головой. Тишина плыла над горами. Мэро вздохнул. Воздух был напитан запахом листьев и корней.
Снова стало слышно, как ручей шумит на дне пропасти. Амфитеатр гор, залитых солнцем, сверкал и переливался красками поздней осени, и Мэро улыбнулся. Он знал: у него есть дочь где-то там, в Бриэке, есть родная душа в этом мире, есть друзья – астрономы, старые, но храбрые люди. Он чувствовал себя так, будто только что завоевал право на жизнь, на обладание всем миром, шумевшим внизу, в когда-то чуждых долинах.
Тереза улыбнулась Мэро. Он обнял ее, и они расцеловались, как старики – брат и сестра. Было слышно, как Ньюстэд пел на дороге какую-то норвежскую песенку.
В тот же день остатки фашистов были выбиты одним ударом из городка отрядом басков, и Мэро и Ньюстэд тотчас уехали. Их провожали очень шумно, но никто не мог скрыть грусти этого прощания.
Снова тишина завладела обсерваторией, и, как всегда, звездное небо сверкало над ней по ночам и до рассвета прислушивалось к тихим голосам астрономов, медленным шагам садовника и к плеску старого ручья на дне ущелья.
1936
Мещерская сторона
Обыкновенная земля
В Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен – так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы.
Что можно увидеть в Мещерском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму.
Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шел холодный дождь и ветер налетал косыми ударами.
В Мещерском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и тихо, что бубенчик-«болтун» заблудившейся коровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. В ветер леса шумят великим океанским гулом и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам.
В Мещерском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами звезды.
Что можно услышать в Мещерском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам – разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа.
Но увидеть и услышать так мало можно только в первые дни. Потом с каждым днем этот край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу. И, наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории.
Я нарушил обычай географов. Почти все географические книги начинаются одной и той же фразой: «Край этот лежит между такими-то градусами восточной долготы и северной широты и граничит на юге с такой-то областью, а на севере – с такой-то». Я не буду называть широт и долгот Мещерского края. Достаточно сказать, что он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком «великого пояса хвойных лесов». Он тянулся некогда от Полесья до Урала. В него входили леса: Черниговские, Брянские, Калужские, Мещерские, Мордовские и Керженские. В этих лесах отсиживалась от татарских набегов древняя Русь.
Первое знакомство
Впервые я попал в Мещерский край с севера, из Владимира.
За Гусем-Хрустальным, на тихой станции Тума, я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времен Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище: «мерин». Он и вправду был похож на старого мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходили покурить. Лесное безмолвие стояло вокруг задыхавшегося «мерина». Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны.
Пассажиры с вещами сидели на площадках – вещи в вагон не влезали. Изредка в пути с площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, плотничьи пилы, а за вещами выскакивал и их обладатель, нередко довольно древняя старуха. Неопытные пассажиры пугались, а опытные, скручивая «козьи ножки» и поплевывая, объясняли, что это самый удобный способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне.
Узкоколейка в Мещерских лесах – самая неторопливая железная дорога в Союзе.
Станции завалены смолистыми бревнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами.
На станции Пилево в вагон влез косматый дед. Он перекрестился в угол, где дребезжала круглая чугунная печка, вздохнул и пожаловался в пространство:
– Чуть что, сейчас берут меня за бороду – езжай в город, подвязывай лапти. А того нет в соображении, что, может, ихнее это дело копейки не стоит. Посылают меня до музею, где советское правительство собирает карточки, прейскуранты, все такое прочее. Посылают с заявлением.
– Чего брешешь?
– Ты гляди – вот!
Дед вытащил измятую бумажку, сдул с нее махру и показал бабе-соседке.
– Манька, прочти, – сказала баба девчонке, тершейся носом об окно.
Манька обтянула платье на исцарапанных коленках, подобрала ноги и начала читать хриплым голосом:
– «Собчается, что в озере живут незнакомые птицы, громадного росту, полосатые, всего три; неизвестно, откуль залетели, – надо бы взять живьем для музею, а потому присылайте ловцов».
– Вот, – сказал дед горестно, – за каким делом теперь старикам кости ломают. А все Лешка-комсомолец. Язва – страсть! Тьфу!
Дед плюнул. Баба вытерла круглый рот концом платка и вздохнула. Паровоз испуганно посвистывал, леса гудели и справа и слева, бушуя, как озеро. Хозяйничал западный ветер. Поезд с трудом прорывался через его сырые потоки и безнадежно опаздывал, отдуваясь на пустых полустанках.
– Вот оно существование наше, – повторял дед. – Летошний год гоняли меня в музею, сегодняшний год опять!
– Чего в летошний год нашли? – спросила баба.
– Торчак!
– Чегой-то?
– Торчак. Ну, кость древнюю. В болоте она валялась. Вроде олень. Роги – с этот вагон. Прямо страсть. Копали его цельный месяц. Вконец измучился народ.
– На кой он сдался? – спросила баба.
– Ребят по ём будут учить.
Об этой находке в «Исследованиях и материалах областного музея» сообщалось следующее:
«Скелет уходил в глубь трясины, не давая опоры для копачей. Пришлось раздеться и спуститься в трясину, что было крайне трудно из-за ледяной температуры родниковой воды. Огромные рога, как и череп, были целы, но крайне непрочны вследствие полнейшей мацерации (размачивания) костей. Кости разламывались прямо в руках, но по мере высыхания твердость костей восстанавливалась».
Был найден скелет исполинского ископаемого ирландского оленя с размахом рогов в два с половиной метра.
С этой встречи с косматым дедом началось мое знакомство с Мещерой. Потом я услышал много рассказов и о зубах мамонта, и о кладах, и о грибах величиной с человеческую голову. Но этот первый рассказ в поезде запомнился мне особенно резко.
Старинная карта
С большим трудом я достал карту Мещерского края. На ней была пометка: «Карта составлена по старинным съемкам, произведенным до 1870 года». Карту эту мне пришлось исправлять самому. Изменились русла рек. Там, где на карте были болота, кое-где уже шумел молодой сосновый лес; на месте иных озер оказались трясины.
Но все же пользоваться этой картой было надежнее, чем заниматься расспросами местных жителей. С давних пор так уж повелось у нас на Руси, что никто столько не напутает, когда объясняет дорогу, как местный житель, особенно если он человек разговорчивый.
– Ты, милый человек, – кричит местный житель, – других не слухай! Они тебе такого наговорят, что ты жизни будешь не рад. Ты меня одного слухай, я эти места наскрозь знаю. Иди до околицы, увидишь по левой руке избу-пятистенку, возьми от той избы на правую руку по стежке через пески, дойдешь до Прорвы и вали, милый, край Прорвы, вали, не сумлевайся, до самой до горелой ивы. От нее возьмешь чуть-чуть к лесу, мимо Музги, а за Музгой подавайся круто к холмищу, а за холмищем дорога известная – через мшары до самого озера.
– А сколько километров?
– А кто его знает? Может, десять, а может, и все двадцать. Тут километры, милый, немереные.
Я пытался следовать этим советам, но всегда или горелых ив оказывалось несколько, или не было никакого приметного холмища, и я, махнув рукой на рассказы туземцев, полагался только на собственное чувство направления. Оно почти никогда меня не обманывало.
Туземцы всегда объясняли дорогу со страстью, с неистовым увлечением.
Меня это вначале забавляло, но как-то мне самому пришлось объяснять дорогу на озеро Сегден поэту Симонову, и я поймал себя на том, что рассказывал ему о приметах этой запутанной дороги с такой же страстью, как и туземцы.
Каждый раз, когда объясняешь дорогу, будто снова проходишь по ней, по всем этим привольным местам, по лесным проселкам, усеянным цветами бессмертника, и снова испытываешь легкость на душе. Эта легкость всегда приходит к нам, когда путь далек и нет на сердце забот.
Несколько слов о приметах
Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их – очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом – каждую осень встречаешь все тот же огненный куст рябины за Лариным прудом или все ту же зарубку, сделанную тобой на сосне. С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой смолой.
Приметы на дорогах – это не главные приметы. Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время.
Примет так много, что о них можно было бы написать целую книгу. В городах приметы нам не нужны. Огненную рябину заменяет эмалированная синяя табличка с названием улицы. Время узнается не по высоте солнца, не по положению созвездий и даже не по петушиным крикам, а по часам. Предсказания погоды передаются по радио. В городах большинство наших природных инстинктов погружается в спячку. Но стоит провести две-три ночи в лесу, и снова обостряется слух, зорче делается глаз, тоньше обоняние.
Приметы связаны со всем: с цветом неба, с росой и туманами, с криком птиц и яркостью звездного света.
В приметах заключено много точного знания и поэзии. Есть приметы простые и сложные. Самая простая примета – это дым костра. То он подымается столбом к небу, спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то стелется туманом по траве, то мечется вокруг огня. И вот к прелести ночного костра, к горьковатому запаху дыма, треску сучьев, перебеганию огня и пушистому белому пеплу присоединяется еще и знание завтрашней погоды.
Глядя на дым, можно определенно сказать, будет ли завтра дождь, ветер или снова, как сегодня, солнце подымется в глубокой тишине, в синих прохладных туманах. Безветрие и теплоту предсказывает и вечерняя роса. Она бывает такой обильной, что даже блестит ночью, отражая свет звезд. И чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день.
Это все очень несложные приметы. Но есть приметы сложные и точные. Иногда небо вдруг кажется очень высоким, а горизонт сжимается, кажется близким, до горизонта как будто не больше километра. Это признак будущей ясной погоды.
Иногда в безоблачный день вдруг перестает брать рыба. Реки и озера мертвеют, как будто из них навсегда ушла жизнь. Это верный признак близкого и длительного ненастья. Через день-два солнце взойдет в багровой зловещей мгле, а к полудню черные облака почти коснутся земли, задует сырой ветер и польются томительные, нагоняющие сон обложные дожди.
Возвращение к карте
Я вспомнил о приметах и отвлекся от карты Мещерского края.
Изучение незнакомого края всегда начинается с карты. Это занятие не менее интересное, чем изучение примет. По карте можно странствовать так же, как по земле, но потом, когда попадаешь на эту настоящую землю, сразу же сказывается знание карты – уже не бродишь вслепую и не тратишь времени на пустяки.
На карте Мещерского края внизу, в самом дальнем углу, на юге, показан изгиб большой полноводной реки. Это Ока. К северу от Оки тянется лесистая и болотистая низина, к югу – давно обжитые, населенные рязанские земли. Ока течет по рубежу двух совершенно разных, очень непохожих пространств.
Рязанские земли хлебные, желтые от ржаных полей, кудрявые от яблоневых садов. Околицы рязанских деревень часто сливаются друг с другом, деревни разбросаны густо, и нет такого места, откуда бы не была видна на горизонте одна, а то и две-три еще уцелевшие колокольни. Вместо лесов по склонам логов шумят березовые рощи.
Рязанская земля – земля полей. К югу от Рязани уже начинаются степи.
Но стоит переправиться на пароме через Оку, и за широкой полосой приокских лугов уже стоят темной стеной Мещерские сосновые леса. Они идут к северу и востоку, в них синеют круглые озера. Эти леса скрывают в своей глубине громадные торфяные болота.
На западе Мещерского края, на так называемой Боровой стороне, среди сосновых лесов лежат в мелколесье восемь боровых озер. К ним нет ни дорог, ни троп, и добраться до них можно только через лес по карте и компасу.
У этих озер одно очень странное свойство: чем меньше озеро, тем оно глубже. В большом Митинском озере всего четыре метра глубины, а в маленьком Удемном – семнадцать метров.
Мшары
К востоку от Боровых озер лежат громадные Мещерские болота – «мшары», или «омшары». Это заросшие в течение тысячелетий озера. Они занимают площадь в триста тысяч гектаров. Когда стоишь среди такого болота, то по горизонту ясно виден бывший высокий берег озера – «материк» – с его густым сосновым лесом. Кое-где на мшарах видны песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником, – бывшие острова. Местные жители до сих пор так и зовут эти бугры «островами». На «островах» ночуют лоси.
Как-то в конце сентября мы шли мшарами к Поганому озеру. Озеро было таинственное. Бабы рассказывали, что по его берегам растут клюква величиной с орех и поганые грибы «чуть поболее телячьей головы». От этих грибов озеро и получило свое название. На Поганое озеро бабы ходить опасались – около него были какие-то «зеленущие трясины».
– Как ступишь ногой, – рассказывали бабы, – так вся земля под тобой ухнет, загудит, заколышется, как зыбка, ольха закачается, и вода ударит из-под лаптей, прыснет в лицо. Ей-богу! Прямо такие страсти – сказать невозможно. А самое озеро без дна, черное. Ежели какая молодая бабенка на него глянет – враз сомлеет.
– Отчего сомлеет?
– От страху. Так тебя страхом и дерет по спине, так и дерет. Мы как на Поганое озеро наткнемся, так бяжим от него, бяжим до первого острова, там только и отдышимся.
Бабы нас раззадорили, и мы решили обязательно дойти до Поганого озера. По пути мы заночевали на Черном озере. Всю ночь шумел по палатке дождь. Вода тихо ворчала в корнях. В дожде, в непроглядном мраке выли волки.
Черное озеро было налито вровень с берегами. Казалось, стоит подуть ветру или усилиться дождю, и вода затопит мшары и нас вместе с палаткой и мы никогда не выйдем из этих низких, угрюмых пустошей.
Всю ночь мшары дышали запахом мокрого мха, коры, черных коряг. К утру дождь прошел. Серое небо низко провисало над головой. От того, что облака почти касались верхушек берез, на земле было тихо и тепло. Слой облаков был очень тонок – сквозь него просвечивало солнце.
Мы свернули палатку, взвалили на себя рюкзаки и пошли. Идти было трудно. Прошлым летом по мшарам прошел низовой пожар. Корни берез и ольхи подгорели, деревья свалились, и мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы. Шли мы по кочкам, а между кочками, там, где кисла рыжая вода, торчали острые, как колья, корни берез. Их зовут в Мещерском крае колками.
Мшары заросли сфагнумом, брусникой, гонобобелем, кукушкиным льном. Нога тонула в зеленых и серых мхах по самое колено.
За два часа мы прошли только два километра. Впереди показался «остров». Из последних сил, перелезая через завалы, изодранные и окровавленные, мы добрались до лесистого бугра и упали на теплую землю, в заросли ландышей. Ландыши уже созрели – меж широких листьев висели твердые оранжевые ягоды. Сквозь ветки сосен просвечивало бледное небо.
С нами был писатель Гайдар. Он обошел весь «остров». «Остров» был небольшой, со всех сторон его окружали мшары, только далеко на горизонте были видны еще два «острова».
Гайдар закричал издали, засвистел. Мы нехотя встали, пошли к нему, и он показал нам на сырой земле, там, где «остров» переходил в мшары, громадные свежие следы лося. Лось, очевидно, шел большими скачками.
– Это его тропа на водопой, – сказал Гайдар.
Мы пошли по лосиному следу. У нас не было воды, хотелось пить. В ста шагах от «острова» следы привели нас к небольшому «окну» с чистой, холодной водой. Вода пахла йодоформом. Мы напились и вернулись обратно.
Гайдар пошел искать Поганое озеро. Оно лежало где-то рядом, но его, как и большинство озер во мшарах, было очень трудно найти. Озера окружены такими густыми зарослями и высокой травой, что можно пройти в нескольких шагах и не заметить воды.
Гайдар не взял компаса, сказал, что найдет обратную дорогу по солнцу, и ушел. Мы лежали на мху, слушали, как падают с веток старые сосновые шишки. Какой-то зверь глухо протрубил в дальних лесах.
Прошел час. Гайдар не возвращался. Но солнце было еще высоко, и мы не тревожились – Гайдар не мог не найти дорогу обратно.
Прошел второй час, третий. Небо над мшарами стало бесцветным; потом серая стена, похожая на дым, медленно наползла с востока. Низкие облака закрыли небо. Через несколько минут солнце исчезло. Только сухая мгла стлалась над мшарами.
Без компаса в такой мгле нельзя было найти дорогу. Мы вспомнили рассказы о том, как в бессолнечные дни люди кружили в мшарах на одном месте по нескольку суток.
Я влез на высокую сосну и стал кричать. Никто не отзывался. Потом очень далеко откликнулся чей-то голос. Я прислушался, и неприятный холод прошел по спине: в мшарах, как раз в той стороне, куда ушел Гайдар, уныло подвывали волки.
Что же делать? Ветер дул в ту сторону, куда ушел Гайдар. Можно было разжечь костер, дым потянуло бы в мшары, и Гайдар мог бы вернуться на «остров» по запаху дыма. Но этого нельзя было делать. Мы не условились об этом с Гайдаром. В болотах часто бывают пожары. Гайдар мог принять этот дым за приближение пожара и, вместо того чтобы идти к нам, начал бы уходить от нас, спасаясь от огня.
Пожары в высохших болотах – самое страшное, что можно испытать в этих краях. От них трудно спастись – огонь идет очень быстро. Да и куда уйдешь, когда до горизонта лежат сухие, как порох, мхи, и спастись можно, да и то не наверняка, только на «острове» – огонь почему-то обходит иногда лесистые «острова».
Мы кричали все сразу, но нам отвечали только волки. Тогда один из нас ушел с компасом в мшары – туда, где исчез Гайдар.
Спускались сумерки. Вороны летали над «островом» и каркали испуганно и зловеще.
Мы кричали отчаянно, потом все же разожгли костер – быстро темнело, – и теперь Гайдар мог выйти на огонь костра.
Но в ответ на наши крики не было слышно никакого человеческого голоса, и только в глухие сумерки где-то около второго «острова» вдруг загудел и закрякал, как утка, рожок автомобиля. Это было нелепо и дико – откуда мог появиться автомобиль в болотах, где с трудом проходил человек?
Автомобиль явно приближался. Он гудел настойчиво, а через полчаса мы услышали треск в завалах, автомобиль крякнул в последний раз где-то совсем рядом, и из мшар вылез улыбающийся, мокрый, измученный Гайдар, а за ним и наш товарищ – тот, что ушел с компасом.
Оказывается, Гайдар слышал наши крики и все время отвечал, но ветер дул в его сторону и отгонял голос. Потом Гайдару надоело кричать, и он начал крякать – подражать автомобилю.
До Поганого озера Гайдар не дошел. Ему встретилась одинокая сосна, он влез на нее и увидел вдали это озеро. Гайдар поглядел на него, выругался, слез и пошел обратно.