Читать онлайн Дроздовцы в огне бесплатно
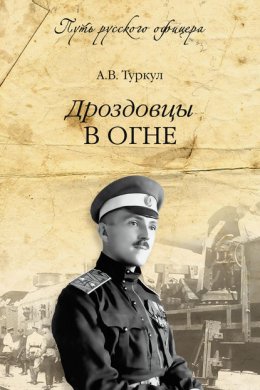
© Оформление. ООО «Издательство „Вече“», 2013
Предисловие автора[1]
К 30-й годовщине Белой борьбы я решил переиздать свои заметки. Не без колебаний предпринимаю я это.
Тридцать лет отделяют нас от той поры, когда мы взялись за оружие, чтобы бороться с захлестывавшей тогда Россию большевистской волной. На нашу долю выпала горечь и честь быть первыми, начавшими эту борьбу. Мы начали ее, когда многим еще не ясны были контуры того всепоглощающего рабства и погашения духа, которые безбожное, материалистическое коммунистическое учение несло с собою не только России, но и всему миру.
Три года длилась эта борьба, ведшаяся с нечеловеческим напряжением и стоившая неисчислимых жертв. В свое время она создала ров между ведшими ее сторонами, между «нами» и «ими». Под «ними» я разумею не коммунистическую власть, еще и теперь продолжающую править над порабощенными народами России – этот ров непреодолим, и никакое время не в состоянии его заполнить. Под «ними» я разумею тех, кто, одурманенный и обманутый этой властью, пошел за нею в годы борьбы и дал ей победу той стойкостью и той жертвенностью, что всегда были свойственны русскому солдату.
«Им» эта победа не принесла ничего. Страшной ценой заплатил народ за свою поддержку советской власти. Вся история России после 1920 года, т. е. после окончания Белой борьбы, – это цепь непрерывных усилий народа в восстаниях, заговорах или путем пассивного сопротивления сбросить поработившую его власть. Эта борьба обошлась ему дороже самых кровопролитных войн.
Советская власть сама позаботилась засыпать ров между «нами» и «ими»; многие из наших бывших противников, участников борьбы на красной стороне, уничтожены красной же рукой; многие, как и мы, тоже очутились в изгнании. И не старый ров между «нами» и «ими» хотел я углублять своими воспоминаниями; нам, бывшим белым и бывшим красным, ныне просто русским, нужно единство для еще предстоящей нам общей борьбы с коммунизмом.
Помимо того, над старыми местами боев «белых» и «красных» прошел кровавый вал Второй мировой войны. Новая русская кровь пролилась на тех же полях, где спят в ожидании Вечного Судьи бывшие враги, белые и красные. В грандиозном размахе событий последней войны бледнеют бои войны Гражданской, протекавшей на ином уровне техники. Некоторые читатели могут спросить, может ли им быть интересно описание боев позапрошлой войны. Но мои воспоминания и не преследуют этой цели.
Цель этой книги – воскресить истинный образ рядовых белых бойцов, безвестных русских офицеров и солдат, и дать почувствовать ту правду и то дыхание жизни, что воодушевляли их в борьбе за Россию. Два поколения русских людей выросли после окончания Белой борьбы; в течение тридцати лет советская пропаганда сознательно извращала их представление о людях и делах «белой» стороны – мои воспоминания помогут им получить более объективное представление.
Нет сомнений – последние сроки приблизились: предстоит «последний и решительный бой» за освобождение России. Да будут в предстоящей нам борьбе образы наших соратников, павших в первых боях с большевизмом, тем примером духа, который воодушевит нас на самоотверженное и бескорыстное служение Родине.
Настоящая книга не является историей Дроздовской стрелковой дивизии, пронесшей свои знамена в огне более чем шестисот пятидесяти боев Гражданской войны и пролившей жертвенную кровь своих 15 000 убитых и 35 000 раненых бойцов.
Историю я тогда не имел времени писать. Боевые документы и дневники умещались у меня в одной сумке. Ее я потерял в огне. Все архивы тоже погибли. Зимой 1933 года я начал рассказывать писателю И. С. Лукашу, также участнику Белого движения, все то, что живо запечатлелось у меня в памяти о славной Дроздовской дивизии. Это были не воспоминания, а впечатления о боевом огне, живые для меня навсегда.
Затем я стал получать заметки, боевые дневники, записки и документы от своих бывших соратников. После обработки все это собрано в книгу о дроздовцах. Я горячо благодарен за эту помощь всем соратникам и моему неутомимому сотруднику, ныне покойному, Ивану Созонтовичу Лукашу.
«Дроздовцы в огне» не воспоминания и не история – это живая книга о живых, боевая правда о том, какими были в огне, какими должны быть и неминуемо будут русские белые солдаты.
Книгу я посвящаю русской молодежи.
А. ТУРКУЛ
Апрель 1948 г.
Наша заря
…Я вбегаю по ступенькам деревянной лестницы к нам в юнкерскую, на верхний этаж нашего тираспольского дома, смотрю: а через спинку кресла перекинут френч моего брата Николая с белым офицерским Георгием. Николай, сибирский стрелок, приехал с фронта раньше меня, и я не знал ни о его третьем ранении, ни об ордене Святого Георгия. В третий раз Николай был ранен тяжело, в грудь.
Я приехал с фронта тоже после третьего ранения: на большой войне я был ранен в руку, в ногу и в плечо. Мы были рады нечаянной и недолгой встрече: врачи настояли на отъезде брата в Ялту – простреленная грудь грозила чахоткой. Это было в конце 1916 года. Вскоре я снова уехал на фронт. И вот на фронте застиг меня 1917 год.
Я представляю себя самого тогдашнего, штабс-капитана 75-го пехотного Севастопольского полка, молодого офицера, который был потрясен национальным бедствием революции, как и тысячи других среди военной русской молодежи.
Моя жизнь и судьба неотделимы от судьбы русской армии, захваченной национальной катастрофой, и в том, что я буду рассказывать, хотел бы я только восстановить те армейские дела, в которых я имел честь участвовать, и тех армейских людей, с кем я имел честь стоять в огне заодно.
В разгар 1917 года, когда замитинговал и наш полк, я стал в нашей дивизии формировать ударный батальон.
Надо сказать, что почти с начала войны у меня служил ординарцем ефрейтор Курицын, любопытный солдат. Ему было лет под сорок. Рыжеватый, с нафабренными усами, он был горький пьяница и веселый человек. Звали его Иваном Филимоновичем. До войны он был кровельщиком, во Владимирской губернии у него остались жена и четверо ребят. Курицын очень привязался ко мне.
В 1917 году я отправил его в отпуск и в армейском развале забыл о моем Санчо Панса. И вот внезапно он явился ко мне, но в каком виде: оборванец, в ветоши, в синяках и без сапог.
– Ты что же, – сказал я ему, – ну не образина ли ты, братец. Обмундирование и то пропил…
– Никак нет, не пропил. Меня товарищи раздели.
И Курицын поведал мне, как он приехал из отпуска в наш полк, а меня в полку нет, и комитетчики злобятся, что я отбираю ударников. Иван Филимонович не пожелал оставаться в развалившемся полку и подал докладную по команде, чтобы его из полка отправили ко мне.
Тут и начались испытания ефрейтора Курицына. Комитетчики всячески его оскорбляли, «холуем» бранили, что «ряшку в денщиках нажрал», доходило и до затрещин, а потом на митинге проголосовали отобрать от него все обмундирование, сапоги, казенные подштанники, даже портянки, а выдать самую ветошь. Потому-то Иван Филимонович и явился ко мне чуть ли не нагишом.
Он стоит передо мной, а мне вспоминаются Карпаты, ночь, снег. В ночной атаке на Карпатах я был ранен в ногу. Атаку отбили, наши отошли. Я остался лежать в глубоком снегу, не мог подняться, кость нестерпимо мозжила; я горел и глотал снег. Помню сухие содрогания пулеметного огня, и как надо мной в морозной мгле роились звезды.
Иван Филимонович тогда подобрался ко мне и поволок меня под мышки по снегу. Я невольно застонал. Он прошептал мне сердито, чтобы я молчал. Так он вынес меня из огня. Сам он был ранен в грудь; на груди шинель его была черной от крови и клубилась паром.
Я вспоминаю его на Карпатах, так же как и другого ефрейтора, Горячего, рядового Розума и рядового Засунько и тысячи тысяч других русских солдат, верных присяге и долгу, спящих теперь вповалку в братских могилах до трубы архангела.
И думаю, что они, наши светлоглазые русские орлы, послушные во всем, даже в самой смерти, верящие офицеру и верные ему всей душой, они и создали героическую молодежь, для которой солдат всегда был младшим братом, – героическую молодежь, три года отбивавшую от советского рабства Россию. Мы бились за русский народ, за его свободу и душу, чтобы он, обманутый, не стал советским рабом.
Возвратившегося Ивана Филимоновича я поблагодарил за верную службу, а его жене во владимирское село послал сколько мог денег. Самому Курицыну дать деньги поостерегся: все равно пропьет.
Это было после развала 12-й армии, когда в 3-ю Особую дивизию был переброшен мой ударный батальон. Там Курицын и напросился доставить ко мне домой трех моих коней. Кони действительно были хороши, и заплатил я за них хорошо, но их надо было везти в Тирасполь, чуть ли не через всю Россию, в самую разруху.
Жалел коней и мой вестовой сибиряк Павел Дроздов. Дроздов был солдат заботливый. В глинистых окопах, полных воды, если у меня промокнут ноги, обязательно найдутся у Павла шерстяные носки на перемену, всегда есть чистое белье, а горячие котелки из кухонь он мне носил под самым огнем. Сибиряк был человек суровый, любитель порядка и спорщик по домашним делам.
Павел Дроздов очень желал получить Георгиевский крест. Под Станиславом он напросился со мной в бой. Я дал команду к атаке, поднялся, за мной – адъютант ударного батальона, а все лежат. Смотрю, поднимается один мой Павел.
Так мы трое и начали атаку: командир, адъютант и вестовой. За нами поднялись все. Павел был легко ранен в плечо. В атаке он заслужил свой солдатский крест. После удачного боя нам пришлось переходить вброд какую-то речонку, и вот мой новый герой окликает меня по-домашнему: «Ваше благородие, как вы ноги промочили, носки другие подмените!» Любопытно, что после этого боя все солдаты весьма уважительно стали величать Дроздова по имени-отчеству.
Сибиряки, чалдоны – крепкий народ. Я помню, как эти остроглазые и гордые бородачи ходили в атаку с иконами поверх шинелей, а иконы большие, почерневшие, дедовские. Из окопов другой норовит бабахать почаще, себя подбодряя, а куда бабахает – и не следит. Сибирский же стрелок бьет редко, да метко. Он всегда норовит стрелять по прицелу. Про сибиряков недаром говорят, что они белке в глаз метят, чтобы шкурки не испортить. Губительную меткость их огня и боевую выдержку отмечают, как известно, многие военные писатели, и среди них генерал Людендорф.
А своими победами сибирские бородачи перед другими солдатами были горды, что называется, до черта. Едва зайдет при них солдатский разговор, что такому-то полку дали георгиевские петлицы или что там-то снова прославилась гвардия, как сибиряк уже щурится презрительно и говорит с равнодушием: «Да брось ты про георгиевские петлицы… Гвардея тоже… Что гвардея, когда мы, сибирячки, с ашалонов Аршаву атаковали».
Вот мой чалдон Дроздов с Курицыным погрузили коней в вагон и поехали. А куда поехали – не известно ни им, ни мне.
Я с девятью офицерами-ударниками добрался до Тирасполя только к самой зиме, среди тяжелого развала, тягостного и бессмысленного гама митингов, кишащих солдат. В Тирасполе моих вестовых не было, и я подумал, что они либо загнали лошадей, либо их самих куда-нибудь загнали с конями.
Все эти девять офицеров жили у меня в доме. Мы всюду ходили вместе: даже бриться и за папиросами. Уже тогда мы решили пробраться на Дон, о котором доносились глухие слухи. Тирасполь, полный солдат и матросов, тоже митинговал, но никто из нас не снимал погон, и ходили мы по улицам с ручными гранатами, обычно четверо впереди, четверо позади, а я посредине.
Товарищи нас явно боялись, а когда попытались напасть, мы отбили нападение ручными гранатами. Гранаты нам пришлось бросать около самой женской гимназии, и сотни детских лиц смотрели на этот нечаянный бой, прижавшись к стеклам окон. Такой была наша тираспольская Вандея.
Вскоре после того, на балу в реальном училище, ко мне подошел какой-то штатский господин. Это был капитан Кавтарадзе, грузин, расстрелянный позже грузинами же. Он предложил мне ехать в отряд полковника Дроздовского, формируемый в Яссах, чтобы идти на Дон к генералу Корнилову.
О Дроздовском ни я, ни девять моих офицеров совершенно ничего не знали. Я поручил одному из ударников, поручику Турбину, съездить и узнать, существует ли такой отряд. Через три дня поручик Турбин вернулся и доложил, что отряд Дроздовского действительно есть. Тогда мы все решили ехать к Дроздовскому, чтобы пробиваться к Корнилову отрядом, а не одиночками, что было куда тяжелее.
Помню солнечное зимнее утро. Мать сидела в гостиной у окна. Ее седая голова была как бы очерчена прохладным серебристым светом. Я вошел и молча сел на поручень ее кресла. Мать заметила, что мне не по себе.
– Ты хочешь что-то сказать?
– Да, я ухожу с Дроздовским. В поход.
– Какой поход? Войны больше нет. Все развалилось, все кончено…
– Это хуже войны. Дело идет о существовании России.
Мать склонила седую голову;
– Николай в Ялте, больной… Может быть, смертельно. Ты едва оправился от ран. Я почти не видела вас… За что опять отнимают вас обоих? У меня же сил больше нет. Я мать.
Она зарыдала глухо. Я поцеловал ее седую голову с таким строгим и милым пробором. Я говорил ей, как умел, что если не противопоставить человеческой честной силы бесчеловечным и бесчестным насильникам, все равно они разгромят жизнь. Или Россия и человеческая жизнь в России будут взяты нами с боя, или Россия и вся жизнь в ней будут замучены большевиками.
Мать слушала меня, отвернувшись к окну. Когда она обернулась, ее глаза были сухи и светились печально. Мать привыкла к разлукам. Мой отъезд был решен.
Провинциальный Тирасполь мирно светился от снега. Стояла крепкая зима. Однажды, в начале декабря, горничная вызвала меня вниз.
– Ваши пришли, – весело и загадочно сказала она.
Я вышел в прихожую, а там в облаке морозного пара, оттаптывая снег, стоят Курицын и Дроздов, оба в ладно пригнанных шинелях. Оруженосцы не только доставили моих коней, но и откормили их до того, что верховые кони стали похожи на ломовых битюгов. Чудаки, везли коней без одной выводки целых пять недель.
По дороге мои проводники завалили сеном, натасканным из интендантских складов, весь товарный вагон, а под овес заняли еще и соседнюю площадку. Сказать ли, Курицын и Дроздов изловчились раздобыть по дороге больше ста тюков прессованного сена. Они привезли каких-то чудовищных зверей для Гаргантюа, которые вскоре и были проданы. Перестарались.
Наша встреча была самой душевной. Оба они хорошо у меня отдохнули. Потом я помог Дроздову выехать в Сибирь, куда он торопился, а Курицыну сказал:
– Поезжай и ты, брат, в деревню.
– А вы, ваше благородие, куда собираетесь?
– Я к генералу Корнилову.
– А мне что же делать в деревне?
– Как – что? Вот чудак. У тебя жена, дети – семья.
– Сами знаете, к семейственному я не пригож. А на те деньги, что вы им, спасибо, послали, жена год будет жить, да еще радоваться, что меня нет. Не поеду я, ваше благородие, в деревню. Я уж с вами останусь. Как допрежде был, так и теперь.
Я наградил его чем мог, сказал, что он еще может остаться у нас присмотреть за конями, но потом должен возвращаться к себе домой.
С девятью офицерами я выехал в отряд Дроздовского, а Курицын, можно сказать, меня обманул: во Владимирскую губернию он так и не вернулся, а остался в Тирасполе, в нашем доме.
В Румынии было тогда полно русских войск, но сверху никто не отдавал приказа о создании добровольческих отрядов. Больше того, русское командование растерялось.
Бригады добровольцев формировались в Кишиневе, в Яссах и под Яссами, на станции Скинтея. Третья бригада полковника Дроздовского, куда мы прибыли, стояла на этой станции. Помню, как уже после одной командировки в Киев, когда я ехал назад в Скинтею, на бульваре в Кишиневе встретилась мне блестящая коляска бессарабского помещика. В коляске я узнал моего старого приятеля, однополчанина по большой войне, поручика Мелентия Димитраша. Кряжистый, с рыжеватыми усами, спортсмен британской складки, с дерзко улыбающимися зеленоватыми глазами, он был известен как блестящий, бесстрашный офицер, Димитраш был добровольцем в Китае во время восстания «Большого кулака», на японской и на великой войне.
Мы расцеловались. Указывая на трехцветный наугольник на моем рукаве, Димитраш спросил:
– А это что такое?
– Это бригада русских добровольцев.
Димитраш небрежно расспросил о бригаде, о Дроздовском и пригласил к себе обедать.
В самый разгар обеда Димитраш куда-то исчез. Вдруг торжественно растворились двери, и хозяин появился в полной походной форме, с наугольником из трехцветных ленточек на рукаве. Слегка смущенный, он поглаживал рыжеватые усы, его зеленые глаза смеялись.
– Ну вот, – сказал Димитраш, – я бросаю все это и тоже ухожу. Да здравствует поход. За Россию!
На другое утро мы уже ехали с ним в Скинтею.
В феврале румыны начали вести переговоры о сепаратном мире. Тогда-то растерявшимся русским командованием был отдан предательский приказ о расформировании русских добровольческих частей. Приказ этот отдал генерал Кельчевский, перешедший позже к большевикам.
Бригады в Кишиневе и в Яссах приказу подчинились и были распущены. В нашей третьей, Скинтейской, бригаде полковник Дроздовский созвал командный состав, прочел приказ о расформировании и сказал:
– А мы все-таки пойдем…
Ни одного мнения не было подано против. Как и Корнилов, мы восстали против революции. Мы не только не подчинились приказу, но спешно выступили со станции Скинтея в Яссы. Сосредоточились мы у Ясс на вокзале Сокола. Там к нам подошла одна офицерская рота из бригады, расформированной в Яссах. Рота тоже не подчинилась приказу. Мы стали военными бунтовщиками.
Дроздовский уехал в штаб румынского фронта выяснять обстановку, а офицеры и добровольцы, подходившие к нам из города, стали передавать, что наш отряд со всех сторон окружают румынские войска. Мы немедленно отправили сторожевые охранения и выставили пулеметы.
У вокзала были брошены русские пушки. Мы расставили нашу артиллерию, с ней и эти пушки. Наши жерла были направлены на парламент, заседавший тогда в Ясском дворце. Было решено не допускать разоружения. Я помню бессонную ночь, помню ночное собрание старших начальников. Мы ждали приезда Дроздовского, мы решили пробиваться с боем, если румыны не согласятся нас пропустить.
Утром румыны прислали нового офицера с требованием разоружиться. Мы отказались и предупредили, что при первой же попытке разоружить нас силой огонь всей нашей артиллерии будет открыт по городу и парламенту.
А Дроздовского все не было. У многих не только росла тревога за него, но закрадывались и сомнения. В десять часов утра погожего ясного дня, когда мы со всех сторон были окружены румынами и зловеще сверкало на солнце их и наше оружие, вдруг показался автомобиль. В нем Дроздовский. Он как будто бы махал белым платком. Машина остановилась. Толпой, кто только был свободен, мы кинулись к командиру.
– Господа, – радостно сказал Дроздовский, махая листком бумаги, – пропуск у меня в руках – дорога свободна. После обеда мы выступаем.
От нашего молодого горячего «ура» задрожали вокзальные стекла. Дроздовский не мог к нам вернуться вчера – его не пропустили. Тогда он снова поехал в штаб румынского фронта и там раздобыл нам пропуск.
Мы стали лихорадочно грузиться в эшелоны. 26 февраля 1918 года бригада русских добровольцев полковника Михаила Гордеевича Дроздовского начала свой поход; я шел фельдфебелем второй офицерской роты. В Кишинев мы пришли эшелонами. Там подождали, пока подойдут последние эшелоны, и вот – поход начался.
Было нас около тысячи бойцов. Никто не знал, что впереди. Знали одно: идем к Корнилову. Впереди – сотни верст похода, реки, бескрайние степи, половодье, весенняя грязь и враги со всех сторон, свои же, русские враги. Впереди – потемневшая от смуты, клокочущая страна, а кругом растерянность, трусость, шкурничество и слухи о разгуле красных, о падении Дона, о поголовном истреблении на Дону Добровольческой армии. Мы были совершенно одни, и все-таки мы шли.
Нас вел Дроздовский. Теперь мы узнали, что он окончил Военную академию, участвовал в японской войне добровольцем в 34-м Сибирском полку, был ранен, на большой войне командовал 60-м Замостским пехотным полком, а когда был начальником штаба 64-й пехотной дивизии, сам повел в Карпатах в атаку два полка и снова был ранен.
Дроздовский был выразителем нашего вдохновения, сосредоточием наших мыслей, сошедшихся в одну мысль о воскресении России, наших воль, слитых в одну волю борьбы за Россию и русской победы. Между нами не было политических разнотолков. Мы все одинаково понимали, что большевики – не политика, а беспощадное истребление самих основ России, истребление в России Бога, человека и его свободы.
Я вижу тонкое, гордое лицо Михаила Гордеевича, смуглое от загара, обсохшее. Вижу, как стекла его пенсне отблескивают дрожащими снопами света. В бою или в походе он наберет, бывало, полную фуражку черешен, а то семечек, и всегда что-то грызет. Или наклонится с коня, сорвет колос, разотрет в руках, ест зерна.
В наш поход Дроздовский вышел с одним вещевым мешком, и нам было приказано не брать с собой никаких чемоданов.
Припоминаю один ненастный серый день на походе, когда несло мартовский снег. Дымилась темная мокрая степь, дымились люди и кони, колыхавшиеся в тумане, как привидения. Уныло чавкала под ногами холодная грязь. Я и капитан Андриевский устроились на подводе под моей буркой. Снег стал мельче, колючее; сильно похолодало и бурка затвердела. Поднялась пурга.
Из тумана на нашу подводу нашло высокое привидение. Это был Дроздовский верхом, в своей легкой солдатской шинелишке, побелевший от снега. Его окутанный паром конь чихал. Видно было, как устал Дроздовский, как он прозяб, но для примера он все же оставался в седле.
Мы предложили ему немного обогреться у нас под буркой. Неожиданно Дроздовский согласился. Сено под нами было теплое и сухое. Мы быстро нагребли ему сена, он лег между нами, вздохнул и закрыл глаза. Мы накрыли командира буркой и еще стали своими спинами согревать его от злющего ветра. Под мерное качание подводы Дроздовский заснул. Глухо носилась пурга. Мы с Андриевским побелели от снега, нас заметало, но мы лежали не шелохнувшись.
Дроздовский спал совершенно тихо, его дыхания, как у ребенка, не было слышно. Он отдыхал. Так он проспал часа четыре, а когда пробудился, был очень смущен, что заснул на подводе.
У обритых, всегда плотно сжатых губ Дроздовского была горькая складка. Что-то влекущее и роковое было в нем. Глубокая сила воли была в его глуховатом голосе, во всех его сдержанных, как бы затаенных движениях. Точно бы исходил от него неяркий и горячий свет.
Свой известный дневник Дроздовский начал на походе, и записи его дневника – заветы Дроздовского – сегодня живы так же, как и в те дни, когда мы по степям шли на Дон.
«Только смелость и твердая воля творят большие дела. Только непреклонное решение дает успех и победу. Будем же и впредь, в грядущей борьбе, смело ставить себе высокие цели, стремиться к достижению их с железным упорством, предпочитая славную гибель позорному отказу от борьбы».
«Голос малодушия страшен, как яд».
«Нам остались только дерзость и решимость».
«Россия погибла, наступило время ига. Неизвестно, на сколько времени. Это иго горше татарского».
«Пока царствуют комиссары, нет и не может быть России, и только когда рухнет большевизм, мы можем начать новую жизнь, возродить свое отечество. Это символ нашей веры».
«Через гибель большевизма к возрождению России. Вот наш единственный путь, и с него мы не свернем».
«Я весь в борьбе. И пусть война без конца, но война до победы. И мне кажется, что вдали я вижу слабое мерцание солнечных лучей. А сейчас я обрекающий и обреченный».
Обрекающий и обреченный. Он таким и был. Он как будто бы переступил незримую черту, отделяющую жизнь от смерти. За эту черту повел он и нас, и, если мы пошли за ним, никакие страдания, никакие жертвы не могли нас остановить. Именно в этом путь Дроздовского: «через гибель большевизма к возрождению России, единственный путь, наш символ веры».
Белая идея не раскрыта до конца и теперь. Белая идея есть само дело, действие, самая борьба с неминуемыми жертвами и подвигами. Белая идея есть преображение, выковка сильных людей в самой борьбе, утверждение России и ее жизни в борьбе, в неутихаемом порыве воль, в непрекращаемом действии. Мы шли за Дроздовским, понимая тогда все это совершенно одинаково.
На походе мы узнали еще о другом отряде добровольцев. Один полковник собрал его в Измаиле и выступил вслед за нами. В селе Каменный Брод этот отряд нас догнал. Измаильский полковник был невысокого роста, с пристальными светло-серыми глазами. Он заметно приволакивал ногу. Мы узнали, что его фамилия Жебрак-Русакевич.
Полковник Жебрак был ранен в колено еще на японской войне, когда был офицером в одном из сибирских полков. Тогда же он получил орден Святого Георгия. На большую войну он пошел добровольцем; был он военным судьей, но подал рапорт о зачислении в действующую армию и получил полк Балтийской дивизии, стоящей тогда по гирлам Дуная. Он принес нам знамя Балтийской дивизии, морской Андреевский флаг с синим крестом. Андреевский флаг стал полковым знаменем нашего стрелкового офицерского полка.
На походе мы встречали эшелоны германцев и австрийцев, тянувшиеся к югу. Под Каховкой германцы предложили нам свою помощь. Отличный германский взвод с пулеметом на носилках уже подошел к нам по глубокому песку. Германских пулеметчиков мы поблагодарили, но сказали, что огня открывать не надо. На паромах мы перевалили через Южный Буг, а Днепр перешли у Каховки, с которой нам суждено было встретиться снова, в самом конце нашей борьбы. С короткого боя мы взяли Акимовку, где уничтожили отряд матросов-коммунистов, ехавших эшелоном в Крым. С боя заняли Росаново и захватили Мелитополь.
В Мелитополе мы мобилизовали сапожников и портных, на складах военно-промышленного комитета нашли запасы защитного сукна, отлично оделись и обулись. Там же были сформированы две команды – мотоциклистов-пулеметчиков и мотоциклистов-разведчиков.
Стояла сильная весна. Все купалось в радостном свете. Зелено-дымная степь звенела, дышала. Это был благословенный гул жизни, как бы подтверждавший, что и мы все идем для одного того, чтобы утвердить в России благоденствие.
И вот после двухмесячного похода, после тысячи двухсот верст пути появились мы со всей нашей артиллерией и обозами под Ростовом, точно из самой зеленой степи чудесно выросло наше воинство.
Команде мотоциклистов-разведчиков дано было задание выяснить силы большевиков в Ростове и установить, где они сосредоточены. Разведчик-мотоциклист юнкер Анатолий Прицкер превосходно выполнил боевое задание: по его докладу была выдвинута куда следует артиллерия, дано направление движению войск, и полковник Войналович начал наступать на Ростов.
В страстную субботу, 22 апреля 1918 года, вечером, началась наша атака Ростова. Мы заняли вокзал и привокзальные улицы. На вокзале, где от взрывов гремело железо, лопались стекла и ржали лошади, был убит пулей на перроне доблестный начальник штаба нашего отряда Генерального штаба полковник Войналович. Он первый со 2-м конным полком атаковал вокзал. За ним подошла наша вторая офицерская рота. Большевики толпами потекли на Батайск и Нахичевань.
Ночь была безветренная, теплая, прекрасная – воистину святая ночь. Одна полурота осталась на вокзале, а с другой я дошел по ночным улицам до ростовского кафедрального собора. В темноте сухо рассыпалась редкая ружейная стрельба. На улицах встречались горожане-богомольцы, шедшие к заутрене. С полуротой я подошел к собору; он смутно пылал изнутри огнями. Выслав вперед разведку, я с несколькими офицерами вошел в собор.
Нас обдало теплотой огней и дыхания, живой теплотой огромной толпы молящихся. Все лица были освещены снизу, таинственно и чисто, свечами. Впереди качались, сияя, серебряные хоругви: крестный ход только что вернулся. С амвона архиерей в белых ризах возгласил:
– Христос воскресе!
Молящиеся невнятно и дружно выдохнули:
– Воистину…
Мы были так рады, что вместо боя застали в Ростове светлую заутреню, что начали осторожно пробираться вперед, чтобы похристосоваться с владыкой. А на нас сквозь огни свечей смотрели темные глаза, округленные от изумления, даже от ужаса. С недоверием смотрели на наши офицерские погоны, на наши гимнастерки. Никто не знал, кто мы. Нас стали расспрашивать шепотом, торопливо. Мы сказали, что белые, что в Ростове Дроздовский. Темные глаза точно бы потеплели, нам поверили, с нами начали христосоваться.
Я вышел из собора на паперть. Какая ночь, святая тишина! Но вот загремел, сотрясая воздух, пушечный гром. Со стороны Батайска стреляет бронепоезд красных. Каким странным показался мне в эту ночь гул пушечного огня, находящий шум снарядов.
От собора я с полуротой вернулся на вокзал. По улице, над которой гремел пушечный огонь, шли от заутрени люди. Они несли горящие свечи, заслоняя их рукой от дуновения воздуха. Легкими огоньками освещало внимательные глаза.
На вокзале, куда мы пришли, в зале первого класса теперь тоже теплились церковные свечи, и от их огней все стало смутно и нежно. Ростовцы пришли нас поздравлять на вокзал. Здесь были пожилые люди и седые дамы, были девушки в белых платьях, только что от заутрени, дети, молодежь. Нам нанесли в узелках куличей и пасок. На некоторых куличах горели тоненькие церковные свечи. Обдавая весенним свежим воздухом, с нами христосовались. Все говорили тихо. В мерцании огней все это было как сон. Тут же, на вокзале, к нам записывались добровольцы, и рота наша росла с каждой минутой.
В два часа ночи на вокзал приехал Дроздовский. Его обступили, с ним христосовались. Его сухощавую фигуру среди легких огней и тонкое лицо в отблескивающем пенсне я тоже помню, как во сне. И как во сне, необычайном и нежном, подошла к нему маленькая девочка. Она как бы сквозила светом в своем белом праздничном платье. На худеньких ручках она подала Дроздовскому узелок, кажется с куличом, и внезапно, легким детским голосом, замирающим в тишине, стала говорить нашему командиру стихи. Я видел, как дрогнуло пенсне Дроздовского, как он побледнел. Он был растроган. Он поднял ребенка на руки, целуя маленькие ручки.
Уже светало, когда вокзал опустел от горожан. А на самом рассвете большевики подтянули подкрепления из Новочеркасска. В те мгновения боя, когда мы несли тяжелые потери, к Дроздовскому прискакали немецкие кавалеристы. Это были офицеры германского уланского полка, на рассвете подошедшего к Ростову. Германцы предложили свою помощь. Дроздовский поблагодарил их, но помощь принять отказался.
Мы стали отходить на армянское село Мокрый Чалтырь. На поле у дороги мы встретили германских улан. Все они были на буланых конях, в сером, и каски в серых чехлах, у всех желтые сапоги. Их полк стоял в колоннах. Ветер трепетал в уланских значках.
Когда мы с нашими ранеными проходили мимо, раздались короткие команды, слегка поволновались кони, перелязгнуло, сверкнуло оружие, и германский уланский полк отдал русским добровольцам воинскую честь. Тогда мы поняли, что война с Германией окончена.
В Мокром Чалтыре в первый день Пасхи командир нашего офицерского полка генерал Семенов передал полк новому командиру полковнику Жебраку-Русакевичу. В этот же день до нас дошли слухи, что в Новочеркасске идет бой между красными и восставшими казаками. Полк выступил в Новочеркасск.
Когда мы внезапно показались под городом, он уже почти был оставлен восставшими донцами, державшимися только на окраинах. Красные наступали. На наступающих двинулась наша кавалерия, бронеавтомобиль и конно-горная батарея. Нас не ждали ни донцы, ни красные. Наша атака обратила красных в отчаянное бегство.
На третий день Пасхи, 25 апреля 1918 года, Новочеркасск был освобожден.
Земля обетованная
Как и в другие города, после освобождаемые нами, мы точно несли с собой весеннее солнце. Солнце всегда было нашим союзником. Союзником большевиков была зимняя стужа.
Мы вошли в Новочеркасск по приказу донского походного атамана Попова, когда восставшие казаки еще отбивались от красных на горевшей от артиллерийского огня Хотунке. Красных вместе с нами со стороны города атаковало несколько лихих казачьих сотен, а со стороны Александро-Грушевска подоспел на призыв Попова донской отряд полковника Семилетова.
С офицерской ротой я уже колесил по улицам. Это была военная хитрость донского командования. Нас было мало, но мы должны были проходить так, чтобы наше появление в разных местах города могло создать впечатление, будто бы нас много.
Последний двенадцатичасовой переход всех измотал. Серые от пыли, с лицами, залитыми потом, мы медленно, но стройно проходили по улицам. Светлое неистовство творилось крутом. Это было истинное опьянение, радость освобождения. Все это незабвенно. Мы как бы сбросили со всех темное удушье, самую смерть, все снова увидели, что живы, свободны, что светит солнце. Наши ряды не раз расстраивались. Женщины, старики обнимали нас, счастливо рыдали.
Наш капитан с подчеркнутым щегольством командовал ротой, сверкали триста двадцать штыков, и, как говорится, дрожала земля от крепкого шага.
– Христос воскресе! Христос воскресе! – обдавала нас толпа теплым гулом.
– Воистину воскресе! – отвечали мы дружно.
Надо сказать, что особенно строго берегли мы винтовки: они горели от блеска, всегда были тщательно смазаны. Магазинную часть, затвор мы хранили как хрупкое сокровище. На походе нам разрешалось обматывать магазинную коробку суконками и тряпьем, затвор своей винтовки я, например, обматывал, должен признаться, холщовой штаниной от солдатских исподников.
Не с тряпьем же на винтовках входить в Новочеркасск – командир роты приказал наши фантастические чехлы снять, я сунул мою солдатскую штанину в карман.
Так мы колесили в тот день по улицам. Кругом улыбающиеся, заплаканные лица. Ко мне подошла пожилая дама с двумя девочками:
– Разрешите с вами похристосоваться.
А у меня лицо в поту, и пыль в палец толщиной. Смущенный, я сунул руку в карман за платком, вытянул эту штанину, измазанную ружейным маслом, и по рассеянности стал вытирать ею лицо. Рота заметила мой просак и скромно отвела глаза. А в толпе, вероятно, думали, что так и полагается, чтобы походный офицер черт знает что вытаскивал из карманов вместо платка. В общем, я благополучно расцеловался с юными горожанками.
Вечером нам отвели для постоя пустые дортуары Новочеркасского девичьего института, так как все казармы в городе были заняты. В тот, помнится, день я получил в командование вторую офицерскую роту. А в институте, в верхних дортуарах, жило до пятидесяти подростков и девочек, сирот-институток. Соседство было совершенно нечаянное.
Когда мы впервые увидели в зале двух пепиньерок в белых передниках, промчавшихся по блестящему паркету, они показались нам трогательным видением. Полковник Жебрак вызвал к себе командиров и, пощипывая усы, окинул всех светлыми глазами.
– Господа, – сказал он, – мы все бывалые солдаты. Но стоянка в девичьем институте на мой, по крайней мере, век выпадает впервые. Впрочем, каждый из вас, без сомнения, отлично знает обязанности офицера и джентльмена, которому оказано гостеприимство сиротами-хозяйками.
Мы разместились на ночлег, а на другой день обедали побатальонно в институтской столовой. Сильные, молодые, освеженные после похода, крепко печатая шаг, тронулись мы – восемьсот шесть штыков – за командиром батальона в институтскую столовую, чувствуя себя в парах если и не институтками, то кадетами.
– Стой, на молитву! – послышался голос командира. Всей грудью мы пропели молитву. Правда, точно к нам вернулась кадетская юность.
С веселым шумом мы расселись за громадными столами. Уже захрустела кое у кого на зубах поджаристая хлебная корка. Обедали мы в три смены. Командир батальона, ротные командиры и начальница института сидели отдельно, на возвышении, совершенно так, как воспитатели в столовой кадетского корпуса. Щи и кашу разносили по столам институтки. Были трогательны эти наклоняющиеся девичьи головы в мелко заплетенных косах, свежие лица сирот в белоснежных пелеринках.
Седой Жебрак, командир 2-го офицерского стрелкового полка, был, кажется, самым пожилым среди нас. Он вызывал к себе общее уважение. В офицерской роте было до двадцати георгиевских кавалеров, все перераненные, закаленные в огне большой войны; рядовыми у нас были и бывшие командиры батальонов, но Жебрак ввел для всех железную дисциплину юнкерского училища или учебной команды. В этом он был непреклонен. Он издавал нас заново. Он заставлял переучивать уставы, мы должны были снова узнать их до самых тонкостей. Он сам экзаменовал:
– Господин поручик, обязанности рядового в рассыпном строю?
Иной господин поручик, георгиевский кавалер со шрамами на лице, начинал мяться, тогда суровый командир приказывал:
– Растолкуйте ему…
Для нас были установлены расписания занятий. Ночью, после похода, усталые, отбиваясь со всеми силами от могучего сна, мы торопились прочесть, что следовало наутро знать по книжному уставу.
Пуговица ли, шаг, винтовка – полковник Жебрак видел все. И он умел себя так поставить, что даже старшие офицеры не решались спрашивать у него разрешения закурить. Все воинское он доводил до великолепного совершенства. Это была действительно школа.
Роты в Новочеркасске поднимались в половине седьмого, но ротный командир должен был вставать на час раньше. И вот среди самого сладкого сна в потемках рассвета слышишь стук в дверь и настойчивый голос:
– Разрешите войти?
Разрешаешь. Входит сам командир и любезно осведомляется, изволил ли встать ротный командир. Конечно, вылетаешь с койки пулей.
Вскоре все хорошо поняли полковника Жебрака, и 2-й офицерский стрелковый полк стал образцовым полком, может быть, до того и не бывалым ни в одной армии мира.
А на дворе был май. Все так легко, светло: дуновение ветра в акациях, солнце, длинные тени на провинциальном бульваре, мягком от пыли, стук калиток, молодой смех, далекая военная музыка и вечерние зори «с церемонией», торжественное «Коль славен». Удивительно свежи все эти воспоминания о Новочеркасске, названном в одном из приказов Дроздовского «нашей землей обетованной».
Через неделю после освобождения города донским атаманом избрали генерала Петра Николаевича Краснова. На площади, у Кадетской рощи, был большой парад. Наш отряд построился на правом фланге.
Точно еще стояла пасхальная неделя, так все было празднично на параде. Командующий Донской армией генерал Денисов подскакал к нам. По лицу донского генерала мы видим, что он не знает, здороваться или нет: а вдруг господа офицеры не ответят. Ведь по уставу офицеры из строя не обязаны отвечать на приветствие.
– Здравствуйте, господа, – нерешительно сказал он.
– Здравия желаем, ваше превосходительство! – с подчеркнутой юнкерской лихостью, как один, ответили мы.
Генерал ободрился, повеселел. Он поскакал к атаману Краснову, который уже показался в конце площади верхом на рослом коне. Краснов направил коня к нашему флангу, держа руку под козырек. Оркестр заиграл «встречу». Генерал Денисов подскакал к атаману и, наклоняясь с седла, сказал довольно громко:
– Они здороваются, ваше превосходительство.
Тогда генерал Краснов, все еще держа руку под козырек, сказал нам приветливо:
– Здравия желаю, господа офицеры.
Мы снова загремели в ответ.
Отряд был пропущен церемониальным маршем. Кругом радостные лица, нам машут платками, бросают белые цветы.
Это были удивительные дни подъема. В Новочеркасск приходило так много добровольцев, что дней через десять мы смогли развернуться в три батальона. А на нашу вечернюю поверку, на зорю «с церемонией», стекался весь город.
Отряд с оркестром выстраивался на институтском плацу. Фельдфебели начинали перекличку, потом оркестр играл «Коль славен». Полк пел молитву, В прекрасный летний вечер, казалось, весь затихший город стоит с нами на молитве, а когда мы трогались с плаца, все тихо шли за нами, под старинный егерский марш, который стал нашим полковым маршем.
Помню, как однажды под вечер я вел мою роту в городской караул. Наши офицерские роты всегда были образцово строевыми. Идти не в ногу для нас было просто неприличием. Мы шли великолепно. На панели я увидел старика-генерала в поношенной шинели и скомандовал:
– Смирно, господа офицеры!
Старик вдруг заплакал, прислонясь к забору. Я подошел узнать, что с ним. Генерал сказал, что он бывший начальник Павловского военного училища, что мы его взволновали.
– Ваша рота идет так, как ходила рота Его Величества…
Нас было уже тысячи три, но на батальон готовила только одна кухня, и вот почему: ровно в полдень мы все расходились по частным домам, приглашенные на обеды. В Новочеркасске мы стали всем родными.
Никто не думал о том, что ждет нас дальше, точно вот так и будет длиться эта мирная музыка, милые встречи в провинциальных семьях, прогулки под акациями и пение «Коль славен» в светящиеся вечера.
Недели через две в нашем полку начались свадьбы. Что ни день, то свадьба. За три недели стоянки в Новочеркасске у нас было сыграно более пятидесяти свадеб. Мы породнились со всем городом. Какой простой, человеческой, могла бы быть наша мирная жизнь на русской земле, если бы большевики не потоптали всю русскую жизнь.
К концу стоянки донское командование просило нас остаться в составе Донской армии. Нам предложили быть Донской пешей гвардией. Полковник Дроздовский поблагодарил за предложение, но приказал нам готовиться к походу на соединение с Добровольческой армией, стоявшей тогда под станицей Мечетинской.
Это было в конце мая. Нашим юным хозяйкам, новочеркасским институткам, мы дали прощальный бал. Я не забуду полонеза, когда полковник Жебрак, приволакивая ногу, шел в первой паре с немного чопорной начальницей института; не забуду белые бальные платья институток, такие скромные и прелестные, и длинные белые перчатки, впервые на девичьих руках.
Бал был торжественным и немного грустным. Я вижу в полонезе сухопарого рыжеусого Димитраша, с зелеными смеющимися глазами. Он был безнадежно влюблен во всех институток вместе. Я вижу простые и хорошие русские лица всех других, слышу смех, голоса. Немногие из них, очень немногие, остались среди живых.
В полночь на балу случилось замешательство: начальница отослала в спальни младших воспитанниц. Оркестр умолк. Как бы померкли самые огни люстр. Послышались подавленные детские рыдания. Лица институток стали белее их накидок.
Никогда мы не видели полковника Жебрака таким виноватым и растерянным: шутка ли сказать, он просил начальницу нарушить институтские правила и разрешить малышам остаться. Но начальница была непреклонна. Мать двух офицеров – один был убит, а другой, герой, награжденный золотым оружием, пропал в бою без вести, – начальница была так же неумолима в институтском распорядке, как Жебрак в полковом.
Просил начальницу и я. Отказ. Я стоял перед седой старой дамой в шелковом платье с бриллиантовым вензелем на плече, как перед командиром полка, во фронт. Она доказывала мне, что правила нарушать нельзя.
– Так точно, слушаюсь, – только отвечал я.
Удивительнее всего, что это и подействовало. Начальница слегка улыбнулась и внезапно разрешила всем воспитанницам остаться еще на несколько танцев, а обо мне отозвалась с благосклонностью – «какой воспитанный капитан», – вероятно, за то, что я стоял перед ней во фронт, каблуки вместе.
Светлее стали огни, обрадовался оркестр, наши заплаканные хозяйки положили руки на плечи кавалеров и замелькали, снова понеслись в танце, обдавая прохладой и шумом.
Хромой Жебрак, влюбленный Димитраш, вся наша молодежь страшно бережно, ступая немного по-журавлиному, водили в танце малышей, едва перебирающих туфельками, еще заплаканных, но уже счастливых. Все мы с затаенной печалью слушали детский смех на нашем последнем балу.
А на рассвете во дворе института поставили аналой, и в четыре часа утра по опустевшим залам, где еще носился запах духов, отбивая шаг, мы вышли на плац и в походном снаряжении стали покоем у аналоя. В ту ночь в институте не спал никто.
Ясная заря над тихой площадью, где был чуть влажен песок, щебет птиц. Во всем утренний покой, а полковой батюшка читает напутственную в поход молитву. Институтский плац был полон молодых женщин и девушек с их матерями. Это были молодые жены и невесты, пришедшие прощаться. Никто из них не скрывал слез. У аналоя белой стайкой жались институтские сироты. Они рыдали над нами безутешно. Я помню бледное лицо молодого офицера моей роты Шубина, помню, как он склонился к юной девушке. Все эти дни Шубин носил куда-то букеты свежих роз, однажды мне даже пришлось посадить его под арест. Он прощался со своей невестой. Ему, как и ей, едва ли было девятнадцать. Его убили под Армавиром.
Плавно запел егерский марш. Короткие команды. Мы пошли, твердо, с ожесточением отбивая ногу. Скрежетало оружие, звякали котелки. А мимо нас, как бы качаясь, уходила толпа, широкий песчаный проспект, низкие дома, длинные Утренние тени, тянувшиеся поперек улицы. Уходил наш последний мирный дом, земля обетованная, наша юность, утренняя заря…
Суховей
Нас погрузили в вагоны, потом на пароход. В безветренное утро мы подошли к станице Мечетинской. В двух станицах, Мечетинской и Егорлыкской, стояло тогда все, что осталось от русской армии: Добровольческая армия, только что вышедшая из испытаний Кубанского похода. Это был конец мая 1918 года.
Запыленные, рота за ротой, подчеркнуто стройно, чтобы показать себя корниловским добровольцам, входили мы в станицу. Генерал Алексеев пропустил нас церемониальным маршем. Мы все с молодым любопытством смотрели на этого маленького сухонького генерала в крохотной кубанке.
Старичок в отблескивающих очках, со слабым голосом, недавно начальник штаба самой большой армии в мире, поведший теперь за собой куда-то в степь четыре тысячи добровольцев, был для нас живым олицетворением России, армии, седых русских орлов, как бы снова вылетающих из казацких степей.
Генерал Алексеев снял кубанку и поклонился нашим рядам.
– Спасибо вам, рыцари духа, пришедшие издалека, чтобы влить в нас новые силы…
Я помню, как говорил генерал Алексеев, что к началу смуты в русской армии было до четырехсот тысяч офицеров. Самые русские пространства могли помешать им всем прийти на его призыв. Но если придет только десятая часть, только сорок тысяч, уже это создаст превосходную новую армию, в которую вольется тысяч шестьдесят солдат.
– А стотысячной русской армии вполне достаточно, что бы спасти Россию, – сказал генерал Алексеев со слабой улыбкой, и его очки блеснули.
Мы еще раз прошли церемониальным маршем. Он стоял с кубанкой в руке, слегка склонив седую голову. Точно задумался. Рядом с ним стоял генерал Деникин; наши старые офицеры знали, что на большой войне он командовал славной Железной 4-й стрелковой дивизией.
Добровольцы, участники Кубанского похода, смотрели на нас с откровенным удивлением, пожалуй, даже с недоверием: откуда-де такие явились, щеголи, по-юнкерски печатают шаг, одеты, как один, в защитный цвет, в ладных гимнастерках, хорошие сапоги.
Сами участники Кубанского похода были одеты, надо сказать, весьма пестро, что называется, по-партизански. В степях им негде было достать обмундирование, а мы в нашем походе шли по богатому югу, где были мастерские и склады.
Мы стали в станице Егорлыкской. Там на самой последней неделе мая меня вызвали в штаб к полковнику Жебраку. Я проверил, крепко ли держатся пуговицы на гимнастерке, хорошо ли оттянут пояс, и отправился в штаб.
– Господин полковник, по вашему приказанию прибыл.
– Здравствуйте, капитан, – озабоченно сказал Жебрак. – Вот что: хутор Грязнушкин занят большевиками. Главное командование приказало мне восстановить положение. Вместо казачьей бригады я решил послать туда вашу роту. Вы знаете почему?
– Никак нет.
– Вторая рота лучшая в полку.
– Рад стараться.
– Имейте в виду, что офицерская рота может отступать и наступать, но никогда не забывайте, что и то и другое она может делать только по приказанию.
– Слушаю. Разрешите идти?
– Да. Я буду у вас к началу атаки. До моего приезда не атакуйте… И вот что еще, Антон Васильевич… В японскую войну наш батальон, сибирские стрелки, атаковал как-то китайское кладбище. Мы ворвались туда на штыках, но среди могил нашли около ста японских тел и ни одного раненого. Японцы поняли, что им нас не осилить, и, чтобы не сдаваться, все до одного покончили с собой. Это были самураи. Такой должна быть и офицерская рота.