Читать онлайн Сонечка бесплатно
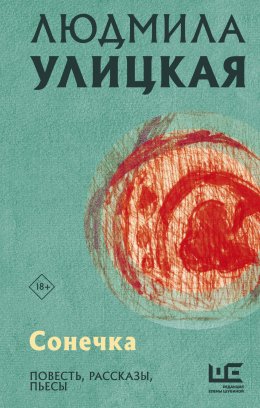
В оформлении переплета использована картина Андрея Красулина
Книга публикуется по соглашению с литературным агентством ELKOST Intl.
Серия «Людмила Улицкая. Избранное»
© Улицкая Л.Е.
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
Сонечка
От первого детства, едва выйдя из младенчества, Сонечка погрузилась в чтение. Старший брат Ефрем, домашний острослов, постоянно повторял одну и ту же шутку, старомодную уже при своем рождении:
– От бесконечного чтения у Сонечки зад принял форму стула, а нос – форму груши.
К сожалению, в шутке не было большого преувеличения: нос ее был действительно грушевидно-расплывчатым, а сама Сонечка, долговязая, широкоплечая, с сухими ногами и отсиделым тощим задом, имела лишь одну стать – большую бабью грудь, рано отросшую да как-то не к месту приставленную к худому телу. Сонечка сводила плечи, сутулилась, носила широкие балахоны, стесняясь своего никчемного богатства спереди и унылой плоскости сзади.
Сострадательная старшая сестра, давно замужняя, великодушно говорила что-то о красоте ее глаз. Но глаза были самые обыкновенные, небольшие, карие. Правда, редкостно обильные ресницы росли в три ряда, оттягивая припухший край века, но и в этом особенной красоты не было, скорее даже помеха, поскольку близорукая Сонечка с раннего возраста носила очки.
Целых двадцать лет, с семи до двадцати семи, Сонечка читала без перерыва. Она впадала в чтение как в обморок, оканчивавшийся с последней страницей книги.
Был у нее незаурядный читательский талант, а может, и своего рода гениальность. Отзывчивость ее к печатному слову была столь велика, что вымышленные герои стояли в одном ряду с живыми, близкими людьми, и светлые страдания Наташи Ростовой у постели умирающего князя Андрея по своей достоверности были совершенно равны жгучему горю сестры, потерявшей четырехлетнюю дочку по глупому недосмотру: заболтавшись с соседкой, она не заметила, как соскользнула в колодец толстая, неповоротливая девочка с медленными глазами.
Что это было – полное непонимание игры, заложенной в любом художестве, умопомрачительная доверчивость невыросшего ребенка, отсутствие воображения, приводящее к разрушению границы между вымышленным и реальным, или, напротив, столь самозабвенный уход в область фантастического, что все, остающееся вне его пределов, теряло смысл и содержание?
Сонечкино чтение, ставшее легкой формой помешательства, не оставляло ее и во сне: свои сны она тоже как бы читала. Ей снились увлекательные исторические романы, и по характеру действия она угадывала шрифт книги, чувствовала странным образом абзацы и отточия. Это внутреннее смещение, связанное с ее болезненной страстью, во сне даже усугублялось, и она выступала там полноправной героиней или героем, существуя на тонкой грани между ощутимой авторской волей, заведомо ей известной, и своим собственным стремлением к движению, действию, поступку…
Выдыхался нэп. Отец, потомок местечкового кузнеца из Белоруссии, самородный механик, не лишенный и практической сметки, свернул свою часовую мастерскую и, преодолевая врожденное отвращение к поточному изготовлению чего бы то ни было, поступил на часовой завод, отводя упрямую душу в вечерних починках уникальных механизмов, созданных мыслящими руками его разноплеменных предшественников.
Мать, до самой смерти носившая глупый паричок под чистой гороховой косынкой, тайно строчила на зингеровской машинке, обшивая соседок незамысловатой ситцевой одеждой, созвучной громкому и нищему времени, все страхи которого сводились для нее к грозному имени фининспектора.
А Сонечка, кое-как выучив уроки, каждодневно и ежеминутно увиливала от необходимости жить в патетических и крикливых тридцатых годах и пасла свою душу на просторах великой русской литературы, то опускаясь в тревожные бездны подозрительного Достоевского, то выныривая в тенистые аллеи Тургенева и провинциальные усадебки, согретые беспринципной и щедрой любовью почему-то второсортного Лескова.
Она окончила библиотечный техникум, стала работать в подвальном хранилище старой библиотеки и была одним из редких счастливцев, с легкой болью прерванного наслаждения покидающих в конце рабочего дня свой пыльный и душный подвал, не успев насытиться за день ни чередой каталожных карточек, ни белесыми листками требований, которые приходили к ней сверху, из читального зала, ни живой тяжестью томов, опускавшихся в ее худые руки.
Многие годы она рассматривала само писательство как священнодействие: второразрядного писателя Павлова, и Павсания, и Паламу считала в каком-то смысле равнодостойными авторами – на том основании, что они занимали в энциклопедическом словаре место на одной странице. С годами она научилась самостоятельно отличать в огромном книжном океане крупные волны от мелких, а мелкие – от прибрежной пены, заполнявшей почти сплошь аскетические шкафы раздела современной литературы.
Прослужив отрешенно-монашески несколько лет в книгохранилище, Сонечка сдалась на уговоры своей начальницы, такой же одержимой чтицы, как и сама Сонечка, и решилась поступать в университет на отделение русской филологии. И стала готовиться по большой и нелепой программе и совсем уж было собралась сдавать экзамены, как вдруг все рухнуло, все в один момент изменилось: началась война.
Возможно, это было первое событие за всю ее молодую жизнь, которое вытолкнуло ее из туманного состояния непрестанного чтения, в котором она пребывала. Вместе с отцом, работавшим в те годы в инструментальной мастерской, она была эвакуирована в Свердловск, где очень скоро оказалась в единственном надежном местообитании – в библиотеке, в подвале…
Неясно, была ли это традиция, угнездившаяся с давних пор в нашем отечестве – помещать драгоценные плоды духа, как и плоды земли, непременно в холодное подполье, – или предохранительная прививка для будущего десятилетия Сонечкиной жизни, которое ей предстояло провести именно с человеком из подполья, будущим ее мужем, который появился в этот беспросветно тяжкий первый год эвакуации.
Роберт Викторович пришел в библиотеку в тот день, когда Сонечка заменяла заболевшую заведующую на выдаче книг. Он был ростом мал, остро-худ и серо-сед и не привлек бы внимания Сони, если бы не спросил ее, где находится каталог книг на французском языке. Книги-то французские были, но вот каталог на них давно затерялся за ненадобностью. Посетителей в этот вечерний час, перед закрытием, не было, и Сонечка повела необычного читателя в свой подвал, в дальний западноевропейский угол.
Долго и ошеломленно стоял он перед шкафом, склонив голову набок, с голодным и изумленным лицом ребенка, увидевшего блюдо пирожных. Сонечка стояла за его спиной, возвышаясь над ним на полголовы, и сама замирала от передававшегося ей волнения.
Он обернулся к ней, поцеловал неожиданно ее худую руку и голосом низким и богатым мерцаниями, как свет синей лампы из простуженного детства, сказал:
– Чудо какое… Какая роскошь… Монтень… Паскаль… – И, все еще не отпуская ее руки, со вздохом добавил: – И даже в эльзевировских изданиях…
– Здесь девять Эльзевиров, – с гордостью кивнула растроганная Сонечка, отлично усвоившая книговедение, и он посмотрел на нее странным взглядом снизу вверх, но как бы сверху вниз, улыбнулся тонкими губами, показал щербатый рот, помедлил, как будто собираясь сказать что-то важное, но, передумав, сказал другое:
– Выпишите мне, пожалуйста, читательскую карточку, или как это у вас называется?
Соня вытянула свою руку, забытую в его сухих ладонях, и они поднялись вверх по хищно-холодной лестнице, отбиравшей и малое тепло от всяких ног, ее касающихся… Здесь, в тесном зальчике старого купеческого особняка, она впервые написала своей рукой его фамилию, совершенно ей дотоле неизвестную и которая ровно через две недели станет ее собственной. А пока она писала неловкие буквы чернильным карандашом, мелко крутящимся в штопаных шерстяных перчатках, он смотрел на ее чистый лоб и внутренне улыбался ее чудному сходству с молодым верблюдом, терпеливым и нежным животным, и думал: «И даже колорит: смуглое, печально-умбристое и розоватое, теплое…»
Она кончила писать, подняла указательным пальцем съехавшие очки. Смотрела доброжелательно, незаинтересованно и выжидательно: он не продиктовал своего адреса.
Он же был в глубоком замешательстве от напавшего на него внезапно, как ливень с высоты безмятежно-ясного неба, сильнейшего чувства совершения судьбы: он понял, что перед ним – его жена.
Накануне ему исполнилось сорок семь лет. Он был человеком-легендой, но легенда эта благодаря внезапному и, как считали друзья, немотивированному возвращению на родину из Франции в начале тридцатых годов оказалась отрезанной от него и доживала свою устную жизнь в вымирающих галереях оккупированного Парижа вместе с его странными картинами, пережившими хулу, забвение, а впоследствии воскрешение и посмертную славу. Но ничего этого он не знал. В черном прожженном ватнике, с серым полотенцем вокруг кадыкастой шеи, счастливейший из неудачников, отсидевший ничтожный пятилетний срок и работающий теперь условно художником в заводоуправлении, он стоял перед нескладной девушкой и улыбался, понимая, что в нем совершается сейчас очередная измена, которыми столь богата была его поворотливая жизнь: он изменял и вере предков, и надежде родителей, и любви учителя, изменял науке и порывал дружеские связи, жестко и резко, как только начинал чувствовать оковы своей свободе… На этот раз он изменял твердому обету безбрачия, принятому в годы раннего и обманчивого успеха, отнюдь не связанному, впрочем, с обетом целомудрия.
Был он женолюбом и потребителем, многую пищу получал от этого неиссякающего источника, но бдительно оберегался от зависимости, боялся сам превратиться в пищу той женской стихии, которая столь парадоксально щедра к берущим от нее и истребительно-жестока к дающим.
А безмятежная душа Сонечки, закутанная в кокон из тысяч прочитанных томов, забаюканная дымчатым рокотом греческих мифов, гипнотически-резкими звуками флейты Средневековья, туманной ветреной тоской Ибсена, подробнейшей тягомотиной Бальзака, астральной музыкой Данте, сиреническим пением острых голосов Рильке и Новалиса, обольщенная нравоучительным, направленным в сердце самого неба отчаяньем великих русских, – безмятежная душа Сонечки не узнавала своей великой минуты, и мысли ее были заняты только тем, не совершает ли она рискованного шага, отдавая на руки читателю книги, которые имеет право отпускать лишь в читальный зал…
– Адрес, – кротко попросила Сонечка.
– Я, видите ли, прикомандирован. Я живу в заводоуправлении, – объяснил странный читатель.
– Ну паспорт дайте, прописку, – попросила Сонечка.
Он порылся в каком-то глубоком кармане и вынул мятую справку. Она долго смотрела сквозь очки, потом покачала головой.
– Нет, не могу. Вы же областной…
Кибела показала ему красный язык. Все пропало, показалось ему. Он сунул справку в глубину кармана.
– Мы сделаем так: я возьму на свой формуляр, а вы перед отъездом принесете мне книги, – извиняющимся голосом сказала Сонечка.
И он понял, что все в порядке.
– Я только прошу вас, очень аккуратно, – ласково попросила она и завернула в лохматящуюся газету три малоформатных томика.
Он сухо поблагодарил ее и вышел.
Пока Роберт Викторович с отвращением размышлял о технологии знакомства и тяготах ухаживания, Сонечка неспешно закончила свой долгий рабочий день и собиралась домой. Она уже нимало не беспокоилась о возврате трех ценных книг, которые беспечно выдала незнакомцу. Все мысли ее были о дороге домой через холодный и темный город.
* * *
Те особые, женские глаза, которые, подобно мистическому третьему глазу, открываются у девочек чрезвычайно рано, не то что были у Сони вовсе закрыты – скорее они были зажмурены.
В ранней юности, по четырнадцатому году, словно повинуясь древней программе рода, тысячелетиями выдававшего замуж девиц в этом нежном возрасте, она влюбилась в своего одноклассника, миловидного курносенького Витьку Старостина. Влюбленность эта выражалась исключительно в нестерпимом желании на него смотреть, и ее ищущий взгляд вскоре был отмечен не только обладателем кукольной мордочки, но и всеми остальными одноклассниками, обнаружившими этот интересный аттракцион раньше, чем Соня отдала себе в этом отчет.
Она старалась с собой справиться и все пыталась найти иной объект для глаза – прямоугольник доски ли, тетради, пыльного окна, – но взгляд с упорством компасной стрелки сам собой возвращался к русому затылку, все искал встречи с этим голубым, холодным, притягательным… Уже и сострадательная подруга Зоя шепнула ей, чтобы она так не таращилась. Но Сонечка с этим ничего не могла поделать. Глаз жадно требовал русоголовой пищи.
Кончилось все это самым ужасным и незабываемым образом. Брутальный Онегин, изнемогший под тяжестью влюбленного взора, назначил своей молчаливой поклоннице свидание в боковой аллее скверика и не больно, но убийственно оскорбительно шлепнул ее два раза под одобрительный гогот четырех засевших в кустах одноклассников, которых можно было бы порицать за душевную грубость, если бы все эти юные соглядатаи поголовно не погибли в первую же зиму грядущей войны.
Воспитательный урок тринадцатилетнего рыцаря был между тем настолько убедительным, что девочка заболела. Пролежала две недели в сильном жару. Очевидно, огонь влюбленности покидал ее таким классическим способом. Когда же, поправившись, она пришла в школу в ожидании нового унижения, трагикомическое ее приключение было совершенно заслонено самоубийством школьной красавицы Нины Борисовой, повесившейся в классе после окончания вечерней смены.
Что же касается жестокосердного героя Витьки Старостина, он, к Сониному счастью, тем временем переехал с родителями в другой город, и Сонечка осталась при горьком сознании полной и окончательной исчерпанности женской биографии, что на всю жизнь освободило ее от старания нравиться, увлекать и очаровывать. Она не испытывала к своим удачливым сверстницам ни разрушительной зависти, ни изнуряющего душу раздражения и вернулась к своей рьяной и опьяняющей страсти – к чтению.
…Роберт Викторович пришел через два дня, когда Сонечка уже не работала на выдаче. Он вызвал ее. Она поднялась из подвала, в три приема вырастая из темной дыры, близоруко и долго узнавала его, потом закивала как хорошему знакомому.
– Сядьте, пожалуйста, – придвинул он стул.
В маленьком читальном зале сидели несколько тепло одетых посетителей. Было холодно – едва топили.
Сонечка присела на край стула. Расползающийся матерчатый треух лежал на краю стола рядом со свертком, который мужчина неторопливо и очень тщательно распаковывал.
– Давеча я забыл у вас спросить, – своим светящимся голосом проговорил он, а Сонечка улыбнулась хорошему слову «давеча», которое давно ушло из общепринятого обихода в просторечье, – забыл я спросить ваше имя. Простите?
– Соня, – коротко ответила она, все поглядывая, как он разворачивает сверток.
– Сонечка… Хорошо, – как бы согласился он.
Наконец обертка отшелушилась, и Соня увидела женский портрет, написанный на рыхлой грубоволокнистой бумаге нежной коричневой краской, сепией. Портрет был чудесный, и женское лицо было благородным, тонким, нездешнего времени. Ее, Сонечкино, лицо. Она вдохнула в себя немного воздуху – и запахло холодным морем.
– Это мой свадебный подарок, – сказал он. – Я, собственно, пришел, чтобы сделать вам предложение. – И он выжидательно посмотрел на нее.
И тут Сонечка впервые разглядела его: прямые брови, нос с тонкой хребтиной, сухой рот с выровненными губами, глубокие вертикальные морщины вдоль щек и блеклые глаза, умные и угрюмые…
Губы ее дрогнули. Она молчала, опустив глаза. Ей очень хотелось еще раз посмотреть в его лицо, такое значительное и притягательное, но призрак Витьки Старостина промелькнул за спиной, и она, уставившись в легкие извилистые линии рисунка, вдруг переставшего обозначать женское, а тем более ее собственное лицо, выговорила еле слышным, но холодным и отстраняющим голосом:
– Это что, шутка?
И тогда он испугался. Он давно уже не строил никаких планов: судьба завела его в такое мрачное место, в преддверие ада, его звериная воля к жизни почти исчерпалась, и сумерки посюстороннего существования не казались уже привлекательными, и вот теперь он видел женщину, освещенную изнутри подлинным светом, предчувствовал в ней жену, удерживающую в хрупких руках его изнемогающую, прильнувшую к земле жизнь, и видел одновременно, что она будет сладкой ношей для его не утружденных семьей плеч, для трусливого его мужества, избегавшего тягот отцовства, обязанностей семейного человека… Но как он подумал… как не пришло ему в голову раньше… может, она уже принадлежит другому, какому-нибудь молодому лейтенанту или инженеру в штопаном свитере?
Кибела снова дразнила его красным острым языком, и ее веселая свита, составленная из непотребных, страшных, но все сплошь знакомых ему женщин, кривлялась в багровых отсветах.
Он хрипло и принужденно засмеялся, придвинул к ней лист и сказал:
– Я не шутил. Я просто не подумал, что вы можете быть замужем.
Он встал, взял в руки свою немыслимую шапку:
– Простите меня.
И по-староофицерски резко поклонился, бросив вниз стриженую голову, и двинул к выходу. И тогда Сонечка крикнула ему в спину:
– Постойте! Нет! Нет! Я не замужем!
Сидящий за читальным столиком старик с подшивкой газет неодобрительно посмотрел в ее сторону. Роберт Викторович обернулся, улыбнулся ровными губами и от своей недавней растерянности, когда было заподозрил, что женщина от него ускользает, перешел к еще более глубокой: он совершенно не знал, что же говорить и делать он должен теперь.
* * *
Откуда взялись у истощенного Роберта Викторовича и хрупкой от природы Сонечки силы, чтобы посреди бедственной пустыни эвакуационной жизни, посреди нищеты, подавленности, исступленного лозунга, едва покрывающего подспудный ужас первой военной зимы, выстраивать новую жизнь, замкнутую и уединенную, как сванская башня, однако вмещающую без малейших купюр все их разъединенное прошлое: ломаную, как движение ослепленной ночной бабочки, жизнь Роберта Викторовича с молниеносными и радостными поворотами от иудаики к математике и, наконец, к важнейшему делу его жизни, бессмысленному и притягательному размазыванию краски, как он сам определил свое ремесло, и Сонечкину жизнь, питавшуюся чужими книжными выдумками, лживыми и пленительными.
Теперь же Сонечка вкладывала в их совместную жизнь какое-то возвышенное и священное отсутствие опыта, безграничную отзывчивость ко всему тому важному, высокому, не вполне понятному содержанию, которое изливал на нее Роберт Викторович, сам не переставая дивиться, каким обновленным и переосмысленным становится его прошлое после долгих ночных разговоров. Наподобие касания к философскому камню, ночные беседы с женой оказывались волшебным механизмом очищения прошлого…
Из пяти лагерных лет, вспоминал Роберт Викторович, особенно тяжелыми были первые два, потом как-то обмялось – стал писать портреты начальственных жен, делал по заказу копии с копий… Сами оригиналы были нищенскими образчиками падшего искусства, и Роберт Викторович, выполняя их, обычно развлекал себя каким-нибудь формальным способом, например, писал левой рукой. Попутно он сделал открытие об изменившемся в связи с временной леворукостью цветовосприятии.
По внутренней организации Роберт Викторович был человеком аскетического склада, всегда умел обходиться минимальным, но, лишенный в течение многих лет того, что сам считал необходимым – зубной пасты, хорошего лезвия и горячей воды для бритья, носового платка и туалетной бумаги, – он радовался теперь каждой малой малости, каждому новому дню, освещенному присутствием жены Сони, относительной свободе человека, чудом освобожденного из лагеря и обязанного всего лишь в неделю раз отмечаться в местной милиции…
Они жили лучше многих. В подвале заводоуправления художнику выделили безоконную комнату рядом с котельной. Было тепло. Почти никогда не отключали электричества. Истопник варил им картошку, которую приносил Сонечкин отец, добывающий дополнительное питание своим безотказным мастерством.
Однажды Соня с легким оттенком пафоса, вообще ей не свойственного, сказала мечтательно:
– Вот мы победим, кончится война, и тогда заживем такой счастливой жизнью…
Муж прервал ее сухо и желчно:
– Не обольщайся. Мы прекрасно живем – сейчас. А что касается победы… Мы с тобой всегда останемся в проигрыше, какой бы из людоедов ни победил. – И мрачно закончил странной фразой: – От воспитателя моего я получил то, что не стал ни зеленым, ни синим, ни пармутарием, ни скутарием…
– О чем ты? – с тревогой спросила Соня.
– Это не я. Это Марк Аврелий. Синие и зеленые – это цвета партий на ипподроме. Я хотел сказать, что меня никогда не интересовало, чья лошадь придет первой. Для нас это не важно. В любом случае гибнет человек, его частная жизнь. Спи, Соня.
Он накрутил себе на голову полотенце – была у него такая странная, в лагере нажитая привычка – и мгновенно заснул. А Сонечка долго лежала в темноте, мучаясь от недоговоренности и отодвигая от себя еще более ужасную, чем эта недоговоренность, догадку: муж ее обладал знанием столь опасным, что лучше было этого не касаться, – и она уводила свою тревожную мысль в другое место, к томным и тонким переборам внизу живота, и пыталась представить себе, как пальчики размером в четверть спички в такой же темноте, которая окружает сейчас и ее, легко проводят по мягкой стенке своего первого жилища, и улыбалась.
А Сонечкино дарование яркого и живого восприятия книжной жизни отуманилось, как-то одеревенело, и оказалось вдруг, что самое незначительное событие по эту сторону книжных страниц – поимка мышки в самодельную ловушку, распустившаяся в стакане заскорузлая и сплошь мертвая ветка, горсть китайского чая, случайно добытая Робертом Викторовичем, – важнее и значительнее и чужой первой любви, и чуждой смерти, и даже самого спуска в преисподнюю, той крайней литературной точки, где совершенно сходились вкусы молодых супругов.
Еще на второй неделе их скоропалительного брака Соня узнала от своего мужа нечто для нее ужасное: он был совершенно равнодушен к русской литературе, находил ее голой, тенденциозной и нестерпимо нравоучительной. Для одного только Пушкина неохотно делал исключение… Завязалась дискуссия, в которой Сонечкиной горячности Роберт Викторович противопоставил строгую и холодную аргументацию, Сонечкой не вполне понятую, и кончилась эта домашняя конференция горькими слезами и сладкими объятиями.
Упрямый Роберт Викторович, оставлявший всегда последнее слово за собой, в глухом предутреннем часу успел еще сказать засыпающей жене:
– Чума! Чума все эти авторитеты, от Гамалиила до Маркса… А уж ваши… Горький, весь дутый, и Эренбург, насмерть перепуганный… И Аполлинер тоже дутый…
Сонечка на Аполлинере встрепенулась:
– А ты и Аполлинера знал?
– Знал, – нехотя отозвался он. – Во время той войны… Я с ним два месяца жилье делил. Потом меня в Бельгию перевели, под город Ипр. Знаешь такой?
– Да, иприт, помню, – пробормотала Сонечка, восхищенная неисчерпаемостью его биографии.
– Ну, слава богу… Я как раз и попал в эту газовую атаку. Но я был на холме, с подветренной стороны, потому и не был отравлен. Я ведь везучий… счастливчик… – И чтобы еще раз удостовериться в своем исключительном, избранническом везении, просунул руку под Сонины плечи.
К русской литературе они больше не возвращались.
* * *
За месяц до рождения ребенка срок неопределенной командировки Роберта Викторовича, которую он длил до последней возможности, кончился, и он получил предписание немедленно вернуться в башкирское село Давлеканово, где и надлежало ему дотягивать ссылку в надежде на будущее, которое все еще представлялось Сонечке прекрасным и в чем сильно сомневался Роберт Викторович.
И отец, и совсем разболевшаяся легкими мать Сони уговаривали ее остаться в городе хоть до родов, но Сонечка твердо решила ехать вместе с мужем, да и сам Роберт Викторович не хотел разделяться с женой. На этом самом месте и проскользнула единственная тень недовольства зятем со стороны старого часовщика. Старик, потеряв к этому времени сына и старшего зятя, бессловесно и близко сошелся с Робертом Викторовичем: различие в их социальном уровне теперь, в перевернутом мире, оказалось не то чтобы несущественным, а, скорее, выявляло все мнимые преимущества интеллигента перед пролетарием. Что же касалось всего прочего, подводная часть культурного айсберга была у них единой.
Семья собирала Соню сутки – столько времени отвели Роберту Викторовичу для окончания всех его дел. Мать, роняя желтые слезы, стремительно подрубала пеленки, тонкой заветной иглой нежно обметывала распашонки, выкроенные из собственной старой рубахи. Старшая сестра Сони, недавно потерявшая на фронте мужа, вязала из красной шерсти маленькие носочки, глядя перед собой неподвижными глазами. Отец, добывший пуд пшена, пересыпал его по маленьким мешочкам и все поглядывал с недоверием на Соню, которая хоть и была на девятом месяце, но так похудела за последнее время, что даже пуговицы на юбке не переставила, а беременность ее угадывалась скорее не по изменению фигуры, а по расплывшемуся лицу и припухшим губам.
– Девочка, девочка будет, – тихонько говорила мать. – Дочери, они всегда материнскую красоту пьют…
Сестра Сони безучастно кивала, а Сонечка растерянно улыбалась и все твердила про себя:
«Господи, если можно, девочку… если можно, беленькую…»
* * *
Ночью знакомый железнодорожник посадил их в маленький трехвагонный состав, стоявший в полутора километрах от станции, в вагон, сохранивший следы благородного происхождения в виде добротных деревянных панелей. Впрочем, мягкие диваны и откидные столики давно были выломаны и пульмановская роскошь заменена дощатыми скамьями.
От Свердловска до Уфы ехали больше полутора суток в туго набитом вагоне, и всю дорогу почему-то вспоминалась Роберту Викторовичу его шальная юношеская поездка в Барселону, куда рванул он, получив первые крупные деньги, году в двадцать третьем или двадцать четвертом знакомиться с Гауди.
Сонечка доверчиво спала почти все время их путешествия, упершись ногами в пышный узел одеяла и привалившись плечом к худой груди мужа, а он все вспоминал кривую, ползущую вверх улицу, на которой стояла его гостиница, круглый наивный фонтанчик перед окном, смуглое лицо с вырезанными ноздрями необыкновенно красивой проститутки, с которой он купечески кутил всю ту барселонскую неделю. Он шарил в памяти и легко находил в ней мелкие и яркие детали: совершенно совиную морду официанта в гостиничном ресторане, чудесные плетеные туфли из палевой телячьей кожи, купленные в магазине с огромной синей вывеской «Гомер», и даже имя этой барселонской девчонки вспомнил – Кончетта! Итальянка она была, приезжая, родом из Абруцци… А Гауди ему совершенно не понравился… Во всех подробностях теперь, через четверть века, он видел перед собой эти странные сооружения, совершенно растительные, сплошь надуманные и неправдоподобные…
Сонечка чихнула, полупроснулась, что-то пробормотала. Он прижал к себе ее сонную руку, вернулся в окрестности Уфы, в дикую Башкирию, и улыбнулся, качая седой головой и недоумевая: «Да я ли был там? Я ли теперь здесь? Нет, нет никакой реальности вообще…»
* * *
Родильный дом, куда на исходе женского срока при первых же знаках приближающихся родов повел Роберт Викторович Сонечку, стоял на окраине большого плоского села, в безлесном растоптанном месте. Само строение было из глиняных, вымешанных с соломой кирпичей, убогое, с маленькими мутными окнами.
Единственным врачом был легко краснеющий немолодой блондин с тонкой белой кожей, пан Жувальский, беженец из Польши, в недавнем прошлом модный варшавский доктор, светский человек и любитель хороших вин. Он стоял спиной к вошедшим посетителям, сверкая голубоватой белизной халата, неуместной, но успокаивающей, кусал концы светлых усов и протирал замшевой тряпочкой стекла своих крупных очков. Сюда, к этому окну, он подходил несколько раз в день, смотрел на бесформенную, в грязных клочьях травы землю, вместо стройной Ерусалимской аллеи, куда выходили окна его варшавской клиники, и промакивал слезящиеся глаза красным, в зеленую клетку английским платком, последним из сохранившихся.
Он только что осмотрел приехавшую за сорок верст верхом немолодую башкирку, крикнул санитарке: «Подмойте даму!» – и стоял теперь, унимая невольную дрожь оскорбления в груди и с тоской вспоминая своих атласных пациенток, молочно-сладковатые запахи их выхоленных дорогостоящих гениталий.
Он обернулся, почувствовав чье-то присутствие у себя за спиной, и обнаружил сидящую на скамье крупную молодую женщину в светлом поношенном пальто и остролицего седого мужчину в залатанной тужурке.
– Я осмелился побеспокоить вас, доктор, – заговорил мужчина, и пан Жувальский, с первых звуков голоса почуяв в нем принадлежность к своей касте, к попранной европейской интеллигенции, двинулся навстречу с улыбкой узнавания.
– Прошу вас… Пожалуйста. Вы с супругой? – полувопросительно произнес пан Жувальский, отметив их большую разницу в возрасте, допускавшую и какие-то иные отношения между этими по виду мало подходящими друг другу людьми. Он указал на занавеску, где был выгорожен для него крохотный кабинетик.
Еще через пятнадцать минут он осмотрел Сонечку, подтвердил приближение родов, однако велел набраться терпения часов до десяти, если все пойдет правильно и своевременно.
Соню положили на кровать, покрытую каляной холодной клеенкой, пан Жувальский похлопал ее по животу жестом скорее ветеринарским и отошел к башкирке, которая, как выяснилось, три дня назад родила мертвого ребенка, и все было хорошо, а теперь вот стало нехорошо.
Через два с половиной часа доктор с большими слезами на чисто выбритых щеках вышел на крыльцо, где сидел, никуда не отходя, сумрачный Роберт Викторович, и громко, трагически зашептал ему в ухо:
– Меня надо расстреливать. Я не имею права оперировать в таких условиях. У меня ничего, буквально ничего нет. Но не оперировать я не могу. Через сутки она умрет от сепсиса!
– Что с ней? – одеревеневшим языком спросил Роберт Викторович, представив себе умирающую Сонечку.
– Ах, боже мой! Простите! С вашей женой все в порядке, идут схватки, я про эту несчастную башкирку…
Роберт Викторович хрупнул зубами, выматерился про себя: он терпеть не мог нервических мужчин, одержимых желанием ежеминутно выговаривать свои переживания. Он зажевал губами и посмотрел в сторону.
Маленькая двухкилограммовая девочка, которую родила Соня в те пятнадцать минут, пока пан Жувальский разговаривал на крыльце, была беленькой и узколицей, точь-в-точь такой, какой Соня ее задумала.
* * *
Все у Сонечки изменилось так полно и глубоко, как будто прежняя жизнь отвернулась и увела с собой все книжное, столь любимое Соней содержание и взамен оставила немыслимые тяготы неустроенности, нищеты, холода и каждодневных беспокойных мыслей о маленькой Тане и Роберте Викторовиче, которые попеременно болели.
Семье не выжить бы, если б не постоянная помощь отца, который ухитрялся добывать для них и посылать все самое необходимое, чем они жили. На все уговоры родителей переехать с ребенком в Свердловск на это самое тяжелое время Соня отвечала одним: мы с Робертом Викторовичем должны быть вместе.
После дождливого, похожего на нескончаемую осень лета без всякого перехода наступила суровая зима. В зыбком домике из сырых саманных кирпичей подвальная комната в заводоуправлении вспоминалась как тропический райский сад.
Главной заботой было топливо. Школа комбайнёров, где Роберт Викторович служил бухгалтером, давала иногда лошадь, и он еще с осени довольно часто уезжал в степь, чтобы нарезать сухостойных высоких трав, похожих на камыш, названия которых он так и не узнал. С верхом груженной телеги хватало на двое суток топки, это он знал по опыту той зимы, которую провел в селе до отъезда в Свердловск.
Он прессовал траву, забивал самодельными брикетами пристройку. Поднял часть пола, который сам и настелил в свое время, не подумав о необходимости хранилища для картошки. Вырыл подпол, осушил его, укрепил ворованными досками. Он построил уборную, и его сосед старик Рагимов качал головой и усмехался: в здешних краях деревянную доску с вырезанным очком считали излишней роскошью и обходились испокон веку тем недальним местом, что называлось «до ветру».
Он был вынослив и жилист, и физическая усталость была утешительна его душе, страдающей острым отвращением к бессмысленному счету фальшивых цифр, составлению ложных сводок и фиктивных актов о списании разворованного горючего, украденных запчастей и проданных на местном базаре овощей с подсобного хозяйства, которым ведал пройдоха огородник, веселый и бесстыжий хохол с искалеченной правой рукой.
Зато каждый вечер он отворял дверь своего дома и в живом огнедышащем свете керосиновой лампы, в неровном мерцающем облаке он видел Соню, сидящую на единственном стуле, переоборудованном Робертом Викторовичем в кресло, и к заостренному концу ее подушкообразной груди была словно приклеена серенькая и нежно-лохматая, как теннисный мяч, головка ребенка. И все это тишайшим образом колебалось и пульсировало: волны неровного света и волны невидимого теплого молока, и еще какие-то незримые токи, от которых он замирал, забывая закрыть дверь. «Двери!» – протяжным шепотом возглашала Сонечка, вся улыбаясь навстречу мужу, и, положив дочку поперек их единственной кровати, доставала из-под подушки кастрюлю и ставила ее на середину пустого стола. В лучшие дни это был густой суп из конины, картошки с подсобного огорода и пшена, присланного отцом.
Просыпалась Сонечка на рассвете от мелкого копошения девочки, прижимала ее к животу, сонной спиной ощущая присутствие мужа. Не раскрывая глаз, она расстегивала кофту, вытягивала отвердевшую к утру грудь, дважды нажимала на сосок, и две длинные струи падали в цветастую тряпочку, которой она сосок обтирала. Девочка начинала ворочаться, собирать губы в комочек, чмокать и ловила сосок, как маленькая рыбка большую наживу. Молока было много, оно шло легко, и кормление с маленькими торканьями соска, подергиванием, легким прикусыванием груди беззубыми деснами доставляло Соне наслаждение, которое непостижимым образом чувствовал муж, безошибочно просыпаясь в это предутреннее раннее время. Он обнимал ее широкую спину, ревниво прижимал к себе, и она обмирала от этого двойного груза непереносимого счастья. И улыбалась в первом свете утра, и тело ее молчаливо и радостно утоляло голод двух драгоценных и неотделимых от нее существ.
Это утреннее чувство отсвечивало весь день, все дела делались как бы сами собой, легко и ловко, и каждый божий день, не сливаясь с соседствующими, запоминался Сонечкой в своей отдельности: то с полуденным ленивым дождем, то с прилетевшей и усевшейся на ограде крупной кривоногой птицей ржаво-железною цвета, то с первой ребристой полоской раннего зуба в набухшей десне дочки. На всю жизнь сохранила Соня – кому нужна эта кропотливая и бессмысленная работа памяти – рисунок каждого дня, его запахи и оттенки и особенно, преувеличенно и полновесно – каждое слово, сказанное мужем во всех сиюминутных обстоятельствах.
Много лет спустя Роберт Викторович не раз удивлялся неразборчивой памятливости жены, сложившей на потаенное дно весь ворох чисел, часов, деталей. Даже игрушки, которые во множестве и с давно забытой творческой радостью мастерил для подрастающей дочери Роберт Викторович, Сонечка помнила все до единой. Всякую мелочь – вырезанных из дерева животных, скрученных из веревок летающих птиц, деревянных кукол с опасными лицами – Сонечка увезла потом в Москву, но никогда не забыла и того, что было оставлено рагимовским детям и внукам, дружной стайке одинаковых тощих воробышков: раздвижную крепость для куклы-короля с готической башней и подъемным мостом, римский цирк со спичечными фигурками рабов и зверей и довольно громоздкое сооружение с ручкой и множеством цветных дощечек, способных двигаться, трещать и производить смешную варварскую музыку…
Затеи эти много превосходили игровые возможности маленького ребенка. Остропамятливая девочка, сохранившая, как и мать, множество воспоминаний этого времени, не запомнила этих игрушек, может быть, отчасти и потому, что уже в Александрове, куда переселилась семья с Урала в сорок шестом году, Роберт Викторович строил ей целые фантастические города из щепок и крашеной бумаги, богатые подходы к тому, что впоследствии назвали бумажной архитектурой. Хрупкие эти игрушки исчезли в многочисленных переездах семьи в конце сороковых и начале пятидесятых.
Если первая половина жизни Роберта Викторовича проходила в крупных и шальных географических бросках из России во Францию, потом в Америку, на Балканы, в Алжир, снова во Францию и, наконец, опять в Россию, то вторая половина, отбитая лагерем и ссылкой, проходила в мелких перебежках: Александров, Калинин, Пушкино, Лианозово. Так целое десятилетие он снова приближался к Москве, которая отнюдь не казалась ему ни Афинами, ни Иерусалимом.
Эти первые послевоенные годы семью кормила Сонечка, унаследовавшая материнскую швейную машинку и невинную дерзость самоучки, способной пристрочить рукав к вырезу проймы. Заказчики ее были нетребовательны, а сама мастерица старательна и без запроса.
Роберт Викторович работал на каких-то полуинвалидных работах, то сторожем в школе, то счетоводом в артели, производящей чудовищные железные скобы неизвестного назначения. Вскормленный на вольных парижских хлебах, Роберт Викторович и помыслить не мог о профессиональной работе на службе у скучного и унылого государства, даже если бы и смог примириться с его тупой кровожадностью и бесстыдной лживостью.
Свои художественные фантазии он удовлетворял на белоснежных планшетах, сооружая третье поколение бумажно-щепочных строений, которыми когда-то занимал дочь. Мимоходом в нем открылось особое качество видения разверток, точное чутье на пространственно-плоскостные отношения, и глаз нельзя было отвести от причудливых фигур, которые он вырезал из цельного листа и потом, где-то чуть промяв, где-то согнув и вывернув наизнанку, складывал предмет, не имеющий имени и никогда доныне не существовавший в природе. Игра, выдуманная когда-то для дочери, стала его собственной.
Женская доверчивость Сони не знала границ. Талант мужа был однажды принят на веру, и она в благоговейном восхищении рассматривала все, что выходило из его рук. Она не понимала ни сложных пространственных задач, ни тем более элегантных решений, но она чуяла в его странных игрушках отражение его личности, движение таинственных сил и счастливо проговаривала про себя свой заветный мотив: «Господи, господи, за что же мне такое счастье…»
Живопись Роберт Викторович, можно сказать, забросил. Из его прежних развлечений с Танечкой вышло новое ремесло. Покровительствовал, как всегда, случай: в александровской электричке он столкнулся с известным художником Тимлером, знакомым ему еще по Парижу и поддерживавшим с ним отношения после возвращения в Москву вплоть до ареста. Художник этот с репутацией формалиста – кто и когда объяснит, что имела в виду под этой кличкой зарвавшаяся и узаконенная бездарность, – укрывался в те годы в театре. Он приехал к Роберту Викторовичу, полтора часа простоял в дощатом сарае перед несколькими композициями, подписанными рядами арабских цифр и еврейских букв, и, сын местечкового плотника, два года проучившийся в хедере, оценив их исключительное качество, постеснялся спросить автора о значении этих странных рядов, а самому Роберту Викторовичу и в голову не пришло пускаться в объяснение этой несомненной для него связи каббалистической азбуки, сухого остатка его юношеского увлечения иудаикой и дерзких игр с разъятием и выворачиванием пространства.
Тимлер долго молча пил чай, а перед отъездом хмуро сказал:
– Здесь очень сыро, Роберт, вы можете перевезти свои работы в мою мастерскую.
Предложение это означало полное признание и было весьма благородным, но Роберт Викторович им не воспользовался. Вызванные к случайному существованию необозначенные предметы вернулись в небытие, сгнив в одном из последующих сараев и не переживя многих переездов.
Здесь же, в сарае, знаменитый Тимлер дал Роберту Викторовичу первый заказ на театральный макет. Спустя некоторое время макеты его прославились по всей театральной Москве, и заказы не переводились. На полуметровой сцене он сооружал то горьковскую ночлежку, то выморочный кабинет покойника, то громоздил бессмертные лабазы Островского.
* * *
Между дровяными сараями, голубятнями и скрипучими качелями ходила странная Таня. Она любила носить старые материнские платья. Тощая высокая девочка тонула в Сонечкиных балахонах, подвязанных в талии блеклым кашемировым платком. Вокруг узкого лица, как зрелое, но не облетевшее еще одуванчиковое семя, держались стоячие упругие волосы, не продираемые гребнем, не заплетающиеся в косички. Она сновала в густом воздухе, перегруженном запахами старых бочек, тлеющей садовой мебели и плотными, слишком плотными тенями, которые окружают обветшалые и ненужные вещи, и вдруг, как хамелеон, исчезала в них. Она замирала надолго и вздрагивала, когда ее окликали. Сонечка беспокоилась, жаловалась мужу на нервность, странную задумчивость дочери. Он клал руку на Сонино плечо и говорил:
– Оставь ее. Ты же не хочешь, чтобы она маршировала…
Сонечка пыталась приохотить Таню к книгам, но Таня, слушая мастерское Сонино чтение, стекленела глазами и уплывала, куда Соне и не снилось.
За годы своего замужества сама Сонечка превратилась из возвышенной девицы в довольно практичную хозяйку. Ей страстно хотелось нормального человеческого дома, с водопроводным краном на кухне, с отдельной комнатой для дочери, с мастерской для мужа, с котлетами, компотами, с белыми крахмальными простынями, не сшитыми из трех неравных кусков. Во имя этой великой цели Соня работала на двух работах, строчила ночами на машинке и втайне от мужа копила деньги. К тому же она мечтала объединиться с овдовевшим отцом, который почти ослеп и был очень слаб.
Мотаясь в пригородных автобусах и расхлябанных электричках, она быстро и некрасиво старилась: нежный пушок над верхней губой превращался в неопрятную бесполую поросль, веки ползли вниз, придавая лицу собачье выражение, а тени утомления в подглазьях уже не проходили ни после воскресного отдыха, ни после двухнедельного отпуска.
Но горечь старения совсем не отравляла Сонечке жизнь, как это случается с гордыми красавицами: незыблемое старшинство мужа оставляло у нее непреходящее ощущение собственной неувядающей молодости, а неиссякаемое супружеское рвение Роберта подтверждало это. И каждое утро было окрашено цветом незаслуженного женского счастья, столь яркого, что привыкнуть к нему было невозможно. В глубине же души жила тайная готовность ежеминутно утратить это счастье – как случайное, по чьей-то ошибке или недосмотру на нее свалившееся. Милая дочка Таня тоже казалась ей случайным даром, что в свой час подтвердил и гинеколог: матка у Сонечки была так называемая детская, недоразвитая и не способная к деторождению, и никогда больше после Танечки Соня не беременела, о чем горевала и даже плакала. Ей все казалось, что она недостойна любви своего мужа, если не может приносить ему новых детей.
* * *
В начале пятидесятых Сониными огромными трудами и хлопотами семья полуобменяла-полуприкупила жилье, и въехали они в целую четверть двухэтажного деревянного дома, одного из немногих оставшихся к тому времени строений в почти сведенном Петровском парке, возле метро «Динамо». Дом был чудесный – бывшая дача известного до революции адвоката. Четверть сада, примыкавшего к дому, тоже была в придачу к квартире.
Все состоялось. У Тани была отдельная комната, светелка во втором этаже, Сонин отец, доживавший последний свой год, занимал угловушку, на утепленной террасе Роберт Викторович устроил мастерскую. Стало просторней и с деньгами.
По случайному стечению квартирообменных обстоятельств Роберт Викторович оказался вблизи московского Монмартра, в десяти минутах ходьбы от целого городка художников. К полной своей неожиданности, в том месте, которое он считал опустошенным и вытоптанным, он нашел себе если не единомышленников, то по крайней мере собеседников: российского барбизонца, покровителя бездомных котов и подбитых птиц, Александра Ивановича К., писавшего свои буйные картины, сидя на сырой земле, и утверждавшего, что это Антеево прикосновение его седалища придает ему творческие силы; лысого украинского дзэн-буддиста Григория Л., устраивавшего на бумаге прозрачный фарфор и шелк, десятки раз перекрывая акварельные слои то чаем, то молоком; пестроволосого, с перебитым носом поэта Гаврилина, обладавшего врожденным даром рисовальщика: на больших, неровно обрезанных листах оберточной бумаги среди замысловатых фигур он рисовал свои поэмы-палиндромы, словесно-шрифтовые шифровки, восхищавшие Роберта Викторовича.
Все эти странные люди, обнаружившие себя в начале обманчивой оттепели, тянулись к Роберту Викторовичу, и постепенно его замкнутый дом превратился в своего рода клуб, где сам хозяин играл роль почетного председателя.
Он был, как всегда, немногословен, но одного его скептического замечания, одной усмешки было достаточно, чтобы выправить заблудшую дискуссию или повести разговор в новое русло. Тяжко молчавшая много лет страна заговорила, но этот вольный разговор велся при закрытых дверях, страх еще стоял за спиной.
Сонечка штопала Танин чулок, натянув его на скользкий деревянный мухомор, и прислушивалась к разговору мужчин. То, о чем они говорили – о зимних воробьях, о видениях Мейстера Экхарда, о способах заварки чая, о теории цвета Гёте, – никак не соотносилось с заботами стоявшего на дворе времени, но Сонечка благоговейно грелась перед огнем этого всемирного разговора и все твердила про себя: «Господи, Господи, за что же мне все это…»
* * *
Плосконосый Гаврилин, любитель всех искусств, имел привычку лазать по журналам. Однажды он наткнулся в библиотеке в американском искусствоведческом журнале на большую статью о Роберте Викторовиче. Краткая биографическая справка о художнике оканчивалась несколько преувеличенным сообщением о его смерти в сталинских лагерях в конце тридцатых годов. Аналитическая часть статьи была написана слишком сложным для поэта языком, он не все понял, но из того, что ему удалось перевести, следовало, что Роберт Викторович чуть ли не классик и уж, во всяком случае, пионер художественного направления, изо всех сил расцветающего теперь в Европе. К статье прилагались четыре цветные репродукции.
На следующий же день Роберт Викторович в сопровождении друга-барбизонца пошел в московскую библиотеку, разыскал статью и пришел в неописуемую ярость оттого, что одна из четырех репродуцируемых картин не имела к нему никакого отношения, ибо принадлежала Моранди, а другая напечатана вверх ногами. Когда же он прочитал статью, он пришел в еще большую ярость.
– Америка еще в двадцатые годы производила на меня впечатление страны беспросветных дураков. Видно, она не поумнела, – фыркнул он.
Однако Гаврилин растрезвонил об этой статье по всему околотку, и старого макетчика вспомнили даже разбитные быстродействующие театральные художники и прибежали заново знакомиться.
Неожиданным следствием всей этой беготни было принятие Роберта Викторовича в Союз художников и получение им мастерской. Это было хорошее ателье, окнами на стадион «Динамо», ничуть не хуже того последнего, парижского, мансарды на улице Гей-Люссак, с видом на Люксембургский сад.
* * *
Сонечке было уже под сорок. Она поседела и сильно располнела. Легкий и сухой, как саранча, Роберт Викторович мало менялся, и они постепенно как-то сравнялись в возрасте. Таня немного стеснялась старости своих родителей, так же как и своего большого роста, ступней, груди. Все было не в масштабе, не в размере того десятилетия, когда акселераты еще не народились. Но в отличие от Сони рядом с ней не было подсмеивающегося старшего брата, а со всех стен благотворно смотрели ее чудесные портреты во всех детских возрастах. И эти портреты смягчали Танино недовольство собой. С седьмого класса она начала получать убедительные доказательства своей привлекательности от недоросших одноклассников и более старших мальчиков.
С раннего детства все Танины желания были легко удовлетворимы. Любящие родители по этой части сильно усердствовали, обычно забегая впереди ее желаний. Рыбки, собака, пианино появлялись едва ли не в тот же день, когда девочка о них заговаривала.
С самого рождения она была окружена чудесными игрушками, и игра, самостоятельная, не требующая иных участников, была главным содержанием ее жизни. Так и получилось, что, выйдя из развлечений своего затянувшегося детства, года два проспала она, промаялась на известном переходе и, рано поняв, какую именно игру предпочитают взрослые, отдалась ей с ясным сознанием своего права на удовольствия и свободой неподавленной личности.
Ничего и близко похожего на унизительную любовь Сонечки к Вите Старостину у Тани не было. Хотя она не была красавицей усредненного канона и была совершенно лишена общепонятной миловидности, ее длинное лицо с тонким в хребте носом, в сильно вздыбленных кудрявых волосах, узкие светло-стеклянные глаза были на редкость притягательными. Ровесников привлекала также Танина манера постоянно играть: с книгой, карандашом, с собственной шапкой. В ее руках постоянно происходил маленький, заметный только ближайшему соседу театр.
Однажды, заигравшись с пальцами и губами своего приятеля Бориски, к которому бегала списывать домашние задания по математике, она обнаружила некий предмет, ей не принадлежавший, который чрезвычайно увлек ее. Дверь в комнату родителей Бориски в этот вечерний час была приоткрыта, и эта светлая широкая щель с двумя толстыми тенями перед телевизором тоже как бы входила в условия игры, которые они прекрасно соблюли, подавая друг другу реплики, совершенно не имеющие отношения к происходящему. И хотя сеанс этот начался с невинного детского обмена вопросами: «А ты никогда не пробовал?», «А ты?» – после чего не знающая ни в чем отказа Танечка предложила: «Давай попробуем!» – сеанс этот закончился кратким введением – в прямом и переносном смысле – в новый предмет.
В обжигающий момент из соседней комнаты поступило несвоевременное предложение поужинать, и дальнейшие пробы были отложены до более благоприятного времени.
Следующие встречи происходили уже в отсутствие родителей. Самым увлекательным для Тани было новое осознание своего тела: оказалось, что каждая его часть – пальцы, грудь, живот, спина – обладает разной отзывчивостью к прикосновениям и позволяет извлекать из себя всякие прелестные ощущения, и это взаимоисследование доставляло обоим массу удовольствия.
Щуплый веснушчатый мальчик с выпирающими вперед крупными зубами и воспаленными уголками губ также проявил незаурядный талант, и в течение двух месяцев юные экспериментаторы, вдохновенно трудясь от трех до половины седьмого, то есть до прихода Борискиных родителей, в полном объеме усвоили всю механическую сторону любви, не испытав при этом ни малейшего чувства, выходящего за рамки дружеского и делового партнерства.
А потом между ними произошел конфликт, что называется, на производственной почве: Таня взяла у Бориски тетрадь по геометрии – и потеряла. И сообщила ему об этом в совершенно легкомысленной форме, даже не извинившись. Бориска, человек аккуратный и даже педантичный, страшно возмутился – не столько фактом потери тетради, сколько полным непониманием Таней неприличия своего поведения. Таня назвала его занудой, он ее – жлобихой. Они поссорились.
В высвободившееся от трех до половины седьмого время Бориска стал усиленно заниматься математикой, полностью определил свое призвание в области точных наук, а Танечка, нисколько не гонявшаяся за жизнеустройством, выдувала плохонькую деревянную музыку из флейты в своей светелке, грызла ногти и читала… О, бедная Сонечка, светлая ее юность, прошедшая на высокогорьях всемирной литературы! – фантастику, только фантастику, как зарубежную, так и отечественную, читала ее гуманитарно невинная дочь…
Тем временем на шаткие звуки Таниной флейты стягивались войска поклонников. Самый воздух вокруг нее был накален, ее наэлектризованные кудри стояли дыбом и искрили мелкими разрядами при одном только приближении руки. Сонечка еле успевала открывать и затворять двери за молодыми людьми в зоологических свитерах с угловатыми оленями и сизых гимнастерках и кителях, анахронической одежде школьников конца пятидесятых годов, придуманной в припадке ностальгического слабоумия каким-то престарелым министром наробразования.
Владимир А., выдающийся музыкант, скандальнейшим образом оставшийся в Европе в те годы, когда по эту сторону границы такой поступок воспринимался как политическое преступление, в книге своих воспоминаний, изданной в конце девяностых годов и обнаружившей в нем незаурядные дарования литератора, опишет музыкальные вечера в Таниной комнате, ее прямострунное пианино с чудесным звуком и нуждающееся в ежедневной настройке. С нежностью вспоминает он этот странный инструмент, открывший начинающему музыканту тайну индивидуальности вещи. Он говорит о нем, как можно было бы говорить о старенькой, давно умершей родственнице, кормившей автора в детстве незабываемыми пирожками с начинкой из одной вишни.
По свидетельству Владимира А., именно в Таниной комнате, выходящей затейливым окном в сад, на старую яблоню с раздвоенным стволом, аккомпанируя слабенькой Таниной флейте, он впервые испытал волнение творческого взаимопонимания и радостно шел на некоторое музыкальное самоуничтожение, чтобы предоставить робкой флейте более значительное положение.
Владимир А., в ту пору маленький, толстоватый, похожий на тапира мальчик, был влюблен в Таню. Она оставила глубокий след в его жизни и душе, и обе его жены – первая, московская, и вторая, лондонская, – несомненно, принадлежали к тому женскому типу.
Вторым музыкальным собеседником был Алеша Питерский – под такой кличкой его знали в Москве. Классической выучке Володи он противопоставлял гитарную свободу и полное владение всеми предметами, которые могли издавать звук, от губной гармошки до двух консервных банок. К тому же он был поэт и высоким петрушечьим голосом пел первые песни новой подпольной культуры.
Были еще несколько мальчиков, скорее присутствователей, чем участников, но и они были необходимы, поскольку создавали восхищенную аудиторию, в которой нуждались обе будущие знаменитости.
* * *
В годы своей юности Роберт Викторович тоже был центром завихрения каких-то невидимых потоков, но это были потоки иного свойства, интеллектуального. На них, как и на зов Таниной дудочки, тоже стекались молодые люди. Примечательно, что кружок этих рано взрослевших еврейских мальчиков, тинейджеров по современным понятиям, в острые предвоенные годы исследовал не модный в ту пору марксизм, а «Сефер ха-Зоар», «Книгу сияний», основной трактат каббалы. Эти мальчики с Подола, еврейской окраины Киева, собирались в доме Авигдора-мельника, отца Роберта Викторовича, и дом этот примыкал стена к стене к соседнему, принадлежащему Шварцману, отцу Льва Шестова, с которым спустя двадцать лет, уже в Париже, близко сойдется Роберт Викторович.
Ни один из тех мальчиков, кому выпало пережить годы войн и революций, не стал ни традиционным еврейским философом, ни вероучителем. Все они выросли в «эпикейрес», то есть в «свободомыслящих». Один стал блестящим теоретиком и несколько менее удачливым практиком начинающего кинематографа, второй – известным музыкантом, третий – хирургом с благословенными руками, и все они были вскормлены одним молоком, тем молодым электричеством, что накапливалось под крышей Авигдора-мельника.
Происходящее вокруг Тани, как догадался Роберт Викторович, было то самое, чем и его молодость была заряжена, но под знаком иной стихии, женской, столь ему враждебной, да еще с поправкой на обнищалое, выродившееся поколение…
Роберт Викторович первым заметил, что поздние Танины посетители уходят иногда рано утром. Сохранивший на всю жизнь привычку к раннему просыпанию, Роберт Викторович, выйдя в шестом часу утра из жилой части дома в свою мастерскую-террасу, где любил проводить эти первые, наиболее чистые, по его ощущению, часы, заметил свежие следы, ведущие с крыльца к калитке по только что выпавшему снегу. Через несколько дней он заметил их снова и осторожно спросил у жены, не ночевала ли у них Сонина сестра. Сонечка удивилась: нет, Аня не ночевала…
Роберт Викторович не стал производить расследование, поскольку на следующее утро увидел, как через садик выходит высокий молодой человек в тощей курточке. Соне о своем открытии он ни слова не сказал. И Сонечка клонила ночную тяжелую голову на мужнее плечо и жаловалась:
– Она не учится… ничего не делает… в школе ее ругают… какие-то намеки гадкие эта ее… Раиса Семеновна…
Роберт Викторович утешал ее:
– Оставь, Соня, оставь. Это все мертвое и смердит отвратительно… Да пусть она бросит эту убогую школу. Кому она нужна…
– Что ты! Что ты! – пугалась Соня. – Образование нужно.
– Да угомонись ты, – обрывал ее муж. – Оставь девчонку в покое. Не хочет – и не надо. Пусть играет на своей дудке, в этом не меньше проку…
– Роберт, но эти мальчики. Меня так беспокоит… – шла в робкую атаку Сонечка. – Мне кажется, один у нее всю ночь просидел, она потом в школу не пошла.
Роберт Викторович не поделился с Соней своими утренними наблюдениями, промолчал.
С тех пор как Таня дала отставку Бориске, началась настоящая собачья свадьба. Переполненные стероидами юноши клубились возле нее настойчиво и неотвязно. С несколькими из претендентов она испробовала новое развлечение. Сравнение шло в пользу Бориски – по всем статьям и статям.
К весне стало ясно, что в девятый класс ее не переведут. Школьная маета была совсем уж непереносима, и Роберт Викторович, слова не говоря Соне, отнес Танины документы в вечернюю школу, что повлекло за собой глубочайшие последствия для всей семьи, в первую очередь для него самого.
* * *
Властная прихоть судьбы, некогда определившая Сонечку в жены Роберту Викторовичу, настигла и Таню. Предметом страстной влюбленности стала школьная уборщица, а заодно и одноклассница, восемнадцатилетняя Яся, маленькая полячка с гладким, как свежеснесенное яичко, лицом. Дружба их медленно завязывалась на предпоследней парте. Крупная и размашистая Таня с обожанием смотрела на прозрачную, вроде отмытого аптечного пузырька, Ясю и страдала от застенчивости. Яся была молчалива, односложно отвечала на редкие Танины вопросы и вид имела сдержанно-высокомерный. Была она дочерью польских коммунистов, бежавших от фашистского нашествия – по воле обстоятельств в разные стороны: отец – на запад, мать с грудной девочкой – на восток, в Россию. Ей не удалось раствориться в миллионной стране, и она была человеколюбиво сослана в Казахстан, где, промыкавшись горько десять лет, не утратив возвышенных безумных идеалов, и умерла.
Яся попала в детский дом, проявила незаурядную привязчивость к жизни, выжив в условиях, как будто специально созданных для медленного умирания души и тела, и вырвалась оттуда благодаря умению максимально использовать предлагаемые обстоятельства.
Высоко поднятые над серыми глазами брови и нежный кошачий ротик, казалось, просили о покровительстве, и покровительство действительно находилось. В числе ее покровителей бывали и мужчины, и женщины, но в силу природной независимости она предпочитала мужчин, с раннего возраста усвоив недорогой способ с ними расчесться.
Один из последних ее покровителей, возникший уже после ее зачисления в какое-то чудовищное ремесленное училище для детдомовских и продуманного побега из него, был толстый сорокалетний татарин Равиль, проводник, довезший ее до самого Казанского вокзала города Москвы, откуда она планировала начать свое восхождение. В боковом кармане ее клетчатой хозяйственной сумки лежали выкраденный из директорского кабинета, незадолго до этого выписанный на ее имя паспорт и двадцать три дореформенных рубля, стянутые у спящего Равиля на подъезде к Оренбургу. Ворованные эти деньги не жгли ей рук по двум причинам: она взяла совсем немного из толстой пачки и, кроме того, чувствовала себя вполне отработавшей эти деньги за четырехдневную дорогу.
Равиль дорожной кражи не заметил и сильно огорчился, когда девочка не пришла через сутки к седьмому вагону, чтобы вернуться с ним обратно в Казахстан, как обещала.
С улыбкой тонкого снисхождения к себе, такой наивной дурочке в недавнем прошлом, она рассказывала Тане, как, намочив серое железнодорожное полотенце в раковине общественной уборной Казанского вокзала, раздевшись догола на глазах очумевших азиаток, клубящихся в этом смрадном месте, она обтерлась с ног до головы, достала из той же клетчатой сумки завернутую в две газеты, давно хранимую для этого случая белую блузку с оборкой на воротнике, переоделась и, бросив полотенце в ржавую проволочную корзину, пошла завоевывать Москву, начав с первой попавшейся позиции, то есть со знаменитой площади у трех вокзалов.
В клетчатой сумке лежали две пары трусов, грязная синяя блузка, тетрадь с переписанными собственноручно стихами и пачка открыток знаменитых актеров. Она была тверда, сообразительна и действительно до неправдоподобия наивна: она мечтала стать киноактрисой.
Все располагало к тому, чтобы Яся стала профессиональной проституткой, но этого не произошло.
За два года, проведенных в Москве, она достигла значительных успехов; у нее была временная прописка, временное жилье в чулане при школе, где она работала уборщицей и куда время от времени забегал к ней участковый Малинин, пожилой краснорожий благодетель, через которого она и получила все эти временные подарки судьбы. Посещения Малинина были кратки, для Яси необременительны и не слишком привлекательны для самого Малинина; но он был вдохновенным взяточником и вымогателем, а поскольку от Яси взять было совершенно нечего, то приходилось брать то, что дают.
В этом самом чулане на физкультурном мате, удачно заменяющем постель, Яся и рассказала Тане свою историю. Таня приняла все в сердце, испытав при этом сильнейшее сложносоставное чувство жалости, зависти и стыда за свое беспросветное благополучие. Яся, подробно, точно и сухо рассказав о себе все, что помнила, неожиданно увидела все прожитое со стороны и возненавидела его так сильно и окончательно, что никогда и никому уже больше не рассказывала этой правды. Она придумала себе новое прошлое, с аристократической бабушкой, имением в Польше и французскими родственниками, которые как черт из коробочки вынырнут еще в ее жизни в свой час…
Кроме Ясиного чулана было при школе еще одно жилое помещение, которое занимала преподавательница русского языка и литературы, военная вдова Таисия Сергеевна. К посещениям Малинина она относилась крайне неодобрительно, но это не мешало ей поручать Ясе надзор за своими малолетними детьми и всяческое мытье. За все эти соседские услуги Ясе разрешено было пользоваться книжным шкафом учительницы и не посещать уроков литературы. Таисия Сергеевна предпочитала, чтобы Яся в это время сидела с ее детьми.
Отслужив эти часы равнодушно и безупречно, Яся ложилась на пахнущий потной кожей физкультурный мат и учила наизусть басни Крылова, без которых во все времена невозможно было поступить ни в какое театральное училище. Или читала вслух Шекспира от первого тома до последнего, разыгрывая трагическим шепотом все женские роли – от Миранды, дочери Просперо, до Марины, дочери Перикла.
Учителя вечерней школы, успевшие измотаться еще до обеда, обучая младших, дневных братьев своих вечерних учеников, не сильно донимали их уроками. К тому же половину класса составляли обитатели милицейского общежития, находившегося неподалеку, и усталые молодые мужики мирно дремали в полутемном классе, получали свои тройки и успешно шли учиться дальше, кто на юриста, кто по партийной линии… Яся была единственной во всем классе, кому парта была по росту, остальные застревали в этих деревянных станках, специально придуманных для мучительства малолетних…
Резкая, размашистая Таня двигалась шумно, с невоспитанной свободой жеребенка. Садясь за парту, она сдвигала ее так, что Яся слегка подпрыгивала своей легкой головкой. Сама Яся выходила из-за парты бесшумно, откидывая крышку и делая скользкое и ласковое движение бедрами. Она шла по узкому проходу к доске, нижняя часть ее тела как бы чуть отставала от верхней, и та нога ее, что в шагу была позади, чуть приволакивалась, замирала на носочке, а коленями она двигала так, словно толкала тяжелую ткань длинного вечернего платья, а не задрипанной юбочки. И прогиб в пояснице был какой-то особенный, и каждая часть ее тела совершала свои отдельные движения, и все они – и маленькое поигрывание грудью, и зыбкость бедер, и особое покачивание в щиколотке, – все вместе это было не отработанными приемами кокетки, а женской музыкой тела, требующего внимания и восхищения. Немолодой тридцатилетний милиционер Чурилин с крупным лицом в черных военных порошинах тряс головой ей вслед и бормотал:
– Ишь ты… ммм…
И непонятно было, что в этом мычании – отвращение или восторг. Впрочем, держалась Яся так независимо, что дальше чурилинского мычания у милиционеров дело не шло.
Возвращаясь домой, Таня все пыталась пройти в темноте ночного парка этой походкой, сыграть Ясину музыку своими коленями, бедрами, плечами – тянула вверх шею, приволакивала ногу, качала бедрами. Ей казалось, что большой рост мешал ей быть такой же привлекательно-зыбкой, как Яся, и она сутулилась. «В ней есть что-то от эльфа», – думала Таня и, устав от своих ходильно-балетных упражнений, неслась к дому, разбрасывая длиннющие ноги, делая неравномерные отмашки то правой, то левой рукой, вскидывая головой, отбрасывая назад набравшие вечернего тумана волосы, а Роберт Викторович, частенько выходивший встречать ее в парке в эти вечерние часы, издали узнавал ее походку и весь ее характер, запечатленный в несоразмерных движениях, и улыбался силе и несуразности на полголовы переросшей его дочери.
Оба они любили этот вечерний парк, ценили молчаливое взаимопонимание, тайное подтверждение их не высказанного вслух заговора против Сонечки. Роберт Викторович по врожденному высокомерию, Таня – по юности и наследственности, оба претендовали на благую часть отборного интеллектуализма, оставляя за Сонечкой низменные столы и хлеба.
Но Сонечке и в голову не приходило печалиться своей участью, ревновать о высшем: чисто мыла она тарелки и кастрюли, со страстным старанием готовила еду, сверяясь с рецептами, выписанными расплывающимися лиловыми чернилами из сестриной книги Елены Молоховец, кипятила баки с бельем, подсинивала и крахмалила, а Роберт Викторович иногда внимательно смотрел из-за ее большой спины на синьку, манку, струганное хозяйственное мыло, фасоль и со свойственной ему остротой отмечал убедительную художественность, высокую осмысленность и красоту Сонечкиного домашнего творчества. «Мудр, мудр мир муравья…» – думал он мимолетно и затворял за собой дверь на теплую террасу, где водились его суровые бумаги, свинцовые белила и еще немногое, что он допускал в свои строгие упражнения.
Тане дела не было до материнской кухонной жизни: она существовала теперь в дымке влюбленности. Просыпаясь утром, долго лежала с закрытыми глазами, представляя себе Ясю, себя с Ясей в каких-то привлекательно-вымышленных обстоятельствах: то они скачут через молодой луг на белых лошадях, то плывут на яхте по Средиземному, например, морю.
Ее вольное и бесцеремонное даже обращение со священным инструментарием природы обернулось для нее тем, что инстинкты ее немного заблудились и, деля со стройными мальчиками веселые телесные удовольствия, душой она тосковала по высокому общению, соединению, слиянию, взаимности, не имеющей ни границ, ни берегов. Ясю выбрала ее душа, и всеми усилиями разума стремилась она обосновать этот выбор, дать ему рациональное объяснение.
– Ах, мама, она кажется слабой, воздушной, а сильная – необычайно! – восхищалась Таня, рассказывая матери о своей новой подруге, о жестокой детдомовщине, побегах, побоях, победах. Яся в своих рассказах Тане из природной осторожности кое-что обошла: про ссылку матери, про детскую дешевую торговлю телом, про укоренившуюся привычку мелочного воровства.
Но Сонечке и сказанного было достаточно, чтобы заранее отозваться на детское страдание и догадаться о том, что от Тани оставалось сокрытым. «Бедная, бедная девочка, – думала про себя Соня. – И наша Танечка вот так же могла бы, ведь столько всего было…»
И она вспоминала все те многие случаи, когда Бог уберег их от ранней смерти: как Роберта выбросили из вагона александровской электрички, как рухнула балка в помещении, где она работала, и половина комнаты, из которой она за минуту до этого вышла, оказалась заваленной темным старинным кирпичом, и как умирала она на больничном столе после гнойного аппендицита… «Бедная девочка», – вздыхала Сонечка, и эта незнакомая девочка приобретала черты Тани…
* * *
До самого Нового года Таня не могла зазвать Ясю в гости. Яся, пожимая плечами, все отказывалась, но не объясняла Тане свой упорный отказ.
А дело было в том, что ею давно уже овладело сильное и смутное предчувствие нового многообещающего пространства, и она, как полководец перед решающим боем, тайно и тщательно готовилась к этому визиту, связывая с ним самые неопределенные надежды.
В магазине «Ткани» у Никитских ворот она купила кусок холодной на ощупь и горячей на глаз, какого-то ошпаренного цвета тафты и поздними вечерами шила мельчайшими стежками, на руках, нарядное платье – в тишине и одиночестве, молитвенно и сосредоточенно, как беременная женщина, немного боясь сглазить заблаговременностью шитья одежд нерожденному ребенку самый акт появления его на свет.
Она пришла в двенадцатом часу тридцать первого декабря, к накрытому столу, за которым сидели и барбизонец, и поэт, и сверх того режиссер с птичьим носом и лягушечьим ртом. Она еще толком не разглядела их значительных лиц, но уже внутренне ликовала, понимая, что попала в яблочко предвкушаемой мишени. Именно они, эти взрослые самостоятельные мужчины, и нужны ей были для разгона, для взлета, для полной и окончательной победы.
Ласковый и благодарный взгляд она бросила в сторону Тани, которая счастливо и розово сверкала ей навстречу подкрашенными щеками. Таня до последней минуты не была уверена, что Яся придет, и теперь гордилась Ясиной красотой, как будто сама ее придумала и нарисовала.
Платье Яси громко и шелково шуршало, а тяжелые русые волосы были цельными, словно отлитыми из светлой смолы, и лежали на плечах как подрубленные, точно как у Марины Влади в знаменитом в тот год фильме «Колдунья». Вырез платья был глубоким, и козьи ее груди, прижатые одна к другой, образовывали нежную дорожку вниз, и талия была тоненькая и еще специально утянутая в рюмочку, и щиколотки тонки под плотными икрами, и запястья казались особенно узкими из-за некоторой припухлости предплечий. Именно не гитарная грубость, а стеклянная прелесть маленькой рюмки, мимолетно отметил про себя Роберт Викторович.
Несколько разочарована была Сонечка. Заранее отозвавшись на трудную судьбу Таниной подруги, она не была готова вместо золушки-замарашки увидеть нарядную красотку с подведенными глазами, во всей притягательности светлой славянской красоты.
Яся отвечала на вопросы односложно, глаза ее были опущены, пока она не вскидывала утяжеленные тушью ресницы, чтобы вымолвить, именно вымолвить со смиренно-королевской интонацией своей покойной матери: «Спасибо, нет, благодарю вас, да…» В немногословных ее ответах чуткое ухо могло уловить польский акцент – эти слипшиеся «в» и «л».
Сонечка с умилением подкладывала Ясе на тарелку еду. Яся вздыхала, отказывалась, а потом все-таки съедала и утиную ножку, и еще кусочек студня, и салат с крабами.
– Я уже больше не могу, благодарю вас, – обаятельно и почти жалобно говорила Яся, а Сонечка все не могла выпустить из своего сердца сочувствия: сирота, бедная девочка, детдом… Господи, ну как же так можно…
Барбизонец Александр Иванович уже пел темным дьяконским голосом оперные арии на итальянском языке, напившийся Гаврилин безумно смешно изображал, как собачка ищет блоху. Закатывая глаза, рычал то злобно, то блаженно, залезал головой себе под мышку, всех смешил до изнеможения. Роберт Викторович улыбался, посверкивая двойным металлом – глаз и свежевставленных зубов.
В третьем часу пришел Алеша Питерский, Танин рьяный поклонник, с будущей славой, которую он уже на себя примеривал, и мешочком серой травы – был он из первых любителей азиатского кайфа на невских берегах. Алеша не чинясь расчехлил гитару и спел несколько печально-остроумных и смешных песен, яростно кривляясь и растягивая петрушечий рот балаганного актера.
Алеша был влюблен в Таню, Танечка – в Ясю, а Яся в этот новогодний вечер влюбилась в Танин дом. Под утро, когда гости разошлись и девочки помогли убрать со стола, Соня оставила Ясю ночевать в пустующей угловой комнате, где и обнаружил ее днем Роберт Викторович, зайдя туда в поисках рулона серой бумаги.
В доме было тихо. Соня, убрав в доме после гостей, уехала к сестре, Таня спала в своей светелке, а Яся, проснувшись от звука скрипнувшей двери, открыла глаза и довольно долго наблюдала, как Роберт Викторович роется за шкафом, тихонько чертыхается. Она смотрела ему в спину и все пыталась вспомнить, на какого именно американского актера он похож. Видала она такое же вот лицо, такой же серебряный бобрик в польском журнале «Пшегленд артистичен», который изучала от корки до корки. Она никак не могла вспомнить фамилию актера, но ей показалось, что даже и рубашка у того американца была такая же, в крупную и редкую клетку.
Она села на кровати. Кровать скрипнула. Роберт Викторович обернулся. Из огромной Сониной ночной рубахи выглядывала маленькая светлая голова на короткой шее. Девчушка облизнулась, улыбнулась, потянула рубашку за рукава, и она легко поползла вниз через горловину. Двинув ногой, сбросила на пол одеяло, встала во весь рост, и огромная рубаха легко соскользнула вниз. Детскими короткими ступнями она пробежала по холодному крашеному полу к Роберту Викторовичу, вынула из его рук наконец-то отысканный рулон и, как будто заменив его собой, оказалась в руках Роберта Викторовича.
– Один разок, и быстренько, – сказала деловитая фея без всякого кокетства, как говорила обычно своему благодетелю милиционеру Малинину. Но там-то она знала, зачем это делает, а здесь – ни корысти, ни расчета. И сама не знала почему. Из благодарности к дому… И еще – он здорово был похож на того актера, американского, знаменитого. Питер О’Тул, что ли…
А про то, что мужчина может отказаться от предложенной ему милости, знака внимания и благодарности, она просто и не знала. Маленькая, как будто на токарном станке выточенная из самого белого и теплого дерева, тянула она к нему свое праздничное личико.
Чуть попятившись к шкафу, он сказал строго: «Быстро под одеяло, простудишься!» – и вышел из комнаты, забыв рулон бумаги. Никогда не видел он такой лунной, такой металлической яркости тела.
Яся укрылась еще не успевшим остыть одеялом и через минуту опять спала. Спала с наслаждением, и во сне не забывая о сладости этого домашнего сна в домашнем доме, и ночная Сонина рубашка, которую она уже больше на себя не надела, лежала у нее под щекой и райски пахла.
А ужаленный Роберт Викторович ходил по соседней комнате, ежился и крутил головой. Ранние сумерки только что начавшегося года смотрели в окно, и Соня все не шла, а Таня не спускалась вниз по скрипучей лестнице. И он осторожно отворил дверь в угловую комнату, тихо подошел к кровати. Девчонка была укрыта почти с головой, только русый затылок был на поверхности. Он сунул свои сухие ладони под теплый сугроб одеяла. И вмешательство его рук в Ясин сон не оборвало его, ничего не испортило. Яся развернулась навстречу его рукам, и еще одна, последняя жизнь началась у Роберта Викторовича.
* * *
Честный новогодний мороз к вечеру окреп. На столе подсыхали развороченные остатки прошлогоднего уже кушанья. Роберт Викторович не ел. Вчерашняя еда вызывала отвращение, и он думал о своих мудрых предках, сжигавших остатки пасхальной еды, не допуская такого вот ее поношения…
Сонечка бессмысленно размешивала ложечкой чай, в котором не было сахара, и все собиралась сказать мужу важное, но не находила для этого подходящих слов.
Роберт Викторович с задумчивым лицом ловил глухие отзвуки счастливого гула в сердцевине своих состарившихся костей и пытался вспомнить, когда уже он испытывал это… откуда странное чувство припоминания… Может, что-то похожее было в детстве, когда, накувыркавшись досыта в тяжелой днепровской воде, он вылезал на хрусткий перегретый песок, зарывался в него и грелся в этой песчаной бане до сладкого отзыва в костях… И еще что-то схожее с острым озарением детства, когда, выйдя ночью по малой нужде, маленький Рувим, сын Авигдора, превратившийся с годами в Роберта Викторовича, запрокинул голову и увидел, что все звезды мира смотрят на него сверху живыми и любопытствующими глазами, и тихий перезвон покрывает небо складчатым плащом, и он, маленький мальчик, как будто держит на себе все нити мира, и на конце каждой звенит пронзительный мелкозвучный колокольчик, и во всей этой гигантской музыкальной шкатулке он и есть сердцевина, и весь мир послушно отзывается на биение его сердца, на каждый вздох, на ток крови и на излияние теплой мочи… Он опустил задранную ночную рубашку, поднял медленно вверх руки, словно дирижируя этим небесным оркестром… И музыка пронизала его насквозь, сладкой волной проходя по сердцевине костей…
Он забыл, забыл эту музыку, и только воспоминание о ней долгие годы не стиралось.
– Роберт, пусть эта девочка поживет у нас в доме. Угловая свободна, – тихо сказала Сонечка, остановив ложечку в стакане.
Роберт Викторович посмотрел на жену удивленным взглядом и сказал свое обычное, что говорил всегда, когда речь шла о вещах, мало его трогающих:
– Если ты считаешь нужным, Соня. Делай, как считаешь нужным.
И вышел в свою комнату.
* * *
Яся перебралась в дом Сонечки. Ее молчаливое миловидное присутствие было приятно Соне и ласкало ее тайную гордость – приютить сироту, это была «мицва», доброе дело, а для Сони, с течением лет все отчетливей слышавшей в себе еврейское начало, это было одновременно и радостью, и приятным исполнением долга.
В ней просыпалась память о субботе, и тянуло к упорядоченно-ритуальной жизни предков с ее незыблемой основой, прочным, тяжелоногим столом, покрытым жесткой торжественной скатертью, со свечами, с домашним хлебом и тем семейным таинством, которое совершалось в канун субботы в каждом еврейском доме. И, оторванная от этой древней жизни, она вкладывала весь свой неопознанно-религиозный пыл в кухонную возню с мясом, луком и морковью, в жестко-белые салфетки, во всеустройство стола, где судок для приправ, подставки для ножей, тарелочки справа, слева грамотно были расставлены, как велел совсем другой канон, новый, буржуазный. Но до этого Соня не додумалась.
Последние годы, годы относительного благополучия, ей вдруг стала мала ее семья, и она втайне горевала, что не было ей суждено народить множество детей, как было принято в ее племени. Она все прикупала, прикупала разрозненные кузнецовские соусники и фаянсовые английские тарелки по баснословно блошиным ценам в комиссионке на Нижней Масловке, словно настраиваясь на грядущее многочадие дочери Тани.
Религия Сони, как и Библия, состояла из трех разделов. Только вместо Торы, Небиим и Ктувим это было Первое, Второе и Третье.
Ясино присутствие за столом создавало Соне иллюзию увеличения семьи и украшало застолье – так естественно и мило она держалась за столом, ела как будто бы немного, но с несгораемым аппетитом, до смешной усталости, потому что память о детском постоянном голоде была в ней неистребима. Откидываясь на спинку стула, она тихонько стонала:
– Ой, тетя Соня! Так вкусно было… Опять я объелась…
А Сонечка блаженно улыбалась и ставила на стол низенькие стеклянные вазочки с компотом.
* * *
Прошло два месяца. Благодаря Ясиной кошачьей приспосабливаемости и врожденной деликатности она не только заняла угловую комнату, но сверх того определилась в семье в статусе полуродственницы.
Ранним утром она убегала мыть шершавые школьные коридоры и слякотные уборные, вечерами вместе с Таней ходила в ту же школу на занятия. Иногда до школы не доходили, прогуливая убогие уроки засыпающих учителей. Их отношения с Таней определились как сестринские, причем Таня, по возрасту младшая, с переездом Яси в их дом незаметно заняла место старшей сестры, и ее влюбленность в Ясю перестала быть такой восторженной и напряженной.
Девочки часто забирались в Танину светелку. Таня, усевшись в позе лотоса, играла свою неверную музыку на флейте, а Яся, свернувшись клубком у ее ног, немного шепелявым шепотом читала вымирающие пьесы Островского. Готовилась в театральное училище.
Соню умиляло Ясино пристрастие к чтению. К тому же ей казалось, что Танечка попутно приобщается к большой культуре. В этом она заблуждалась.
Если девочки о чем и говорили, то Яся главным образом довольствовалась ролью вежливой слушательницы. Без особого интереса и внутреннего сочувствия она слушала о Таниных любовных приключениях. Энтузиазм подруги был ей совершенно чужд, а Таня ошибочно относила Ясино равнодушие за счет незначительности ее собственного опыта в сравнении с богатством переживаний подруги. Ей и в голову не приходило, что Яся – с двенадцати лет впервые – свободна от необходимости впускать в свое совершенно незаинтересованное тело «ихние противные штучки»…
* * *
Роберт Викторович от Ясиного присутствия изнемогал. Этот эпизод в угловой комнате, в ранних сумерках первого дня года, он вспоминал как наваждение, как подсмотренный чужой сон. Ясю он впускал теперь лишь в обзор бокового зрения, воровато услаждая свой глаз ее тихой белизной, и плавился на огне молодого желания. Никаких даже самых малых движений в ее сторону он не допускал, но не потому, что какие-либо мелкие моральные мотивы его беспокоили. Желание принадлежало ему, женщина ему не принадлежала и, более того, занимая Сониными стараниями табулированное место рядом с дочерью, принадлежать не могла.
Он часами смотрел в тонко меняющуюся от освещения и влажности белизну снега за окном, вглядывался в плавкий белый бок фаянсового кувшина, в обрезки крупнозернистого ватмана на столе, в тускло-белые гипсовые отливки старых рельефов с едва намеченными в них телами букв древнего алфавита.
На исходе второго месяца он снова стал писать – через двадцать лет после лагерных упражнений, прихотливого копирования скучной дичи.
Теперь это были сплошь белые натюрморты, в них выстраивались многотрудные мысли Роберта Викторовича о природе белого, о форме и фактуре, порабощающей живописное начало, и слогами, словами его размышлений были фарфоровые сахарницы, белые вафельные полотенца, молоко в стеклянной банке и все то, что житейскому взгляду кажется белым, а Роберту Викторовичу представлялось мучительной дорогой в поисках идеального и тайного.
Однажды, когда зима уже стронулась и снежное великолепие Петровского парка увяло и съежилось, ранним утром они одновременно вышли на крыльцо: Роберт Викторович с двумя подрамниками и рулоном крафта и Яся с красной матерчатой сумочкой, в которой бултыхались два вечерних учебника.
– Подержите, пожалуйста. – Он сунул ей рулон в руки со смутным чувством, что нечто подобное уже где-то промелькивало.
Яся поспешно притянула к себе рулон, пока он поудобнее перехватывал подрамники.
– Может, я помогу вам донести, – предложила, не поднимая глаз, девочка.
Он молчал, она подняла голову, и впервые за время их совместного проживания под одной крышей он острыми зрачками воткнулся в самую сердцевину ее безмятежных глаз. Он кивнул, и она согласно опустила голову в белой пуховой косынке и пошла за ним, колдовски ступая детскими резиновыми ботиками в его следы.
Он не оборачивался всю недлинную дорогу. Так, гуськом, они дошли до подъезда многоэтажного дома, где в длинных коридорах, дверь к двери, трудолюбиво и деловито созидалось прилично оплачиваемое социалистическое искусство, и в унылых коридорах громоздились изводы лысого гиганта мысли…
Прижимаясь спиной к гранитному боку монумента, неловко придерживая ногой дверь, он пропустил вперед Ясю. В момент, когда дверь захлопнулась, он почувствовал сильное и гулкое сердцебиение, но не в груди, а где-то в глубине живота. Сердцебиение восходило в нем вверх, как солнце от горизонта, морской гул наполнил голову, виски, даже кончики пальцев. Он поставил подрамники и принял рулон из Ясиных рук. Тут он и вспомнил, когда это было.
Он улыбнулся, положив руку на отсыревший пух ее косынки, а она уже сметливо расстегивала огромные пуговицы своего самодельного пальто, которое многие вечера шила из старого пледа вместе с Сонечкой. В тот год был припадок моды на большие пуговицы. И юбка Яси, и блузка были ушиты стаями коричневых и белых пуговок, и она, сбросив пальто, серьезно и вдумчиво вытаскивала их одну за другой из аккуратно обметанных петель.
Сердцебиение, достигшее набатной мощи, заполнившее все закоулки самых малых капилляров, разом вдруг прекратилось, и в ослепительной тишине она села на сломанное кресло, поджав под себя тугие ножки. Потом отпустила на свободу стянутые на макушке резинкой волосы и стала ждать, покуда он выйдет из своего столбняка и возьмет ту малость, которой ей было не жаль…
С того дня Яся почти каждый день забегала в мастерскую. Горячим и странно безмолвным был их роман. Обычно она приходила, садилась в раз и навсегда избранное кресло и распускала волосы. Он ставил чайник на плитку, заваривал крепкий чай, распускал в белой эмалированной кружке пять кусков сахара – по детдомовской памяти она все не могла наесться сладким – и ставил перед ней белую фарфоровую сахарницу, потому что пила не только внакладку, но и вприкуску.
Он смотрел на нее долго-долго, пока она медленно пила свой сироп, а он всегда вдумывался в ее белизну, которая ярче радуги сияла перед ним на фоне матовой побелки пустой стены. И блеск эмали кухонной кружки в ее розовой, но все же белой руке, и куски крупного колотого сахара в кристаллических изломах, и белесое небо за окном – все это хроматической гаммой мудро восходило к ее яично-белому личику, которое было чудо белого, теплого и живого, и лицо это было основным тоном, из которого все производилось, росло, играло и пело о тайне белого мертвого и белого живого.
Он любовался ею, а она это чуяла и возносилась под его взглядом, таяла от маленькой женской гордости, наслаждалась своей безраздельной властью, потому что знала: скажет она ему свое бесстыдно-детское: «Хочешь разочек?» – он кивнет и отнесет ее на покрытую старым ковром тахту, а нет, так и будет на нее таращиться, бедняга, дурачок, чудной, совсем особенный, и любит ее безумно…
«Безумно», – повторяла она про себя, и гордая улыбка чуть трогала ее губы, и он чувствовал глуповатое ее торжество, но все смотрел и смотрел на нее, пока она не говорила:
– Ну все… Я пошла…
Вопросов он ей никогда не задавал, она о себе тоже ничего не рассказывала, да в этом и не было нужды. Его безграничная тяга к ней, как и ее неизменное желание находиться рядом с ним, не нуждалась ни в каких словесных подтверждениях. В его присутствии она чувствовала себя уже совершившей свою задуманную карьеру: богатой, красивой и свободной. И театральное училище было ненужным.
В середине апреля он начал писать ее портрет. Сначала один, с чайником и белыми цветами, потом другой. И стала образовываться целая анфилада белых лиц, так что одно уходило в тень другого, снова проступало, а лица эти были связаны каким-то оптически обдуманным способом между собой.
Роберт Викторович писал быстро. И хотя она была рядом с ним и это было важно для художника, это не была работа с натуры. Он словно впитал ее в себя и теперь только заглядывал в свой тайник. Работал он весь световой день, все больше времени проводил в мастерской. Он и раньше любил уходить сюда спозаранку, теперь же он часто оставался здесь ночевать.
В это самое время, когда притяжение дома ослабло и жизнь Роберта Викторовича все более перемещалась в мастерскую, а мастерская мягко и своднически принимала в себя молчаливую любовницу, над домом собрались тучи.
Весь их небольшой поселок был определен под снос. Многолетние разговоры, настойчивые, но неубедительные, в один прекрасный день реализовались в гадкую, с размытой печатью бумажку – постановление о сносе дома и переселении жильцов. Бумагу вручили не лично, как подобает в таких случаях, а прислали по почте, и посреди дня, уже после утренней разноски, Соня заметила в почтовом ящике эту зловещую бумажку.
Зажимая ее в пальцах, Соня прибежала в мастерскую к мужу, куда обычно не ходила, соблюдая невысказанный, но известный запрет. Роберт Викторович был один, работал. Соня села в хрупнувшее под ней кресло. Муж молча сидел напротив. Соня долго смотрела на холсты с блеклыми белоглазыми женщинами и поняла, кто есть настоящая Снежная королева. И Роберт Викторович понял, что она поняла. И они ничего не сказали друг другу.
Соня молча посидела, потом положила на стол печальное извещение и вышла из мастерской. У подъезда она остановилась пораженная. Ей казалось, что кругом должен лежать снег, – а на улице клубилась, кудрявилась разноцветно-зеленая майская зелень, и зеленым цветом отзывались длинные трамвайные трели.
Она шла к своему дому, любимому счастливому дому, который почему-то должны были раскатать по бревнышку, и слезы текли по длинным морщинистым щекам, и она шептала враз пересохшими губами:
– Это должно было случиться давно, давно… я же всегда знала, что этого не может быть… не могло этого быть…
И за эти десять минут, что она шла к дому, она осознала, что семнадцать лет ее счастливого замужества окончились, что ей ничего не принадлежит, ни Роберт Викторович, – а когда, кому он принадлежал? – ни Таня, которая вся насквозь другая, отцова ли, дедова, но не ее робкой породы, ни дом, вздохи и кряхтенье которого она чувствовала ночами так, как старики ощущают свое отчуждающееся с годами тело… «Как это справедливо, что рядом с ним будет эта молодая красотка, нежная и тонкая, и равная ему по всей исключительности и незаурядности, и как мудро устроила жизнь, что привела ему под старость такое чудо, которое заставило его снова обернуться к тому, что в нем есть самое главное, к его художеству…» – думала Соня. Совершенно опустошенная, легкая, с прозрачным звоном в ушах, вошла она к себе, подошла к книжному шкафу, сняла наугад с полки книгу и легла, раскрыв ее посередине. Это была «Барышня-крестьянка». Лиза как раз вышла к обеду, набеленная по уши, насурьмленная пуще самой мисс Жаксон. Алексей Берестов играл роль рассеянного и задумчивого, и от этих страниц засветило на Соню тихим счастьем совершенного слова и воплощенного благородства…
* * *
Шли многодневные сборы. Сонечка вязала узлы, набивала ящики из-под папирос кастрюльками и тряпками и пребывала в странно торжественном настроении: ей казалось, что она хоронит прожитую жизнь, и в каждом из упакованных ящиков сложены ее счастливые минуты, дни, ночи и годы, и она гладила с нежностью эти картонные гробы.
Неприбранная Таня отрешенно бродила по дому, натыкаясь на мебель, сошедшую с привычных мест и как будто приобретшую самостоятельную подвижность. Дверцы шкафов неожиданно отворялись сами собой, стулья ставили подножки.
Матери Таня не помогала. Преданная одним лишь своим ощущениям, она полностью погрузилась в величайшее отвращение к происходящему в доме.
Было еще одно обстоятельство, отвлекавшее ее от сборов: замкнутая, с недоразвившейся в ту пору речью, она выворачивала перед Ясей все завитушки своей растрепанной души, и Яся с ее умным молчанием оказалась для Тани единственным в своем роде собеседником, который принимал ее вполне мелководные переживания с такой плодотворной для Тани доброжелательной нейтральностью, что в этих беседах, которые были скорее монологами, Таня училась формулировать мысли, ловить с лёта образы, и это доставляло ей огромное удовольствие.
Другие ее друзья, ёрник и выворачиватель всего на свете Алеша и Володя с океанским талантом, всепожирающей памятью, с плотно упакованными сведениями обо всем на свете, насильственно вовлекали ее в их собственные соблазнительные миры, и только Яся оставляла ей возможность самостоятельно мыслить, рассуждать вслух, на ощупь выбирать те мелочи, из которых человек произвольно складывает тот первоначальный рисунок, по которому будет развиваться весь последующий узор жизни. Именно отсюда рождалось Танино чувство теснейшей с Ясей близости и смутной благодарности.
Во время какого-то редкого просвета в самоувлечении Таня заметила, что у Яси есть какая-то отдельная жизнь. Однако все ее попытки проникнуть в это заповедное пространство дневных – не школьных и не домашних – часов разбивались о нежное и уклончивое молчание или неопределенные слова. Первая попавшаяся версия – тайного романа – выдвигала перед Таней жгучий вопрос: кто же он?
Вопрос этот разрешился самым случайным образом. Таня столкнулась с отцом и Ясей возле метро и была незамеченной свидетельницей совершенно невозможной сцены: они ели мороженое на ходу, смеясь. Мороженое стекало густыми каплями, и Роберт Викторович стер с Ясиной щеки белое липкое пятно таким движением пальцев, что Таня, великий специалист по части касаний, дрогнула от нового, прежде неизвестного ей чувства ревности.
Ни женские интересы матери, ни какие бы то ни было соображения нравственного порядка Таню совершенно не беспокоили. Возмущало только одно – подлое сокрытие этого во всех отношениях неинтересного ей романа…
Таня устроила Ясе сцену. Яся, внутренне готовая давно к тому или иному разоблачению, немедленно собрала свои вещи и выскользнула с резного крыльца, оставив Таню в горе и недоумении. Ей-то казалось, что их отношения с Ясей гораздо важнее любых романов…
Роберт Викторович тем временем разбирал построенный им когда-то стеллаж и даже не сразу заметил Ясино отсутствие.
И вот наконец настал день, когда вещи вынесли. В свете яркого летнего дня обшарпанная мебель, такая уютная и обжитая, купленная в некотором охотничьем азарте на Преображенском рынке, казалась совсем нищенской. Все погрузили в крытый фургон и перевезли в удручающие Лихоборы, в неудобную трехкомнатную квартиру, где все, решительно все было унизительно убогим: тощие стены, крохотная, узкая Соне в локтях кухня, недоношенная ванна.
С помощью Гаврилина Роберт Викторович расставлял мебель. Каждая вещь упрямо сопротивлялась, не желая занимать отведенное ей место, все топорщилось лишними углами, везде не хватало нескольких сантиметров. Роберту Викторовичу пришлось сорвать плинтус, чтобы загнать однодверный, совсем небольшой платяной шкаф в отведенный ему простенок. Таня чуть не плакала над окованным сундучком с выпуклой крышкой, который рисковал вообще не вписаться в новое жилье.
В запроходную комнату Соня велела поставить Танину тахту и Ясину кровать и сказала:
– Вот будет девичья.
Яся, приглашенная Сонечкой на помощь в переезде, насторожила ушко. Она никак не могла взять в толк, что же происходит. Да это было и не так уж важно для нее. Не этим домом она так дорожила, а совсем другим. И ей казалось, что самое главное она крепко держит в руках.
А Сонечка вытащила откуда-то большую коричневую сумку, достала из нее скатерть-самобранку с салфетками, холодными котлетками и ледяной окрошкой из термоса.
Сонечка по-прежнему подкладывала Ясе хорошие кусочки на тарелку. Яся благодарно улыбалась. Удивительна была ей Сонечка. «А может, просто хитренькая такая», – с некоторым умственным усилием соображала Яся. Но душой знала, что это не так.
И вдруг посреди обеда Таня, вскинув локти, стала рыдать, тряся волосами и грудями, потом закатилась в истерическом хохоте, а когда припадок неожиданно закончился, она, еще мокрая от слез и вылитой на нее воды, заявила, что немедленно уезжает в Питер.
Яся увела ее в новообъявленную девичью, которой не суждено было никогда быть приютом какой-нибудь девы. Они влезли в Ясину постель. Яся сняла резинку с толстого хвоста на макушке, и они совершенно примирились, поглаживая друг друга по волосам.
Однако решения своего Таня не поменяла и в тот же вечер укатила к своему прокуренному сладкой травкой барду.
Роберт Викторович с Гаврилиным и Ясей уехали на Масловку, и, проводив своих домочадцев, в первый же лихоборский вечер Сонечка осталась одна. С грустью подумала она о развалившейся по всем швам жизни, о напавшем внезапно одиночестве, а потом легла на неразобранный диван в проходной комнате, вынула из перевязанной пачки случайного Шиллера и до утра читала – кто бы мог за этим чтением не уснуть! – читала Валленштейна, добровольно отдавшись литературному наркозу, в котором прошла ее юность.
* * *
Вопреки Сонечкиному предположению Роберт Викторович вовсе не собирался ее оставлять. Он приезжал в Лихоборы непременно по субботам и один-два раза в неделю, приезжал вместе с тихонькой Ясей, и пока она со своим шелковым шуршанием возилась в девичьей, перебирала там свои и Танины тряпочки и бумажки, Роберт Викторович заменил подоконники на более широкие, укрепил полки, распилил стеллаж и сделал из него два, развесил Танины портреты.
Они ужинали в средней комнате, которая закрепилась за Соней. Немного говорили о Тане, которая уже месяц как была в Питере и все откладывала свое возвращение в эти жуткие Лихоборы.
В непозднем часу расходились спать. Яся – в девичью, Роберт Викторович – в назначенную ему отдельную комнату при входе, а Сонечка тяжело заваливалась на диван и, засыпая, радовалась, что Роберт здесь, за тонкой стеной, по правую руку, а тонкая красивая Ясенька – по левую. И жаль только, что Танечки нет…
Наутро Сонечка складывала в баночки вчерашний салат, и котлетки, и гречневую кашу, обвязав горловинки, ставила все в коричневую сумку и отдавала Ясе.
– Спасибо, тетя Соня, – опуская глаза, благодарила Яся.
Когда случился день рождения Александра Ивановича, Роберт Викторович велел Соне заехать в мастерскую, чтобы вместе идти. Это был их первый семейный выход. Александр Иванович, девственник и монах от чрева матери, не замеченный во всю жизнь ни в каких шашнях с дамами и на этом основании подозреваемый доброжелательным обществом в каких-то более интересных грехах, был единственным во всей компании, кто воспринял это трио как вполне естественное.
Прочие гости, особенно художественные дамы, сладострастно по углам обсуждали создавшийся треугольник, выходя из себя, как тесто из квашни. Рыжая, слегка бесноватая Магдалина так исстрадалась за Сонечку, что у нее началась мигрень. И совершенно напрасно: Соня радовалась, что Роберт взял ее с собой, гордилась его верностью, которую, как она полагала, он проявил по отношению к ней, старой и некрасивой жене, и восхищалась Ясиной красотой.
По просьбе Александра Ивановича она немного хозяйничала за столом, обносила гостей покупной едой и, помня о вечных Ясиных желудочных болях, шептала ей в ухо:
– Деточка, мне кажется, эти голубцы немного того… Ты поосторожней…
Некоторые дамы были готовы укорить Соню в притворстве – уж больно хорошо она выглядела в этой, казалось бы, невыгодной комбинации; другим хотелось бы Соне посочувствовать, выразить порицание Роберту Викторовичу. Но это было совершенно невозможно, ибо держались они по-семейному, так и сидели за столом домашним треугольником: Роберт Викторович посредине, по правую руку на полголовы над ним возвышающаяся Сонечка, по левую сияла Ясенька своей белизной и маленьким острым бриллиантом на пальце.
Невозможно было себе представить Роберта Викторовича покупающим в ювелирном магазине бриллиант своей девчонке. Но справедливости ради надо признать, что она именно была из породы маленьких беззащитниц, которым так и хочется на пальчик надеть камушек, а на зябкие плечики – меха…
Не дал Роберт Викторович возможности посторонним людям, то есть друзьям, делать выбор между супругами, выражать сочувствие, порицание, негодование…
И вечер катился своей чередой. Подвыпивший Гаврилин изображал умирающего лебедя, потом Ленина и на бис – уже известную всем собачку, которая ищет блоху. Потом была представлена шарада, где фигурировал призрак, который не столько бродил, сколько ползал по Европе, шестиногой корове, составленной из трех самых толстых дам, покрытых холщовой занавеской.
В этой части праздника все вспомнили о Тане, остроумнейшей придумщице шарад, а самые проницательные из дам переглянулись: бедная девочка!
Бедная девочка тем временем проживала в симпатичном логове на Васильевском острове у друга Алешки. В Питере стояли белые ночи, она была бесстрашной и любопытной, ежеминутно готовой во что-нибудь серьезно поиграть. Им совершенно не хотелось расставаться, в четыре глаза они глядели по сторонам, и Алеша с удивлением замечал, что ее присутствие не только не мешает его непредсказуемой жизни, а, пожалуй, сообщает дополнительные возможности по части отрыва от «совухи», как называл он презрительно общепринятое существование.
Спустя несколько дней после празднования у Александра Ивановича Соня поехала в Ленинград навестить дочь, прождала ее полдня во дворике, потом еще сорок минут посидела с Таней и Алешей за столом, на котором горой громоздились книги, пластинки, объедки и пустые бутылки, выпила чаю и вечерним поездом уехала обратно, просив дочь звонить почаще тетке и оставив денег.
В поезде Соня не уснула, все думала о том, какая прекрасная жизнь происходит у ее дочери и мужа, какое молодое цветение вокруг, как жаль, что у нее уже все прошло, и какое счастье, что все это было… Она старчески качала головой, подчиняясь мелким сотрясениям вагона, предвосхищая тик, который появится у нее спустя два десятилетия.
* * *
А потом опять наступила зима. Девочки должны были заканчивать школу, но обе бросили. Таня всю зиму ездила по привычному маршруту. Она постоянно ссорилась с Алешей, возвращалась домой, но Лихоборы наводили на нее такую тоску, что она снова неслась в свой любимый Питер.
Роберт Викторович всю зиму писал. Он сильно исхудал, но лицом посветлел и стал как-то ласковее со всеми. Маленькая его сожительница тихонько существовала около него, то шуршала конфетными бумажками, то шелестела дешевым шелком – она постоянно шила себе разноцветные, одинакового фасона платья, мелко сверкая иглой, – то листала польские журналы.
В то время было повальное увлечение Польшей. Оттуда несло западной вольницей, слегка отяжелевшей в перелете над Восточной Европой.
Яся к тому времени перестала скрывать свое польское происхождение, и оказалось, что она прекрасно помнит свой детский язык, на котором говорила с матерью. Роберт Викторович, кроме общепринятых европейских, знал и польский, и этот обаятельно-шепелявый, ласковый язык разговорил их, и, как когда-то Соне, он рассказывал теперь Ясе маленькие истории, смешные, невероятные и страшные случаи, и это тоже была его жизнь, хотя, из какого-то вербального целомудрия, это была какая-то иная жизнь, как будто стоявшая за скобками той, что по рассказам была известна Сонечке.
Яся смеялась, плакала, вскрикивала: «Езус Мария!» – и гордилась, и восхищалась, и так радовалась, что даже научилась испытывать некоторые приятные ощущения, о коих прежде и не догадывалась, невзирая на ранний и долгий опыт общения с мужчинами.
А он все вглядывался в ее нетленную шею, в новенькую кожу лица, в белый пушок под узкой бровью и думал о драгоценности молодой материи, о той форме совершенства, про которую говорил единственный русский гений – «не удостаивает быть умной».
Плен Роберта Викторовича был плодотворен. Ему пришлось построить в мастерской новую антресоль, подрамники некуда было складывать. Он заканчивал свои белые серии. Открытия, как ему казалось, не состоялось. Он вскопал ту почву, что подалась, и это бы-ло немало, но сама тайна, обещавшая вот-вот открыться, ускользнула, оставив сладкую боль приближения и свою полноправную представительницу такой сокрушительной прелести, что побеждала его усталость, и возраст, и всю изношенность плоти. Не в тягость были старому Роберту неумеренные любовные труды.
В конце апреля, в середине сырой ночной оттепели, он крепко сжал Ясины плечи и тяжело уткнулся дрогнувшей головой в жесткую подушку.
Прошло некоторое время, прежде чем Яся поняла, что он умирает. С воем выскочила она в коридор, куда выходили двери еще семи мастерских. Художники здесь не жили, мало кто оставался ночевать. Она рванула ручки двух соседних дверей и понеслась с четвертого этажа вниз к телефону, который стоял в привратницкой.
Старуха с тонкой распутанной косой тихо взвизгнула, увидев голую Ясю, но та отпихнула ее:
– Скорую скорее… скорую…
И трясущимися руками набрала номер.
Когда приехали врачи, Роберт Викторович уже не дышал. Он лежал на животе, уткнувшись темным лицом в подушку. Яся так и не смогла его перевернуть.
Обстоятельства смерти были очевидны.
– Кровоизлияние в мозг, – буркнул толстый неприятный врач, пахнущий алкоголем и дурной едой. И написал телефон морга.
Громыхая непригодившимися носилками, санитары спустились вниз.
– Старик, а на бабе умер. Молоденькая, – сказал один.
– А что? Лучше, чем в больнице-то гнить, – отозвался второй.
* * *
Лихоборская квартира была без телефона. Яся приехала к Соне, когда та собиралась выпить свою утреннюю чашку кофе. Соня мелко затрясла головой, схватила в охапку Ясю, прижала к себе, и они долго плакали в прихожей.
Потом поехали в мастерскую. Тело уже увезли в морг. Тот не бытовой, страшный беспорядок, который образовался в мастерской после пребывания двух бригад, медиков и труповозов, они быстро убрали.
Соня сняла с тахты стыдное для чужого глаза белье и спрятала его себе в сумку. Потом пошли звонить в Ленинград Тане, но соседи сказали, что они с Алешей уехали куда-то. Яся держала все время Соню за руку, вцепившись, как ребенок. Была она сирота, а Соня была мать.
Привратница уже успела проникновенно рассказать всем желающим ее выслушать о скандальной смерти старого Роберта. Соседи художники заходили с полудня в мастерскую. Несли кто что считал уместным в этих обстоятельствах: цветы, водку, деньги…
Попутно формировалось общественное мнение: Роберта жалели, Ясю ненавидели и презирали, с Соней было как-то сложнее, от нее чего-то ждали, смотрели с интересом, вполне, впрочем, сочувственным.
Поздним вечером, когда в мастерской остались лишь близкие друзья, Соня после тихого и бесслезного плача вдруг твердо сказала:
– Достаньте зал побольше. Я хочу, чтобы там, где будет стоять гроб, были развешаны эти картины. – И она указала наверх, на антресоли, где стояли подрамники.
Барбизонец переглянулся с Гаврилиным. Кивнули.
Так все оно и было.
Худфонд выделил зал. Накануне развешивали картины. Их оказалось пятьдесят две. Соня руководила развеской, и вряд ли кто мог бы сделать это лучше. Вдруг просунулось откуда-то солнце, болезненно-яркое, резкое, оно мешало, даже вмешивалось в Сонину работу. Холсты зеркалили, бликовали, и Соня попросила опустить казенные сборчатые шторы. Развесила. Шторы подняли. Солнце к этому времени утихомирилось, и оказалось все на своих местах. И сам Роберт Викторович не сделал бы лучше.
На следующий день к двенадцати стал стекаться народ. И представить себе было нельзя, сколько набежало людей на эти похороны. Пришли старые, маститые, заработавшие мозоли и медали на изготовлении парадных портретов кого надо, пришли средние, умеренно новой волны, пришли и те, кого на порог не пускали почтенные члены Союза, – шпана, лианозовщина, авангард драный.
Посмертная эта выставка не располагала к обсуждению. Да и сам Роберт Викторович никогда не испытывал потребности к обсуждению своего дела.
Посреди зала стоял гроб. Лицо умершего было темным, как бы оплавленным, и только сложенные на груди руки сверкали ледяной белизной того сорта, который Роберт Викторович называл белое-неживое.
Яся в черном шелковом платье лепилась к большой и бесформенной Сонечке, выглядывала из-под ее руки, как птенец из-под крыла пингвина. Тани не было, ее не смогли разыскать в веселой Средней Азии, куда двинули они в поисках зеленого пастбища.
Весь шепоток, вся скандальность этой смерти оставались в раздевалке. Здесь, в зале, даже самые жадные до чужих потрохов люди примолкали. Подходили к Соне, произносили неловкие слова соболезнования. Соня, чуть выталкивая впереди себя Ясю, механически отвечала:
– Да, такое горе… На нас свалилось такое горе…
А Тимлер, в обществе молодой любовницы пришедший проститься со своим старым другом, сказал тоскливым тонким голосом:
– Красиво как… Лия и Рахиль… Никогда не знал, как красива бывает Лия.
* * *
Бог послал Сонечке долгую жизнь в лихоборской квартире, долгую и одинокую.
Таня, постепенно выйдя замуж за Алешу и получив от него в приданое колдовской неласковый город, в котором приживаются лишь гордые и независимые люди, стала петербурженкой. Дарования ее раскрывались поздно. Уже после двадцати оказалось, что она невероятно способна и к музыке, и к рисованию, и ко всему, на что только не упадет ее рассеянный глаз. Играючи она выучила французский, потом итальянский и немецкий – только к английскому питала странное отвращение – и все металась, покуда в середине семидесятых годов, уже расставшись с Алешей и еще двумя кратковременными мужьями, с полугодовалым сыном на руках и сумкой через плечо не эмигрировала в Израиль. Через короткое время она получила прекрасную должность в ООН, чему в немалой мере способствовала всемирная известность ее отца.
В течение нескольких лет Яся жила у Сонечки в лихоборской квартире. Сонечка нежно ухаживала за Ясей, испытывая благоговейную благодарность к провидению, пославшему ее дорогому мужу Роберту такое украшение, такое утешение на старости лет.
Яся вернулась к идее поступления в театральное училище, но как-то вяло. Вместе с Сонечкой они с удовольствием рукодельничали, то вязали какой-то необыкновенный ковровый свитер для Танечки, то шили на заказчиц, но главным образом все-таки сидели и пили неумеренно черный кофе с медовыми Сониными пирогами. Яся стала постепенно захиревать, и тогда Сонечка разыскала в Польше посредством большой, втайне от Яси ведущейся переписки Ясиных двух теток и бабушку, совсем не аристократического, а вполне скромного происхождения. Снаряженная Соней, Яся уехала в Польшу, где вскоре и завершился канонически сказочный сюжет: вышла замуж за француза, красивого, молодого и богатого. Живет она теперь в Париже, неподалеку от Люксембургского сада, в двух шагах от дома, где было когда-то ателье Роберта Викторовича, о чем она, конечно, не знает.
Дом в Петровском парке, выселенный, с выбитыми стеклами, в следах мелких мальчишеских поджогов, простоял еще много лет никому не нужный. В нем ночевали бродячие собаки и люди. Однажды там нашли убитого человека. Потом обрушилась крыша, и непонятно было, зачем с такой поспешностью расселяли когда-то жильцов по безжизненным окраинам.
Пятьдесят две белые картины Роберта Викторовича разошлись по миру. На аукционах современного искусства каждая вновь появляющаяся приводит коллекционеров в предынфарктное состояние. Работы же довоенные, парижские, стоят баснословных денег. Их сохранилось очень немного, всего одиннадцать.
Толстая усатая старуха Софья Иосифовна живет в Лихоборах, на третьем этаже хрущевской пятиэтажки. Она не желает переселяться ни на свою историческую родину, где гражданствует ее дочь, ни в Швейцарию, где Таня сейчас работает, ни даже в столь любимый Робертом Викторовичем город Париж, куда постоянно зовет ее вторая девочка, Яся.
Здоровье портится. Видимо, начинается болезнь Паркинсона. Книга трясется в ее руках.
Весной она ездит на Востряковское кладбище, сажает на могиле мужа белые цветы, которые никогда не приживаются.
Вечерами, надев на грушевидный нос легкие швейцарские очки, она уходит с головой в сладкие глубины, в темные аллеи, в вешние воды.
Девочки
Дар нерукотворный
Во вторник, после второго урока, пять избранных девочек покинули третий класс «Б». Они уже с утра были как именинницы и одеты особо: не в коричневых форменных платьях с черными фартуками и даже не в белых фартуках, а в пионерских формах «темный низ, белый верх», но пока еще без красных галстуков. Шелковые, хрустящестеклянные, они лежали в портфелях, еще не тронутые человеческой рукой.
Девочки были лучшие из лучших, отличницы, примерного поведения, достигшие полноты необходимых, но недостаточных девяти лет. Были в классе «Б» и другие девятилетние, которые и мечтать не могли об этом по причине своих несовершенств.
Итак, пять девочек из «Б», пять из «А» и пять из «В» надели после второго урока пальто и галоши и выстроились перед школьным крыльцом в колонну попарно. Сначала одной девочке не хватило пары, но потом Лилю Жижморскую затошнило на нервной почве и она пошла в уборную, где ее вырвало, а затем напала на нее такая головная боль, что пришлось отвести ее в кабинет врача и уложить на холодную кушетку, – чем восстановилась парность колонны.
Старшая пионервожатая Нина Хохлова, очень красивая, но косая девушка, председатель совета дружины взрослая семиклассница Львова, девочка-барабанщица Костикова и девочка Баренбойм, которая уже год ходила в Дом пионеров в кружок юного горниста, но еще не научилась выдувать связных мелодий, а пока умела только издавать отдельно взятые звуки, встали во главе колонны.
Арьергард состоял из Клавдии Ивановны Драчевой, которая в данном случае представляла собой не ту часть себя, которая была завучем, а ту, которая была парторгом, одной родительницы из родительского комитета с двумя разлегшимися на плечах развратными черно-бурыми лисицами и старичка-общественника, знающего, вероятно, тайну хождения по водам, поскольку его сапоги среди водоворотов непролазной грязи сверкали идеальным черным лоском.
Старшая вожатая дала сигнал, тряхнув помпоном на шапочке и двумя мощными кистями на свернутом дружинном знамени, барабанщик Костикова протрещала «старый барабанщик, старый барабанщик, старый барабанщик крепко спал», Баренбойм надулась и издала кривой трубный звук, и все двинулись по мелко-извилистому, но в целом прямому маршруту через Миуссы, Маяковку, по улице Горького к музею. Такие же колонны двинулись от многих школ, как мужских, так и женских, потому что мероприятие это имело масштаб городской, республиканский и даже всесоюзный.
Колченогие мускулистые львы, похожие на волков, с незапамятных времен привыкшие к отборной публике, меланхолично наблюдали с высоких порталов за шеренгами лучших из лучших и притом таких молодых.
– Сколько мальчишек, – неодобрительно сказала Алена Пшеничникова своей подруге Маше Челышевой.
– Это не хулиганы, – проницательно заметила Маша.
Действительно, мальчики в теплых пальто и завязанных под подбородками треухах были мало похожи на хулиганов.
– А девочек все-таки больше, – настаивала на чем-то сокровенном и не до конца выношенном Алена.
Тут их ввели внутрь музея, и у всех дух свело от имперско-революционного великолепия полированного мрамора, начищенной бронзы и бархатных, шелковых и атласистых знамен всех оттенков адского пламени.
Их подвели к гардеробу, и они строем стали раздеваться. Галоши, кушаки, рукавицы – всего было слишком много. Всем было неловко, и каждому как будто не хватало по одной руке. По той, которая была занята сверточком с пионерским галстуком, положить который было некуда. У одной только толстухи Соньки Преображенской обнаружился карман на белой кофточке, и она положила в него драгоценный сверточек.
Пионервожатая Нина, покрытая пятнистым румянцем, держа в вытянутых руках тяжелое древко дружинного знамени, повела их по широкой лестнице наверх. Ковер, примятый медными прутьями на каждой ступени, был зыбким и пружинистым, как мох на сухом болоте.
Позади всех шла родительница, снявшая из-под пышных лисиц незначительное пальто и утопая подбородком в толстом меху, а рядом с ней в чудесным образом не запятнанных сапогах – старичок-общественник, сверкая металлической лысиной не хуже, чем голенищами.
– Алена, – в шею Алене зашептала стоявшая позади нее Светлана Багатурия, – Алена! Я все забыла, мамой клянусь.
– Что? – удивилась хладнокровная Алена.
– Торжественное обещание, – прошептала Светлана. – Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом своих товарищей… а дальше забыла…
– …торжественно обещаю горячо любить свою Родину, – высокомерно продолжила Алена.
– Ой, вспомнила, слава богу, вспомнила, Аленочка, – обрадовалась Светлана, – мне только показалось, что я забыла!
Народ все прибывал, но никто не путался и не размешивался, все стояли по классам, по школам, ровненько, а весь длинный зал сплошь был заставлен витринами с подарками товарищу Сталину. Они были из золота, серебра, мрамора, хрусталя, перламутра, нефрита, кожи и кости. Все самое легкое и самое тяжелое, самое нежное и самое твердое пошло на эти подарки.
Индус написал приветствие на рисовом зернышке, и в другой раз, не сейчас, можно было бы посмотреть под лупой на эти волнистые буковки, похожие на мушиный помет. Китаец вырезал сто девять шаров один в другом, и опять-таки нужна была лупа, чтобы в просветах этих мелких узоров разглядеть самый маленький, внутренний шарик меньше горошины.
Узбечка ткала ковер из своих собственных волос всю жизнь, и с одной стороны он был угольно-черный, а с другой – голубовато-белый. Серединка его была соткана из седеющих, пестровато-серых печальных волос.
– Наверное, она теперь лысая, – прошептала Преображенская.
– Это не имеет значения, узбечки все равно ходят в парандже, – пожала плечом жестокая Алена.
– Это до революции они так ходили, отсталые, – вмешалась Маша Челышева.
– Отсталая не станет в подарок товарищу Сталину ковер ткать, – защитила почтенную старушку Преображенская.
– А может, она не все волосы в коврик заделала, может, немножко оставила? – с надеждой сказала добрая Багатурия, пощупав свои толстые длинные косы, подвязанные ленточками над ушами.
– А-а, посмотрите! – вдруг ахнула Маша. – Видели?
Но смотреть было особенно не на что: на витрине лежала квадратная тряпочка, на которой был вышит портрет товарища Сталина. Не особенно красиво, крестиком, не очень даже и похоже, хотя, конечно, догадаться можно без труда.
– Ну, видели, – отозвалась Преображенская, – ничего особенного.
– Чего, чего? – забеспокоилась Алена.
– Читай, что написано! – Маша ткнула пальцем в этикетку в витрине. – «Портрет товарища Сталина вышила ногами безрукая девочка Т. Колыванова».
– Танька Колыванова! – в восхищении прошептала Сонька, едва не теряя сознание от восторга.
– Да вы что, с ума сошли? Какая же Колыванова безрукая? У нее две руки. Да она и руками-то так не вышьет, не то что ногами! – отрезвила их Алена.
– Но здесь же написано Тэ Колыванова! – с надеждой на чудо все не сдавалась Сонька. – Может, у нее сестра есть безрукая?
– Нет, Лидка, ее сестра, в седьмом классе учится, есть у нее руки, – с сожалением сказала Алена. Она зажмурилась, покачала головкой в многодельных плетениях кос и добавила: – Все же спросить надо.
И тут всё двинулось и стройными рядами пошло в другой зал. С одной стороны стояли барабанщики, с другой – горнисты, в середине стояли знаменосцы с распущенными знаменами, и какая-то, наверное, самая старшая пионервожатая громко скомандовала:
– На знамя равняйсь! Смирно! Слово предоставляется матери Зои и Шуры Космодемьянских.
Все подровнялись и выпрямились, и тогда вышла вперед невысокая пожилая женщина в синем костюме и рассказала, как Зоя Космодемьянская сначала была пионеркой, а потом подожгла фашистскую конюшню и погибла от рук фашистских захватчиков.
Алена Пшеничникова плакала, хотя она про это давным-давно знала. Всем в эту минуту тоже хотелось поджечь фашистскую конюшню и, может быть, даже погибнуть за Родину.
Потом выступил старичок-общественник и рассказал про первый слет пионеров на стадионе «Динамо», про Маяковского, который читал «Возьмем винтовки новые, на штык флажки», а все пионеры – участники слета весь тот день ездили потом бесплатно на трамвае, а билеты стоили четыре, восемь и одиннадцать копеек.
А потом все хором прочитали торжественное обещание юного пионера и всем повязали галстуки, кроме Сони Преображенской, которая хотя и положила свой галстук в карманчик, но как-то ухитрилась его потерять, и она заплакала. И тогда старшая пионервожатая Нина временно сняла свой галстук и повязала его на шею горько плачущей Соньке, и она утешилась.
Запели «Взвейтесь кострами, синие ночи!» и вышли из зала стройными колоннами, но уже совсем другими людьми, гордыми и готовыми на подвиг.
На следующее утро все пионерки пришли в школу немного пораньше. Третий класс «Б» просто-таки осветился этими четырьмя красными галстуками. Сонька перевязывала его на каждой переменке. Вредная Гайка Оганесян посадила чернильную кляксу на красный уголок, торчащий из-под воротничка впереди сидящей Алены Пшеничниковой, и Алена рыдала всю большую перемену, но перед самым концом перемены к ней подошла Маша Челышева и сказала ей на ухо:
– А давай спросим у Колывановой, ну, про ту, безрукую?
Алена оживилась, и они подошли к Таньке Колывановой, которая сидела на последней парте и рвала на мелкие кусочки розовую промокашку, и спросили без всякой надежды, просто на всякий случай, не знает ли она безрукую девочку Тэ Колыванову.
Колыванова очень смутилась и сказала:
– Какая же она девочка, она большая…
– Твоя сестра?! – взвопили в один голос свежепринятые пионерки.
– Не сестра, так, родня нам, тетя Тома, – потупившись, ответила Колыванова, но видно было, что она мало гордится своей знаменитой теткой.
– Она ногами вышивает? – строго спросила Колыванову Алена.
– Да она все ногами делает, и ест, и пьет, и дерется, – честно сказала Колыванова, но тут прозвенел звонок, и они не договорили.
Весь четвертый урок Алена с Машей сидели как на иголках, посылали записки друг другу и другим членам пионерской организации, а когда урок кончился, они окружили Колыванову и стали ее допрашивать. Колыванова сразу призналась, что тетя Тома и впрямь вышивает ногами и действительно она вышила подарок товарищу Сталину, но это было давно. И что она никакой не герой войны, и руки ей не фашистские пули отстрелили, а что она так родилась, совсем без рук, и живет она в Марьиной Роще, и ехать туда надо трамваем.
– Ну хорошо, иди, – отпустила Алена Колыванову.
Колыванова с радостью тут же улизнула, а пионерская организация в полном составе осталась на свое первое собрание.
Главный вопрос был ясен и сам собой как-то решен: выборы председателя совета отряда. Соня с наслаждением написала на тетрадном листе: «Протокол». Проголосовали. «Все – за», – написала Соня, а ниже приписала: «Алена Пшеничникова».
И Алена, молниеносно облеченная полнотой власти, тут же взяла быка за рога:
– Я думаю, мы должны пригласить на сбор отряда безрукую девочку, ну, эту тетеньку, Тамару Колыванову, пусть она нам расскажет, как она вышивала подарок товарищу Сталину.
– А мне больше понравился… там стоял столик золотенький, вокруг стульчики, а на столике самовар и чашечки, а самовар с краником, и все маленькое-маленькое, малюсенькое… – мечтательно сказала Светлана Багатурия.
– Ты не понимаешь, – печально сказала Алена, – столик, самоварчик – это каждый может сделать. А ты вот ногами, ногами…
Светлане стало стыдно. Действительно, она обольстилась самоварчиком, когда рядом живут герои. Она свела свои раскидистые брови и покраснела. Вообще-то в классе ее уважали: она была отличница, она была приблизительно грузинка, жила в общежитии Высшей партийной школы, где учился ее отец, а Светланой ее назвали не просто так, а в честь дочки товарища Сталина.
– Значит, – подвела итог Алена, – дадим Колывановой пионерское поручение, пусть приведет свою тетю Тамару к нам на сбор.
Соня пошарила пухлой ручкой в портфеле и вытянула оттуда яблоко. Откусила и отдала Маше. Маша тоже откусила. Яблоко было невкусное. Смутное недовольство было на душе у Маши. Хотя красный галстук так ярко и свежо свешивал свои длинные уголки на грудь, чего-то не хватало. Чего?
– Может, моего дедушку позвать на сбор? – скромно предложила она. Дедушка ее был настоящий адмирал, и все это знали.
– Отлично, Маша! – обрадовалась Алена. – А ты пиши, Сонь: адмирала Челышева тоже пригласить на сбор отряда.
Словечко это «тоже» показалось Маше обидным. Тут открылась дверь, пришли дежурные с тряпкой и щеткой, и заседание решили считать закрытым.
Кроткая Колыванова уперлась как коза. Нет и нет – и даже толком не могла объяснить, почему же она не хочет привести свою безрукую тетю на сбор отряда. И упорствовала она до тех пор, пока Сонька не сказала ей:
– Тань, а ты Лидке своей скажи, пусть она попросит тетю.
Танька страшно удивилась: откуда Сонька Преображенская могла знать, что Лидка вечно таскается к тетке? Но поговорить с Лидкой согласилась.
Лидка долго не могла взять в толк, чего это понадобилось третьеклашкам от калеки-тетки, а когда сообразила, захохотала:
– Ой, умру!
В следующее воскресенье она взяла с собой пятилетнего братишку Кольку и поехала к тетке в Марьину Рощу.
Все колывановское семейство жило кое-как, по баракам и общежитиям, одна только Томка жила как человек, имела комнату в кирпичном доме с водопроводом.
Когда к ней пришла Лидка-племянница, она обрадовалась: Лидка попусту к ней не ходила. Как придет, то и постирает, и еду сварит. Хотя ходила она и не совсем за так: Томка ей всегда подбрасывала то трешничек, то пятерочку. Деньги у нее водились, особенно летом.
Разница в годах у тетки и племянницы была не так велика, не более десяти лет, и отношения были у них скорее приятельские.
– Томка, тебя пионерки хотят на сбор позвать, из Танькиного класса, – сообщила ей Лида.
– На что это мне? Еще ходить куда-то. Надо им, сами придут. Да и на что им нужно-то? – удивилась Томка.
– Да хотят, чтобы ты им рассказала, как ты подушечку-то вышивала… – объяснила Лида.
– Ишь, хитрые какие, расскажи да покажи… Пусть приходят, я им и не такое покажу. – Она сидела на тюфяке, почесывая коленом нос. – Только не за так. Бутылочку красного принесут – и покажу, и расскажу.
– Да ты что, Том, откуда у них? – Лидка уже раздела Кольку и копошилась в углу, разбирая грязные тряпки.
– Тогда пусть хоть десяточку принесут. Нет, пятнадцать рублей! Нам, Лид, пригодится! – И она засмеялась, показывая мелкие белые зубы.
Личико у нее было миловидное, курносенькое, только подбородок длинноват, а волосы густые, тяжелые, в крупную волну, как будто от другой женщины.
– Ох и дуры, чего не видели, – крутила она головой, но была в ней гордость, что целая делегация направляется к ней посмотреть, как она ногами управляется. Была у нее такая слабость – хвастлива. Любила людей удивлять. Летом сидела она на своем подоконнике на первом этаже, лицом на улицу, и, зажав иголку между большим пальцем и вторым, вышивала. А народ, проходивший мимо, дивился. А кто подобрее, тот клал на белое блюдечко и денежку.
Томка кивала и говорила:
– Спасибочки, тетенька.
Обычно давали тетеньки.
– А ты, Лидух, сама-то придешь? Ты приходи за компанию, – пригласила она родственницу.
– Приду, – пообещала Лидка.
Решили идти к Колывановой Тамаре на дом. Девять рублей было у Маши, остальные скопили за два дня на завтраках. Почти целую неделю пионерки ходили надутые тайным заговором, как воздушные шарики легким паром. Почему-то они были совершенно уверены, что не состоящая во Всесоюзной пионерской организации имени Ленина молодежь ничего не должна знать об их серьезной и таинственной жизни.
Гайка Оганесян от любопытства едва не заболела, а Лиля Жижморская была мрачнее тучи, потому что была уверена, что затевается что-то лично против нее.
Тане Колывановой было строго-настрого сказано, что, если она проболтается, ее будут судить. Насчет суда придумала, между прочим, не строгая Алена, а болтушка Сонька Преображенская. Маша, в значительной степени финансировавшая все мероприятие и укрепившая тем самым свои было пошатнувшиеся позиции, приободрилась.
Поход, назначенный на среду, через неделю после торжественного приема, едва не сорвался. Во вторник в класс пришла старшая пионервожатая и сказала, чтобы они не беспокоились: им назначили очень хорошую классную вожатую из шестого «А», Лизу Цыпкину, но она болеет и придет к ним сразу, как только выздоровеет, может, завтра, и сразу поможет наладить им пионерскую работу.
– Так что вы не раскисайте пока, – посоветовала она.
– Мы и не раскисаем, мы уже председателя выбрали, – бодро сообщила Светлана Багатурия.
– Ну и молодцы, – похвалила их Нина Хохлова, сделала пометку в книжечке и ушла.
Девочки переглянулись и без слов поняли друг друга: никакая вожатая Цыпкина им не нужна.
Утром следующего дня они предупредили дома, что вовремя из школы не придут по причине пионерского мероприятия. Все переменки они прятались в уборной на случай, если вдруг Лиза Цыпкина выздоровела и захочет с сегодняшнего дня ими руководить.
После занятий в полном пионерском составе, да еще прихватив с собой беспартийную Колыванову, они скрылись позади школы за угольным сараем в ожидании Лиды, у которой было пять уроков.
Дождавшись Лиду, они пошли кучей на трамвайную остановку. Маша Челышева зорко поглядывала по сторонам: казалось, что за ними кто-то следит.
За последнюю неделю сильно похолодало, выпал жидкий снежок. Но замерзнуть они не успели, нужный трамвай пришел очень скоро. Народу в нем было немного, так что можно было даже посидеть на желтых деревянных лавочках.
Сестры Колывановы не ощущали ни прелести, ни волнения от этой поездки. Светлана Багатурия, хоть и из другого города, тоже обладала свободой передвижения и даже сама ездила в Пассаж за мелкими покупками. А вот Алена, Маша и Соня впервые ехали в трамвае одни, без взрослых, сами купили себе билеты и расстегнули воротники шуб, чтобы все могли видеть их красные галстуки, знак несомненной самостоятельности.
Марьина Роща оказалась далеким, совершенно безлесным местом, заросшим, если не считать почернелого бурьяна, исключительно сараями, голубятнями и бараками и густо опутанным толстыми веревками с фанерно качающимся бельем.
Уверенность вдруг покинула Алену. Никогда еще не видела она таких безвидных мест, и ей захотелось домой, в нарядный дом в Оружейном переулке, так близко от того дворца, где львы с подмороженными гривами и тощими задами сидят на воротах…
– Выходить, – сказала Лида, и притихшие девочки сгрудились у выхода. Трамвай с долгим звоном остановился, и, делать нечего, все попрыгали с высокой подножки.
Рядом с трамвайной остановкой стояли два двухэтажных кирпичных дома, остальное жилье было деревянным, рассыпающимся, в глубине были видны несколько настоящих деревенских изб с колодцем в придачу. Народу видно не было, только одна согнутая бабка в валенках и большом платке перебежала из дома в дом. Вдруг закричал петух, и тут же откликнулся другой.
– А нам сюда, – с некоторой гордостью Лидка указала на кирпичный дом.
Она открыла парадную дверь, и все вошли в темный коридор. Лампочка горела только на втором этаже, и почти ничего не было видно.
– Туда, туда, – указала Лидка, и все приостановились у второй двери, за которой следовал еще один коридор с поворотом.
– Вот, – сказала Лида, стукнула кулаком в дверь и отворила, не дожидаясь ответа.
Комната была небольшая, длинная, темноватая. Возле окна стоял топчан, на нем лежала как будто большая девочка, покрытая до пояса толстым одеялом. Она села, спустила на пол большие ноги. Платье у нее было как бы с крылышками на плечах, но рук под этими пустыми крылышками не наблюдалось. Когда же она пошла по комнате, оказалось, что она маленькая, тощенькая и напоминает утенка, потому что походка у нее немного валкая, ноги вставлены чуть по бокам, ступни необыкновенно широкие, а пальцы на ногах большие, толстые и широко расставлены.
– Ай! – сказала Светлана Багатурия.
– Ой! – сказала Соня Преображенская.
Остальные молчали. А безрукая женщина сказала:
– Ну, заходите, коли пришли. Чего в дверях топчетесь?
Алена же, вместо того чтобы сказать длинную приготовленную фразу об открытии сбора, сказала скромненько:
– Здравствуйте, тетя Тома.
И в этот момент ей почему-то стало так стыдно, как потом никогда в жизни.
– Иди, Лидка, чайку поставь, – приказала Тома старшей племяннице и с гордостью заметила: – Кран у нас прям на кухне, на колонку не ходим.
– У нас тоже раньше колонка была, – со своим чудесным грузинским акцентом сказала Светлана.
– А ты откудова, черная? Армян, цыган? – добродушно спросила безрукая.
– Грузинка она, – со значением ответила Алена.
– Дело другое, – одобрила Тома. – Ну, чего, – рьяно и весело продолжила она, как будто не желая по этой красивой грузинской ниточке подойти к тому важному и интересному, ради чего они пришли, – к подарку. – А гостинец мне принесли? Давайте сюда. – И она прижала свой длинноватый подбородок к груди, и тут все заметили, что у нее на груди висит мешочек, сшитый из того же зеленого ситца, что и платье.
Испытывая жгучее чувство неправильности жизни, Алена расстегнула замок портфеля, вытащила кучу мятых рублевок и сунула их в шейный мешочек, покраснев так, что даже пот на носу выступил.
– Вот, – бормотнула она. – Пожалуйста, спасибо.
– А вы глядите, глядите, раз пришли, – мотнула Томка подбородком в сторону стены. На стене висели вышивки и картинки. На картинках были нарисованы кошки, собаки и петухи.
– А картинки тоже вы? – изумленно спросила Маша.
Тома кивнула.
– Ногами? – глупо поинтересовалась Багатурия.
– А как захочу, – засмеялась Томка, показывая сквозь мелкие зубы длинный, острый на кончике язык. – Захочу – ногами, захочу – ртом.
Она нагнула голову низко к столу, резко мотнула подбородком и подняла лицо от стола. В середине ее улыбающегося рта торчала кисточка. Она быстро перекатила ее во рту из угла в угол, потом села на кровать, подняла, странно вывернув коленный сустав, стопу, и кисточка оказалась зажатой между пальцев ног.
– Могу правой, могу левой, мне все равно. – И она ловко переложила кисточку из одной ноги в другую, высунула язык и совершила им какое-то замысловатое гимнастическое движение.
Девочки переглянулись.
– А вот портрет товарища Сталина вы тоже нарисовать ногой можете? – все пыталась Алена свернуть в нужном направлении.
– Могу, конечно. Но мне больше нравится кошек да петухов рисовать, – увильнула Томка.
– О, кошечка вон та серая прелесть какая, точно как наша, – восхищенно указала Светлана Багатурия на портрет кошки в неправильно-горизонтальную полоску. – Наша Маркиза у бабушки в Сухуми осталась. Я так скучаю без нее!
– А мне петухи… вон тот, пестрый, – сказала младшая Колыванова, от которой никто не ожидал.
– Ишь ты, а раньше не говорила, Танька, – удивилась художница.
– А вы расскажите про подарок, – гребла целеустремленно в свою сторону Алена Пшеничникова.
– Дался тебе этот подарок, – почти рассердилась вдруг Томка.
Но тут вошла Лидка и объявила:
– Том, керосин-то выгорел, нету керосина.
– А и нету, и не надо, – махнула кисточкой, зажатой в пальцах ног, Томка. – Поди-ка сюда. Поближе.
И Томка зашептала что-то секретное Лидке в ухо. Лидка кивнула, сняла с Томкиной шеи мешочек и пошла к двери одеваться.
Усевшись поудобнее, вроде как бы по-турецки, пошевеливая кисточкой, Томка стала рассказывать:
– Значит, так. Про подарок… – Она засмеялась рассыпчатым ехидным смехом. – Труд мой был не напрасный. Вышивала я долго, месяца два, а может, четыре. Василиска-соседка по почте отправила, а я ей наказала, чтоб с возвратным ответом. – И она снова засмеялась, а потом посерьезнела. – Но, честно сказать, не очень-то я рассчитывала, что ответ получу… Но пришел. Бумага большая, печать сверху, печать снизу, благодарственная, из самой канцелярии. Так и написано: Москва, Кремль… Ну, думаю, дорогой товарищ Сталин, не подведи…
Девочки переглянулись. Алена тревожным взглядом смотрела на Машу.
– А жили мы в Нахаловских бараках. Одна стена – чистый лед, а протопят как следует – вода течет, и нас шестеро вот в такой каморе. Мать наша – деревня деревней, сестра Маруся – пьянь, рвань, в жопе ветер, да выблядки ее сопливые… – Томка строго посмотрела на обмерших чистеньких девочек. – Ума ни у кого нет, об себе позаботиться не могут, не то что обо мне, безрученькой. А кому Бог ума не дал, то плохо, я скажу. Ну, я эту бумагу в зубы и иду в жилотдел…
Светлана Багатурия подперла кулачком подбородок и даже рот открыла от проникновения. Сонька хлопала глазами, а Маша Челышева тяжко, со стеснением втягивала в себя дурной воздух и с еще большим стеснением выдыхала.
– Прихожу, а там в кабинет очередь, а я без ничего, дверь ногой открываю и захожу. Они меня увидели, попадали прям. – Она тщеславно хихикнула. – А я на самый большой стол им, – с неприличным звуком она выплюнула изо рта воздух, – бумагу выкладываю и говорю: вот, обратите внимание, великий товарищ Сталин, всем народам отец, знает меня поименно, пишет мне, убогой, свое благодарствие за мое ножное усердие, а моя жилплощадь такая, что горшок поставить поссать некуда. Где же ваше-то усердие, уж который раз мы все просим, просим… Теперь я к самому товарищу Сталину жаловаться пойду… Ну, поняли теперь, пионерия? Фатера-то моя, можно сказать, лично от самого товарища Сталина!
Она покрутила ртом и дернула носом:
– Ничего вы не понимаете, мокрописки. Надевайте ваши польты и дуйте отсюдова, – неожиданно злобно сказала она. Потом слезла со своего тюфяка и запела тонким громким голосом, подстукивая голыми пятками и подергивая боками: – Огур-чи-ки, по-ми-дор-чики…
Девочки попятились к двери, схватили свои шубки-пальтишки в охапку и высыпались в коридор. Из-за двери был слышен крик Томки:
– Танька! Танька! Ты-то куда?
Но Таня Колыванова солидарно натягивала свое пальто. Толкаясь, они пробежали по изогнутому коридору и высыпали, разом протиснувшись в парадную дверь, на улицу.
Было уже совсем темно. Пахло снегом и дымом, деревенские тихие звезды стояли в небесной черноте. Они побежали к трамвайной остановке и сбились в кучу возле жестяной таблички. Соньке и Светлане было ничего себе, Маша тяжело дышала, у нее начинался первый в ее жизни астматический приступ, которых будет потом много, а Алена роняла частые слезы с густых слипшихся ресниц.
Она была так несчастна, как только можно вообразить, но сама не понимала отчего.
«Противная, противная, обманщица, – думала она. – И товарища Сталина она не любит…»
– Дома влетит, – сказала бесчувственная Сонька, которой все было хоть бы что.
Две женщины в деревенских полушубках подошли к остановке и встали. Ждать пришлось на этот раз довольно долго. Наконец вдали раздался чудесный перезвон и из-за поворота появился ясноглазый трамвай. Когда они уже влезали в него, появилась Лидка. Томкино поручение она уже выполнила и неслась вслед за сестрой.
А Томка, с бутылкой в своей шейной котомке, не надевая чунек, поднялась во второй этаж и постучала голой пяткой в коричневую дверь. Ей не ответили. Тогда она развернулась, отступила на шаг, ловко просунула ступню в дверную ручку и, качнувшись, открыла дверь. Внутри было темно, но это было ей не важно.
– Егорыч! – позвала она с порога, но никто не ответил. Она двинулась в глубь комнаты. В углу лежал матрас, а на матрасе – Егорыч. Она встала на колени. – Егорыч, ты потрогай, чего я принесла-то. Доставай, что ли… Ну, давай! – торопила она его.
И Егорыч, почти еще не проснувшись, поднял патлатую голову с большой сальной подушки, протянул корявую лапу к Томкиной котомочке и добродушным сонным голосом сказал:
– Тебе только давай… Ну, чего притащила-то?
Он был ее дружок, и она принесла ему дар. Сама-то она выпить немножечко тоже могла, но по-настоящему пить она не любила. И товарища Сталина, как выяснила теперь заплаканная Алена Пшеничникова, она тоже по-настоящему не любила…
Чужие дети
Факты были таковы: первой родилась Гаяне, не причинив матери страданий сверх обычного. Через пятнадцать минут явилась на свет Виктория, произведя два больших разрыва и множество мелких разрушений в священных вратах, входить в которые столь сладостно и легко, а выходить – тяжело и болезненно.
Столь бурное появление второго ребенка оказалось полной неожиданностью для опытной акушерки Елизаветы Яковлевны, и пока она, пытаясь остановить кровотечение до прихода дежурного хирурга, за которым было послано в другое отделение, накладывала лигатуры, Виктория крепко кричала, поводя сжатыми кулачками, а Гаяне мирно спала, словно бы и не заметив своего выхода на хрупкий мостик, переброшенный из одной бездны в другую.
Невзирая на суматоху, поднявшуюся вокруг роженицы, Елизавета Яковлевна успела отметить про себя, что близнецы однояйцовые, и это не очень хорошо – она держалась того мнения, что однояйцовые близнецы физически слабее разнояйцовых, – а также она обратила внимание на то забавное обстоятельство, что впервые в ее практике близнецы ухитрились родиться в разные дни: первая двадцать второго августа, а вторая, через пятнадцать минут, но уже после полуночи, двадцать третьего…
Пока мать девочек Маргарита, не унизившая себя общепринятыми родильными воплями, плавала в тяжеловодной реке, то выбрасываемая на черный и прочный берег полного беспамятства, то снова увлекаемая в горячие сильные воды с вызывающей тошноту скоростью, девочки неделю за неделей содержались в детской палате и кормились от щедрот чужих сосцов.
К исходу первого месяца, когда мать девочек, перенеся большую операцию, лишившую ее возможности впредь проращивать драгоценные зерна потомства, и последующее заражение крови, вынырнула, вопреки прогнозам врачей, из промежуточного состояния и начала медленно поправляться, Эмма Ашотовна, бабушка, забрала девочек домой.
К этому времени ей удалось поменять хорошую работу в управлении на должность бухгалтера в жилищной конторе в соседнем доме, чтобы иметь возможность сбегать среди дня к детям и покормить их.
Дома, впервые распеленав два тугих поленца, выданных ей под расписку в роддоме, и увидев, как запущена их бедная кожа, она заплакала. Виктория, впрочем еще безымянная, тоже заплакала – зло, не по-младенчески, большими слезами. Эти первые общесемейные слезы все и решили: Эмма Ашотовна ужаснулась своей тайной неприязни к новорожденным внучкам, едва не унесшим жизнь ее драгоценной дочери, и пошла на кухню кипятить постное масло, чтобы после купания намазать опревшие складочки.
Уже через несколько дней внимательная Эмма Ашотовна установила, что Виктория – она звала ее про себя «егрорт», по-армянски «вторая», – яростно орет, если бутылочку с молоком подносят сначала ее сестре. Старшая сестра, которую бабушка называла «арачин» – «первая», голоса вообще не подавала.
Лежа валетом в кроватке-качалке, сработанной дворовым столяром дядей Васей, и получая из бабушкиных рук, отяжеленных крупными перстнями и набухшими суставами, теплые бутылочки, они с честным рвением исполняли свой долг перед жизнью: сосали, отрыгивали, переваривали, исторгали из себя с удовлетворенным кряхтением желтые творожистые останки трудно добываемого молока.
Они были очень похожи: темные густые волосики обозначали линию низкого и широкого лба, нежный пушок, покрывающий их лица, сгущался в тонкие длинные брови, а верхняя губа, как у матери и бабки, была вырезана лукообразно, и именно в этой крохотной, но явственно заметной выемке и сказывалось семейное и кровное начало. Хотя обе девочки были прехорошенькими, по мнению Эммы Ашотовны, старшая была потоньше и помиловидней.
Следуя известной системе народных суеверий, дополненных и своими собственными, в некотором роде авторскими, Эмма Ашотовна девочек не показывала никому, кроме старой Фени, соседки, много лет помогавшей ей по хозяйству. Однако, пока Феня с указанного ей расстояния рассматривала два сопящих чуда природы, Эмма Ашотовна, причудливо сцепив пальцы, мелко поплевывала на четыре стороны. Это отводило сглаз, к которому особенно чувствительны, как известно, младенцы до года и девственницы на выданье.
Была Эмма Ашотовна человеком оригинальным, со своей системой жизни, в которой равноправно присутствовали строгие нравственные правила, несколько не завершенное высшее образование, набор упомянутых суеверий, а также возведенные в принцип собственные прихоти и капризы, для окружающих, впрочем, вполне безвредные. Так, к последним относился, например, полный отказ от баранины, столь обычной для армянской кухни, несокрушимая вера в целебные свойства листьев айвы, страх перед желтыми цветами и тайное обыкновение перебирать про себя ряды чисел, как другие перебирают четки. Так, с помощью этой своеобразной игры, решала она обыкновенно свои житейские задачки.
Однако теперешняя ее задача была столь сложна, что со своими любимыми числами, послушно позвякивающими в ее крупной голове под большими волосами, не могла она к ней подступиться.
Эти детки были долгожданными. Дочь ее Маргарита в очень юном возрасте, не достигнув и восемнадцати, вышла замуж по большой любви не то чтобы против воли родителей – профессора-отца и самой Эммы Ашотовны, представительницы древнего армянского рода, – скорее, вопреки их ожиданиям… Избранник Маргариты был крестьянского происхождения, уже в зрелом мужском возрасте. Та армянская глина, из которой он был вылеплен, рано отвердела, и еще в детстве он утратил пластичность. Появление Маргариты в его жизни было тем последним событием, которое завершило окончательную форму его прочного характера.
К новым идеям он всегда был настроен сдержанно, к незнакомым людям – подозрительно, все сложное казалось ему враждебным, и его незаурядный талант инженера вырос, возможно, на свойственном ему от природы желании разрешать все сложности наиболее простым путем.
В жены себе он выбрал Маргариту, когда та гостила с матерью у родственников в горной деревушке, а он, исполняя семейный долг, приехал навестить своего престарелого дядю. Три дня он наблюдал за двенадцатилетней Маргаритой из дядькиного сада, сквозь просветы крупных листьев инжира, и спустя пять лет женился на ней. Она стала богом его жизни, тонкая, нежная Маргарита, с ног до головы покрытая персиковым пушком.
До женитьбы он был честолюбив, хорошо продвигался по службе, имел несколько авторских свидетельств об изобретениях, но брачное счастье было попервоначалу столь ярким, что затмило для него все кальки и синьки мира…
Так прошло несколько лет, и счастье несколько отуманилось: он жаждал детей, но дитя, невзирая на его усердные труды, не завязывалось. Утомительное и бесплодное ожидание сделало его, человека от природы сдержанного, угрюмым, а Маргарита, разделяя тоску мужа по потомству, чувствовала свою неопределенную вину. Миновало уже десять лет их браку, она все была юной и тонкой, похожей на диснеевского олененка, а он постарел, померк, и даже инженерные способности его, столь блестящие смолоду, как-то обмелели.
Незадолго до войны Серго получил назначение на Дальний Восток и выехал на новое место службы. Маргарита должна была следовать за ним через короткое, но неопределенное время. Она уже складывала в коробки накрахмаленное до картонной жесткости белье и заворачивала в мятую газетную бумагу фарфоровые чашечки, когда началась война. Отца Маргариты, Александра Арамовича, крупного востоковеда, знатока десятка мертвых и полумертвых языков, еще задолго предсказавшего эту войну с большой календарной точностью, в домашнем, разумеется, кругу, вечером того несчастного июньского воскресенья разбил паралич. Маргарита никуда не уехала: больше года, окруженный прощальной любовью жены и дочери, полностью лишенный речи, почти недвижимый и с совершенно ясным сознанием, пролежал профессор в своем узком кабинетике, вслушиваясь в тихий треск спасенного от конфискации куска эфира, начиненного немецкой и английской, тоже вполне для него внятной, речью. В конце ноября сорок второго года он скончался.
Через неделю после похорон, когда Маргарита уже собиралась поговорить с Эммой Ашотовной о переезде их к Серго, он, без предварительного извещения, явился сам. За этот год он, как ни странно, помолодел, похудел, стал каким-то собранным и обновленным.
Как выяснилось, он долгое время добивался перевода в действующую армию – на театр военных действий, как старомодно выражался покойный Александр Арамович, – и теперь наконец ехал на фронт.
В печально изменившемся доме, еще полном следов болезни и смерти, он провел чудом доставшуюся ему прощальную ночь, и рано утром Маргарита поехала провожать его в Мытищи, где стоял эшелон. Вернувшись, она легла ничком на кровать, обняла пахнущую резким мужским одеколоном подушку и пролежала так четыре с половиной дня, пока запах окончательно не улетучился.
Мать и дочь принадлежали к одной породе восточных жен, любящих своих мужей страстно, властно и самоотверженно. Они сплотились и жили едиными чувствами печали об ушедшем в тихие поля Александре Арамовиче и тревоги о Серго, ушедшем в смежное, грохочущее железом пространство.
За пять следующих месяцев Маргарита получила от мужа всего три письма, причем каждое с новым номером полевой почты.
К этому времени она знала, что некоторые женские неполадки, которые она сначала относила за счет истощения и малокровия, связаны с приездом ее мужа в тот день и час, когда звезды благоприятствовали зарождению ее дочери. Что будет дочь, Маргарита не сомневалась, что их будет две – не провидела.