Читать онлайн Девушка ждёт бесплатно
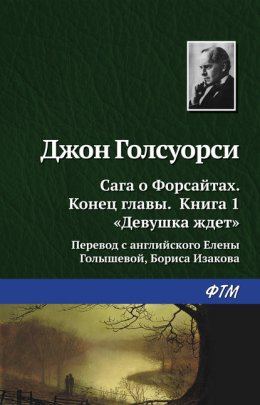
Глава первая
Епископ Портсминстерский угасал с каждой минутой; к умирающему вызвали всех четырех его племянников и обеих племянниц, одну из них – с мужем. Думали, что он не протянет до утра.
Тот, кого в шестидесятых годах приятели в Харроу[1] и Кембридже звали «Франтиком» Черрелом (как произносилась его фамилия Чаруэл), кто был потом преподобным Касбертом Черрелом в двух лондонских приходах, каноником Черрелом на вершине своей ораторской славы, а последние восемнадцать лет Касбертом Портсминстерским, – так и остался холостяком. Он прожил восемьдесят два года и пятьдесят пять из них – приняв духовный сан довольно поздно – представлял господа бога в самых разных уголках земли. Именно это, да еще умение с двадцатишестилетнего возраста подавлять свои природные склонности, придало его лицу сдержанное достоинство, которого не нарушила даже близость смерти. Он относился к ней с иронией – судя по чуть поднятой брови и по словам, еле слышно сказанным сиделке:
– Завтра вы наконец выспитесь как следует. Я буду точен – ведь облачения мне надевать не придется.
Он умел носить облачение лучше всех в епархии, выделялся лицом и осанкой, сохранив до конца привычки заправского денди, которыми и заслужил свою кличку «Франтика»… а теперь он лежал не шевелясь, с аккуратно причесанными седыми волосами и слегка пожелтевшим лицом. Он так долго был епископом, что никто уже не мог сказать наверняка, как он относится к смерти, да, пожалуй, и ко всему остальному, кроме, быть может, требника, малейшие изменения в котором он решительно отвергал. Он и от природы был сдержан, а жизнь со всем ее церемониалом и условностями и вовсе отучила его проявлять свои чувства, – так вышивка и драгоценные камни скрывают ткань ризы.
Он лежал в комнате с распахнутыми створчатыми окнами, в монашески строгой комнате дома шестнадцатого века, построенного возле собора, и даже свежий сентябрьский ветер не мог изгнать отсюда запах веков. Несколько цинний в старинной вазе на подоконнике были единственным красочным пятном, и сиделка заметила, что, когда у епископа открыты глаза, он, не отрываясь, смотрит на цветы. Около шести часов ему сообщили, что съехалась вся семья его давно умершего старшего брата.
– Устройте их поудобнее, – сказал он. – Я бы хотел повидать Адриана.
Когда через час епископ снова открыл глаза, он увидел у своей постели племянника Адриана. Несколько минут умирающий разглядывал его худое, смуглое лицо с бородкой, изрезанное морщинами и увенчанное седеющими волосами, – разглядывал с удивлением, словно племянник оказался старше, чем он ожидал. Потом, чуть подняв брови, он проговорил слабым голосом, все с той же насмешливой ноткой:
– Дорогой Адриан! Рад тебя видеть! Подвинься поближе. Вот так. Сил у меня мало, но я хочу, чтобы все они пошли тебе на пользу; хотя ты, может, скажешь, что во вред. Я могу говорить с тобой прямо или молчать. Ты не священник, поэтому и я буду говорить как человек светский, – когда-то я им был, а может, так и остался. Я слышал, что ты питаешь склонность, или, как говорится, влюблен в одну даму, которая не может выйти за тебя замуж… Правда?
На добром морщинистом лице племянника мелькнула тревога.
– Правда, дядя Касберт. Мне очень жаль, если я тебя огорчаю.
– А склонность у вас взаимная?
Племянник пожал плечами.
– Со времен моей молодости, дорогой Адриан, свет изменил свои взгляды на многое, но брак все еще окружен неким ореолом. Впрочем, это дело твоей совести, и я не к тому веду… Дай мне воды.
Отпив глоток, он продолжал слабеющим голосом:
– После смерти вашего отца я был для всех вас in loco parentis[2] и хранителем семейных традиций. Хочу тебе напомнить: род наш старинный и славный. У старых семей только и осталось теперь, что врожденное чувство долга, а людям зрелым и с известным положением, как у тебя, не простят того, что простят человеку молодому. Мне было бы грустно покинуть этот мир, сознавая, что имя наше будет упоминаться в печати или станет пищей для сплетен. Извини, если я вторгся в твою личную жизнь, и разреши мне со всеми вами проститься. Лучше, если ты сам передашь остальным мое благословение, хотя боюсь, оно немногого стоит. Прощай, дорогой мой, прощай!
Голос упал до шепота. Умирающий закрыл глаза; Адриан постоял с минуту сгорбившись, глядя на его точеное восковое лицо, потом на цыпочках подошел к двери, тихонько открыл ее и вышел.
Вернулась сиделка. Губы епископа шевелились, брови слегка подергивались, но он заговорил еще только один раз:
– Будьте добры, позаботьтесь, чтобы голова у меня лежала прямо и рот был закрыт. Простите, что я говорю о таких мелочах, но мне не хочется произвести отталкивающее впечатление.
Адриан спустился в длинную, обшитую панелями комнату, где дожидались родственники.
– Кончается. Он шлет вам всем свое благословение.
Сэр Конвей откашлялся, Хилери сжал Адриану руку.
Лайонел отошел к окну. Эмили Монт вынула крошечный платочек и протянула другую руку сэру Лоренсу. Одна Уилмет спросила:
– А как он выглядит?
– Как призрак воина на щите.
Сэр Конвей снова откашлялся.
– Хороший был старик! – тихо сказал сэр Лоренс.
– Да, – со вздохом произнес Адриан.
Так они молча сидели и стояли, смирясь с неудобствами этого дома, где витала смерть. Принесли чай, но, словно по молчаливому уговору, никто до него не дотронулся. И вдруг зазвонил колокол. Все семеро подняли головы. Где-то в пространстве взоры их встретились, скрестились, словно они во что-то вглядывались, хотя там ничего не было.
Кто-то вполголоса сказал с порога:
– Теперь, если хотите, можно с ним проститься.
Сэр Конвей, самый старший из всех, пошел за духовником епископа; остальные двинулись за ним.
Белый, прямой и строгий лежал епископ на своей узкой кровати, придвинутой изголовьем к стене, как раз против створчатых окон, и был он как-то еще высокомернее, чем прежде. В смерти он, казалось, стал даже красивее, чем при жизни. Никто из присутствующих, в том числе и его духовник, тоже глядевший на него в эту минуту, не знал – действительно ли Касберт Портсминстерский был человеком верующим, не говоря, конечно, о вере в земную славу церкви, которой он так преданно служил. Теперь они смотрели на него с самыми различными чувствами, какие вызывает смерть у людей разного склада, но все они испытывали одно общее ощущение – чисто эстетическое удовольствие при виде такого незабываемого величия.
Конвей – генерал сэр Конвей Черрел – видел много смертей на своем веку. Сейчас он стоял, скрестив опущенные руки, как когда-то в Сандхерсте[3] по команде «вольно». Лицо его со впалыми висками, тонкими губами и тонким носом выглядело чересчур аскетическим для солдата; глубокие морщины сбегали по обветренным щекам от скул до волевого подбородка, темные глаза глядели пристально, над верхней губой топорщились короткие усы с проседью; он был, пожалуй, самым спокойным из всех восьмерых, а стоявший рядом долговязый Адриан – самым беспокойным. Сэр Лоренс Монт держал под руку свою жену Эмили, и его худое, нервное лицо словно говорило: «Какое прекрасное зрелище… Не плачь, дорогая».
Хилери и Лайонел стояли по обе стороны Уилмет; на их длинных, узких и решительных лицах, морщинистом – у Хилери и гладком – у Лайонела, застыло выражение какого-то грустного недоумения, словно и тот и другой ожидали, что глаза покойника вот-вот откроются. Высокая, худощавая Уилмет раскраснелась и сжала губы. Духовник стоял с опущенной головой, губы его шевелились, точно он шептал про себя молитву. Так они простояли минуты три, потом с подавленным вздохом потянулись к двери и разошлись по своим комнатам.
Когда они встретились снова за ужином, помыслы и разговоры их вернулись к делам житейским. Дядя Касберт ни с одним из них не был особенно близок, хоть и считался признанным главой семьи. Обсудили вопрос, похоронить ли его рядом с предками на фамильном кладбище в Кондафорде или здесь, в соборе. Вероятно, это должно было решить его завещание. Все, за исключением генерала и Лайонела, назначенных душеприказчиками, в тот же вечер вернулись в Лондон.
Прочитав завещание, – оно оказалось коротким, ведь умершему почти нечего было завещать – оба брата помолчали. Наконец генерал сказал:
– Я хочу с тобой посоветоваться. Насчет моего мальчика, Хьюберта. Ты читал, как на него накинулись в палате перед роспуском на каникулы?
Скупой на слова Лайонел – его вот-вот должны были назначить судьей – кивнул.
– Я читал, что был сделан запрос, но не знаю, что говорит об этом сам Хьюберт.
– Могу тебе рассказать. Возмутительная история. Конечно, он мальчик вспыльчивый, но чист, как стеклышко. На его слово можно положиться. И вот что я тебе скажу: будь я на его месте, я, наверно, поступил бы точно так же.
Лайонел кивнул.
– Что, собственно, случилось?
– Ты же знаешь, он пошел на войну добровольцем прямо из школы, хотя его возраст еще не призывали, год прослужил в авиации; был ранен, вернулся в строй, а после войны остался в армии. Служил в Месопотамии, потом в Египте и Индии. Подцепил тропическую малярию и в октябре прошлого года получил отпуск по болезни на целый год – до первого октября. Врачи рекомендовали ему попутешествовать. Хьюберт получил разрешение и отправился через Панамский канал в Лиму. Там он встретил американского профессора Халлорсена, того, что не так давно побывал в Англии и прочитал тут несколько лекций, кажется, о каких-то редкостных ископаемых в Боливии, – Халлорсен как раз снаряжал туда новую экспедицию. Когда Хьюберт попал в Лиму, экспедиция собиралась в путь, и Халлорсену нужен был начальник транспорта. Хьюберт уже чувствовал себя хорошо и ухватился за эту возможность. Не выносит безделья. Халлорсен взял его – это было в декабре – и вскоре оставил начальником лагеря, одного с целой бандой индейцев, погонщиков мулов. Хьюберт был там единственным белым; к тому же его отчаянно трепала лихорадка. По его словам, эти индейцы – сущие черти; никакого понятия о дисциплине, и жестоко обращаются с животными. Хьюберт с ними не поладил, – я же говорю, что он мальчик вспыльчивый и очень любит животных. Индейцы все больше отбивались от рук; наконец один, которого Хьюберту пришлось отхлестать за скверное обращение с мулами и подстрекательство к мятежу, напал на него с ножом. К счастью, у Хьюберта был под рукой револьвер, и он его застрелил. Вся шайка, кроме трех человек, разбежалась; мулов они угнали. Не забудь, мальчик оставался там один почти три месяца, без всякой помощи, не получая никаких известий от Халлорсена. Но, хоть и еле живой, он кое-как продержался там с оставшимися людьми. Наконец вернулся Халлорсен и, вместо того чтобы посочувствовать ему, на него накинулся. Хьюберта это взорвало, он тоже в долгу не остался и сразу же взял да уехал. Вернулся домой и живет сейчас с нами, в Кондафорде. Малярия у него, к счастью, прошла, но он и сейчас еще никак не поправится. А теперь этот тип, Халлорсен, разругал его в своей книге, свалил всю вину за провал экспедиции на него, обвинил в самодурстве и неумении обращаться с людьми, назвал необузданным аристократом, словом, наговорил всякого вздора – сейчас ведь это модно. Ну вот, один член парламента из военных к этому привязался и сделал запрос. От социалистов ничего хорошего и не ждешь, но когда военный обвиняет тебя в поведении, недостойном английского офицера, это уже никуда не годится. Халлорсен сейчас в Америке. Никто не может привлечь его к ответственности, и к тому же у Хьюберта нет свидетелей. Похоже, что вся эта история может испортить ему карьеру.
Длинное лицо Лайонела Черрела еще больше вытянулось.
– Он обращался в генеральный штаб?
– Да, ходил туда в среду. Встретили его холодно. Модная демагогия насчет самодурства знати их очень пугает. И все-таки там, в штабе, по-моему, могут помочь, если дело не пойдет дальше. Но разве это возможно? Хьюберта публично ошельмовали в этой книге, а в парламенте обвинили в уголовщине, в поведении, недостойном офицера и джентльмена. Проглотить такое оскорбление он не может, а в то же время… что ему делать?
Лайонел, куривший трубку, глубоко затянулся.
– Знаешь что, – сказал он, – лучше ему не обращать на все это внимания.
Генерал сжал кулак.
– Черт возьми, Лайонел, ты это серьезно?
– Но он ведь признает, что бил погонщиков, а потом и застрелил одного из них. У людей не такое уж богатое воображение, – они его не поймут. До них дойдет только одно: в гражданской экспедиции он застрелил человека, а других избил. Никто и не подумает ему посочувствовать.
– Значит, ты всерьез советуешь ему проглотить обиду?
– По совести – нет, но с точки зрения житейской…
– Господи! Куда идет Англия? И что бы сказал дядя Франтик? Он так гордился честью нашей семьи.
– Я горжусь ею тоже. Но разве Хьюберт с ними справится?
Наступило молчание.
– Это обвинение марает честь мундира, а руки у Хьюберта связаны, – заговорил генерал. – Он может бороться, только выйдя в отставку, но ведь душой и телом он военный. Скверная история… Кстати, Лоренс говорил со мной об Адриане. Диана Ферз – урожденная Диана Монтджой, правда?
– Да, троюродная сестра Лоренса… И очень хорошенькая женщина. Ты ее видел?
– Видел, еще девушкой. Она сейчас замужем?
– Вдова при живом муже… двое детей, а супруг в сумасшедшем доме.
– Весело. И неизлечим?
Лайонел кивнул.
– Говорят. Впрочем, никогда нельзя сказать наверняка.
– Господи!
– Вот именно. Она бедна, а Адриан еще беднее. Она его старая любовь, еще с юности. Если Адриан наделает глупостей, его выгонят с работы.
– Ты хочешь сказать – если он с ней сойдется? Но ему уже пятьдесят!
– Седина в голову… Больно уж хороша. Сестры Монтджой всегда этим славились… Как ты думаешь, он тебя послушается?
Генерал мотнул головой.
– Скорее он послушается Хилери.
– Бедняга Адриан… ведь он редкий человек! Поговорю с Хилери, но он всегда так занят.
Генерал поднялся.
– Пойду спать. У нас в усадьбе не так пахнет плесенью, а ведь Кондафорд построен куда раньше.
– Здесь слишком много дерева. Спокойной ночи.
Братья пожали друг другу руки и, взяв каждый по свече, разошлись по своим комнатам.
Глава вторая
Усадьба Кондафорд еще в 1217 году перешла во владение Черрелов – их имя писалось тогда Керуэл, а иногда и Керуал, в зависимости от прихоти писца; до них усадьбой владело семейство де Канфор (отсюда и ее название). История перехода имения в руки новых владельцев была овеяна романтикой: тот Керуэл, которому оно досталось благодаря женитьбе на одной из де Канфор, покорил сердце своей дамы тем, что спас ее от дикого кабана. Он был безземельным дворянином; его отец, француз из Гюйенны, перебрался в Англию после крестового похода Ричарда Львиное Сердце; она же была наследницей владетельных де Канфоров. Кабана увековечили в фамильном гербе; кое-кто подозревал, что скорее кабан в гербе породил легенду, чем легенда – кабана. Как бы то ни было, знатоки каменной кладки подтверждали, что часть дома была построена еще в двенадцатом веке. Когда-то его окружал ров, но при королеве Анне некий Черрел, одержимый страстью к новшествам – то ли ему показалось, что настал золотой век, то ли его просто раздражали комары, – осушил ров, и теперь от него не осталось и следа.
Покойный сэр Конвей, старший брат епископа, получивший титул в 1901 году, когда его назначили в Испанию, служил по дипломатической части. Поэтому при нем имение пришло в упадок. Он умер в 1904 году за границей, но упадок имения продолжался и при его старшем сыне, нынешнем сэре Конвее: находясь на военной службе, он до конца войны[4] лишь изредка наезжал в Кондафорд. Теперь, когда он жил здесь безвыездно, сознание, что его предки обосновались тут еще во времена Вильгельма Завоевателя, подсказывало ему, что надо привести родовое гнездо в порядок, и сейчас оно неплохо выглядело снаружи и казалось уютным внутри, хотя жить там генералу стало уже не по карману. Имение не могло приносить большого дохода – слишком много здесь было лесных угодий; хоть и не заложенное, оно давало всего несколько сот фунтов стерлингов в год. Пенсия генерала и скромная рента его жены (достопочтенной[5] Элизабет Френшем) позволяли им платить небольшие налоги, держать двух верховых лошадей для охоты и жить скромно, едва сводя концы с концами. Жена генерала была одной из тех женщин, которые кажутся такими незначительными и так много значат для своих близких. Ненавязчивая, мягкая, она никогда не сидела сложа руки и всегда держалась в тени, а ее бледное, спокойное лицо с застенчивой улыбкой говорило о том, что для душевного богатства вовсе не нужно денег и даже большого ума. Муж и трое ее детей знали, что всегда могут положиться на ее безграничную преданность. Все они были люди куда более живые и яркие, но с ней они отводили душу.
Она не поехала с генералом в Портсминстер и теперь дожидалась его дома. Обивка на мебели уже поистерлась, и генеральша стояла посреди гостиной, раздумывая, продержится ли она еще сезон, но тут появился шотландский терьер, а за ним ее старшая дочь Элизабет, которую все звали Динни; тоненькая, довольно высокая, с каштановыми волосами, чуть-чуть вздернутым носом и широко расставленными васильковыми глазами и ртом, точно с картины Боттичелли, она напоминала цветок на длинном тонком стебле, – казалось, он вот-вот сломается, а он не ломался. Весь ее облик говорил о том, что ей трудно относиться к жизни серьезно. Она была похожа на родник, или ключ, где вода всегда весело журчит и искрится. «Искрится, как шампанское», – говорил о ней ее дядюшка сэр Лоренс Монт. Ей уже исполнилось двадцать четыре года.
– Мама, нам придется носить траур по дяде Франтику?
– Не думаю; во всяком случае, не глубокий.
– Его похоронят здесь?
– Наверно, в соборе; отец нам скажет.
– Хочешь чаю? Скарамуш, сюда и не суй свой нос в паштет.
– Динни, меня так беспокоит Хьюберт.
– Меня тоже, мамочка, он какой-то сам не свой; от него остался один профиль, похож на старинную немецкую гравюру. Нечего ему было ездить в эту дурацкую экспедицию. С американцами трудно ладить, ну, а Хьюберту труднее, чем кому бы то ни было. Он никогда не мог с ними ужиться. Да и штатским, по-моему, незачем связываться с военными.
– Почему?
– Понимаешь, у военных ум такой закостенелый. Они твердо знают, что богу, а что – мамоне. Неужели ты не заметила?
Леди Черрел это заметила. Она застенчиво улыбнулась и спросила:
– А где он? Сейчас вернется отец.
– Он пошел с Доном за куропатками к ужину. Держу пари, что он их прозевает, да и все равно куропатки к ужину не поспеют. Хьюберт в таком настроении, что не приведи господь или, лучше сказать, не приведи дьявол. Ни о чем, кроме этой истории, не может думать. Одно для него спасение – влюбиться. Давай найдем ему подходящий идеал? Позвонить, чтобы принесли чай?
– Позвони. И сюда в комнату нужны свежие цветы.
– Сейчас нарву. Пойдем, Скарамуш!
Динни вышла в залитый сентябрьским солнцем парк; на нижней лужайке она заметила зеленого дятла и вспомнила детский стишок: «Семь малых птичек в семь клювов долбят, – берегись, червячок, тебя здесь съедят». Какая ужасная сушь! А все-таки циннии в этом году чудесные, – и она принялась их рвать. Они переливались всеми тонами в ее руках – от темно-красных до бледно-розовых и лимонно-желтых; красивые, но какие-то холодные. «Жаль, что не бывает клумб с живыми девушками, – подумала она, – мы бы могли сорвать там что-нибудь для Хьюберта». Она редко выказывала свои чувства, но глубоко в ее душе жили две заветные неотделимые друг от друга привязанности, – к брату и к Кондафорду; Кондафорд был смыслом ее жизни, она любила его с той страстью, какой никто бы у нее и не заподозрил; ее обуревало ревнивое желание внушить своему брату такую же любовь к родным местам. Ведь она родилась здесь, когда все было еще в запустенье, – усадьба отстраивалась у нее на глазах. Для Хьюберта она была только местом, где можно провести праздники и отпуск. Динни же, хотя ей и в голову бы не пришло говорить о своем происхождении или обсуждать его всерьез на людях, втайне питала непоколебимую веру в свой род, его владения и дела. Каждый зверь, каждая птица, каждое деревцо в Кондафорде, даже цветы, которые она сейчас рвала, были частицей ее самой, так же как и простые люди здешней округи, в своих крытых соломой домишках, или старинная англиканская церковь, которую она посещала, хоть и не была глубоко верующим человеком, и тусклые кондафордские зори, которые ей редко случалось видеть, и лунные, оглашаемые криками совы ночи, и длинные солнечные лучи на стерне, – все запахи, звуки и даже самый воздух родных мест. Когда Динни бывала в отъезде, она никогда не жаловалась на тоску по дому, но томилась вдали от него, а возвратившись домой, старалась не проявлять своего восторга. Перейди Кондафорд в чужие руки, она бы, может, и не заплакала, но почувствовала себя как растение, вырванное с корнем из земли. Отец ее питал к Кондафорду спокойную привязанность человека, прожившего лучшие свои годы в других местах; мать принимала имение как должное, ей приходилось хлопотать с утра до ночи, но все же оно не было ей родным гнездом; сестра терпела его поневоле, – она предпочла бы место повеселее; ну, а Хьюберт… что думал Хьюберт? Динни не знала. С целой охапкой цинний вернулась она в комнату. Затылок ее нагрело вечерним солнцем.
Мать стояла у чайного столика.
– Поезд опаздывает, – сказала она. – А Клер всегда так гонит машину.
– Не вижу никакой связи, мамочка.
Но она видела эту связь. Мать всегда беспокоилась, когда отец опаздывал.
– Мама, я все-таки считаю, что Хьюберту следует написать в газеты.
– Посмотрим, что скажет отец… он должен был поговорить с дядей Лайонелом.
– Вот и машина, – сказала Динни.
Вслед за генералом в комнату вошла его младшая дочь. Клер была самой яркой в семье. Она коротко стригла свои мягкие черные волосы, на ее бледном выразительном лице выделялись чуть подкрашенные губы. Взгляд ее карих глаз был прямой и нетерпеливый, невысокий лоб поражал белизной. Сквозь внешнее спокойствие проглядывало какое-то отчаянное удальство, и она выглядела старше своих двадцати лет. У нее была прекрасная фигура и царственная осанка.
– Бедняжка папа не обедал, – сказала она, входя.
– Ну и поездка, Лиз, – заметил генерал, – Стаканчик виски с содовой и печенье – вот и все, что у меня было во рту с самого утра.
– Сейчас дам тебе гоголь-моголь с вином, – сказала Динни и вышла. Вслед за ней вышла и Клер.
Генерал поцеловал жену.
– Старик выглядел очень хорошо, дорогая; впрочем, все мы, кроме Адриана, видели его уже потом. Придется съездить на похороны. Думаю, что все будет очень пышно. Вот был человек, наш дядя Франтик. Говорил с Лайонелом о Хьюберте; он не знает, как быть. Но я кое-что надумал.
– Да?
– Все дело в том, как отнесется начальство к нападкам в парламенте. Хьюберта могут уволить в отставку. Тогда это конец. Лучше уж уйти в отставку самому. Ему надо явиться на медицинский осмотр первого октября. Удастся ли нам нажать кое на кого так, чтобы он ничего не заподозрил? Мальчик-то ведь гордый. Я бы мог повидаться с Топшемом, а ты поговори с Фоллэнби, ладно?
Лицо леди Черрел вытянулось.
– Я знаю, – сказал генерал, – это очень противно. Впрочем, все зависит от Саксендена, не знаю только, как до него добраться.
– Может быть, Динни что-нибудь придумает.
– Динни? – переспросил генерал. – Пожалуй, она и правда умнее нас всех… не считая тебя, дорогая.
– Ну, – сказала леди Черрел, – я-то умом не могу похвастаться.
– Чушь! А вот и она!
Появилась Динни со стаканом в руке.
– Динни, я как раз говорил маме, что по делу Хьюберта нам надо обратиться к лорду Саксендену. Как бы это сделать?
– Через его соседей по имению. У него есть соседи?
– Его имение граничит с землями Уилфрида Бентуорта.
– Ну, вот. Значит, нужны дядя Хилери или дядя Лоренс.
– Почему?
– Уилфрид Бентуорт – председатель комитета по расчистке трущоб, а ведь это любимое детище дяди Хилери. Пустим в ход кумовство, дорогой.
– Гм… Хилери и Лоренс оба были в Портсминстере. Жаль, что мне это там не пришло в голову.
– Хочешь, я с ними поговорю?
– Вот было бы хорошо! Терпеть не могу просить о протекции. Конечно, дорогой. Это ведь женское дело.
Генерал с подозрением посмотрел на дочь: он никогда толком не знал, шутит она или нет.
– Вот и Хьюберт, – поспешно сказала Динни.
Глава третья
Хьюберт Черрел, за которым шел спаниель, пересекал с ружьем в руке старые серые плиты террасы. Он был худощав и строен, чуть выше среднего роста, с небольшой головой, обветренным лицом, не по возрасту изборожденным морщинами, и темными усиками над тонким нервным ртом; на висках уже пробивалась седина. Над впалыми загорелыми щеками выдавались скулы, широко расставленные карие глаза глядели зорко и беспокойно, над прямым тонким носом срослись брови. Он как бы повторял своего отца в молодости. Человек действия, вынужденный вести созерцательный образ жизни, чувствует себя не в своей тарелке; и с тех пор, как его бывший начальник выступил с нападками на него, Хьюберт не переставал злиться: он считал, что вел себя правильно или что его, во всяком случае, вынудили так действовать обстоятельства. Он раздражался еще и потому, что его воспитание и характер не позволяли ему жаловаться открыто. Солдат по призванию, а не по случайности, он видел, что его военная карьера под угрозой, его имя офицера и дворянина запятнано, а он не может отплатить своим обидчикам. Голова его, казалось Хьюберту, зажата как в тисках, и каждый, кому не лень, может нанести ему удар, – мысль невыносимая для человека с его характером. Оставив на террасе ружье и собаку, он вошел в гостиную и сразу почувствовал, что говорили о нем. Теперь ему то и дело приходилось наталкиваться на такие разговоры, – ведь в этой семье неприятности каждого волновали всех остальных. Взяв из рук матери чашку чаю, он объявил, что птицы дичают все больше – ведь леса так поредели, – после чего воцарилось молчание.
– Ну, пойду просмотрю почту, – сказал генерал и ушел вместе с женой.
Оставшись наедине с братом, Динни решилась поговорить с ним начистоту.
– Хьюберт, надо что-то предпринять.
– Не волнуйся, сестренка; история, конечно, скверная, но что поделаешь?
– Ты бы мог сам написать, как было дело, – ведь ты вел дневник. Я бы напечатала его на машинке, а Майкл найдет тебе издателя, он всех знает. Нельзя же сидеть сложа руки.
– Терпеть не могу выставлять свои чувства напоказ; а тут без этого не обойдешься.
Динни нахмурила брови.
– А я не желаю, чтобы этот янки сваливал на тебя вину за свою неудачу. Тут затронута честь армии.
– Даже так? Я поехал туда как частное лицо.
– Почему бы не опубликовать твой дневник?
– От этого лучше не станет. Ты его не читала.
– Мы могли бы кое-что вычеркнуть, кое-что приукрасить, и все такое. Понимаешь, папа принимает это так близко к сердцу!
– Тебе стоит его прочитать. Но там полно всяких излияний. Наедине с собой не стесняешься.
– Ты можешь выбросить оттуда все что угодно.
– Большое тебе спасибо, Динни.
Динни погладила его рукав.
– Что за человек этот Халлорсен?
– Откровенно говоря, он человек неплохой: дьявольски вынослив, ничего не боится, никогда не выходит из себя, но для него важнее всего в жизни собственная персона. Неудач у него быть не может, а уж если они случаются, отдуваться должен другой. По его словам, экспедицию подвел транспорт, ну, а транспортом ведал я. Но будь на моем месте сам архангел Гавриил, – и он бы ничего не сделал. Халлорсен ошибся в расчетах и не желает в этом сознаться. Обо всем этом написано в дневнике.
– А это ты видел? – Она показала ему газетную вырезку и прочитала вслух – «Как стало известно, капитан Черрел, кавалер ордена „За особые заслуги“, возбуждает дело против профессора Халлорсена, чтобы реабилитировать себя в связи с обвинениями, выдвинутыми Халлорсеном в книге о его боливийской экспедиции; в своей книге Халлорсен приписывает капитану Черрелу, не оправдавшему его доверия в трудную минуту, ответственность за провал экспедиции». Видишь, кто-то хочет натравить вас друг на друга.
– Где это напечатано?
– В «Ивнинг сан».
– «Возбуждает дело!» – с горечью воскликнул Хьюберт. – Какое дело? У меня нет никаких доказательств; уж об этом-то он позаботился, когда оставил меня с этой шайкой туземцев.
– Значит, у нас одна надежда – дневник.
– Сейчас принесу тебе эту чертовщину…
Весь вечер Динни просидела у окна, читая «эту чертовщину». Полная луна плыла за старыми вязами; кругом стояла могильная тишина. Лишь где-то на холме одиноко позвякивал какой-то колокольчик да одинокий цветок магнолии белел у самого окна. Все казалось каким-то призрачным, и Динни то и дело прерывала чтение, чтобы поглядеть на это волшебство. Десять тысяч полных лун проплыло тут с тех пор, как ее предки получили этот клочок земли; вокруг царил нерушимый покой, а со страниц дневника на нее веяло мучительным одиночеством. Жестокими словами говорилось там о жестоких делах: белый, брошенный среди дикарей; он любил животных, а кругом животные подыхали от голода, и люди не знали к ним жалости. Глядя на эту холодную, застывшую красоту за окном, она испытывала стыд и отчаяние.
«Эта подлая скотина Кастро снова пырял мулов ножом. Несчастные твари совсем отощали и еле тянут. Предупредил его в последний раз. Если это повторится, он отведает хлыста… Опять лихорадка».
«Кастро досталось сегодня как следует – дюжина ударов; посмотрим, уймется он теперь или нет. Никак не могу поладить с этими скотами; в них нет ничего человеческого. Эх, хоть бы денек провести в Кондафорде верхом, позабыть здешние болота и несчастных мулов, от которых остались кожа да кости…»
«Отстегал еще одного из этих скотов – чудовищно обращаются с мулами, будь они трижды прокляты!.. Снова приступ…»
«Чистейший ад! Утром они взбунтовались. Устроили мне засаду. К счастью, меня предупредил Мануэль – славный парень. И все-таки Кастро едва не проткнул мне глотку ножом. Здорово поранил мне левую руку. Я его пристрелил. Может, теперь они поостерегутся. От Халлорсена никаких вестей. Долго еще собирается он держать меня в этом чертовом логове? Рука горит, как в огне…»
«Ну теперь уж мне крышка: пока я спал, эти черти угнали в темноте мулов и скрылись. Остались только Мануэль и еще двое. Мы долго за ними гнались; нашли двух павших мулов, и только; мерзавцы разбежались кто куда; ищи ветра в поле. Вернулся в лагерь чуть живой… Бог знает, выберемся ли мы отсюда когда-нибудь. Рука страшно ноет, надеюсь, это не заражение крови…»
«Думал двинуться сегодня пешком. Сложил груду камней и оставил записку для Халлорсена – описал ему все на случай, если он в конце концов пришлет за мной; потом передумал. Останусь здесь, пока он не вернется или пока мы все тут не подохнем, что куда более вероятно…»
Так и шла эта мучительная повесть до самого конца. Динни отложила неразборчивые, пожелтевшие записи и облокотилась на подоконник. Тишина и холодный свет за окном отрезвили ее. Пыл ее охладел. Хьюберт прав. Зачем выставлять напоказ душу? Нет! Только не это. Личные связи – другое дело, к ним придется прибегнуть; и уж тут-то она для него постарается!
Глава четвертая
Адриан Черрел был одним из тех любителей деревенской жизни, что постоянно живут в городе. Работа удерживала его в Лондоне, где он опекал целую коллекцию останков доисторического человека. Он задумчиво взирал на челюсть из Новой Гвинеи, получившую восторженные отзывы в печати, и говорил себе: «Очередная шумиха! Просто низший тип Homo sapiens[6]», – когда швейцар доложил:
– Вас спрашивает молодая дама, сэр, – кажется, мисс Черрел.
– Пусть войдет, Джеймс, – сказал он и подумал: «Динни? Как ее сюда занесло?»
– А! Динни! Канробер утверждает, что это челюсть яванского питекантропа, Моклей – эоантропа, а Элдон П. Бэрбенк – австралопитека. А я говорю – sapiens: взгляни на коренной зуб.
– Вижу, дядя Адриан.
– Совсем как у человека. У этого типа болели зубы. Зубная боль – признак высокоразвитой культуры. Недаром росписи Альтамиры были найдены в пещерах кроманьонской эпохи. Этот парень, безусловно, Homo sapiens.
– Зубная боль – признак культуры? Забавно! Я приехала в город поговорить с дядей Хилери и дядей Лоренсом, но подумала, – если сначала мы с тобой пообедаем, я буду чувствовать себя увереннее.
– Ну тогда пойдем в кафе «Болгария», – сказал Адриан.
– Почему?
– Потому что там пока еще хорошо кормят. Это новый ресторан, там пропагандируют все болгарское и мы сможем пообедать вкусно и дешево. Хочешь попудрить нос?
– Хочу.
– Тогда иди вон туда.
Дожидаясь племянницы, Адриан стоял, поглаживая козлиную бородку, и прикидывал, что можно заказать на восемнадцать шиллингов шесть пенсов; он был государственным служащим без собственных средств, и у него редко оказывалось в кармане больше одного фунта стерлингов.
– Дядя Адриан, – спросила Динни, когда они сидели за глазуньей по-болгарски, – что ты знаешь о профессоре Халлорсене?
– Это тот, который собирался открыть в Боливии первые очаги цивилизации? Да, и взял с собой Хьюберта.
– А! Но, кажется, бросил его где-то по дороге.
– Ты с ним знаком?
– Да. Я познакомился с ним в тысяча девятьсот двадцатом году, мы вместе поднимались на Малого Грешника в Доломитах.
– Он тебе понравился?
– Нет.
– Почему?
– Видишь ли, он был вызывающе молод, обогнал меня и первым взобрался на вершину… Он чем-то напоминал мне бейсбол. Ты видела когда-нибудь, как играют в бейсбол?
– Нет.
– А я однажды видел, в Вашингтоне. Они поносят противника, чтобы его расстроить. Обзывают сосунком, ловкачом и президентом Вильсоном, – словом, всем, что только в голову придет, – как раз, когда он собирается ударить по мячу. Такой уж у них обычай. Лишь бы выиграть, любой ценой.
– А ты сам разве не думаешь, что главное – выиграть, любой ценой?
– Кто же в этом признается?
– Но ведь все мы ничем не гнушаемся, если нет выхода?
– Да, так бывает даже в политике.
– А ты бы пытался выиграть любой ценой?
– Наверно.
– Нет, ты бы не стал. А вот я – да.
– Ты очень любезна, детка, но откуда вдруг такое самоуничижение?
– Я сейчас кровожадна, как комар: жажду крови недругов Хьюберта. Вчера я читала его дневник.
– Женщина еще не утратила веры в свое божественное всемогущество, – задумчиво произнес Адриан.
– Думаешь, нам это угрожает?
– Нет, как бы вы ни старались, вам никогда не удастся уничтожить веру мужчин в то, что они вами командуют.
– Как лучше всего уничтожить такого человека, как Халлорсен?
– Либо дубинкой, либо выставив его на посмешище.
– Наверно, то, что он придумал насчет боливийской цивилизации, – чепуха?
– Полная чепуха. Там нашли странных каменных истуканов, происхождение которых еще не известно, однако его теория, по-моему, не выдерживает никакой критики. Но позволь, дорогая, ведь Хьюберт тоже принимал во всем этом участие.
– Наука Хьюберта не касалась, он там ведал транспортом. – Динни пустила в ход испытанное оружие: она улыбнулась. – А что если поднять на смех Халлорсена за его выдумку. У тебя это так чудно получится, дядя!
– Ах ты, лиса!
– А разве не долг серьезного ученого – высмеивать всякие бредни?
– Будь Халлорсен англичанином – возможно; но он американец, и с этим надо считаться.
– Почему? Ведь наука не знает границ.
– В теории. На практике многое приходится спускать: американцы так обидчивы. Помнишь, как они недавно взъелись на Дарвина? Если бы мы их тогда высмеяли – дошло бы, чего доброго, и до войны.
– Но ведь большинство американцев сами над этим смеялись.
– Да, но другим они этого не позволяют. Хочешь суфле «София»?
Некоторое время они молча ели, с удовольствием поглядывая друг на друга. Динни думала: «Как я люблю его морщинки, да и бородка у него просто прелесть». Адриан думал: «Хорошо, что нос у нее чуть-чуть вздернутый. Прелестные у меня все-таки племянницы и племянники». Наконец Динни сказала:
– Значит, дядя, ты постараешься придумать, как нам проучить этого человека за все его подлости по отношению к Хьюберту?
– Где он сейчас?
– Хьюберт говорит – в Штатах.
– А тебе не кажется, что кумовство – это порок?
– И несправедливость тоже, а своя кровь – не вода.
– Это вино, – с гримасой сказал Адриан, – куда жиже воды. Зачем тебе нужен Хилери?
– Хочу выпросить у него рекомендательное письмо к лорду Саксендену.
– Зачем?
– Отец говорит, он важная птица.
– Значит, решила пустить в ход протекцию?
Динни кивнула.
– У порядочных и совестливых людей это не получается.
Ее брови дрогнули, она широко улыбнулась, показав очень белые и очень ровные зубы.
– А я себя ни к тем, ни к другим и не причисляю.
– Посмотрим. А пока, возьми болгарскую папиросу, – действительно первоклассная пропаганда.
Динни взяла папиросу и, глубоко затянувшись, спросила:
– Ты видел дядю Франтика?
– Да. Очень достойно ушел из мира. Я бы сказал – парадно. Зря он связался с церковью; дядя Франтик был прирожденный дипломат.
– Я видела его только два раза. Но неужели и он не смог бы добиться того, чего хотел, при помощи протекции, не потеряв при этом достоинства?
– Ну, он-то действовал иначе – умелым подходом и личным обаянием.
– Учтивостью?
– Да, он был учтив, как вельможа, таких сейчас уже не встретишь.
– Ну, дядя, мне пора; пожелай мне поменьше совестливости и побольше нахальства.
– А я вернусь к челюсти из Новой Гвинеи, которой надеюсь повергнуть в прах моих ученых собратьев, – сказал Адриан. – Если я смогу помочь Хьюберту, не вступая в сделку с совестью, я ему помогу. Во всяком случае, я об этом подумаю. Передай ему привет. До свидания, дорогая!
Они расстались, и Адриан вернулся в музей. Взяв снова в руки челюсть из Новой Гвинеи, он стал размышлять о совсем другой челюсти. Он уже достиг того возраста, когда кровь человека сдержанного, привыкшего к размеренной жизни, течет ровно, и его «увлечение» Дианой Ферз, которое захватило его давно, еще до ее рокового замужества, приобрело некий альтруистический оттенок. Ее счастье было для него дороже своего собственного. В его постоянных думах о ней забота о том, «что лучше для нее», всегда занимала первое место. Он так давно только мечтал о ней, что ни о какой навязчивости с его стороны не могло быть и речи, да к тому же навязчивость была совсем не в его характере. Но ее овальное, обычно грустное, лицо с темными глазами, прелестным ртом и носом, то и дело заслоняло очертания челюстей, тазобедренных костей и прочих интересных образчиков его коллекции. Диана Ферз жила со своими двумя детьми в маленьком домике в районе Челси на средства мужа, который вот уже четыре года находился в частной клинике для умалишенных без всякой надежды на выздоровление. Ей было около сорока; она пережила страшные дни прежде чем Ферз окончательно потерял рассудок. В своих воззрениях и привычках Адриан был несколько старомоден; антропология научила его тому, что история человечества развивается по определенным законам; он принимал жизнь с чуть-чуть насмешливым фатализмом. Он не принадлежал к тем людям, которые хотят переделать жизнь, да и трагическое замужество дамы его сердца не позволяло ему и мечтать о брачном венце. Горячо желая ей счастья, он не знал, как ей помочь. Теперь у нее есть хотя бы покой, а заодно и средства того, с кем судьба обошлась так жестоко. К тому же муж Дианы внушал Адриану нечто вроде суеверного страха, какой первобытные люди испытывают перед несчастными, потерявшими разум. Ферз был славным парнем до той поры, пока болезнь не нарушила его душевного равновесия. Но перед этим он уже два года вел себя так, что это можно было объяснить только помрачением рассудка. Он был одним из «богом обиженных», и его беспомощность обязывала других относиться к нему с предельной щепетильностью.
Адриан отложил челюсть и снял с полки гипсовый слепок черепа питекантропа; останки этого удивительного создания нашли в Триниле на Яве, и он вызвал ожесточенные споры о том, считать ли его человеко-обезьяной или обезьяно-человеком. Какой долгий путь от него до современного англичанина, – вот его череп, там над камином! Сколько ни взывай к авторитетам, никто не ответит на вопрос: где же колыбель Homo sapiens, где то гнездо, где он вылупился из питекантропа, эоантропа, неандертальца или другого, еще неизвестного их родича? Единственной страстью Адриана, кроме страсти к Диане Ферз, было жгучее желание найти родовое гнездо человеческой породы. Сейчас ученые тешились теорией о происхождении человека от неандертальца, но Адриан не мог с ней согласиться. Когда развитие вида достигает такой стадии, как та, что была обнаружена у этих звероподобных особей, вид не может изменяться так резко. С равным основанием можно было бы говорить о том, что благородный олень произошел от лося. Он повернулся к огромному глобусу, где каллиграфическим почерком были нанесены все существенные открытия, касающиеся происхождения человека, вместе с данными о геологических изменениях, эпохах и климате. Где же, где искать решения? Это загадка, величайшая загадка на свете, решить ее можно только так, как это делают французы: наметить по наитию какую-нибудь возможную точку, чтобы затем подтвердить гипотезу исследованиями на месте. Где эта точка – в предгорьях Гималаев, в Фаюме, или она навеки погребена в пучине моря? Если она и в самом деле покоится на дне моря, ее никогда не удастся точно установить. Быть может, это чисто академический вопрос? Не совсем, – ведь с ним связана проблема сущности человека, истинной подоплеки его характера, столь важная для социальной философии, проблема, так часто всплывающая последнее время: является ли человек по самой натуре своей добропорядочным и миролюбивым, как позволяют заключить исследования жизни животных и некоторых так называемых «диких» народов, или же он воинственный и беспокойный, как свидетельствует мрачная летопись истории? Найдя родовое гнездо Homo sapiens, обнаружишь, быть может, доказательство того, кто он – дьяволо-ангел или ангело-дьявол. Адриана, по его характеру, очень привлекал тезис о врожденном благородстве человека, но склад ума не позволял ему легко и просто брать на веру что бы то ни было. Даже самые кроткие животные и птицы подчиняются закону самосохранения так же, как и первобытный человек; извращения цивилизованного человека начались с расширением круга его деятельности и обострением борьбы за существование – другими словами, по мере того как осложнялась задача самосохранения в условиях так называемой цивилизованной жизни. Примитивная жизнь первобытных людей дает меньше поводов к извращенному проявлению инстинкта самосохранения, но это еще ничего не доказывает. Лучше всего принимать современного человека таким, как он есть, и стараться ограничить его возможности творить зло. И не стоит так уж полагаться на врожденное благородство первобытных народов. Только вчера Адриан прочел очерк об охоте на слонов в Центральной Африке: по словам автора, мужчины и женщины из первобытного африканского племени, служившие загонщиками у белых охотников, набросились на еще не остывшие туши убитых слонов, разорвали их на куски и тут же съели, а потом скрылись в лесу, пара за парою, чтобы завершить свой пир. В конце концов у цивилизации есть свои хорошие стороны.
Тут размышления Адриана были снова прерваны швейцаром.
– Сэр, к вам какой-то профессор Халлорсен. Хочет взглянуть на черепа из Перу.
– Халлорсен? – с изумлением переспросил Адриан. – Вы не путаете? Я думал, он в Америке.
– Он сказал, что его фамилия Халлорсен, сэр; такой высокий господин, говорит, как американец. Вот его карточка.
– Гм! Зовите его, Джеймс.
И он подумал: «Тень Динни! Что мне ему сказать?»
В комнате появился очень высокий и очень красивый человек лет тридцати восьми. Его гладко выбритое лицо дышало здоровьем, глаза жизнерадостно блестели, в темных волосах кое-где пробивалась ранняя седина. С ним в комнату словно ворвался свежий ветер. Он сразу заговорил:
– Вы хранитель музея?
Адриан поклонился.
– Позвольте! Мы же встречались: помните, на горе, правда?
– Да.
– Ну и ну! Моя фамилия Халлорсен; слышали – экспедиция в Боливии? Говорят, у вас отличные черепа из Перу. У меня с собой несколько боливийских, хочется их сравнить. Люди пишут так много ерунды о черепах, а сами настоящих черепов и в глаза не видели.
– Совершенно верно, профессор. Я с удовольствием взгляну на ваших боливийцев. Между прочим, вы, кажется, не знаете, как меня зовут.
Адриан протянул ему карточку. Халлорсен ее взял.
– Вот как! А вы не родственник капитана Чаруэла, который точит на меня зубы?
– Я его дядя. Но у меня создалось впечатление, что зубы точите на него вы.
– Да, но он меня подвел!
– А он думает, что подвели его вы.
– Ну, знаете что, мистер Чаруэл…
– Между прочим, наша фамилия произносится Черрел.
– Черрел… да, теперь вспомнил. Если вы нанимаете человека на работу, а он с ней не справляется, и вы из-за этого садитесь в лужу, что прикажете – дать ему золотую медаль?
– По-моему, прежде чем точить зубы, нужно выяснить, выполнима ли такая работа.
– Зачем же он нанимался, если она была ему не по силам? Работа не бог весть какая: держать в руках кучку туземцев.
– Я не знаю подробностей, но слышал, что он отвечал и за вьючных животных.
– Правильно; ну и провалил все дело. Конечно, я не думаю, что вы станете на мою сторону против собственного племянника. Могу я посмотреть на ваших перуанцев?
– Разумеется.
– Весьма любезно с вашей стороны.
Во время осмотра Адриан то и дело поглядывал на стоявший рядом с ним великолепный экземпляр Homo sapiens. Ему редко доводилось видеть такого пышущего здоровьем и жизнерадостностью человека. Естественно, что всякая неудача выводит его из себя. Буйная энергия мешает ему быть объективным. Как и прочие американцы, он считает, что все должно идти так, как ему хочется, – и представить себе не может, что бывает иначе.
«В конце концов, – подумал Адриан, – он же не виноват, что принадлежит к излюбленным тварям господним – Homo Transatlanticus Superbus[7]», – и лукаво произнес:
– Стало быть, профессор, в будущем солнце будет вставать на западе?
Халлорсен улыбнулся – улыбка у него была обаятельная.
– Знаете, господин хранитель музея, мы, наверно, оба того мнения, что цивилизация началась с обработки земли. Если можно будет доказать, что мы на американском континенте выращивали маис давным-давно, может быть, за тысячелетия до того, как на древнем Ниле появились культуры ячменя и пшеницы, – почему бы реке истории и не течь с запада на восток?
– А как вы докажете вашу теорию?
– Видите ли, у нас есть сортов двадцать – двадцать пять маиса. Грвдличка утверждает, что понадобилось не менее двадцати тысяч лет, чтобы их вывести. Уже одно это доказывает наш неоспоримый приоритет в сельском хозяйстве.
– Увы! Ни один сорт маиса не рос в Старом Свете до открытия Америки.
– Совершенно верно; а в Америке прежде не росло ни одного из ваших злаков. Ну, а если культура Старого Света проложила себе дорогу к нам через Тихий океан, опять-таки возникает вопрос: почему она не принесла с собой своих злаков?
– Но ведь это еще не доказывает, что Америка – светоч для всего мира.
– Не знаю, может, и нет; но, во всяком случае, ее древняя цивилизация возникла на основе самостоятельного открытия собственных злаков; мы были первыми.
– Вы верите в Атлантиду, профессор?
– Балуюсь иногда этой мыслишкой.
– Ну-ну!.. Позвольте вас спросить; а вы не жалеете о своих нападках на моего племянника?
– Видите ли, когда я писал книгу, я был очень зол. Мы с вашим племянником не сошлись характерами.
– Тем больше оснований у нас сомневаться, что вы были справедливы.
– Если бы я отказался от своих обвинений, я поступил бы против совести.
– А вы уверены, что вы сами ничуть не повинны в своей неудаче?
Гигант нахмурил брови с таким изумлением, что Адриан поневоле подумал: «Во всяком случае, человек он честный».
– Не понимаю, куда вы клоните, – медленно проговорил Халлорсен.
– Вы же сами выбрали моего племянника?
– Да, из двадцати других.
– Вот именно. Значит, вы плохо выбрали?
– Конечно.
– Ошиблись в выборе?
Халлорсен расхохотался.
– Ловко вы меня поймали. Но я не из тех, кто хвастает своими ошибками.
– Вам нужен был человек без капли жалости в душе, – сухо сказал Адриан. – Что ж, вам действительно не повезло.
Халлорсен покраснел.
– Тут мы с вами не сговоримся. Ну что ж, возьму-ка я свои черепа и пойду. Спасибо за любезный прием.
С тем он и ушел.
Адриана обуревали самые противоречивые чувства. Этот тип оказался куда лучше, чем он думал. Великолепный экземпляр в физическом отношении, далеко не дурак, а его духовный склад… что ж, характерен для Нового Света, где человек не заглядывает далеко в будущее и где цель всегда оправдывает средства. «Жаль будет, – подумал он, – если они передерутся. А все-таки этот тип не прав; надо быть человечнее и не нападать на людей в печати. Уж очень он большой эгоист, наш друг Халлорсен». И Адриан положил новогвинейскую челюсть обратно в шкаф.
Глава пятая
Динни направлялась к церкви святого Августина в Лугах. В этот солнечный день бедность района, в котором она очутилась, казалась ее привыкшему к деревне глазу особенно гнетущей. Тем больше ее поразило веселье игравших на улице детей. Она спросила у одного из них, где находится дом священника, и за нею сразу увязалось пятеро. Они не отошли от нее и тогда, когда она позвонила, и это навело ее на мысль, что ими руководила не только любовь к ближнему. Они даже попытались войти вместе с нею в дом и удалились лишь после того, как она дала каждому по медяку. Ее провели в приятную комнату, у которой был такой вид, будто туда не часто заглядывают; Динни рассматривала репродукцию с картины Кастель Фра́нко[8], когда ее окликнули, и она увидела свою тетю Мэй. Как и всегда, миссис Хилери Черрел выглядела так, точно разрывалась на части и ей нужно было попасть в три места сразу, но вид у нее был благодушный и довольный, – она любила племянницу.
– Приехала в город за покупками, деточка?
– Нет, тетя Мэй, я приехала к дяде Хилери за рекомендательным письмом.
– Дядя в полиции.
В глазах Динни заиграли озорные искорки.
– Господи, что же он наделал?
Миссис Хилери улыбнулась.
– Пока ничего особенного, но если судья не проявит благоразумия, я ни за что не ручаюсь. Одну из наших девушек обвиняют в том, что она приставала к мужчинам.
– Надеюсь, не к дяде Хилери?
– Нет, дорогая, до этого еще не дошло. Дядя Хилери должен засвидетельствовать ее добропорядочность.
– А есть там добропорядочность, которую можно засвидетельствовать?
– В том-то все и дело. Хилери говорит, что есть, но я в этом не уверена.
– Мужчины так доверчивы. Я еще ни разу не была в полиции. Взглянуть бы там на дядю хоть одним глазком!
– Что ж, я иду в ту сторону. Могу тебя проводить.
Через пять минут они уже шли по улицам, которые все больше поражали Динни, привыкшую к живописной бедности сельских мест.
– Я никогда не представляла себе, – сказала она вдруг, – что Лондон похож на дурной сон.
– И беспробудный – вот ведь что страшно. Почему, скажи на милость, нельзя при нашей безработице принять программу перестройки трущоб для всей Англии? Она окупится за каких-нибудь двадцать лет. Политики проявляют чудеса энергии и принципиальности, пока они не у власти, но стоит им до нее дорваться, как они просто плывут по течению.
– Это, тетечка, потому, что они не женщины.
– Ты что, шутишь?
– Ничуть. Женщины не так боятся жизни, они видят препятствия, только когда они осязаемы; мужчина всегда воспринимает их отвлеченно, он всегда говорит: «Ничего не выйдет». Женщина никогда так не скажет. Она возьмется за дело и посмотрит, выйдет или нет.
Миссис Хилери помолчала.
– Да, пожалуй, женщины смотрят на жизнь более трезво. У них и глаз острее и чувства ответственности меньше.
– Хорошо, что я не мужчина.
– Отрадно слышать, и все-таки им даже теперь живется лучше, чем нам.
– Это им так кажется, но я в этом сомневаюсь. По-моему, мужчины очень похожи на страусов. Они закрывают глаза на то, чего им не хочется видеть, но ведь это не преимущество.
– Если бы ты жила у нас, в Лугах, Динни, ты бы так не говорила.
– Если бы я жила в Лугах, тетя, я бы просто умерла.
Миссис Хилери посмотрела на племянницу. Она и правда казалась какой-то прозрачной и хрупкой, но в ней сказывалась «порода» и чувствовалось, что дух ее сильнее плоти. Она могла проявить неожиданную выносливость и выдержку.
– Не думаю, Динни, род ваш живучий. Если бы не это, Хилери давно протянул бы ноги. Ну, вот и полиция. Жаль, что мне некогда зайти с тобой. Но все здесь будут очень любезны. Тут ведь тоже люди, хоть и не очень деликатные. Однако будь поосторожнее с теми, кто сидит рядом.
Динни подняла бровь.
– Вши, тетя Мэй?
– Не поручусь, что их там нет. Возвращайся пить чай, если успеешь.
Она ушла.
На торжище человеческой неделикатности яблоку негде было упасть: безошибочный нюх на всякую сенсацию заставил людей сбежаться сюда, где слушалось дело, по которому Хилери выступал свидетелем, – тут была затронута честь полиции. Динни заняла последние пятнадцать квадратных дюймов свободного места и поняла, что дело слушается вторично. Соседи справа напомнили ей детскую песенку: «Лекарь, сапожник, пекарь, пирожник».
Слева от нее стоял рослый полицейский. В глубине зала толпилось много женщин. Спертый воздух пропитался запахом неопрятной одежды. Динни взглянула на судью – вид у него был изможденный и какой-то кислый – и спросила себя, почему он не поставит на стол курильницу с благовониями. Потом внимание Динни привлекла женская фигура на скамье подсудимых; это была девушка одного с ней возраста, такая же высокая, чистенько одетая, с приятными чертами лица, – вот только рот чувственный, что сейчас было совсем некстати. Динни решила, что она, пожалуй, блондинка. Обвиняемая стояла неподвижно, ее бледные щеки чуть разрумянились, глаза испуганно бегали по сторонам. Звали ее, как выяснилось, Миллисент Поул. Насколько поняла Динни, некий полицейский заявил, что она приставала на Юстон-Род к двум мужчинам, – ни один из них, однако, не явился в суд, чтобы это подтвердить. Какой-то молодой человек, похожий на владельца табачной лавчонки, давал свидетельские показания: он видел, как обвиняемая два или три раза прошлась по улице; он обратил на нее внимание потому, что она «лакомый кусочек»; вид у нее был озабоченный, точно она что-то искала.
– Что-то или кого-то? – спросили у него.
Почем он знает? Нет, она не смотрела на тротуар; нет, она не нагибалась; на него она, во всяком случае, даже не взглянула. Он с ней заговорил? Еще чего выдумали! Что он делал на улице? Просто закрыл лавку и вышел подышать свежим воздухом. Он не заметил, заговаривала ли она с кем-нибудь? Нет, не заметил, но он и не стоял там долго.
– Преподобный Хилери Чаруэл!
Динни увидела, как ее дядя поднялся со скамьи и занял место под балдахином на возвышении для свидетелей. Вид у него был энергичный, он совсем не походил на священнослужителя, и она с удовольствием смотрела на его худое, все в морщинках, решительное лицо, дышавшее юмором.
– Ваше имя Хилери Чаруэл?
– Черрел, если не возражаете.
– Ничуть. Вы священник прихода святого Августина-в-Лугах?
Хилери поклонился.
– Давно?
– Тринадцать лет.
– Вы знаете обвиняемую?
– С самого детства.
– Расскажите, пожалуйста, все, что вы о ней знаете.
Динни увидела, как дядя решительно повернулся лицом к судье.
– Ее отец и мать, сэр, были достойны самого глубокого уважения; они хорошо воспитали своих детей. Он был сапожник, конечно, бедный; в моем приходе все мы бедны. Я бы даже мог сказать, что умерли они от бедности; это случилось пять или шесть лет назад; с тех пор их дочери росли у меня на глазах. Обе они работают у Петтера и Поплина. Я никогда не слышал ничего дурного о Миллисент. Насколько мне известно, она порядочная, честная девушка.
– А достаточно ли вы хорошо ее знаете?
– Видите ли… я часто посещаю тот дом, где она живет с сестрой. Если бы вы там побывали, сэр, вы бы сами поняли, – они с честью выходят из трудного положения.
– Она ваша прихожанка?
Хилери не сдержал улыбки, и судья улыбнулся ему в ответ.
Этого я бы не сказал. В наше время молодежь слишком дорожит воскресными днями. Но Миллисент одна из тех девушек, которые проводят праздники в нашем доме отдыха возле Доркинга. А девушки у нас там хорошие. Жена моего племянника, миссис Майкл Монт, которая заведует этим домом, прекрасно о ней отзывается. Хотите, я прочту ее отзыв? «Дорогой дядя Хилери. Ты спрашиваешь о Миллисент Поул. Она была у нас три раза; сестра-хозяйка считает, что она хорошая девушка и совсем не легкомысленная. У меня о ней сложилось такое же впечатление».
– Короче говоря, мистер Черрел, вы считаете, что в этом деле допущена ошибка?