Читать онлайн Тысяча акров бесплатно
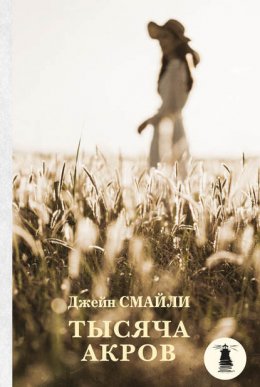
Jane Smiley
A THOUSAND ACRES
© Jane Smiley, 1991
Школа перевода В. Баканова, 2018
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018
* * *
Посвящается Стиву
Своим рельефом тело повторяет ландшафт. Они отражаются друг в друге и творят друг друга. На нас отпечаток сезонных обновлений земли, тяжелейших людских кочевий, резкого слома эпох, принесшего вместе с новым веком перемены, каких не знала эта цветущая планета.
Меридел Лесюэр.Коренные и пришлые[1]
Книга первая
1
Если бы вы ехали на север по шоссе номер 686 со скоростью шестьдесят миль в час, то проскочили бы нашу ферму за одну минуту. И сразу попали бы на Кэбот-стрит, такую же неширокую асфальтированную дорогу, которая пятью милями западнее проходила через городок Кэбот, отчего и получила свое название. На западной окраине городка дорога переходила в шоссе, петляющее на протяжении трех миль вдоль изгибов реки Зебулон. Потом река поворачивала на юг, а шоссе уходило на запад в Пайк. Перед тем как влиться в Кэбот-стрит, шоссе номер 686 взбиралось на небольшой холм, еле заметный, но раздражающий – как выпуклость в центре дешевой тарелки.
Если не считать этого холма, местность в округе идеально ровная – под таким же идеально круглым куполом неба. Помню, в школе мне казалось (вопреки всем рассказам учителей об открытии Колумба), что древние не ошибались: ни глобус, ни карта не могли убедить меня в том, что Зебулон не является центром плоского мира. На этих бескрайних равнинах любое округлое тело (будь то зерно, резиновый мячик или шарик подшипника) обречено прекратить движение и пустить мощный корень в плодородную почву.
Из-за того, что место пересечения двух дорог находилось на возвышенности, с него открывался прекрасный вид на наш дом, расположенный в миле от холма, на южной стороне фермы. На востоке, также на расстоянии мили, высились три силосные башни, которые отмечали северо-восточную границу наших земель. Окинув взглядом пространство от силосных башен до дома с сараем, вы бы смогли оценить масштабы владений моего отца: шестьсот сорок акров одним наделом, в собственности без обременения, рыхлый чернозем. Участок идеально ровный и плодородный, открытый всем стихиям, как и любой другой кусок земли под солнцем.
На западной стороне, вопреки ожиданиям, не открывалось никаких живописных видов: река Зебулон несла свои воды вдали от раскинувшихся выше сельскохозяйственных угодий. Не было видно и крыш Кэбота, только ночью отдаленное свечение выдавало близость города. Все пространство на запад от дороги занимали бескрайние поля, среди которых расположились две фермы. Та, что поближе, принадлежала Эриксонам; у них были две дочери, наши с Роуз ровесницы. В той, что подальше, жили Кларки, чьи сыновья Лорен и Джесс перешли в среднюю школу, когда мы ее уже оканчивали. Гарольд Кларк считался лучшим другом моего отца. У него было пятьсот акров без обременения. А у Эриксонов всего триста семьдесят акров, и те заложенные.
Количество акров и наличие кредитов в нашей местности – столь же неотъемлемая характеристика человека, как его имя и пол. Гарольд Кларк и отец часто спорили у нас на кухне, кому отойдет земля Эриксонов, когда с них взыщут залог. Я постоянно слышала эти разговоры и всегда помнила о них: и когда играла с Рути Эриксон, и когда с мамой и Роуз отправлялась помогать соседям делать заготовки на зиму, и когда миссис Эриксон угощала нас сладкими пирогами и пончиками, и когда отец одалживал мистеру Эриксону инструменты, и когда мы приходили к Эриксонам на воскресный обед. Умом я понимала справедливость притязаний Гарольда Кларка на землю соседа, поскольку та находилась на его стороне дороги, но при этом я ни секунды не сомневалась в том, что земля должна отойти нам. Во-первых, потому, что в спальне Дины Эриксон стоял уютный диванчик в эркере, и я ужасно ей завидовала. А во-вторых, потому, что было бы здорово, если бы вся земля вокруг пересечения шоссе номер 686 и Кэбот-стрит принадлежала нам. Тысяча акров. Круглое число.
В 1951 году, когда мне было восемь, я смотрела на мир и на будущее именно так. В тот год отец купил свою первую легковую машину – седан «бьюик» с серыми бархатистыми креслами, настолько округлыми и гладкими, что с них можно было запросто соскользнуть на крутом повороте или на ухабе. В том же году родилась моя самая младшая сестра Кэролайн, что, в общем-то, и стало поводом для покупки машины. Дети Эриксонов и Кларков продолжали трястись в кузовах фермерских грузовиков, а потомки Куков были достойны большего: надежно защищенные от ветра и пыли, мы болтали ногами, пиная мягкие сиденья, и глазели на проносящиеся мимо поля через задние стекла. И всем было ясно, у кого здесь шестьсот акров, а у кого – только пятьсот или вообще триста.
В тот год мы исколесили все окрестности. Бензин обходился недешево, но отца это отчего-то не останавливало; правда, после рождения Кэролайн он уже столько не ездил. Для меня же новые впечатления были таким же сокровищем, как скопленные тайком монетки. Семейные поездки приносили ни с чем не сравнимое удовольствие: на роскошном бархатистом сиденье в душном салоне рядом со мной тряслась обожаемая Роуз, под колесами шуршал гравий, машина мчалась по дороге, подлетая на выбоинах, за окнами проносились чужие фермы, за минуту вырастая и снова сжимаясь в точку. Непривычная праздность. Удивительное развлечение. И самое главное – благодушные рассуждения родителей обо всем, что попадалось на глаза: отец оценивал ход сельскохозяйственных работ на полях и содержание скота на пастбищах, мама – размеры домов и состояние садов. Родители вели разговор неторопливо и расслабленно, довольные тем, что у нас все сезонные работы давно выполнены, а постройки гораздо добротнее и ухоженнее. Похоже, для мамы и папы, как и для нас с Роуз, все было в новинку. Подозреваю, что тогда они впервые выбрались за пределы фермы и знали о мире не больше нашего, но их голоса звучали так уверенно, что, слушая их дуэт, я и не думала сомневаться в верности пути. Наша ферма казалась оплотом спокойной и правильной жизни.
2
Джесс Кларк пропадал неизвестно где. Тринадцать лет назад он ушел в армию, и с тех пор – ни слуху, ни духу. Когда прислали повестку, отец отвез его на автобусную станцию в окружной центр, и не прошло и пары месяцев, как про Джесса отчего-то перестали упоминать в разговорах, стараясь обходить любые связанные с ним темы.
Так продолжалось до весны 1979 года, пока я, случайно столкнувшись в Пайке с Лореном Кларком, не узнала, что его отец Гарольд собирается зажарить свинью на вертеле в честь возвращения сына и зовет всех соседей. Приносить еду с собой не обязательно.
Лорен уже хотел отвернуться и идти дальше, но я удержала его и заглянула в глаза.
– Где же он пропадал?
– Сам расскажет.
– От него ведь не было никаких вестей?
– Не было до последней субботы.
– Вот так вдруг?
– Вот так.
Лорен посмотрел на меня, лениво улыбнулся и добавил:
– Заявился аккурат после окончания сева. Не стал радовать нас своим воскрешением, пока мы лили пот на полях.
А пота в тот год и правда пролилось немало: весна выдалась холодной и дождливой, погода наладилась только к середине мая, и на посадку кукурузы осталось меньше двух недель.
Лорен опять улыбнулся. Я знала, что он рисуется передо мной: он был горд и чувствовал себя героем, как и все мужчины в округе после успешной посевной.
– Он уже знает о маме?
– Отец ему сказал.
– Обзавелся семьей?
– Нет. Ни жены, ни детей. Ни планов вернуться туда, откуда приехал. Поживем – увидим.
Лорен, крупный добродушный парень, ко всему относился легко и с юмором; беседовать с ним всегда было приятно, как прохладной воды в жаркий день глотнуть. И теперь о возвращении блудного брата он говорил с улыбкой.
Гарольд Кларк готовил грандиозный праздник: он уже заколол свинью и собирался жарить ее целиком на вертеле, щедро сдабривая лимонным соком и паприкой. Конечно, повод был весомым, и все же я удивилась, что старый фермер готов потерять целый день в разгар сева бобов.
– Надо работать, пока погода стоит. – Лорен пожал плечами. – Но ты же знаешь Гарольда, он любит все делать по-своему.
Возвращаясь домой по шоссе, я впервые обратила внимание на то, как же вокруг хорошо: ивы и серебристые клены покрылись свежей листвой, берега реки заросли сочным камышом и нежными фиолетовыми ирисами. Я остановила машину и вышла, чтобы пройтись.
Этой зимой, в день святого Валентина, у моей сестры Роуз обнаружили рак груди – а ведь ей всего тридцать четыре. Операция и химиотерапия лишили ее сил и вогнали в депрессию. Весь март и апрель лили дожди. Мне приходилось готовить на три семьи: отцу, который отказался переезжать к нам и остался жить один в большом доме, Роуз и ее мужу Питу, которые заняли дом через дорогу от отцовского, себе и своему мужу Тайлеру. Мы поселились в доме Эриксонов. На ужин и на обед все обычно собирались у нас, а завтрак мне приходилось подавать в каждом доме отдельно. Я вставала к плите в пять, а отходила не раньше половины девятого.
Мужчины беспрестанно жаловались на погоду и переживали, что останутся без топлива для тракторов. Джимми Картер[2] обещал, Джимми Картер точно должен… И так всю весну.
Мало того, еще осенью Роуз неожиданно решила отправить своих дочерей Пэмми и Линду в городскую школу-интернат: старшую – в седьмой класс, младшую – в шестой. Девочки сопротивлялись изо всех сил, просили отца и меня отговорить Роуз, но та была непреклонна. Она пришила именные бирки к их одежде, упаковала сумки и отвезла в квакерскую школу в Вест-Бранч. Решимость Роуз не поколебали даже протесты отца: она переждала их, как пережидают бурю.
Отъезд девочек стал для меня тяжелым ударом: я относилась к ним как к родным. Когда Роуз поставили диагноз, я первым делом предложила ей:
– Разреши Пэмми и Линде вернуться. Пусть этот год они доучатся здесь, а потом отправишь их обратно.
– Ни за что, – отрезала сестра.
Линда только родилась, когда у меня случился первый выкидыш. После этого как минимум на полгода один вид девочек, которых я раньше искренне любила и с удовольствием пестовала, стал для меня невыносимым. Дикая боль пронзала все мое тело, будто по венам текла не кровь, а кислота. Зависть, жгучая зависть испепеляла меня, лишая дара речи. Я злилась на Роуз, ведь ей так легко досталось то, о чем я могла лишь мечтать. Я пыталась забеременеть три года и выносить не смогла, а она залетела через шесть месяцев после свадьбы и родила уже двоих.
Конечно, ее вины в моих бедах нет, и я справилась с завистью, мысленно твердя снова и снова, как литанию, что Роуз – главный человек в моей жизни. Сколько я себя помню, она всегда была рядом: до рождения Кэролайн и после ухода мамы, до мужей, беременностей и детей. До и после. Отдельно от друзей и от соседей.
В округе Зебулон есть немало семей, раздираемых наследственными распрями из-за земли и денег: люди жили бок о бок, годами не разговаривая друг с другом, потому что вражда выжгла все добрые чувства и взаимные привязанности. Меньше всего на свете я хотела последовать их примеру, поэтому подавила зависть и помирилась с Роуз. И все же отказ сестры вернуть, хоть и ненадолго, девочек домой отозвался забытой болью и напомнил, что они – ее дети и моими никогда не станут.
Не обращая внимания на эту боль, я бросилась помогать сестре: готовила, стирала, убирала, возила ее на лечение, купала, помогала с покупкой протеза, подбадривала и заставляла делать упражнения. Рассказывала ей о девочках, читала их письма, отправляла им банановый хлеб и имбирное печенье. Однако с их отъездом в моей душе будто появилась трещина, как тогда, после рождения Линды. И, кажется, я начала понимать, как всего лишь одно решение способно расколоть семью и погрузить ее в ледяное молчание.
Случилось то, во что никто не верил: Джесс Кларк вернулся. Заканчивался май, Роуз заметно окрепла. Выглядела она уже гораздо лучше, даже румянец появился. И погоду по телевизору обещали хорошую. Шагая вдоль берега, я вышла к месту, где река разливалась и заболачивалась – уровень земли опускался здесь ниже уровня моря. Весенние солнечные лучи пронизывали прозрачный воздух и отражались в тихой голубой воде, на которой белым облаком покачивались пеликаны – целая стая, не меньше двадцати пяти птиц. Девяносто лет назад, когда мой прадед с женой осел в округе Зебулон, здесь повсюду были такие болота, поросшие камышом и населенные сотнями тысяч пеликанов. Теперь птицы стали редкостью: я впервые видела их здесь с начала шестидесятых. И не могла оторвать взгляд. Порой, думала я, приходится опуститься вниз, чтобы увидеть что-то важное… Не все находится на поверхности.
Братья Кларк, Лорен и Джесс, всегда были симпатичными парнями. Приглядевшись, можно заметить, что у Лорена выразительные глаза и красивые губы. Правда, из-за своего добродушного нрава он смахивал на деревенского простачка, да и под рубашкой у него давно намечался животик, как всегда бывает с теми, у кого на столе не переводится мясо и картошка. Я раньше не замечала этого, пока не увидела Джесса – тот был словно улучшенная копия Лорена. Тринадцать лет, прожитых порознь, сделали их похожими на близнецов, разлученных в детстве и выросших в разных семьях: они одинаково наклоняли голову и смеялись над одними и теми же шутками, но Джесс выглядел гораздо моложе, несмотря на то что был старше. Над ремнем у него ничего не свисало, и под одеждой угадывались мускулы. Даже сзади его ни с кем нельзя спутать: широкая спина заметно сужалась к талии, а ниже вырисовывались крепкие ягодицы. Походка у него не как у фермера, что тоже бросалось в глаза. Местные мужчины ходили вразвалку, просто выкидывая ноги вперед, одну за другой, он же шагал упруго, будто готовый в любой момент сделать сальто.
Роуз заметила Джесса одновременно со мной. Мы поставили на стол принесенные судки с едой, Джесс закончил болтать с Марлен Стэнли и повернулся к нам. Роуз хмыкнула и сказала:
– Смотри-ка.
Лицо у Джесса не такое гладкое, как у Лорена. Оно выдавало его возраст: морщинки расходились от углов глаз и обрамляли улыбку, подчеркивали крупный нос, который вырисовывался довольно резко. Как и у брата, у Джесса голубые глаза, однако в них не светилось добродушие. Такие же каштановые кудри, только коротко и аккуратно подстриженные, в отличие от волос Лорена. На Джессе были дорогие спортивные туфли и голубая рубашка с закатанными рукавами. В общем, выглядел он отлично, но совсем не так, чтобы вмиг развеять все подозрения и расположить к себе соседей. Однако никто, конечно же, этого не показывал: в округе Зебулон дружелюбие считалось обязательной добродетелью.
Джесс обнял меня, затем Роуз и сказал:
– Привет, большие девочки.
Роуз не растерялась:
– Привет, приставала.
– Да ладно. Гормоны тогда играли, был активный…
– Озабоченный, – уточнила Роуз.
– Но Кэролайн-то я не трогал, хоть она и бегала за мной. Кстати, где она?
– В Де-Мойне, работает адвокатом. Осенью выходит замуж. За адвоката. Фрэнка Рас… – Я осеклась.
– Уже? – удивился Джесс.
Роуз откинула волосы и едко заметила:
– Ей двадцать восемь. По папиной теории, она уже почти не пригодна для разведения. Спроси его. Пусть расскажет тебе про свиноматок и телок, про потерю надоев и снижение плодовитости.
Джесс улыбнулся.
– Как это похоже на вашего отца. Помню, идей у него всегда водилось много. Они с моим родителем за спорами могли на двоих съесть целый пирог, кусок за куском, и выпить два, а то и три кофейника.
– Они и сейчас так делают, – бросила Роуз. – Пока ты тринадцать лет где-то мотался, у нас здесь ничего не изменилось.
Повисла пауза. Я сказала:
– Ты же помнишь, Джесс, Роуз всегда говорит что думает. Это тоже не изменилось.
Джесс улыбнулся мне. Сестра, ни капли не смутившись, подхватила:
– Я тоже кое-что помню. Поэтому специально приготовила тушеную говядину по рецепту твоей мамы, Джесс. Твою любимую.
Роуз подняла крышку на своем судке. Джесс озадаченно посмотрел на нее и пробормотал:
– Я уже семь лет не ем мясо.
– Значит, ты сдохнешь здесь от голода, – парировала Роуз. – Пришла Айлен Даль. Она посылала мне цветы в больницу, Джинни, пойду поблагодарю ее.
Роуз отошла. Джесс даже не посмотрел ей вслед; он приподнял крышку на судке, который принесла я. Там были нутовые блинчики с сыром.
– Где ты жил?
– Последнее время в Сиэтле, а до того, пока не объявили амнистию, – в Ванкувере.
– Мы и не знали, что ты уехал в Канаду.
– Я удрал из армии прямо в учебном лагере, в первое же увольнение.
– Твой отец в курсе?
– Возможно. По нему не поймешь.
– Тебе в Зебулоне, наверное, будет скучно. Ты столько видел: города, горы…
– Здесь хорошо, и вообще…
Его взгляд скользнул по моему плечу. Джесс посмотрел мне прямо в глаза и улыбнулся.
– Мы еще поговорим об этом. Слышал, что вы теперь наши ближайшие соседи.
– С востока, пожалуй, да.
Подъехала машина отца. Как я и предполагала, он привез Пита и Тая. Однако, когда вслед за мужчинами вышла еще и Кэролайн, я удивилась и помахала ей рукой. Джесс оглянулся.
– А вот и она. Рядом с ней мой муж Тай. Ты, наверное, его помнишь. И Пит, муж Роуз. Знакомы?
– Детей нет? – поинтересовался Джесс.
– Детей нет, – произнесла я, стараясь не терять обычный жизнерадостный тон, и поскорее добавила: – У Роуз две дочки, Пэмми и Линда. Они мне как родные. Учатся в школе-интернате в Вест-Бранч.
– Ого, неплохо для детей из обычной фермерской семьи.
Я пожала плечами. Тай и Кэролайн направились к нам. Отец присоединился к фермерам, собравшимся вокруг Гарольда, Пит задержался у бочонка с ледяным пивом. Подойдя, муж обнял меня за талию и поцеловал в щеку.
Я вышла замуж за Тайлера Смита в девятнадцать; с тех пор минуло семнадцать лет, но нам все еще было хорошо вместе.
В школе я не слыла ни звездой, ни тихоней. Когда мы поженились, Таю исполнилось двадцать четыре года, он уже шесть лет вел хозяйство, и ферма его процветала. Сто шестьдесят акров без обременения. Не так уж и много, но отец не возражал, потому что все было устроено очень разумно. Эта земля досталась отцу Тая в наследство. Основная ферма, четыреста акров без обременения, отошла его старшему брату, однако отец Тая не стал спорить и, как положено, довольствовался малым. Женившись на простой девушке, он еще раз доказал свое благоразумие, когда ограничился одним ребенком. Как сказал мой отец, имея сто шестьдесят акров, плодить больше – грех. Когда Таю было двадцать два, сердечный приступ свалил его отца прямо в свинарнике, и ферма перешла к моему будущему мужу, благо он уже умел с ней управляться. Мой отец полностью одобрял такой ход событий, так что, когда через год Тай стал заезжать к нам, он встречал его приветливо.
Тай вел себя вежливо и обходительно и к тому же с самого начала симпатизировал мне, а не Роуз. Меня подкупили его хорошие манеры, которые, как я полагала, способны сделать сносным любой брак. Приходя, он всегда улыбался и говорил: «Привет, Джинни!»; уходя, предупреждал, когда вернется, и обязательно прощался. Благодарил, вставая из-за стола, и не забывал говорить «пожалуйста». Потому и с отцом моим он хорошо поладил, когда они стали вместе работать на нашей ферме, а землю Тая сдавать. С Питом у отца отношения складывались гораздо хуже, и Таю нередко приходилось выступать в роли миротворца. Годы совместной жизни ничуть не подточили наш брак, что было особенно заметно на контрасте с Питом и Роуз, которые то и дело ссорились и жаловались друг на друга.
Тай поприветствовал Джесса со своей обычной спокойной доброжелательностью, а я смотрела на них, пораженная: в последний раз, когда я видела Джесса, он казался совсем мальчишкой, особенно рядом с Таем, тогда уже зрелым мужчиной; теперь они совершенно сравнялись, и, по правде говоря, Джесс выглядел даже чуть более опытным и уверенным в себе.
Кэролайн быстро, по-деловому пожала руку Джессу – по мнению острой на язык Роуз, таким способом она сообщала окружающим: «Относитесь ко мне серьезно, иначе я вас засужу». Может, моя младшая сестра и была, как считал папа, старовата для размножения, зато для работы юриста она оказалась слишком юна. Ее напускная серьезность выглядела донельзя забавной, но я изо всех сих притворялась, что принимаю все за чистую монету, чтобы не обидеть сестру. Однако я не могла не заметить, что Джесс Кларк тоже исподволь улыбается. Кэролайн сообщила, что собирается переночевать на ферме, утром пойти с нами в церковь, а потом уехать, чтобы к ужину добраться до Де-Мойна. Все как обычно.
Потом я столько раз прокручивала в памяти события той вечеринки, пытаясь отыскать поворотный момент, когда все пошло не так, но еще оставался шанс на спасение. И, конечно, не находила.
3
Родители моей бабки, Сэм и Арабелла Дэвис, приехали в округ Зебулон весной 1890 года. Их родная земля в холмистых краях на западе Англии приносила мало зерна, поэтому они купили через агента «плодородный надел в Новом Свете». Каково же было их удивление, когда, переплыв океан, они увидели, что добрая половина их земли бо́льшую часть года находится под водой, а еще четверть представляет собой болото. Не зная, как быть, они уехали в Мейсон-Сити, где прожили лето и зиму. Сэму тогда только исполнился двадцать один, Арабелле – двадцать два года. В Мейсон-Сити они встретились с Джоном Куком, тоже англичанином. Тот родом из Норфолка и стоячей воды не боялся. Кук служил простым клерком в магазине для фермеров, однако был начитанным малым и интересовался новинками сельскохозяйственной и индустриальной техники. Он и убедил моих предков потратить последние оставшиеся деньги на осушение земель. Ему тогда исполнилось всего шестнадцать.
Новый знакомый продал моему прадеду перекопочные вилы, две штыковые лопаты, шланг для выравнивания, кучу керамических дренажных труб местного производства и пару высоких резиновых сапог. Как только потеплело, Джон Кук бросил работу и отправился с Сэмом осушать поля, кишащие москитами. На сухом клочке земли мой прадед посадил двадцать акров льна, потому что так было принято, и десять акров овса. И то и другое уродилось на славу, не то что в Англии.
В тот год в Мейсон-Сити появилась на свет моя бабка Эдит. Джон и Сэм копали, выравнивали и прокладывали трубы, пока не наступили холода и земля не промерзла настолько, что в нее перестали входить вилы. Тогда мужчины вернулись в город, где познакомились с малышкой Эдит и устроились до весны на фабрику по производству кирпичей и труб.
Ровно через год, сразу после сбора урожая, Джон, Арабелла и Сэм приступили к строительству дома у южной границы участка. Им помогали трое мужчин из города и местный фермер по фамилии Хокинс. Через три недели все было готово, и десятого ноября семья переехала в новый одноэтажный коттедж с двумя спальнями. В первую зиму Джон остался вместе с Сэмом и Арабеллой. Он занял вторую спальню. Эдит спала в кладовке. Через два года Джон Кук приобрел по сходной цене восемьдесят акров заболоченной земли рядом с Дэвисами, однако продолжал жить с ними в одном доме, пока не построил в 1899 году собственный.
Теперь, глядя на простирающуюся вокруг ровную плодородную землю, никто бы и не догадался, что она сотворена такой не Богом, как учили нас в воскресной школе, а руками простых смертных, о чем мой отец всегда отзывался с гордостью и уважением. Сеть труб отводила воду и согревала почву. Даже после самой свирепой бури можно было выводить технику на поля всего через двадцать четыре часа. Трубы обеспечивали нам безбедную жизнь: мы всегда собирали хороший урожай – и в дождливые, и в засушливые годы. Это казалось мне волшебством, хоть и являлось делом вполне обыденным. В детстве я не раз видела керамические трубы, приготовленные для ремонта и удлинения сети, потом их сменили пластиковые рукава, однако на протяжении многих лет я отчего-то представляла, что под верхним слоем почвы скрыты не они, а пол, самый обычный, выложенный блестящей синей и желтой плиткой, как в школьной душевой. Опора, которая выдержит все, потому что она крепче, чем трастовый фонд, и надежнее, чем страхование урожая. Главное родовое богатство.
Двадцать пять лет три поколения нашей семьи – Сэм, Джон и мой отец – прокладывали трубы, рыли дренажные колодцы и обустраивали резервуары, чтобы отвоевать свой кусок земли. И я, одетая в нарядное платьице и усаженная в «бьюик», чтобы ехать на воскресную службу, не знала ни в чем нужды благодаря их упорным трудам. Они дали мне надежную опору. Кому-то наша земля казалась даром природы или Бога, но мы-то знали, кто ее создал, и ездили в церковь только для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение, а не вознести хвалы.
Было очевидно, что Джон Кук своим упорным трудом заслужил долю в ферме Дэвисов, поэтому, как только Эдит исполнилось шестнадцать, он взял ее в жены. Ему тогда стукнуло тридцать три. Сэм и Арабелла заказали для них по почте дом, огромный и шикарный – модель «Челси» с четырьмя спальнями, гостиной с раздвижными дверями, столовой, прихожей, туалетом и ванной, он стоил тысячу сто двадцать девять долларов. В комплект входили доски, балки, гвозди, оконные рамы, двери и инструкция по сборке на семидесяти шести страницах. В этом доме мы и выросли. Старый коттедж разобрали еще в тридцатых годах, а бревна пошли на постройку курятника.
Сколько себя помню, я никогда не забывала о воде под нашими ногами: как она просачивается сквозь землю, молекула за молекулой, собирается, испаряется, нагревается, остывает, замерзает, поднимается на поверхность, превращается в туман или опускается вниз и растворяет питательные вещества. Мощная и неутомимая сила, то стремительная, как река, то спокойная, как озеро. Маленькой я боялась, что трубы не справятся и эта стихия вырвется на поверхность и вновь покроет всю землю.
Первые местные поселенцы сравнивали бескрайние прерии, поросшие густой травой, с морем или океаном. Такая метафора напрашивалась сама собой, к тому же у многих еще были свежи воспоминания об Атлантике. Сверкающие водные просторы, поросшие камышами и тростником, встречали моих предков; теперь же ни травы, ни болот не осталось, однако море все еще несло свои воды у нас под ногами…
4
Ферма Гарольда Кларка не сильно отличалась от нашей: такой же плоский кусок земли, открытый всем стихиям. Только дом у него был выстроен в викторианском стиле, с вырезанными на фронтонах изображениями восходящего солнца. Ну и, конечно, акров у соседа меньше, чем у нас, однако Гарольд умело их использовал. В марте он неожиданно для всех – и для моего отца тоже – купил новый фирменный трактор с закрытой кабиной, кондиционером и кассетным проигрывателем, чтобы слушать песни Боба Уиллса прямо в поле, а в придачу к трактору – еще и новую сеялку. Сказать, что это задело моего отца, значит ничего не сказать: теперь каждый раз, встречая Гарольда, он с издевкой принимался тянуть фальцетом, подражая Бобу Уиллсу: «А-ха-а».
Сосед не просто обскакал его в давней технологической гонке, но и скрыл, из каких средств оплачена покупка. Если он скопил и добавил выручку за последний год, значит, дела у него шли лучше, чем думал отец, и даже лучше, чем у отца. Или он взял кредит? Его младший, Лорен, изучал в колледже управление сельскохозяйственным производством и мог убедить Гарольда, что небольшой заем не повредит бизнесу.
Мой отец не знал, откуда взялись деньги на трактор, и это его бесило. Сосед же без устали нахваливал свое приобретение: охал, сколько лет ему приходилось глотать пыль, хвастался количеством передач (аж двенадцать!) и восхищался, как чудесно яркий красный цвет кузова смотрится на фоне зеленых полей и голубого неба. На вечеринке он с гордостью демонстрировал всем окрестным фермерам не только вернувшегося сына, но и новенький трактор, откровенно ожидая всеобщего восхищения и принимая его со своим обычным беззастенчивым простодушием.
Гости не скрывали зависти. У стола, где Лорен нарезал свинину, собралась толпа мужчин, в центре которой стоял Боб Стэнли, молодой фермер, ровесник Тая, и говорил:
– Мы тоже можем накупить себе таких штуковин. У тебя много земли, понятно, что пыль жрать не хочется. А топлива-то не достать! Без него это бесполезная груда железа.
Отец, подошедший к столу, слышал тираду, но спорить не стал. Он похвалил свинину, скептически смерил Джесса взглядом с головы до ног и набрал полную тарелку фруктового салата. Все знали, что Боб Стэнли и мой отец не очень-то ладят друг с другом. Как говорил Пит: «Ларри в курсе, что Боб нарывается, а Боб и не скрывает».
Боб Стэнли никогда за словом в карман не лез – парень он был разговорчивый. Другие фермеры слушали его, но всегда поглядывали на моего отца, словно за тем оставалось последнее слово. А отец обычно только скептически хмыкал, всем своим видом давая понять, что на такую пустую болтовню даже отвечать нечего.
Когда стало смеркаться, я принялась собирать бумажные тарелки, чтобы привести двор в порядок, и вдруг заметила на заднем крыльце соседского дома отца, который что-то напористо объяснял собравшимся вокруг Роуз, Кэролайн, Таю и Питу. Роуз оглянулась – и меня пронзило инстинктивное чувство опасности, однако следом ко мне повернулась Кэролайн, улыбнулась и поманила рукой. Я подошла, забыв отложить собранный мусор, и встала на нижней ступеньке.
– Вот такой план, – прогремел отцовский голос.
– Какой план, папа? – спросила я.
Отец посмотрел на меня, потом на Кэролайн и сказал, обращаясь ко мне, но глядя на нее:
– Мы создадим акционерное общество, Джинни. Купим новейший стальной резервуар для навоза и силосохранилище, увеличим поголовье свиней. Каждая из вас получит по равной доле.
Отец перевел взгляд на меня.
– Вы, девочки, Тай, Пит и Фрэнк, будете здесь хозяевами. Что думаете?
Я облизнула пересохшие губы и поднялась на две ступеньки выше. За стеклянной кухонной дверью в темном проеме стоял Гарольд Кларк и, ухмыляясь, наблюдал за нами. Он явно наслаждался спектаклем, который устроил мой изрядно набравшийся отец. Тай смотрел на меня, и я видела в его глазах скрытый восторг: он давно мечтал увеличить поголовье свиней. Помню, что я тогда подумала: «Ладно. Бери. Он сам отдает, так что бери».
Не дождавшись ответа, отец продолжал:
– Я уже слишком стар. И на всякие новые трактора мне начхать. Я и дома музыку могу послушать. Если я завтра умру, вам придется выложить семьсот или восемьсот тысяч долларов, чтобы вступить в наследство. Земля дорожает, а люди ведут себя так, будто собираются жить вечно…
Здесь он остановился и посмотрел на Гарольда.
– Но если вдруг меня свалит сердечный приступ, вам придется продать все, чтобы заплатить налог.
Подавив инстинктивную тревогу, я кивнула.
– Хорошая идея.
– Отличная идея, – вставила Роуз.
– Даже не знаю… – протянула Кэролайн.
Помню, в школе я не могла поверить, когда одноклассники говорили, будто их отцы – фермеры. Конечно, я кивала из вежливости, но в глубине души считала их лжецами. Я не представляла, что могут быть другие отцы и другие фермеры, кроме Лоренса Кука. Принять это было все равно, что нарушить первую заповедь.
В детстве я боялась смотреть отцу в глаза, вообще, даже смотреть на него. Он казался мне гигантом с голосом, подобным грому. Когда мне приходилось разговаривать с ним, я обращалась к его ботинкам или к рубашке. Когда отец брал меня на руки, я замирала; когда целовал, я, зажмурившись, терпела и потом быстро обнимала его в ответ. Он внушал страх, но рядом с ним можно было ничего не бояться: ни грабителей, ни монстров. Мы жили на самой лучшей, самой защищенной и самой ухоженной ферме. На самой большой ферме, управляемой самым большим фермером. Все закономерно и справедливо, как мне тогда казалось.
Возможно, я сама виновата, что так и не смогла понять отца. Возможно, надо было чуть расширить пространство, увеличить дистанцию: выйти из замкнутых стен на вольный воздух, туда, где перспектива лишает фигуру давящего величия, но все еще позволяет различать черты и узнавать движения. Однако отец не растворялся в пейзаже, а заполнял его собой: поля, строения, деревья, посаженные на границах участка, были им самим, будто он перерос их, а потом сбросил, как шелуху.
Я изо всех сил старалась понять отца, но за величием его фигуры терялся всякий смысл. Каждое воскресенье нам полагалось ходить на проповедь, которую местный священник Фримонт читал, чтобы возвестить милость Божью, или Его вездесущность, или что-нибудь еще. Святой отец выбирал недавние происшествия, библейские истории, случаи из собственной жизни и слухи, переданные прихожанами, и излагал их так, чтобы получилась картина, которая увлекала и захватывала слушателей, помогая им узреть Бога. Правда, ровно до тех пор, пока в голову им не приходили другие, противоречивые факты. Однако противоречия нисколько не пугали святого отца, он находил в них истинное величие. Невозможность полностью познать мир была для него главным доказательством… нет, не милости или вездесущности Бога, а его величия. И когда священник говорил об этом, голос его крепчал, жесты становились размашистее, а в глазах загорался огонь.
Отец сам никогда не снисходил к нам, и не было у нас никого, кто помог бы нам «узреть его». Мама умерла очень рано, не успев объяснить, что он – все лишь обычный мужчина со своими странностями, склонностями и привычками. Она не успела сделать его фигуру менее величественной и более понятной. А мне бы очень этого хотелось. Думаю, в этом заключалась наша единственная надежда.
Отец не ожидал такого ответа от Кэролайн. Он повернулся, чтобы взглянуть на дерзкую дочь, – медленно и изумленно, подавшись всем телом со всей знакомой пугающей мощью: в нем было почти два метра росту и больше ста килограммов веса.
Кэролайн не хотела жить на ферме, она выбрала профессию юриста и жениха-юриста, но это была больная тема, и сестра, не решившись высказать все до конца, молча уставилась на темнеющий горизонт. Гарольд включил на крыльце свет. Для Кэролайн предложение о разделе фермы стало ловушкой. Отец продолжал сверлить ее взглядом. Теперь, при ярком свете, не было никакой возможности подать ей знак, чтобы она молчала и не спорила с изрядно выпившим отцом.
– Не хочешь – не надо. Вот и все, крошка! – злобно бросил он, поднялся со стула, тяжело прогромыхал по ступеням и скрылся в темноте.
Никого, кроме Кэролайн, поведение отца не удивило.
– Это просто смешно. Он пьян, – попыталась успокоить я сестру.
Однако меня никто не поддержал, все стали расходиться, прекрасно понимая, что произошло нечто непоправимое. Гордость отца была уязвлена, и теперь бесполезно доказывать ему, что Кэролайн не отвергла его предложение, а просто выразила сомнение, вполне резонное, которое естественным образом должно возникнуть у любого юриста. Возможно, она просто ошиблась и ответила отцу как юрист, когда должна была ответить как дочь. Или же никакой ошибки нет и она ответила как женщина. Как обычная женщина. Я вдруг осознала, что мы с Роуз никогда не решались себе этого позволить.
Я зашла на кухню Кларков, чтобы выбросить собранную одноразовую посуду в мусорное ведро. Закончив, повернулась к двери и вздрогнула от неожиданности: совсем рядом со мной стоял Джесс Кларк. В свете, падающем с крыльца, было видно, что он удивлен моим испугом. Его лицо, знакомое и в то же время странное, приветливое и чужое, казалось, таило в себе знание, недоступное местным. Поспешно выходя, я задела его, и он поддержал меня под локоть.
– Как ты сюда попал?
– Ты разве не слышала, как стукнула дверь? – удивился он и не спеша убрал руку. – Мусорные пакеты кончились. Я все никак не мог понять, чего же не хватает у нас на кухне. А теперь вспомнил: раньше рядом со столом стоял бак с бычьей спермой. Я, когда ел, всегда ставил на него ноги.
– Да? – рассеянно пробормотала я.
Он заглянул мне в глаза и сказал:
– Что ты, Джинни? Я не хотел тебя напугать. Я думал, ты слышала, как я вошел.
– Просто у меня из головы не выходят слова отца. Они вгоняют меня в панику.
– Про акционерное общество? Вообще, идея дельная.
– Идея, может, и дельная, но совсем не в его духе. Слишком уж дальновидно и рассудительно. Так мог бы сказать какой-нибудь банкир, но не мой отец. Чтобы он сам заговорил о своей смерти и налоге на наследство…
– Подождем – увидим. Может, он завтра проснется и ничего не вспомнит.
Джесс говорил спокойно и уверенно, будто даже и не сомневался, что так и будет.
– Но все так запуталось. Очень запуталось. Буквально за пять минут.
– Успокойся. Ты сама себя накручиваешь… Я всегда верил, что от судьбы не уйдешь: у каждого события есть столько внешних и внутренних причин, что бороться глупо. Надо принимать все как есть. В этом заключена мудрость и красота, как учит нас Будда…
Я фыркнула. Джесс смущенно улыбнулся.
– Ладно, скажу по-другому. Если беспрестанно о чем-то думать, это случится.
– Моя мама так говорила о торнадо.
– Вот! Вековая мудрость равнин. Делай вид, что ничего не случилось.
– Мы всегда так делаем.
Я устыдилась собственной откровенности и поспешно добавила:
– Только это между нами. Хорошо?
У меня все внутри похолодело, когда я представила, как Гарольд Кларк, тот еще сплетник, будет трезвонить соседям о моих сомнениях. Джесс поймал мой взгляд и тихо сказал:
– Гарольд ничего не узнает. Не бойся.
Я поверила ему. Я поверила всему, что он говорил, и перестала паниковать.
Предложение отца и правда было дельным: в случае его внезапной смерти нам бы пришлось продать часть земли, чтобы заплатить налог на наследство. Сто лет назад Сэм и Арабелла купили участок в сто шестьдесят акров по цене пятьдесят два доллара за акр. И то слишком дорого для земли со стоячей водой. Соседи из Мейсон-Сити зубоскалили у них за спиной: мол, молодые-глупые, не глядя, купили кусок комариного болота, приехали к шапочному разбору.
В тридцатых годах мой дед и отец по цене меньше девяносто долларов за акр присоединили к угодьям еще два участка уже осушенной, возделываемой земли. Семья, у которой они перекупили землю, уехала сначала в Миннеаполис, а потом в Калифорнию. Та сделка стала поводом для многолетней вражды, которая продлилась до пятидесятых годов, так что даже я стала ее свидетелем. Отец Боба Стэнли, Ньют, не разговаривал с нашим отцом, потому что тот обошел братьев Стэнли при покупке земли, а ведь жена уехавшего в Миннеаполис фермера приходилась Ньюту двоюродной сестрой. Во время Великой депрессии отцу удалось еще расширить свои владения за счет упорного труда, удачи и умелого хозяйствования. Конечно, не все этому верили, и пересудов в округе Зебулон ходило много, но отец не обращал внимания на завистников. Бывшие болота оказались очень плодородными, сплошной перегной, так что к 1979 году рыночная цена за акр во владениях моего отца доходила до трех тысяч двухсот долларов – дороже, чем в остальном округе и вообще во всем штате. То есть стоимость тысячеакровой фермы превосходила три миллиона, да и залогов у отца никаких не было.
– Марвин Карсон надоумил его, – заметил Тай, когда мы собирались ложиться спать той ночью.
– А трактор Гарольда стал последней каплей, – откликнулась я.
– Трактор тоже был идеей Марвина, тот обрабатывал Гарольда с самого Рождества – Лорен мне сегодня сболтнул. Гарольд специально молчит, чтобы твой отец думал, будто они заплатили всю сумму, но это блеф. Правда, Лорен так и не признался, сколько они заложили. Он сказал, что должок крохотный и вообще ничто по сравнению с размером их активов.
– Такой трактор стоит не меньше сорока тысяч.
– А их земля стоит не меньше полутора миллионов. Ферму моего отца можно продать за полмиллиона и на эти деньги увеличить поголовье свиней.
Он посмотрел на меня и пожал плечами:
– Ну да, я тоже говорил с Марвином.
– Для меня это какие-то запредельные суммы. Да и кто столько заплатит? К тому же все жалуются на высокие процентные ставки.
– Ставки будут только расти. Но, может, и цены вырастут.
Я хмыкнула и села на диванчик у окна. Вдалеке виднелся дом Роуз. Свет у них не горел.
– Когда мы расходились, Роуз выглядела совершенно разбитой, – заметила я.
– Эти новые стальные резервуары – просто чудо. В них помещается до восьмидесяти тысяч галлонов навоза: заложил, остудил и вноси на поля. Нам непременно такой нужен. И еще новый свинарник. С кондиционером. И пару племенных хряков на развод. Знаешь, таких чистокровных, которых прям хоть за стол с собой сажай.
Он откинулся на кровать.
– Хорошеньких розовых малышей. Назовем их Рокфеллер и Вандербильд.
Тай нечасто мечтал вслух, так что я не перебивала.
– У нас и у самих неплохие свиньи, а если еще и парочку крепышей усыновить, так к нам за поросятами вообще очередь выстроится. Будем всем говорить: «Смотри, старина, этого малыша надо кормить с ложечки и спать рядом с собой класть», а они такие: «Конечно, Тай, как скажешь, я уже начал деньги ему на колледж откладывать». – Муж перекатился на бок и улыбнулся. – Или ей. Свиноматки с хорошей родословной не меньше ценятся.
– Да, к счастью, свиньям дают вырасти. Меня всегда с души воротило, когда Эриксоны забивали новорожденных телят.
– Они держали молочный скот?
– Да, Кэл очень любил коров. Носил в бумажнике фотографии лучших буренок вместе с фотографиями детей. Если бы ему тогда удалось сохранить коров, он бы, может, и не уехал отсюда. А так…
– Голштинской породы?
– Да, конечно. У них еще была одна джерсейская, которую они держали для себя. Мороженое из молока делали. Очень вкусное! Ее звали Лилия.
– Кого?
– Корову. Дочек Эриксоны назвали очень непритязательно, Дина и Рут, зато у всех коров были цветочные имена: Роза, Фиалка.
Тай благодушно хмыкнул и закрыл глаза. Ему все казалось по плечу.
Предложение отца никого не оставило равнодушным: оно расшевелило тайные желания и страхи внутри каждого из нас. Тай воспринял его как долгожданное признание своего свиноводческого таланта. Я – как негласную награду за годы дочернего почтения и бытового служения. Питу, у которого не было собственной фермы, оно сулило мгновенное повышение статуса от наемного рабочего до землевладельца. Роуз же приняла его как должное: она тоже считала свою долю наградой, но только справедливой, причитающейся ей по праву, сообразной естественному ходу вещей.
Как бы там ни было, Тай точно заслужил то, о чем только что мечтал вслух.
– А Кэролайн? – спросила я. – Она осталась у Роуз, не пошла ночевать к папе. Это его еще больше разозлит.
– Ларри вышел из себя и наговорил лишнего. Но и ей нечего было выделываться.
– Она просто сказала, что не уверена.
– Сказала, что не уверена, очень уверенным тоном – в своей обычной манере, – пробормотал Тай полусонно, что лишило его реплику сарказма. Он хорошо относился к моей младшей сестре и часто по-доброму поддразнивал ее. Когда отец решил занять Кэролайн делом в четырнадцать лет и принялся учить ее водить трактор, Тай отговорил его, памятуя о риске аварий, что фермеров обычно совсем не заботит. Однако переезд Кэролайн в город озадачил его не на шутку: он совершенно не мог понять, как можно добровольно бросить ферму.
Тай уже спал, негромко похрапывая.
Я знаю, многие женщины жалуются, будто мужья с ними не разговаривают. В местных городках полно клубов, в которых фермерские жены якобы занимаются благотворительностью, однако их благие дела тонут в потоке бесконечной болтовни. В этом, мне кажется, и таится корень проблемы. Тай всегда мне все рассказывал: про работу с отцом и Питом на ферме, про скот и урожай, про то, что он видел на полях и кого встретил в городе. Он никогда ничего не держал в себе и не предавался унынию. Даже когда отец и Пит грозились поубивать друг друга, что случалось регулярно, раз в два года точно, Тай обычно говорил: «Пустая болтовня! Ссоры с Питом нужны твоему отцу, чтобы чувствовать себя моложе. И он сам это прекрасно знает».
Тай не падал духом даже после моих выкидышей и меня успокаивал, уверяя, что в следующий раз точно получится, что горевать не о чем, что со мной все в порядке и что он любит меня, несмотря ни на что.
Я накрыла мужа одеялом. Он заворочался, устраиваясь поудобней, и пробормотал полусонное «спасибо».
Тай знал только о трех выкидышах. Все считали, что мы бросили попытки. Однако выкидышей было пять, последний – в День благодарения. После третьего случая летом 1976 года Тай сказал, что не сможет заставить себя спать со мной, если я не начну предохраняться. Он не объяснил причину, но и так было ясно, что его страшат новые выкидыши. Целый год я не разрешала себе даже думать о беременности, пока однажды мне не пришло в голову, что я могу притворяться, будто использую контрацепцию, а на самом деле возобновить попытки. В тайне ото всех. Я представляла, как буду вынашивать ребенка, не говоря никому ни слова, а Тай и Роуз, заметив мой округлившийся живот, начнут посматривать на меня с подозрением, не решаясь спросить, отчего это я поправилась. Я надеялась, что, сохранив беременность в секрете, смогу сохранить и ребенка. Однако, воодушевленная новой идеей, я, едва зачав, не удержалась и побежала обо всем рассказывать Роуз, так что, когда случился выкидыш, мне тоже пришлось ей признаться. Тай остался в неведении, в тот день он с моим отцом уехал на сезонную ярмарку. Роуз заявила тогда, что я совсем свихнулась, так что о пятой беременности я ей не говорила, и о выкидыше на следующее утро после Дня благодарения – тоже. Мне опять повезло – Тай ничего не заметил, ему пришлось встать затемно, чтобы помочь Питу с уборкой позднего урожая бобов. Я сложила ночную рубашку, простыню и наматрасник в бумажный пакет и закопала их в старом коровнике, где земляной пол еще не промерз. Я собиралась потом откопать их и выкинуть в мусорный бак, но так и не решилась. Если бы я это сделала, мне захотелось бы повторить попытку, а я еще не была готова. Но и окончательно отказаться от своей мечты я тоже не могла. В тридцать шесть у меня еще оставалось впереди пять лет, еще две или три попытки на то, чтобы однажды утром выйти из спальни и сказать: «Смотри, Тай, вот наш ребенок».
Решимость действовать втайне ото всех открыла для меня целый новый мир, мой собственный мир. У меня появились две жизни, два лица. Я впервые за эти годы чувствовала себя сильной, и передо мной открывалась жизнь, полная неизведанных новых возможностей. После двух тайных выкидышей у меня отчего-то было больше надежд, чем после самого первого.
Большой дом тоже стоял без огней. Я вспомнила, что мы с Роуз не договорились, кому на следующее утро идти к отцу и готовить завтрак. Когда Кэролайн ночевала у него, она с удовольствием брала на себя эту обязанность, но после ссоры она осталась у Роуз. Я открыла окно и стала вглядываться в темноту. Машина отца стояла рядом с хлевом, машина Пита – у их дома. Крыша нашего пикапа поблескивала под окнами. Лягушек и цикад еще не было слышно, и только бриз раскачивал сосны на северной границе фермы. В хлеву свиньи тихо громыхали кормушками. Привычная, тихая, умиротворяющая картина, которую я любила и которую так боялась потерять, что не решилась уехать после окончания школы. Она успокаивала и убаюкивала, однако внутри у меня по-прежнему горели желания – тайные, страстные желания. Я сидела у окна, наслаждаясь бризом и грезя, что этот напористый ветер, разворачивающий море вспять, сможет однажды вынести долгожданное дитя на мой берег.
5
К семи я приготовила завтрак. Позвала отца, но он не откликнулся. Тогда на цыпочках я поднялась в спальню, однако его там не оказалось. Смятая постель не разобрана. Похоже, отец ушел куда-то в ботинках – сапоги стояли внизу, поэтому я и решила, что он еще не вставал.
Капот его машины был холодным. Я уже подумала, что он отправился к Роуз, когда к дому подкатил большой бордовый «понтиак». За рулем сидел юрист Марвин Карсон, в костюме и при галстуке, заспанный, но готовый к работе. Отец ехал на пассажирском кресле. Выйдя из машины, Марвин поспешно засеменил за моим отцом к дому.
– Джинни, Марв будет завтракать со мной, – бросил отец. – Марв, иди умойся.
Войдя в дом, Марвин принялся растерянно озираться, вероятно в поисках раковины.
– Думаю, ты и так чистый, Марвин, проходи, – успокоила его я.
На завтрак были сосиски, яичница, картофельные оладьи, кукурузные хлопья, булочки, тосты, кофе и апельсиновый сок. Отец сел на свое место, набрал полную тарелку еды и принялся за нее с обычным аппетитом. Я все никак не могла понять, переоделся ли он со вчерашнего вечера. Заметив мой взгляд, он раздраженно спросил:
– Ты ела? Что смотришь?
– Я завтракала с Таем, папа.
– Садись за стол или убирайся. Нечего стоять и пялиться.
Я налила себе кофе и села за стол.
– Не нравится еда? – бросил отец Марвину.
– Нравится, все вкусно.
– Тогда что ты ковыряешься?
Марвин покраснел, но мужественно ответил:
– Важно не то, что ты ешь, а в каком порядке.
– Важно для чего?
– Для пищеварения, для усвоения, для выведения токсинов.
– Ты не жирный.
– Жир меня больше не заботит. Я столько лет с ним боролся, но теперь осознал, что это лишь самый первый уровень телесного контроля. Подсчет жиров и калорий – это, скорее, прием, но не решение в целом.
– Решение чего?
– Теперь моя главная забота – токсины, вернее, их регулярное выведение. Я справляю нужду от двенадцати до двадцати раз в день. Потею. Слежу за процессом дефекации, – сообщил Марвин, нимало ни смущаясь. – Это придает мне сил. Например, раньше я рассматривал физические упражнения исключительно как способ получить аэробную нагрузку и накачать мышцы, поэтому и мотивации у меня не было; зато теперь, когда я знаю, что они ускоряют ток жидкости и очищают клетки, я тренируюсь с удовольствием, а когда пропускаю тренировки, чувствую себя ужасно из-за того, что в мозгу копятся токсины.
– Это как? – удивилась я.
– Появляются дурные мысли. Начинаю нервничать из-за ситуации в банковском секторе. Крушение надежд и все такое. Раньше вообще не мог спать. И теперь людей, отравленных токсинами, за километр чую.
– Какие продукты токсичны? – поинтересовалась я.
– О, Джинни, токсины везде. В том-то и дело. От них не уберечься. А если думаешь, что уберечься можно, – это явный симптом отравления токсинами. Раньше я старался есть только здоровую пищу, буквально с ума сходил. Говядину в рот не брал, не говоря уж про шоколад и кофе. И мне становилось все хуже. Каждый месяц я сокращал рацион, стремясь оставить только полезное. Я худел, но в мышцах и органах накапливались токсины.
– Когда это было? – спросила я. – Что-то не замечала.
Отец перестал таращиться на Марвина и, к моему облегчению, принялся за еду.
– Никто не замечал, – кивнул Марвин; он расправился с яичницей и принялся за сосиски. – Я переживал свою трагедию в одиночестве, но теперь без стыда говорю о ней. Теперь мне гораздо лучше. При выдохе, кстати, токсины выделяются через легкие.
Отец хмыкнул. Марвин замолчал, поглощая булочку.
– У вас случайно нет острого соуса? – поинтересовался он. – Табаско подходит лучше всего.
– Подходит для чего? – бросил отец.
– Отлично выгоняет пот, – с готовностью пояснил Марвин и улыбнулся.
Я улыбнулась ему в ответ и покачала головой:
– Мы не едим острое.
– Ладно, – бодро ответил Марвин и вытер губы салфеткой. – Пропотею потом.
В целом отец выглядел и вел себя как обычно. Он и раньше вечерами пил, а утром ходил угрюмый. Мы к этому привыкли. Сидя за столом, я собиралась с духом, чтобы напрямую спросить его про вчерашнее предложение. Правда ли, что он решил устроить акционерное общество и дать Питу с Таем больше полномочий? Дело в том, что эти двое, да и Роуз тоже, уже мысленно завладели фермой, а Кэролайн уже покинула ее – еще до того, как отец успел вчера спуститься с крыльца. Недоверие и потрясение от услышанного моментально сменились грандиозными планами и замыслами. За Тая я не переживала, но вот от Пита можно ждать чего угодно. Его настроение, подобно маятнику, качалось от ликующей уверенности до озлобленного недовольства. По правде говоря, я его побаивалась.
Помню, накануне своей свадьбы Роуз сидела у меня на кровати, накручивала волосы на бигуди и сама удивлялась, как ей удалось заполучить такого классного парня. В глубине души я тоже этому поражалась и даже немного завидовала: Пит был безумно хорош, как Джеймс Дин, только без бунтарства и надрыва, а с веселой улыбкой и искрящимся взглядом. И еще он играл в колледже в трех музыкальных ансамблях: в струнном квартете первую скрипку, в кантри-группе на скрипке, мандолине и банджо, в джаз-банде – на фортепиано и изредка на контрабасе. Он постоянно мотался по свадьбам и вечеринкам, концертам, джем-сейшенам, фестивалям народной музыки, похоронам, репетициям, выступлениям в барах – и неплохо зарабатывал. Ни одно мероприятие в центральной части штата не обходилось без этого парня, и мы с Таем успели повидать его во всех возможных образах: в фермерских сапогах и фланелевой рубашке, в смокинге, пижонском костюме и в черной кожаной косухе. Его энергия и любовь к музыке казались неисчерпаемыми.
Не знаю, что он нашел в Роуз. Конечно, в нее многие влюблялись, но она была его полной противоположностью. Хорошенькая, но не красавица, остроумная, но язвительная, не звезда, без амбиций: хотела поработать пару лет учительницей начальных классов, найти мужа, родить двоих детей и зажить спокойной жизнью на ферме – на нашей или на какой-нибудь другой; одно время мечтала разводить лошадей в Кентукки. Когда Роуз только начала встречаться с Питом, мне казалось, что он не усидит в здешних краях. Талант унесет его в большие города: в Чикаго, в Канзас-сити, в Миннеаполис, – а Роуз останется одна и будет страдать.
Однако неожиданно Пит объявил, что устал от дорожной жизни, и от музыки тоже устал, и хочет осесть и осваивать сельское хозяйство. Сыграли свадьбу, и Пит с прежней страстью взялся за новое увлечение… Но не сумел поладить с отцом.
Сомневаюсь, что Пит и Роуз вообще планировали надолго здесь задержаться – в них бурлили амбиции. Пит рано вставал и работал допоздна, он фонтанировал идеями, горел ими: хотел сорвать куш и считал, что хорошая задумка – уже полдела. И любые сомнения, особенно если их высказывал мой отец, воспринимал не как временное препятствие, а как полную потерю того, что, как он считал, уже было в кармане. Только спустя годы я начала понимать всю глубину разочарования Пита, когда его энтузиазм столкнулся с непрошибаемым скептицизмом моего отца.
Пит не решался выказывать свою злость открыто, но она разъедала его изнутри, изредка прорываясь в стычках с Таем и Роуз, или даже со мной и дочерьми. На нас лились такие дикие, яростные угрозы и оскорбления, что не верилось ушам. Это пугало меня, но совершенно не задевало Роуз. Пока муж бушевал, она стояла, скрестив руки на груди, покачивала головой и повторяла: «Ты бы себя слышал», – демонстративно спокойная и вызывающе презрительная. И, конечно, Пит срывался и задавал ей трепку, нечасто, но все же. Четыре года назад в приступе бешенства он сломал ей руку и с тех пор не смел ее трогать, погрузившись в безысходное, мрачное отчаяние. Он пил. Мой отец пил. В этом у них разногласий не существовало.
Свадебная фотография стояла у Роуз в гостиной на фортепиано, и одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять: время не пощадило Пита. Хоть он почти не располнел за прошедшие годы, но лицо его обветрилось и покрылось морщинами, волосы выгорели, движения стали напряженными и резкими. Смеющийся беззаботный парень, веселый Джеймс Дин исчез, как и не бывало.
Доля на ферме стала бы для Пита компенсацией за все эти годы: первым признанием заслуг, первой сбывшейся мечтой, первым доказательством того, что отец относится к нему не как к наемному рабочему или городскому пижону. Я переживала за Тая, потому что любила его, а за Пита – потому что боялась.
Я беспокоилась, что отец откажется от своих слов, и думала, как бы начать разговор, переводя взгляд с румяных щек юриста на угрюмое лицо отца, но Марвин, разделавшись с завтраком, решил все за меня.
– Раньше я работал по пять дней в неделю. Теперь работаю по восемь. Но это так, к слову, ведь нет никакой разницы между работой и игрой. Все это один поток. Так вот, документы у меня в машине, вчера я переговорил с Кеном Ласаллем. После церкви соберемся здесь, все обсудим и подпишем. Идет?
– Чем скорее, тем лучше, – буркнул отец. – Джинни, собери всех. Надо закончить до обеда. Будешь обедать, Марв?
– Спасибо, нет.
– Отлично, – кивнул отец, встал из-за стола и надел сапоги. – Пойдем, Марв, глянем на поля.
6
Завтрак прошел спокойно, и это внушало надежду, что и в церкви у меня все получится. Мне предстояла миссия хоть и сложная, но, как казалось, не безнадежная. Отец был обидчив, но не злопамятен и отходчив, главное – повиниться с должным рвением.
Привычный ритуал раскаяния нисколько меня не пугал. Да и Роуз, хоть и не могла обойтись без едких замечаний и закатывания глаз, тоже отлично справлялась и даже могла рассмешить отца. Кэролайн же из-за своей непрошибаемой то ли наивности, то ли упрямства, то ли неискушенности совершенно не умела каяться. Она всегда искала правых и виноватых, выясняла, кому и за что конкретно положено извиняться, решала, кто должен делать это первым и какие слова произносить. Подобная дотошность вполне нормальна для адвоката, но сестра была такой с самого детства, сколько я ее помню, так что профессиональный опыт только усугубил это и укрепил ее в мысли, что вину можно разделить.
В то утро Генри Додж, наш священник, читал ежегодную проповедь о том, что труд землепашца есть источник всех мирских благ. Это, несомненно, тешило самолюбие фермеров, подогревало их возмущение по поводу социальной несправедливости, а еще внушало мне надежду, что удастся застать папу, который тоже присутствовал на службе (но сидел не с нами, а с Марвином на самом последнем ряду), в хорошем расположении духа.
После проповеди я шепнула Кэролайн:
– Подойди к нему, поцелуй в щеку, обними и скажи: «Прости, папочка». Ты же можешь. Это ведь даже не официальное извинение.
– Но я ночевала у Роуз.
– Забудь про это.
– Он не забудет. Слова его обидели, а действия оскорбили.
– Ладно, тогда просто скажи: «Я боялась, что ты сердишься на меня, папочка».
Кэролайн поджала губы.
– Я не маленькая девочка.
– Хорошо, но разве ты и в самом деле не испугалась?
– Нет. Я разозлилась. Я ведь просто…
– Ты же знаешь, какой он обидчивый. Да и пьяный был к тому же. Уступи…
– Джинни! Хватит уступать.
Разговор принимал нежелательный оборот, на нас уже стали оглядываться Роуз и Пит, беседовавшие неподалеку со священником. Я сделала шаг, чтобы отгородить Кэролайн от церкви и оттеснить ее к машине, потом собрала все самообладание и заговорила как можно мягче и убедительнее:
– Сделай это для меня в последний раз. Папа вручает нам всю свою жизнь. Понимаешь? И дар этот надо принять без дрязг, с уважением. Роуз, Пит и даже Тай готовы. Уступи в последний раз. Я обещаю.
– Не могу, – покачала головой Кэролайн. – Я не готова принять его дар. От него будет только хуже и ему, и мне. Фрэнк тоже не одобряет, он звонил вчера вечером Кену Лассалю домой, и тот сказал, что ни в коем случае не советовал папе делить ферму. Если бы у папы были проблемы со здоровьем, тогда другое дело, но он отчего-то озаботился налогами на наследство именно сейчас. Знаешь, когда у него появилась эта идея? В среду! Он решил поменять свою жизнь всего пару дней назад. Это абсурд! Он сам это прекрасно понимает и знает, что я это понимаю, поэтому так злится. Я никогда себе не прощу, если уступлю…
– Хочешь остановить его? Но ведь это только больше его раззадорит! – я решила попробовать другую тактику. – Он просто вычеркнет тебя! И все. Как будто тебя нет. Неужели ты этого не боишься? Я очень боюсь. Помнишь братьев Стэнли, чья ферма была к северу от города? Когда Ньют Стэнли умирал, он сказал Бобу: «Будь проклят Ларри Кук. Отними у него землю, даже если придется костьми лечь».
– Ты шутишь.
– Айлин Даль божилась, что Боб Стэнли сам ей это рассказал.
– Удивительно!
– Удивляться нечему. Тут чуть ли не у каждой семьи есть свои застарелые обиды. Если ты не помиришься с отцом, об этом весь округ будет болтать еще лет пятьдесят. Или дольше. – Я предприняла последнюю попытку. – Ну пожалуйста, в последний раз.
Тут только я обратила внимание, что зажала Кэролайн в угол и нависаю над ней. Хорошо хоть мы вышли с церковного двора на улицу. Я оглянулась, Роуз уже не было, а Генри Додж изо всех сил делал вид, что не интересуется нами. Я улыбнулась и отступила от сестры. Она смотрела в другую сторону улицы, туда, где стояла начальная школа и детская площадка. Похоже, любопытные соглядатаи на церковном дворе ее ни капли не волновали. Я почувствовала раздражение и нетерпеливо выпалила:
– Ты хочешь понять, кто прав, а кто виноват. Но сейчас главное не это! Главное – он твой отец и такова его воля.
– Возможно… Мне надо подумать. Я пройдусь немного и присоединюсь к вам позже. Не сердись, пожалуйста, Джинни.
– Почему ты мне можешь так сказать, а папе – нет?
Она посмотрела на меня с недоумением, а потом рассмеялась.
– Потому что ты этого заслуживаешь, а он – нет.
Странно было слышать такие слова. Они напомнили мне любимое изречение отца, которое он всегда повторял нам: «Каждый получает по заслугам».
Кэролайн села в машину Роуз и Пита, а я развернулась и пошла к нашему пикапу, припаркованному ниже по улице, как всегда мысленно представляя, что в заднем окне виднеется детское автомобильное кресло. Я даже уже и модель выбрала, конечно же самую безопасную. И как только некоторым безалаберным родителям приходит в голову разрешать детям не пристегнутыми прыгать по салону? Просто ужас! Просторный задний диван залил теплый солнечный свет. Похоже, с утренней миссией я справилась неплохо и, в общем, склонялась к мнению, что отец принял разумное и полезное решение, если уж и не для него самого, то для нас точно.
7
По дороге из церкви мы заехали домой, чтобы переодеться – после обеда еще предстояло много дел. Добравшись до отца, мы застали там только Джесса Кларка, который варил на кухне кофе, остальные пошли осматривать землю. Тай взял пикап и отправился всех собирать.
– Быстро все завертелось, – заметил Джесс, наливая мне кофе, потом взял свою чашку и сел напротив.
– Никогда не думала, что отец на такое способен. Зря я вчера волновалась. Все равно, похоже, мало что изменится.
– А новые постройки? Свиньи? Плантации черного ореха? Десять акров гладиолусов, наконец? Это что, не изменения?
– Каких гладиолусов?
– Пока вас не было, Пит рассказывал о своих планах. Восемьдесят тысяч клубней на акр.
– Восемьсот тысяч гладиолусов?
– Он сказал, что в Миннеаполисе дают по доллару за пять штук. Итого сто шестьдесят тысяч баксов в кармане.
– Ох уж этот Пит…
– Я под впечатлением. Мы с ним проговорили всего пятнадцать минут, а он выдал пять или шесть отличных идей – не то что мой отец или Лорен. У тех на уме только кукуруза и бобы. Бобы и кукуруза. В детстве, я помню, мы держали свиней и коров, и у Лорена была овца, которую он выращивал для школьного проекта. Мама постоянно сажала новые сорта растений у себя в саду. А теперь даже разведение свиней считается рискованным.
– Ситуация на рынке изменилась. Но давай не будем про ферму, я уже устала от этих разговоров. Расскажи лучше, чем ты занимался в Сиэтле.
– Хочешь разведать мои тайны? – улыбнулся он, глядя мне прямо в глаза, и не отводил взгляд до тех пор, пока я не покраснела. – Расскажу с удовольствием. Хоть кто-то интересуется. Отец у меня ничего не спрашивает и вообще ведет себя так, будто я все это время сидел в тюрьме. Да и Лорен задал мне всего один вопрос, купил ли я там землю. А когда я ответил, что нет, то буркнул: «Паршиво», – и больше со мной не заговаривал.
– Что ты там делал?
– Держал продуктовый магазинчик: органические овощи, фермерские куры, сыры без красителей и всякое такое. В Ванкувере организовал общинный сад, работал в службе доверия, был барменом в модном ресторане.
– Не слишком-то спокойная жизнь.
– Точно, я уходил всякий раз, когда начинало казаться, что пускаю корни.
– А как же уверенность в завтрашнем дне?
– Зачем уверенность, когда есть внутренний покой.
Я приняла это за шутку и засмеялась, однако Джесс смотрел на меня очень серьезно – не думала, что он может быть таким.
– Далеко на востоке есть люди, у которых за душой нет ничего, только одна миска и одна рубаха, и они без страха бросаются в пучину жизни, не боясь утонуть. У них больше уверенности в завтрашнем дне, чем у нас с тобой. Я американец до мозга костей и не могу бросить все, но они могут, и это дает мне уверенность.
Джесс на секунду замолчал, а потом подмигнул и попросил:
– Только Гарольду не говори, он считает, что это коммунистические бредни.
– Ты ему рассказывал?
– Пытался, когда он спросил, пойду ли я в церковь.
– Ты же был там сегодня.
– Был, ибо узрел письмена на стене, – усмехнулся Джесс. – Они гласили: «Помалкивай».
Раздался шум мотора и шорох гравия, я вскочила и выглянула в окно. Приехал Марвин Карсон и с ним Кен Лассаль. Вдалеке виднелся наш пикап, Тай возвращался вместе с Гарольдом, Питом и Лореном. Джесс поднялся и встал рядом со мной вплотную. Я напряглась – его рука легла сзади на мою шею.
– Кофе готов. Все будет хорошо. Жизнь прекрасна. Изменения к лучшему, – шепнул он.
Мужчины начали собираться: громко обсуждали всходы кукурузы, топали, снимали сапоги, наливали кофе. В воздухе витала надежда. Я прошла в гостиную, там из окна виднелся дом сестры, он стоял как раз напротив, через дорогу. Пэмми и Линда дружно что-то рассматривали в канаве. Роуз придерживала одной рукой заднюю дверь (в другой у нее было блюдо с кофейным кексом) и что-то говорила мужу, который зачем-то забежал домой, вернувшись с Таем. Вскоре он вышел, и они вместе направились к дому отца. Роуз засмеялась, откинув голову, в ответ на реплику Пита, и я раскрыла окно, чтобы послушать ее смех. Они выглядели счастливыми. Подходя к парадной двери, Роуз все еще улыбалась.
Она вручила мне блюдо с кексом, и я отнесла его на кухню гостям. На темном обеденном столе уже разложили документы, пестрящие красными галочками там, где нужно поставить подпись. Они напомнили мне крупные бледные грибы, которые вырастали за одну ночь после дождя, – одновременно удивительные и жуткие. Все хлопали Тая по плечу и говорили про разведение свиней. Я собрала в аккуратную стопку валяющиеся журналы «Ридерс дайджест». Папа даже не подумал привести дом в порядок перед приходом гостей, возможно, потому что гостей сюда не звали уже лет двадцать пять.
Отец в тот день вел себя странно и только с Гарольдом препирался как обычно. Откуда-то узнав, что трактор был взят в кредит, он с издевкой заявил соседу:
– Да, теперь я буду посиживать, наблюдая, как другие вкалывают, а тебе придется пахать на своем тракторе в поте лица, чтобы выплатить заем. И мотор там наверняка тарахтит так, что даже твоего хваленого радио не слышно.
Гарольд покорно кивал, не переставая, однако, улыбаться как безумный – в общем, как и все прочие, кроме Кена Лассаля. Но того бросила жена в Рождество, уехав работать в мегаполис, так что его сумрачный вид никого не смущал.
А что же я? Я тоже счастливо улыбалась, как и все. У меня всегда было легко на душе, когда отец находился в хорошем настроении, а тогда он смеялся и хлопал Тая по плечу. Я еще никогда не видела его таким веселым.
– Ну что, Кен, приступим, – предложил он.
– Давай немного подождем, Ларри, – ответил тот и посмотрел на парадную дверь.
Я тоже повернулась туда и увидела Кэролайн, шедшую к дому. По ее лицу было видно, что она настроена миролюбиво. Отбросив последние сомнения, с легким сердцем я открыла ей дверь – однако войти сестра не успела. Отец резко оттеснил меня и захлопнул дверь прямо перед ее лицом, затем взял Кена под руку и рявкнул:
– Приступим!
Все молча прошли в столовую. Подписав бумаги, я тихо, чтобы не заметил отец, подошла к парадной двери и выглянула наружу. «Хонды» Кэролайн нигде не было.
Книга вторая
8
Отец был дружен с Кэлом Эриксоном, но хозяином его считал паршивым. Оглядываясь назад, я с удивлением обнаруживаю, насколько сильно соседи повлияли на мои взгляды и мечты. Эриксоны занялись сельским хозяйством в зрелом возрасте, уже будучи женаты. Кэл окончил военную академию в Вест-Пойнте по специальности «инженер-строитель», участвовал во Второй мировой войне и был ранен. Проведя год в госпитале, получил расчет или наследство – в общем, какие-то деньги, на которые смог по-родственному выкупить ферму у своей престарелой кузины. Жена Кэла, Элизабет Эриксон, родом из пригорода Чикаго. Ее родители разводили лошадей, и она отлично держалась в седле, и, вероятно, в ее глазах это служило достаточной подготовкой к сельской жизни.
Хозяйство Эриксонов напоминало скорее зоопарк, чем традиционную ферму. Помимо свиней, молочных коров, мясного скота и овец, они держали пони, собак, кур, гусей, индюшек, коз, а также песчанок, морских свинок и кошек, которых пускали в дом. Еще у них жили два волнистых и один большой попугай. Они очень любили зверей. Своих трех собак – колли, немецкую овчарку и йоркширского терьера – мистер Эриксон дрессировал и обучал разным трюкам. Овчарка удерживала на носу спичечный коробок, подкидывала его в воздух и ловила зубами. Терьер делал сальто назад. Колли приносила домочадцам вещи из их комнат, подбирала с пола мусор и выбрасывала его в ведро, если ей велели «навести порядок». Но интересней всего было смотреть, когда собаки одновременно, как на параде, шагали, ложились, сидели, снова ложились и переворачивались по команде хозяина.
Мистер Эриксон любил и умел обращаться с животными, а вот к технике даже не приближался. И мой отец, чье образование ограничивалось местной школой, усматривал в этом полную бесполезность учебы, потому что «этот так называемый дипломированный инженер даже трактор починить не может». Кэл Эриксон действительно с техникой не ладил, однако нашел отличное решение: предложил Гарольду Кларку и моему отцу чинить его машины в обмен на свежее молоко, сливки и мороженое, которое его жена отлично делала, а мы очень любили.
Отец и Гарольд Кларк считали Кэла Эриксона плохим хозяином. Он распылялся и никогда не следил за рынком, возмущались они, а делал только то, что ему хотелось. Округ Зебулон – не лучшее место для разведения молочного скота, поблизости нет ни одной сырной или масляной фабрики. Однако, если уж задался такой целью, следует построить автоматизированный доильный зал на сотню коров, чтобы каждый день за молоком приезжал грузовик. Или держать только джерсейских и гернзейских коров, чтобы продавать сливки – в Мейсон-Сити есть компания по производству мороженого, туда можно сдавать весь надой. Однако у Эриксонов было всего двенадцать голштинских и одна джерсейская корова, которых они доили вручную и, похоже, вообще держали «для собственного удовольствия», как с ухмылкой говорил отец. Поводов для недовольства соседом находилось немало: его куры и утки разгуливали по дороге, индюшки разбегались в грозу. В сенокос всем приходилось помогать Эриксонам заготавливать сено для животных, тогда как по уму надо бы купить современную силосную башню, на которую у соседей не имелось денег, либо тогда уж избавиться от животных. Отец осуждал притязания Кэла, который хотел жить в свое удовольствие, при этом зарабатывал лишь на самое необходимое и на выплату кредита.
Перед моим отцом стояла совершенно другая цель: все его существование подчинялось постоянному труду и строгой экономии, которые не часто, но все же увенчивались покупкой новых земель или улучшением старых. Впрочем, его консерватизм касался лишь финансовых вопросов, любые новые хозяйственные методы, способные увеличить производительность, он принимал на ура. В 1957 году в аграрной газете штата вышла статья под названием «Зачем фермерам самолеты?». Ее сопровождали фотографии нашей фермы, которую с воздуха опрыскивали от кукурузного мотылька, а ниже приводились слова моего отца: «Старые методы себя изжили. Тот, кто освоит новое, будет процветать; остальные разорятся». Говоря это, он явно посматривал через дорогу на дом соседей.
Наш катехизис, будь он написан, звучал бы так:
«Кто такой фермер?
Фермер – это труженик, который кормит весь мир.
Каков первый долг фермера?
Выращивать больше еды.
Каков второй долг фермера?
Покупать больше земли.
Что отличает хорошую ферму?
Чистые поля, аккуратно покрашенные постройки, завтрак в шесть, нет долгов, нет стоячей воды.
Как понять, что перед тобой хороший фермер?
Он никогда ни о чем не просит».
В недрах нашей земли были проложены трубы, отводившие воду, а на ее поверхности не осталось никаких неровностей, поля казались плоскими, как обеденный стол, – и то и другое являлось абсолютной необходимостью, потому что вода моментально заполняла любые углубления, больше просачиваясь, чем растекаясь. Все старые протоки пришлось засыпать и запахать. Вода по трубам сливалась в дренажные колодцы, уходившие в почву на триста футов и выкопанные повсюду (только вокруг нашей фермы насчитывалось семь штук). Хорошим фермером считался тот, кто очищал водосборники каждую весну и красил решетки колодцев раз в два года.
Моя мама относилась к Эриксонам совершенно иначе. Она часто заглядывала к ним в гости: каждое утро заходила к Элизабет на кофе, делала вместе с ней заготовки или готовила арахис в карамели. Мы с Рути в это время сидели на полу и шили наряды для кукол, а Дина и Роуз в одних трусиках переливали воду из кастрюлек и чашек на крыльце. В доме у соседей всегда царила спокойная, гостеприимная атмосфера, которую мама очень любила, но вот воспроизвести у нас не могла. Помню, она говорила: «Дома всегда полно дел, и я не могу отвлечься от них, даже когда приходят гости, а вот Элизабет умеет». При этом она обычно качала головой, будто ее соседка обладала волшебным даром.
Пусть это вслух и не говорилось, все мы хорошо понимали: рано или поздно Эриксоны разорятся из-за своих причуд и несерьезного отношения к работе. Мама осознавала это не менее ясно, чем остальные, хоть и с долей грусти и сожаления. У соседей не было ни преемственности, ни дисциплины. Пока они дрессировали собак и делали мороженое, мы упорно и планомерно трудились для достижения серьезной цели. Какой? Мой отец никогда не говорил, что хочет, к примеру, заработать много денег, создать крупнейшую ферму в округе или расширить владения до круглой цифры в тысячу акров. Никогда не проявлял желание обеспечить своим детям безбедное будущее, оставив хорошее наследство. Он вообще никогда не выражал никаких желаний и хотел только работать, собирать богатый урожай и не позориться перед соседями.
С нескрываемым отвращением говорил он о земле, которая встретила его предков, приехавших в Америку, – покрытая малярийными болотами, заросшая камышами, кишащая москитами, пиявками, змеями и саламандрами. Зимой 1889 года она раскинулась перед ними как гигантский каток на десять миль восточнее Кэбота вплоть до Колумбуса. А вот мне нравилось, что предки решились сняться с насиженного места и отправится за океан претворять в жизнь туманную американскую мечту. Я любила семейную шутку про дедушку Кука, который сумел разглядеть возможности там, где остальные видели лишь надувательство. Отец же, в отличие от предков, видел не возможности, а их отсутствие, и учил нас тому же на примере Эриксонов: учил держать ферму в порядке, а себя в строгости, отказываясь от многих вещей, главным образом – от безобидных причуд и житейских удовольствий.
У Эриксонов мне нравилось, я дружила с Рути. Одно из первых воспоминаний детства – мы сидим с ней на корточках на решетке дренажного колодца и просовываем камешки и ветки в узкие отверстия (мне, наверное, года три, потому что я в сарафане в красно-зеленую клетку, а Рути чуть меньше – она в розовой сорочке). Нас завораживал звук струящейся воды в темной глубине колодца. До сих пор, когда я вспоминаю об этом, меня охватывает чувство тревоги, но не за наши жизни, совсем нет. Тревоги перед лицом неумолимого времени. В своей детской беспечности мы балансировали на тончайшей паутине над бездной прошедших эпох, обратившихся в камень: висконсинский тилл, миссиссипский карбонат, девонский известняк. Нашим жизням ничего не угрожало (отец регулярно проверял решетки), но они казались ничтожными и мимолетными. Это воспоминание живет в моей памяти как выцветшая фотография безымянных детей, повзрослевших или давно умерших – безвозвратно канувших в темную глубину колодца времени.
За то, что мы с Рути убегали от дома, переходили дорогу и взбирались на решетки, нас строго наказывали – как именно, уже не помню, зато отчетливо вижу сердитое мамино лицо и ее передник с нашитым на нем желтым сомбреро. Вижу и сосредоточенный взгляд Рути, ее пальцы, выпускающие что-то в темноту колодца. Помню чувство беспредельной любви к ней.
Мне не запрещали бывать в гостях у Эриксонов, и я к ним ходила: смеялась над трюками, которые выполняли собаки, ела мороженое и сладкие пироги, каталась на пони или сидела без дела на диванчике у окна в комнате Дины. При этом где-то в глубине души я знала: совершая все это, я отступаю на шаг назад, деградирую. Знала я и то, что, приглашая Рути к себе, делаю ей одолжение, позволяя формировать характер (чем бы мы ни занимались), хотя вслух это, конечно, никогда не произносилось.
Размолвка отца и Кэролайн меня опечалила, но не менять же из-за нее налаженный ход жизни. Так что на следующий вторник после подписания документов, когда пришла моя очередь звать папу на ужин, я приготовила все как обычно: свиные отбивные в томате, жареную картошку, салат и два или три вида маринованных закусок. Приличный кусок пирога с бататом остался с выходных.
У нас папа ужинал по вторникам, у Роуз – по пятницам, однако даже эти редкие визиты он старался поскорее свернуть. Приходил ровно в пять и сразу садился за стол. Поев, выпивал чашку кофе и тут же отправлялся домой. Пару раз в год нам удавалось уговорить его ненадолго остаться, чтобы вместе посмотреть телевизор. И если нужная программа начиналась не сразу, то он ходил из угла в угол, не находя себе места.
Отец никогда не бывал в квартире Кэролайн в Де-Мойне, никогда никуда не ездил без необходимости, кроме сезонной ярмарки, и терпеть не мог гостиниц. Рестораны он тоже не любил. В городское кафе заезжал пару раз, да и то, чтобы пообедать, а не посидеть и поболтать. Против пикников и вечеринок с жареным поросенком он не возражал (если их устраивали другие), но вот ужинать предпочитал дома за кухонным столом, слушая радио. Тай утверждал, что на самом деле папа не такой уж замкнутый и независимый, как кажется, но, подозреваю, опирался он не на реальные факты (потому что их не было), а судил об отце, сравнивая его с другими. Любые попытки нарушить привычный уклад папа принимал в штыки: реши я приготовить курицу вместо свинины, подать кекс вместо пирога и не поставить на стол маринады, на меня бы немедленно обрушилось его недовольство.
Роуз утверждала, что виновата мама: мол, потакала его вкусам. Впрочем, как все было на самом деле, мы не помним и теперь уже не узнаем. В моих воспоминаниях образ отца полностью заслонил собой все прочие лица и обстоятельства, однако я ничего о нем не помню из того времени, когда еще жива была мама.
За ужином Тай только и говорил, что про разведение свиней. Он уже позвонил в компанию по производству свинарников в Канзасе, и те выслали по почте каталоги.
Отец положил себе маринованных огурцов.
– Там щелевые полы с системой автоматической промывки, даже один человек легко справится с уборкой, – расписывал Тай.
Отец не проронил ни слова.
– Тысячу свиней откормим влегкую. Марв Карсон сказал, что теперь на свинине можно отлично заработать, не то что в восьмидесятых.
Отец продолжал молча жевать мясо.
– Роуз хочет постирать занавески со второго этажа, – вставила я. – Она говорит, что их уже два года не стирали, я не помню точно.
Отец терпеть не мог, когда нарушался привычный порядок в его доме. Я добавила:
– Мы достали маринованную цветную капусту и брокколи. Ты же любишь.
Отец принялся за картошку.
Я сказала Таю:
– Мы тут завтракали с Марвином. Представляешь, он все ест по отдельности в определенном порядке и под конец требует соус табаско, чтобы пропотеть. Он так токсины выводит.
– Он так мозги себе выведет. Вечно у него какие-то заскоки, – фыркнул Тай.
– Теперь он все здесь решает, – осадил его отец.
– Почему? – удивилась я.
– С недавнего времени Марвин Карсон – ваш хозяин. Поуважительней.
– Как по мне, так он вообще малахольный, но это между нами. Я, конечно, ничего не имею против: он местный и фермеров не обманывает. Но почему он до сих пор не женат? – не унимался Тай.
– У него есть деньги в банке, – отрезал отец. – Не всякий может этим похвастаться.
Он вытер губы и огляделся. Я убрала грязную тарелку и подала пирог.
– Могу посадить завтра бобы в углу Мэла, – предложил Тай.
– Делай что хочешь, – буркнул отец.
Мы с Таем переглянулись.
– В тракторе карбюратор барахлит, сейчас некогда этим заниматься, но что-то мне звук не нравится, – заметил Тай.
– Я же сказал, делай что хочешь.
Я облизнула губы. Тай отодвинул свою тарелку, я поставила ее в раковину и подала мужу пирог, выключила кофе, который уже начал закипать, и налила отцу.
– Ладно, – проговорил Тай, – рискну.
– Может, останешься, папа? Посмотрим телевизор, – предложила я.
– Нет.
– Найдем что-нибудь интересное.
– Нет. Дела.
Как обычно. Я посмотрела на мужа, тот чуть заметно пожал плечами.
Отец допил кофе и поднялся из-за стола. Я проводила его до двери и сказала:
– Звони, если что-то понадобится. Может, останешься?
Я всегда так спрашивала, и обычно он не отвечал. В тот раз тоже не ответил. Я наблюдала, как он забирается в свой грузовик и выезжает со двора.
– Все как обычно, – заметил Тай у меня за плечом.
– Я тоже об этом подумала.
– Он и раньше так говорил, чтоб я сам решал. Не часто, но бывало.
– Думаю, он даже рад передохнуть, особенно после тяжелой посевной.
– Точно.
На следующий день я сажала помидоры. Рассаду выгоняет Роуз у себя в теплице, а потом отдает мне. В тот раз у нее взошло не меньше сотни кустов. Посадки были для меня делом привычным и любимым. Следуя давно выработанному ритуалу, я втыкала ростки в приготовленную смесь торфа, костной и люцерновой муки, а затем закрывала их старыми консервными банками со срезанным дном, чтобы защитить от гусениц и палящего солнца. Обкладывала по кругу страницами из городской газеты и присыпала прошлогодней травой. Год за годом ходили разговоры о том, чтобы отвезти часть урожая помидоров в Форт-Додж и Эймс и продать на фермерском рынке, однако вместо этого мы каждый раз закатывали все, что удалось вырастить. Получалось около пятисот кварт превосходного томатного сока, который мы пили всю зиму.
Я откинула волосы, вытерла рукавом нос и только собралась приняться за дело, как заметила Джесса Кларка. Он сидел на низкой изгороди напротив и улыбался. На нем были дорогие кроссовки, хлопковые шорты и футболка участника забега на десять км. Хотя прошло уже много лет, для меня он так и остался младшим соседским мальчишкой. Его я ничуть не стеснялась, в отличие от других мужчин.
– Ну, что там дальше? – бросила я ему, словно наш воскресный разговор и не заканчивался вовсе.
Джесс внимательно посмотрел на меня и сказал:
– Лорен тут заявил: «Что же ты не женился? Поговаривают, на западе ничего так девчонки. Ничего так…»
Мы засмеялись. Потом Джесс замолчал, пристально посмотрел мне в глаза и добавил:
– У меня ведь была невеста. Погибла в автокатастрофе.
– Когда?
– Шесть лет назад. Ее звали Элисон, ей было всего двадцать три года.
– Ужасно. Прости…
– Два года я пил, не просыхая. В Канаде не проблема найти собутыльников.
– Нигде не проблема.
– Да, но там не стыдятся – там просто пьют.
– На вечеринке ты даже не притронулся к спиртному.
– Во вторую годовщину ее смерти я выпил две бутылки виски и чуть не сдох. С тех пор не беру в рот ни капли, даже пиво перестал пить.
– О Джесс… – Я чуть не задохнулась от жалости к нему. Все его рассказы о жизни в большом мире казались мне ужасающими.
Я взяла второй ящик с рассадой. Выкопала глубокую лунку, насыпала в нее удобрения, отделила один кустик, аккуратно оборвала нижние листья и воткнула в землю – у помидоров корни растут по всей подземной части стебля, благодаря чему они переносят любую непогоду. Выпрямилась и взглянула на Джесса, он смотрел на меня серьезно и сосредоточенно.
– Расскажи еще, – попросила я.
– У Элисон были непростые отношения с родителями – те из Манитобы, очень религиозные. Когда она уехала в Ванкувер, они отреклись от нее. Это давило на нее все больше и больше. Она доверяла людям, всегда такая добрая, открытая, внимательная. Не знаю, может, и не несчастный случай. Она вылетела на встречку, прямо под колеса грузовика. В ее состоянии похоже на самоубийство, но вряд ли она стала бы подвергать риску чужие жизни.
Я бросила сажать, села на корточки и уставилась на Джесса, широко открыв глаза. Он улыбнулся и добавил:
– Пожалуйста, сажай, мне так проще рассказывать.
Я принялась копать следующую лунку.
– После смерти Элисон, – продолжал он, – я напивался и названивал ее родителям из баров, угрожая приехать в Манитобу и прирезать их. Они никогда не бросали трубку, всегда слушали до конца, иногда даже вдвоем по параллельным линиям. Пока я их проклинал, они молились за меня. Не думаю, что их мучила совесть. Я перестал им звонить, когда бросил пить.
Я опять подняла на него глаза, а он широко улыбнулся и заявил:
– Теперь я наполнен светом и спокойствием. И любовью к жизни.
– Вижу, – кивнула я и выкопала еще одну лунку, а потом решилась. – Ты выглядишь моложе, чем Лорен, но лицо у тебя старше. Жестче. Или опытнее.
– Правда?
– Мне так кажется.
– А мне кажется, что ты выглядишь моложе Роуз.
Я ничего не ответила. Мысль, что он рассматривал меня, неожиданно смутила и напугала.
– Какой она была, твоя… Элисон?
– Большинство бы посчитало ее простоватой. Крепкая, неуклюжая, неулыбчивая. Но любовь ее преображала.
Я недоверчиво посмотрела на Джесса – он что, шутит?
– Я не шучу, – добавил он, заметив мой взгляд. – У нее были красивые глаза и улыбка. Когда мы занимались любовью… Когда она чувствовала себя счастливой, ее лицо расцветало. И движения наполнялись грацией, когда она переставала стесняться своего тела.
– Как же ты это разглядел?
– Мы работали вместе в службе доверия. Я не сразу в нее влюбился. Долго приглядывался.
– Мечта всех серых мышек, что найдется тот, кто разглядит красоту за заурядной внешностью.
– Знаю.
Повисло молчание, я продолжала выкапывать лунки и втыкать в них помидоры.
– Роуз еще не оправилась после операции, до болезни она выглядела гораздо лучше, – заметила я.
– Какой болезни?
– Лорен и Гарольд ничего тебе не сказали?
– Про операцию? Нет, – покачал головой Джесс.
– Досадно…
– Почему?
– Будто для них это – мелочь, о которой даже упоминать не стоит. У Роуз нашли рак груди. В феврале сделали мастэктомию.
– Подозреваю, они и слов-то таких не знают. – Джесс улыбнулся.
Уткнувшись в следующую лунку, я спросила:
– А что они сказали тебе о маме?
– Умерла от рака.
– Сначала у нее тоже обнаружили рак груди, а потом – лимфому.
– Теперь твоя очередь рассказывать.
– О чем?
– О маме.
Вся округа единодушно осуждала Джесса Кларка за то, что он так и не появился, когда его мать Верна умирала. Я тоже, и потому мой вопрос прозвучал довольно резко:
– Уверен, что хочешь знать?
– Нет.
– Тебе решать.
– Все было так плохо? – спросил Джесс.
– Лимфома почти не причиняет боли. Твоя мама чувствовала легкое недомогание в течение пары месяцев, но к доктору идти наотрез отказывалась. Лорен едва ли не силой отвез ее в больницу, там поставили диагноз. Через две недели ее не стало. Долго она не мучилась.
– Почему же ты спрашивала, хочу ли я знать?
Я чувствовала вкус пыли на губах.
– Она ждала тебя. По словам Лорена, до последнего ждала, что ты появишься или хотя бы позвонишь.
– Мне никто не сообщил.
– Она запретила. Надеялась на духовную связь. Рассказывала, что, когда ты был маленьким, ей даже не приходилось тебя звать, стоило только подумать, и ты являлся. До самого конца она надеялась, что ты ее почувствуешь. Я понять не могла, почему Гарольд и Лорен не позвонили тебе вопреки ее запретам. Оказалось, не смогли тебя найти. Лорен звонил в Ванкувер Джесси Кларк, но та оказалась женщиной.
– Как она уходила?
– А ты как думаешь? В тоске и горе.
Джесс ничего не ответил, я продолжала сажать. Солнце уже стояло высоко, время близилось к полудню, а у меня еще оставалось двадцать пять кустов в ящике. Я отодвинула их в тень и полила водой. Возможно, я была слишком резка с Джессом, но я прекрасно помню, как умирала моя мать. Мне тогда едва исполнилось четырнадцать. Она лежала в гостиной, и мы с Роуз ухаживали за ней два месяца. Дежурили по очереди: я приходила в школу на два часа позже, а Роуз уходила на два часа раньше. Не знаю, есть ли на свете что-то более тяжкое и весомое, чем смерть матери. Все мы думали, что Джесс Кларк должен приехать. Просто обязан, какой бы тюремный срок ни ждал его при пересечении границы. Так повторял Гарольд, и я до сих пор с ним согласна. Я облизнула губы, пересохшие от опаляющего гнева.
– Не сработала духовная связь, да? – бросила я.
– Она умерла в ноябре семьдесят первого?
– Сразу после Дня благодарения.
– Ничего не чувствовал, – покачал головой Джесс. – Жил на маленьком острове, даже без телефона.
Голос его звучал ровно, но лицо исказилось болью и гневом.
– В этом недостаток телепатии – связь на линии то и дело обрывается, – выдавил он и невесело рассмеялся, откинув голову и почти задыхаясь. Я не могла оторвать от него взгляд: ни у кого из знакомых мужчин не видела я такого выразительного лица. Вокруг носа и глаз пролегли глубокие морщины, углы губ опустились, глаза потемнели, брови сдвинулись.
– О боже…
– Джесс? Ты в порядке? Почти восемь лет прошло.
– Я так злился на нее! – воскликнул он. – В первый год я писал ей дважды. Она ведь тоже войну не одобряла. Но она не ответила. Всего одно письмо или открытка! Чтобы я знал, что она не осуждает или хотя бы думает обо мне! В Ванкувере тогда было полно парней, скрывающихся от призыва или сбежавших из армии, их семьи гордились ими как героями или, на худой конец, поддерживали. Присылали письма, посылки. От Гарольда я ничего не ждал, а вот на нее надеялся. Мне ведь только исполнилось восемнадцать! Сейчас я смотрю на таких же мальчишек, каким был тогда, и поверить не могу! Незрелый, неопытный, еще даже расти не перестал. Она знала, где я жил в 1971 году. А если нет, могла легко проследить по письмам. Ей было всего сорок три!
Джесс подошел ко мне и присел рядом. Я начала бормотать что-то в защиту его матери – в конце концов, она боролась с серьезной болезнью. Он посмотрел на меня в упор – я осеклась. Он заговорил мягко и тихо, словно доверяя секрет:
– Они поимели всех нас, Джинни. И живых, и мертвых. Я – ее сын! Ради чего она от меня отреклась? Патриотизм? Мнение соседей? Согласие с Гарольдом? Со стороны, может, казалось, что я просто исчез, но меня вышвырнули. Вышвырнули из родного дома во взрослый мир. Я ничего не имел и ничего не умел, ни стирать, ни готовить. В учебном лагере все были такими. Они посылали на войну детей. Одного сердечный приступ свалил прямо на плацу. Другой жаловался на сильные головные боли, но сержант не обращал внимания. В последнюю ночь перед отправкой из учебного лагеря тот паренек встал с койки, прошел, пошатываясь, в туалет и там рухнул. Сержант начал орать, чтобы он не придуривался, даже пнул его. Тут и мы подтянулись, чтобы посмотреть, а парень начал биться головой о кафельную стену. Раз шесть, со всей силы, пока мы его не остановили. Потом его унесли куда-то на носилках, а я думал только о том, что ему не придется воевать во Вьетнаме, как нам. А у него ведь даже еще волосы на груди не росли!
Джесс опустил руки мне на плечи и тихо проговорил:
– Они загубили нас! Ты говоришь, мама умерла в тоске и горе. Но, черт побери, почему она не дала мне шанс?!
Он закрыл лицо руками.
– Не знаю, Джесс, – только и смогла я ответить. Меня трясло. Руки дрожали так, что стебель, который я держала, переломился.
Джесс отошел, его тоже потряхивало. Он снял футболку и вытер ею лицо и шею.
– Надо возвращаться домой, – произнес он.
– Я на тебя не злюсь. С Гарольдом тебе сейчас лучше не сталкиваться.
– Я имел в виду Сиэтл.
Он сел, сделал несколько глубоких вдохов и попытался улыбнуться.
– Не беспокойся, Джинни, уже отболело. Теперь я спокоен… обычно. Я перестал выходить из себя, как только бросил пить. А бросил я, когда понял, что у нас с Элисон нет будущего. Я любил ее. Правда любил, но больше всего мне нравилось ненавидеть ее родителей. Нравилось быть с ней, потому что остальные от нее отвернулись. Не думал, что такое еще способно меня растревожить.
– Возможно, на тебя подействовали воспоминания о маме, – решилась я сказать после минутного замешательства. – Но, Джесс, как мне верить, что жизнь прекрасна, а изменения к лучшему, если ты сам в это не веришь?
– Я верю.
Мы улыбнулись друг другу. Эта улыбка когда-то казалась мне очаровательной?! Как же порой обманчива внешность…
9
С момента операции прошло уже три месяца, Роуз активно шла на поправку. После курса химиотерапия у нее был вид усталого, но не разбитого человека, впрочем, как и у многих других раковых больных, которых мне довелось видеть. Ей отняли правую грудь, лимфатический узел подмышкой и все грудные мышцы с правой стороны – традиционная радикальная мастэктомия. Я все еще продолжала готовить вместо нее время от времени и, конечно, проведывала ее каждый день. О здоровье старалась не спрашивать – сестру это раздражало – но внимательно следила за ее состоянием: нет ли признаков усталости, слабости, боли.
На следующий после разговора с Джессом день мне предстояло везти Роуз в Мейсон-Сити на плановый осмотр. По дороге мы больше молчали: сестра то и дело раздражалась и нервничала. Сначала она прищемила пояс плаща дверцей, потом мы потеряли время, заехав на заправку и попав в пробку на подъезде к больнице, из-за чего опоздали на прием на пять минут. После осмотра мы планировали немного погулять и пообедать в кафе, однако, естественно, все зависело от того, что скажет доктор. Если новости окажутся плохими, тогда ни о каких прогулках нет и речи. Все должно было решиться на приеме, и мы это понимали.
Однако в больнице все прошло отлично. В приемной нас встретили с таким радушием, будто заранее знали, что все в порядке. Доктор осмотрел Роуз и не нашел ничего подозрительного. Отметил «быстрый прогресс» в восстановлении подвижности правой руки. Роуз криво усмехнулась, услышав его слова про «быстрый прогресс». Три месяца, омраченные болезнью, показались нам бесконечно долгими, да к тому же еще и выпали на самую ужасную часть года в нашей местности: небо с утра до вечера затянули стальные облака, и пронзительные холодные ветры не стихали ни на секунду, даже в те редкие минуты, когда сквозь серую завесу пробивалось слабое солнце. Только теперь, когда опасность миновала, мы увидели, как были подавлены и обессилены. Прощаясь с доктором, мы смотрели на его круглое румяное лицо с нежностью. С трепетом вдыхали чудесный майский воздух, напоенный ароматом цветущих яблонь. С восторгом любовались яркими тюльпанами и ирисами во дворе больницы – а ведь когда шли на прием, даже не заметили их.
– Чудесный день! – воскликнула Роуз и вдохнула солнечный воздух полной грудью. Впервые ее левая рука не метнулась к правому плечу, туда, где отняли мышцы, будто она до сих пор не могла смириться с потерей. Это стремительное, мимолетное движение, вошедшее у сестры в привычку, каждый раз заставляло мое сердце сжиматься от жалости. К груди Роуз никогда не притрагивалась, видимо, считая ее неизбежной жертвой. Но еще и плечо?!
– Хочется мяса, – сказала она.
– Поехали в кафе.
– Лучше в ресторан. В тот, где вы праздновали десять лет свадьбы, помнишь? У них одной селедки три вида. И жаренные в масле чесночные гренки, твердые, как жестяные крышки, но рассыпчатые и тающие во рту.
– Как ты это помнишь? Шесть лет прошло!
– Не знаю, само в памяти всплыло. Я верю, что болезнь отступила, понимаешь? Верю каждому его слову и теперь хочу насладиться всем, от чего отказывалась и о чем старалась не думать.
Мы постояли на светофоре и перешли через улицу. Я представления не имела, куда мы идем.
– Даже не подозревала, что ты была настолько подавлена, – пробормотала я.
– Я и сама в полной мере не осознавала. Знаешь, это как гаражная распродажа, когда смотришь на вещи, которые раньше для тебя много значили, а теперь лежат грудой с налепленными ценниками. И ты наблюдаешь, как соседи разбирают их, но тебе уже все равно.
Я молча взглянула на Роуз. Для меня прошедшее скорее напоминало поездку на машине с отказавшими тормозами. Три месяца мы неслись по дороге, уворачиваясь от столбов и летящих навстречу машин. Теперь же опасность миновала, и машина ехала ровно и спокойно.
Дойдя до конца улицы, Роуз остановилась и провела рукой по волосам.
– Это был просто экзамен, Джинни, длиной в три месяца. Пройдет еще шесть месяцев, еще год, еще пять лет, и мне исполнится сорок. Я хочу сделать что-нибудь. Чтобы оскандалить папу, досадить ему.
– Вряд ли в Мейсон-Сити есть мужской стриптиз, – пожала я плечами.
– Тоже смотрела шоу Фила Донахью? – ухмыльнулась Роуз.
– В прошлую среду? Когда по студии прыгали здоровенные парни в крошечных блестящих синих плавках?
– Один был в черных.
– Точно, блондин.
– Ты что, смотрела? Даже я покраснела.
– Я выключила картинку и только слушала. Как радио.
– Врешь!
– Вру, – признала я. – Смотрела от и до, даже когда они оделись.
Роуз засмеялась на всю улицу, потом отдышалась и заявила:
– В Мейсон-Сити есть бордель. Мне Пит сказал. Рядом с семейным кафе. Напротив отделения Министерства сельского хозяйства.
– А Пит откуда знает?
– Ему рассказали парни, которые нам прошлым летом амбар красили.
Мы остановились у витрины с женскими платьями. Роуз усмехнулась.
– Но думаю, так далеко мы из-за папы заходить не будем. Достаточно накупить тряпья.
– Слава богу! – выдохнула я.
С тех пор, как Роуз поставили диагноз, она не покупала новой одежды и перед зеркалами не задерживалась. Мы вошли в магазин. Я направилась к стойке с блузками, стараясь не следить за Роуз, что уже вошло у меня в привычку: какой размер она выберет, какой вырез. Только бы платье ей подошло! Отобрав, как всегда, четыре вещи, она отправилась в примерочную. Я слонялась поблизости, рассеянно рассматривая свитера. Роуз долго не появлялась и когда я, забывшись, подошла совсем близко, сказала:
– Джинни, я вижу твои ноги.
Мне пришлось взять себя в руки и отойти. Когда Роуз появилась, ее хорошего настроения как не бывало. Она молча с улыбкой отдала все платья продавщице и направилась к двери. Я сделала вид, что рассматриваю ремни, но, увидев, как сестра выходит на улицу, поспешила за ней.
Мы постояли у следующей витрины с туфлями, потом у витрины магазина фиксированных цен. Роуз долго рассматривала ультразвуковой увлажнитель. Я не выдержала и спросила:
– Что-нибудь слышала от Кэролайн?
– Нет.
– Как думаешь, кто сделает первый шаг?
Роуз посмотрела на меня, заслонив рукой глаза от солнца.
– Папа хоть раз первым мирился?
– Нет. Но это с нами. А тут Кэролайн.
– Скорее вода потечет в гору, чем он сделает первый шаг.
– Думаешь, ей следовало вести себя осмотрительнее?
Роуз зашагала дальше.
– Зачем ей быть осмотрительнее? У нее собственный доход. Она всегда держалась обособлено и менять ничего не собирается. Попомни мои слова. Она выйдет замуж за Фрэнка, родит сына, и все помирятся.
– Ты, кажется, тоже злишься. Но ведь она уже шла мириться, а папа захлопнул перед ней дверь.
– Вообще не должно было быть никакой ссоры, никакого примирения, никакой драмы! Она не хочет быть как мы. Вот в чем дело! Не замечала? Когда мы идем вместе, она всегда отстает. Когда мы воюем с отцом, она к нему ластится.
– Возможно, ты права.
– Черт! Я помню, когда ей было пять или около того. Я делала на кухне домашнюю работу, мама готовила, Кэролайн рисовала. И вдруг она поднимает голову, смотрит на всех нас и выдает: «Когда вырасту, не буду женой фермера». Мама засмеялась и спросила, кем же она тогда будет. И сестрица заявила: «Фермером!»
Я засмеялась. Мы зашагали дальше и по обоюдному молчаливому согласию Кэролайн больше не обсуждали. У меня заурчало в животе.
– Рози, давай заглянем в семейный ресторан – посмотрим, в чем проститутки ходят на работу.
– Поехали лучше домой. Там полно еды.
– Ты устала?
– Да.
Спорить я не стала. Никогда не спорю с Роуз.
– Знаешь, Джинни, – сказала она, когда мы сели в машину. – Выйдя из больницы, я подумала, что сошла с ума: это солнце, эти клумбы, которые мы сначала не заметили. Мне захотелось продлить сумасшествие, усилить, удержать его. И я решила, что нужно болтать и смеяться как безумные, есть как безумные, транжирить деньги как безумные, но я забыла… Я еще не готова раздеваться в примерочных.
Она вздохнула. Мы выехали с парковки.
– Что для тебя самое сложное? – спросила она, помолчав.
– Не знаю. Пожалуй, общаться с посторонними людьми.
– Как это?
– Я или ужасно стесняюсь, или веду себя как идиотка, если человек мне симпатичен. Никогда не поверю, что Марлен Стэнли или остальным нравится со мной общаться. Хотя на деле выходит, что нравится.
– Джинни, ты говорила то же самое еще в средней школе!
Я напряглась.
– Можно подумать, с тех пор у меня было много практики. Помнишь, в школе ты мне советовала: «Хочешь подружиться с такой-то? Просто подойди и угости ее печеньем».
Роуз от души рассмеялась.
– Обычно это работало.
Помолчав, она заговорила опять, только теперь очень серьезно.
– Для меня сложнее всего – не брать чужие вещи. Одно из самых ярких воспоминаний детства – как мама бьет меня по рукам и ругает за воровство. Мне часто снится один тот же кошмар: передо мной папина опасная бритва или плохо закрытая банка с кислотой, и я знаю, что брать нельзя, но удержаться не могу.
– А мне снится, что я, голая, стою в столовой. В девятом классе.
– Многим снится что-то похожее.
– Наверное.
Всю оставшуюся дорогу домой мы молчали. Над полями поднималось солнечное марево. Молодые побеги кукурузы пестрели на влажной земле, как аккуратные стежки на темной шерсти. Вылезая из машины, Роуз чмокнула меня в щеку. Мы знали друг друга всю жизнь, но нам никогда не надоедало быть вместе. Эта связь поддерживала нас, и я ценила ее превыше всего. Ценила, но не афишировала. Роуз терпеть не могла сантиментов.
10
Кэролайн исполнилось шесть, когда умерла мама. Поначалу планировалось, что ее заберет к себе мамина кузина Эмма из Росчестера в Миннесоте. Та работала старшей медицинской сестрой в частной больнице, и ни мужа, ни детей у нее не было. Этот вариант активно обсуждался во время маминой болезни, и многие прихожанки, любившие читать про сироток, считали его весьма романтичным. Тетя Эмма отлично зарабатывала, так что красивая одежда и городское образование были бы Кэролайн обеспечены. Но папа, вопреки всем разговорам, заявил, что мы с Роуз достаточно взрослые, чтобы позаботится о сестре, – и Кэролайн осталась на ферме.
Она росла послушной и некапризной: играла с нашими старыми куклами, ела все, что давали, убирала за собой игрушки и не пачкала одежду. Сельскохозяйственная техника ее не интересовала. Сеялки, буры, тракторы, кукурузные жатки, грузовики совершенно не занимали ее, как и домашние животные. Ей не было дела ни до свиней, ни до кошек и собак, которые иногда у нас появлялись. Она никогда не убегала за дорогу и не отходила далеко от дома. Никогда не забиралась на решетки дренажных колодцев. Идеальный ребенок, воспитывать которого одно удовольствие: мы только шили одежду для ее кукол, пекли пироги, читали книги вслух и учили ее быть аккуратной, хорошо кушать, вовремя ложиться спать, обращаться к взрослым на «вы» и делать домашнюю работу. Ничего особенного, все то же самое, чему и нас учили в детстве. Однако – папа не уставал это повторять – в отличие от нас она была само совершенство: не упрямилась и не сторонилась людей, как я, не хулиганила и не грубила, как Роуз, всегда мила и ласкова. Целовала своих кукол и отца, когда тот просил. Стоило ему сказать: «Дочка, поцелуй меня» (то ли приказывая, то ли выпрашивая), как Кэролайн тут же залезала к нему на колени, обхватывала ручонками и чмокала прямо в губы. Смотреть на это спокойно я не могла. Внутри меня будто начинал ворочаться огромный тяжелый булыжник. Несговорчивость или отвращение, видимо, настолько явно проявлялись у меня на лице, что ко мне отец с подобной просьбой не обращался.
К девятому классу принципы воспитания Кэролайн немного изменились, но все же мы не ограничивали ее строгостью, наоборот, считали, что у сестры должна быть нормальная жизнь, как у всех старшеклассников: с танцами, свиданиями и прогулками. Никто не заставлял ее возвращаться домой на школьном автобусе сразу после уроков – пусть гуляет, ходит в гости к городским подругам и даже иногда остается у них ночевать, если зовут. Роуз, которая к тому времени уже работала, давала ей деньги на наряды, а я не возражала. Если сестру приглашали на день рождения, мы вручали ей деньги на подарок. Таковы были наши принципы, и они резко отличались от взглядов отца, который считал, что нет места лучше дома, покупать вещи – неоправданное расточительство и раз мы платим за школьный автобус, то Кэролайн обязана на нем ездить. Мы покрывали сестру и выгораживали ее перед отцом. В старших классах мне даже удалось уговорить его разрешить ей пригласить своего парня на школьные танцы. Роуз подарила сестре подписку на журнал «Гламур» и даже научилась копировать простенькие модные наряды, которые в округе Зебулон не продавались.
Мы отлично ладили с Кэролайн. Подростком она была такой же покладистой, как и в детстве. Школу закончила с отличием и поступила в университет, как мы и планировали. Не стала ни женой фермера, ни фермером, а выбрала другой, более яркий и перспективный путь. Иногда она спрашивала нас с Роуз (без всякой задней мысли):
– Не понимаю, почему вы не уехали с фермы. Неужели вам никогда не хотелось другой жизни?
Такие вопросы безумно раздражали Роуз, а мне нравились. Они доказывали, что мы превосходно справились со своей задачей.
Забросив Роуз домой, я решила позвонить Кэролайн, но проезжая мимо папиного дома, увидела, что его пикап оставлен на подъездной дорожке, а сам он неподвижно сидит в мягком кресле перед окном в гостиной и, не отрываясь, смотрит на улицу. Один его вид моментально вытеснил у меня из головы все прочие мысли. Мне не хватило духу тут же развернуться и пойти к нему, однако, приехав домой, я не смогла заставить себя выйти из машины и уже представляла, какие заголовки появятся в окружной газете: «Местный фермер найден мертвым в собственном кресле». Если бы Роуз спросила не о том, что для меня самое сложное, а какая у меня самая дурная привычка, то я бы ответила: представлять всегда наихудшее.
Я вышла из машины и захлопнула дверь. И тут же ее открыла, села обратно и завела мотор. Проезжая, я видела, что папа все так же прямо сидит на прежнем месте, но, возможно, это ручки кресла не дают телу сползти. Вдруг отец поднял ладонь к подбородку. Я выдохнула и повернула к дому. Когда я вошла, он сказал:
– Что нужно?
– Ничего.
– Ты два раза проехала мимо окон.
– Я вернулась посмотреть, что ты делаешь.
– Читаю журнал.
Ни рядом с креслом, ни на столике никаких журналов не было.
– Смотрю в окно, – бросил он.
– Ну и отлично.
– Отлично, да.
– Тебе что-нибудь нужно?
– Я обедал. Разогрел еду в микроволновке.
– Хорошо, – кивнула я.
– После микроволновки еда остывает быстрее. Не успел доесть, как все уже стало холодным как лед.
– Никогда о таком не слышала.
– Это так.
– Я возила Роуз в больницу.
Отец отодвинулся. Я проследила за его взглядом и увидела Тая, пахавшего западное поле. В тишине был слышен отдаленный гул трактора.
– Она в порядке? – спросил отец.
– Да. Врач сказал, что все хорошо.
– Случись с ней чего, девчонкам ее будет несладко.
Что на это ответить? Выражал он таким образом недовольство Питом? Или сомневался, что я смогу заменить девочкам мать? Вспоминал нашу жизнь после смерти мамы? Напоминал об ответственности Роуз? Или просто делился общими наблюдениями из опыта животноводства? Тай бы наверняка сказал, что за этой грубоватой фразой отец хотел спрятать собственные чувства: это нам всем, и ему в первую очередь, будет несладко, ведь Роуз все-таки – его дочь. Но мне кажется, отцу подобные переживания были совершенно не свойственны. Никогда.
– С Роуз все хорошо. Волноваться не о чем, – сказала я.
– Волноваться тут действительно не о чем. И так дел хватает.
– Да, конечно.
Я оглянулась по сторонам: может, надо сделать что-нибудь по дому, тогда мое появление не будет выглядеть так нелепо. Я всегда боюсь, что люди догадаются о моей привычке ждать худшего. Не очень-то приятно, когда тебя навещают только потому, что решили, будто ты умер. Однако отец и сам отлично справлялся с домашними делами, кроме готовки, стирки и генеральной уборки. Посуда была вымыта и расставлена на сушилке, кухонный стол вытерт, пол подметен. Отец всегда неукоснительно выполнял правило «Убирай за собой». Я перевела взгляд на отца. Он опять уставился в окно.
– Я испекла пирог с ревенем и клубникой. Занесу тебе кусок на ужин. Клубника уже пошла. Я не говорила?
– Почему он пашет это поле? Бобы уже посеяли?
– Не знаю. Наверное.
Отец молча следил за трактором.
– Папа? Приходи к нам сегодня на ужин, если хочешь. Сам и спросишь у Тая.
Отец не отрывал глаз от окна, лицо его багровело.
– Папа?
Он не повернулся и не ответил. Я стала нервничать. Мне хотелось немедленно уйти, сбежать.
– Папа? Тебе что-то нужно? Я ухожу.
У кухонной двери я оглянулась; отец сидел, не оборачиваясь, все так же прямо. Не пошевелился он, и когда я отъезжала от дома. Меня напугало то, с каким остервенением он следил за Таем, невинным пахарем, искренне старающимся никогда не отклоняться от борозды. Зеленый трактор медленно полз от одного конца поля к другому, а отец следил за ним будто через прицел винтовки.
Где-то через полтора часа мне позвонила Роуз.
– Почему папа сидит перед окном в гостиной и пялится на ваше южное поле?
– Все еще сидит?
– Да. Я увидела его, когда поехала в Кэбот за хлебом, и когда вернулась, он все еще сидел. Остановилась напротив окна, вышла посмотреть, а он даже не пошевелился.
– Где Пит?
– Ремонтирует сеялку. Возится с ней с самого утра.
– Тай еще пашет? Мне из дома не видно.
– Когда я проезжала мимо, он начинал крайнюю борозду рядом с дорогой.
– Значит, папа следит за ним. Что-то не так. Он был ужасно зол и даже не обратил на меня внимания, когда я зашла к нему.
– Ну и хорошо. Ничего не просит – и ладно.
– Тебе не кажется это странным?
– А ты что хотела? Он сам отошел от дел, теперь будет следить за Питом и Таем. Думала, он увлечется рыбалкой? Или во Флориду переедет?
– Я вообще об этом не думала.
– Теперь ему только и остается, что пялиться на всех помертвевшим взглядом. Так что лучше нам к этому привыкнуть, – бросила Роуз и положила трубку.
Я улыбнулась, представив, как Роуз смотрела на отца: наверняка вышла из машины, встала руки в боки и уставилась на него. Как перед дракой. Они сто́ят друг друга.
Я нажала на телефоне отбой и тут же занесла руку, чтобы набрать номер Кэролайн, но остановилась, почувствовав неожиданную робость, будто мне предстояло преодолеть пропасть. Внезапно мне стало ясно: звонить надо было сразу, в воскресенье вечером, а не теперь, по прошествии четырех дней. Роуз я бы начала названивать тут же, раз за разом набирая номер, пока не возьмет трубку, а про Кэролайн я просто забыла. Все эти дни я думала только о папе, Роуз и, если уж быть честной, о Джессе Кларке. Мы с Кэролайн никогда не были особенно близки, а последнее время общались не чаще одного раза в три недели, когда она приезжала на ферму на выходные. Да и вообще, сельские жители в 1979 году все еще побаивались междугородних вызовов и не доверяли телефонной связи. В 1973 году нас подключили к спаренной абонентской линии, так что обсуждать по телефону конфиденциальные вопросы считалось рискованным. А кроме того, я настолько привыкла советоваться с Роуз обо всем, что касалось папы и Кэролайн, что теперь делать то же самое с самой Кэролайн казалось необычным и даже пугающим. Да еще эта ее привычка докапываться до всего, все подвергать сомнению и задавать неудобные вопросы. Вдобавок начальство Кэролайн не поощряло личные телефонные разговоры в рабочее время. Все линии прослушивались, потому что клиенты платили деньги за консультации по телефону. Я еще раз нажала отбой и положила трубку. Воскресенье – крайний срок. Если Кэролайн к этому времени не объявится, я точно ей позвоню.
11
Я поймала себя на том, что высматриваю Джесса Кларка. Если он занимается бегом, значит, должен регулярно тренироваться. Правда, не факт, что его маршрут проходит мимо нашего дома. А может, Гарольд уже подрядил его на хозяйственную работу или Джесс сам вызвался помогать. Может, бег и задушевные разговоры оказались городскими привычками, которые, как шелуха, облетели здесь, на ферме. Как бы там ни было, но наши беседы, и особенно последняя, никак не выходили у меня из головы. Никто никогда со мной раньше так не разговаривал.
Все утро я работала в саду, поливала помидоры. Думала о Джессе. И вдруг меня пронзила отчаянная, почти физическая боль. Тело охватил озноб, а внутри все сжалось. Я вдруг прочувствовала, что испытал тогда Джесс. С ним произошло все то, чего ужасно боялась я сама: он потерял любимую, не смог попрощаться с матерью, отец отрекся от него на пороге взросления. И пусть нас с Джессом ничего не связывало, кроме сельского детства, мне казалось, он обладает знанием, которого я жаждала всю свою жизнь.
Странно, при этом мне совсем не хотелось бежать и искать его, было достаточно понимать, что в моей жизни появилось еще что-то важное, помимо попыток забеременеть. Более того, мне казалось, что теперь беременность непременно наступит вслед за прозрением, она взойдет, как росток, из того зерна знания, которое бросил Джесс.
Он и сам явился через несколько дней. Пришел вместе с Таем к ужину. Одежда не рабочая, однако руки испачканы до локтей.
– Джинни, – усмехнулся Тай, – я предложил этому парню поработать немного для разнообразия, а он напросился на ужин.
Муж поцеловал меня в лоб и отправился в подвал, чтобы бросить грязную одежду в стирку.
– Что они заставили тебя делать? – спросила я Джесса. – Чистить свинарник голыми руками?
– Мы ремонтировали дифференциал на старом тракторе.
– На этой развалюхе? Зачем?
– Меня подрядили разбрасывать навоз за домом твоего отца.
– Отличная работенка.
– Да я не против. Работа не хуже других. К тому же, судя по размерам навозной кучи и состоянию инструмента, этим не занимались уже давно. Лет сорок точно.
– Урожай и так хороший, – крикнул Тай. – А это самое главное. Вот купим стальной резервуар для навоза… – Он загрохотал по ступеням, поднимаясь. – И тогда уж все удобрим. Ты собираешься садиться за стол с такими руками?
Я вручила Джессу полотенце. Когда он вышел, Тай шепотом спросил:
– Еды хватит?
– У меня только мясная запеканка, стручковая фасоль и салат. Он же вегетарианец.
– Я и забыл.
Тай махнул рукой и открыл холодильник. Когда Джесс вошел, муж вручил ему пиво, но тот поставил бутылку обратно и достал колу. Мужчины уселись за стол.
– Вы, фермеры, думаете, что стоит прикупить новый агрегат – и все получится, – заявил Джесс вызывающе, но с улыбкой.
Тай принял это за шутку и добродушно хмыкнул:
– Нет, одним агрегатом не обойдешься, надо как минимум два.
Я поставила на стол тарелки и миску с домашним сыром.
– Вы уже заказали целую кучу новой техники.
– Угу, – промычал Тай с нескрываемым удовольствием.
– Чудесная кухня! Как давно я здесь не был, – проговорил Джесс. – У Эриксонов ведь висела птичья клетка?
– С попугаем, – кивнула я. – Но, кажется, не здесь, а в гостиной. Помнишь, как он командовал собаками? – И добавила для Тая: – Попугай выучил команды, которые давал хозяин, и выкрикивал их каждый раз, когда в гостиную заходила одна из собак. И те слушались. Однажды, придя с прогулки, мы услышали, как попугай кричит: «Сидеть! Переворот!» – а колли, высунув язык, вскакивала и каталась по комнате. Миссис Эриксон пришлось накрыть клетку покрывалом.
– Когда они уехали?
– Мне казалось, ты застал их отъезд. Отец купил эту ферму, когда мне было четырнадцать.
– Вернее, увел ее из-под носа у Гарольда, – опять с вызовом уточнил Джесс, глядя мне прямо в глаза.
– Точно, я и забыла.
А еще я забыла, насколько может быть приятна застольная беседа. У нас сто лет не было гостей (не считая родных), да еще таких интересных. Мы принялись за еду.
– Что там говорят про нефтехранилища на западе? – спросил Тай.
– Гигантская афера.
– Они схватили Картера за яйца, – кивнул Тай и покосился на меня. Он знал, что я симпатизировала Картеру или, вернее, его жене Розалин и матери Лилиан. Я закатила глаза.
– Он реалист, – пожал плечами Джесс. – Все учитывает и все обдумывает. Таким в Белом доме не место – слишком страшно.
Я засмеялась, а Тай заметил:
– Джинни он нравится. По правде сказать, и я голосовал за него. Все бы хорошо, но как только что-то происходит, он впадает в истерику.
– Нет, – помотал головой Джесс. – Он говорит: «Что мне делать?» – а должен бы: «Что я хочу сделать? Как спасти ситуацию?» Он словно фермер, только вместо новых агрегатов у него ядерное оружие. Вот и вся разница.
Тай улыбался. Ужин кончился, но мне не хотелось отпускать Джесса, и мужу не хотелось. Я собрала грязные тарелки – на секунду повисло молчание. Тай поднялся, открыл холодильник и еще раз предложил:
– По бутылочке?
– Здесь слишком жарко. Пойдемте лучше на крыльцо, – моментально подхватила я инициативу.
Когда мы вышли, меня захлестнуло бурное ощущение безотчетного счастья. Джесс уселся на подвесные качели, Тай как обычно – на верхнюю ступеньку. Впереди у нас был целый вечер, и я им наслаждалась.
Джесс несколько раз глубоко вдохнул. Цепи, на которых висели качели, тихо заскрипели. Лилии уже отцвели, но с утра я скосила траву вокруг дома, и теперь воздух был напоен сладким ароматом ромашки, смешанным с пряным запахом, доносившимся с помидорных грядок. Светлячки еще не появились, только редкие мотыльки порхали на фоне темной зелени.
– Красота, – выдохнул Джесс. – То, о чем я мечтал.
– Уезжать пока не собираешься? – поинтересовался Тай. Если его что-то интересовало, он всегда спрашивал в лоб, не утруждая себя намеками.
– Посмотрим. Я здесь всего полторы недели. Пока это вроде отпуска, хотя Гарольд активно намекает, что пора бы начать работать с утра до вечера.
– Ты же не собираешься навсегда остаться с Гарольдом и Лореном? – выпалила я. – Столько лет жил сам по себе…
– Да, живут они и правда странно. Я тут спросил Лорена, с кем он встречается, так он в ответ только плечами пожал, будто и говорить об этом не стоит.
– А мне он сказал, – вставил Тай: – «Никто не хочет жить на ферме. Сначала ты ведешь их на свидание, потом они приезжают сюда, набирают свежих овощей, и все».
Джесс рассмеялся.
– Да уж, не самый пылкий ухажер! Самое романтичное, что он может сказать: «Ну, давай поженимся, что ли?»
– Между прочим, в старших классах он встречался с Кэнди Даль, – заметил Тай.
– Помню. Местная звезда, но она всегда хотела уехать. Марлен говорила, что Кэнди отлично устроилась в Чикаго. Ведет прогноз погоды или что-то типа того.
– Лорену всегда нравились яркие девушки. С кучей амбиций и в красивых платьях.
– Точно, – кивнула я. – Раз приезжал сюда с такой, когда учился в колледже. Так он никого не найдет, в том-то и проблема.
– Он стал точь-в-точь как Гарольд. Они оба напоминают мне роботов-близнецов. Пора пахать! Пора сажать! Пора опрыскивать! Пора убирать! Пора пахать! Даже на завтрак едят одно и то же.
– Что, правда? – воскликнула я.
– Три сосиски, два яйца, замороженная мини-пицца с пепперони и двойным сыром, три чашки черного кофе.
Тай фыркнул.
– А ты что смеешься? – спросила я мужа. – Сам всегда доедаешь салат, оставшийся с ужина. Но, Джесс, ты так и не ответил на мой вопрос, только еще больше заинтриговал. Неужели тебя такая жизнь устраивает? Да и, вообще, Лорен не так уж сильно ошибается насчет девушек.
– Не знаю. Пока все неясно. Я съехал с квартиры, которую снимал в Сиэтле, мебель сдал на хранение. Мне тридцать один год. Нужно устраивать свою жизнь, но сначала надо привести мысли в порядок.
Он откинулся на спинку и вытянул ноги, так что качели подпрыгнули.
– Знаешь, как в мультике, герой отпиливает ветку, на которой сидит, но сразу не падает, а зависает в воздухе на долю секунды. Так и я. Только завис почти на четырнадцать лет. Мне кажется, если вернуть ветку на место каким-то образом, это избавит от внутреннего беспокойства, которое все эти годы мешало мне остепениться и устроить свою жизнь.
– Если хочешь быть фермером, – не успокаивался Тай, – тебе не обязательно жить с Гарольдом. Можешь арендовать мою землю. Сто шестьдесят акров к югу отсюда, на полпути к Гров-Сити. Я сдал ее одному парню, но могу передать тебе.
Джесс перекатился на пятки, раскачивая качели. Тай посмотрел на меня, я улыбнулась. И правда, было бы здорово, если бы Джесс остался здесь.
– Не знаю, – покачал головой Джесс. – Когда надо решить?
– Я должен проинформировать текущего арендатора в письменной форме не позднее сентября.
– Вот! Вот, что меня пугает. Конечно, я хочу! – воскликнул Джесс. – Но ведь придется перевезти сюда все вещи, придется осесть здесь. Надо решиться. Буду заниматься органическим земледелием, какой-никакой опыт у меня есть. Работы не боюсь. Я боюсь определенности.
– Органическое земледелие? – переспросил Тай с таким презрительным лицом, что Джесс расхохотался.
– Да. Тебя передернуло так, будто я предложил застрелить твою собаку. Относись к этому как к разбрасыванию навоза, только чуть в большем масштабе.
– Ладно вам, – вмешалась я. – Это не главное.
– Иногда я думаю, что мне жениться надо, тогда, хочешь не хочешь, жизнь устроится.
Повисло молчание. С юго-запада надвигалась гроза, был слышен отдаленный гром.
– Дождик бы не помешал, – заметил Джесс.
– Надо помыть тарелки, – вспомнила я.
– Как думаешь, трактор завтра заведется?
– А вот об этом перед сном лучше не думать, – ответил Тай.
Мы все засмеялись. А потом опять повисло долгое молчание. Стемнело окончательно, пора было отправляться спать, но Джесс не поднимался с качелей, и я тоже.
– У меня никак не выходит из головы та семья из Дабека, – проронил Тай. – Второй день про них думаю.
– А, там, где девушку убили, – кивнула я. Ужасная история, которая на всех произвела тяжелое впечатление, хотя в газетах об этом мало писали, соблюдая тайну следствия. После того, как девушка бросила парня, тот попытался пробраться к ней в дом. Ее отец и брат услышали шум и стали его догонять, но в спешке забыли закрыть входную дверь. Через нее он и проник в дом, когда оторвался от преследователей. Девушка спряталась в спальне, но потом почему-то открыла дверь, видимо надеясь успокоить бывшего возлюбленного. Тот схватил ее и оттащил в другую спальню. Когда отец и брат, вернувшиеся в сопровождении полиции, взломали дверь (буквально через несколько минут), злодей уже заколол девушку ножом. Полицейские уложили его выстрелом в голову. – Газетчики умеют нагнетать ужас.
– Да, – согласился Тай, – но в этой истории много печальных совпадений. Мне они покоя не дают. Хочется все отмотать обратно. Что же они дверь-то не закрыли?
– В городе, – вставил Джесс, – у всех автоматические замки.
– И ее отец. Зачем он сам за ним погнался? Хотя, конечно, от такого у любого может крышу сорвать.
– Как в кино, – предположила я, – когда один супергерой может положить всех врагов. Есть же ведь вещество, которое дает такую силу?
– Есть. Адреналин, – ответил Джесс.
– Вчера целый день об этом думал и сегодня тоже, – пробормотал Тай, облокотившись о перила.
Все молча призадумались. Я украдкой взглянула на Джесса: наверное, ему наши разговоры об убийствах кажутся провинциальными, в городе такое случается постоянно, никто и внимания не обращает.
– Мне другое непонятно, – сказала я. – О чем она думала, когда открыла ему дверь спальни?
Джесс встал с качели и потянулся, я слышала, как хрустнули его суставы.
– Просто была уверена, что он не причинит ей вреда.
Я тоже встала.
– Ну и разговоры у нас, а так все хорошо начиналось.
Тай уже почти спал, Джесс улыбнулся:
– Что-то пошло не так…
Пожелав друг другу спокойной ночи, мы разошлись. Как хорошо, что обошлось без формальностей на прощанье, так будет проще продолжить разговор завтра или пару дней спустя. Ложась в кровать, Тай сказал то, о чем я и сама думала:
– Моя ферма далековато, лучше бы Джесс жил поблизости.
– Если он действительно станет фермером, у него не останется ни времени, ни сил на такие разговоры.
– Увидим.
12
На следующий вечер Джесс появился вновь, теперь он сам зашел после ужина. Мне позвонила Роуз сказать, что завтра приготовит папе завтрак. Ей все рано придется рано встать, чтобы заехать в школу за дочками, забрать домой на каникулы. Дорога тяжелая, ехать четыре часа, но я не стала интересоваться самочувствием сестры – правды она не скажет, только рассердится. Я рассказала про Джесса и пригласила их с мужем к нам. Мы договорились сыграть в карты (в покер или в бридж), но потом Роуз вдруг заявила, что у нее есть идея получше, и принесла старую «Монополию». Так начался наш турнир. И продолжался около двух недель. Каждый вечер мы встречались, бросив все дела, хотя бы на полчаса. Однажды Тай задремал прямо за столом, проснулся, сделал пару ходов, купил целую улицу и пошел спать.
Не знаю ни одного человека, который бы не любил «Монополию»: разноцветные карточки и жетоны, блестящие фишки и головокружительные возможности неизменно вызывают оживление в любой компании. Джесс взял себе фишку в виде гоночной машины, Роуз выбрала туфлю, Тай – собаку, я – наперсток, а Пит метался между тачкой, с которой два раза выигрывал, и всадником, который выглядел более мужественно, но приносил Питу одни неудачи. А он был настроен победить. Именно Пит предложил складывать баллы, набранные в разных играх, чтобы выбрать итогового победителя – того, кто первым заработает миллион. Идея с призом тоже была его. Он так и сыпал предложениями: сто долларов (всем скинуться по двадцатке), выходные в Миннеаполисе (а почему не в Лос-Анджелесе?) или двухдневный отдых от всех дел на ферме в середине января. Тут они с Джессом были совершенно похожи – на городских бездельников, как бы сказал мой отец, – думали о выигрыше, а не о просчетах и неудачах. А вот мы с Роуз и Таем играли как настоящие фермеры: выискивали ошибки, промахи и неприятности, вроде перевернувшегося трактора, которые сжирают время, портят урожай и отбирают деньги, уже мысленно положенные в карман (конечно, на основе не реальных расчетов, а туманных представлений о некоем идеале, который раньше никогда не удавалось достичь, а вот в этом году непременно получилось бы).
Разговоры за игровым столом не смолкали. У Джесса в запасе были сотни историй. И у Пита, как оказалось, тоже. Он рассказал о том, как путешествовал автостопом в 1967 году, сразу после выпуска из школы. Ему надо было добраться из Дэвенпорта в Сан-Франциско, где он планировал присоединиться к хиппующим «Джефферсон Эйрплейн» или как минимум к «Грейтфул Дэд». До Вайоминга он добрался без приключений. У него имелась с собой куча денег (целых тридцать семь долларов) и новая гитара, подаренная на выпуск («Гибсон» J-200 за сто девяносто пять долларов). Неподалеку от Ролинга его подобрал местный фермер, предложил переночевать у них, потому что уже смеркалось, а утром отвезти в Солт-Лейк-Сити. Пит согласился, все было хорошо: они поужинали и легли спать, а потом его разбудили посреди ночи и обрили налысо. Брил сам фермер, два его брата держали за руки, а жена светила фонарем.
– До сих пор не понимаю, – удивлялся Пит, – почему они не включили свет. Там на мили вокруг ни одной живой души нет.
Утром они накормили Пита завтраком и подвезли до ближайшей асфальтированной дороги. Оставшись один, Пит понял, что забыл у них гитару, попытался вернуться, но заблудился. Там, на какой-то проселочной дороге, и подобрал его один из братьев, вручил гитару и опять вывез на асфальт. За целый день не проехало ни одной машины, уже темнело, когда наконец показалась одна, но двигалась она на восток. Делать было нечего – Пит проголосовал, и водитель взял его с собой в Де-Мойн.
– Когда я вылезал из машины, этот парень сказал мне с сочувствием: «Надеюсь, химиотерапия тебе помогла», – закончил свой рассказ Пит.
– Ха! – воскликнула Роуз.
Все буквально повалились от смеха, никогда раньше так не веселились. Следующим слово взял Джесс и рассказал о случае, который произошел с ним в Ванкувере. Как-то он познакомился в баре с американкой и признался ей, что скрывается от службы в армии. Девушка попросила заказать ей еще выпивки, и когда Джесс поднял руку, чтобы подозвать официантку, то почувствовал, что в ребра ему уперлось что-то подозрительно напоминающее дуло.
– «Пистолет заряжен», – прошептала девушка и добавила, что ее парень погиб во Вьетнаме и что, если я не скажу волшебное слово, то она пристрелит меня на месте. В голову ничего не приходило, и я пробормотал: «Дерьмо!» Она кивнула, мол, правильно, вытащила эту штуку у меня из-под ребер и с улыбкой протянула: «Почему не несут маргариту?» Конечно, я угостил ее коктейлем.
Не успели мы отсмеяться, как опять заговорил Пит. Когда ему было шестнадцать, он то и дело мотался между Дэвенпортом и Маскатином на репетиции группы. Однажды его подвозила пара из Нью-Йорка, колесившая по стране в фургоне вместе с афганской борзой и двумя кошками. Первым делом пара поинтересовались, встречал ли Пит когда-нибудь живых евреев или они первые. На его недоуменный взгляд они пояснили, что за полтора года путешествия по Америке то и дело натыкались на тех, кто в глаза не видел евреев. Муж писал пьесы для уличного театра, который они собирались основать, вернувшись в Нью-Йорк. Одна из пьес так и называлась: «Первые евреи». Он предложил Питу бросить школу и вступить в их труппу, а потом дал выкурить косячок. От последнего Пит не отказался. Они остановились, сделали по паре затяжек и двинулись дальше. После этого муж невозмутимо сел за руль, а жена зазвала Пита в заднюю часть фургона, где спали кошки и собака, и там совратила его. На протяжении всей этой легкомысленной истории Роуз улыбалась так, будто была ее участницей наравне с мужем.
Пит играл азартно, деньги не копил, спускал все, чуть не до последнего доллара, на постройку домов и гостиниц. Три раза ему везло: он попадал на самую дорогую улицу и был при деньгах. Дважды гостиница, купленная там, приносила ему победу, разоряя ближайшего соперника, один раз Джесса, другой – меня. Пит, очевидно, рассчитывал на победу. Но жена незаметно для всех обошла его. Роуз медленно и методично копила деньги. Покупала недвижимость только с хорошими дивидендами, а остальное откладывала и сумела первая заработать миллион, не выиграв фактически ни одного кона.
Во время игры Пит преображался. Давно я не видела его таким, забыла, что с ним может быть настолько весело (как сказала потом Роуз, он, похоже, и сам про это забыл). И дело было даже не столько в веселье, сколько в неожиданном ощущении его силы. Силы его обаяния. Он и во мне сумел разжечь азарт, очаровал собственных дочерей и вовлек их в игру в качестве своих помощниц, рассказывал истории не хуже Джесса, то и дело напевал строчки из песен, известных и не очень, и делал это каждый раз так метко и сочно, что невольно охватывало ощущение красоты и яркости текущего момента. Это был талант. Талант, за которым стоял ум, причем недюжинный и совершенно неожиданный в том, кто в обычной жизни вел себя порой совершенно неадекватно.
В один из вечеров Джесс сообщил, что на июльское затишье Гарольд запланировал грандиозный ремонт. Услышав это, все мы ухмыльнулись, а Пит фыркнул:
– Вот это новость!
– Он собирается разобрать пол на кухне. Там внизу просто подпол, подвала нет. Так вот, он хочет залить все бетоном, выкрасить пол зеленой краской и сделать в нем сток, чтобы просто поливать из шланга.
– Врешь, – покачала головой Роуз.
– Нет! Он сказал, что если все получиться, то сделает то же самое в уборной на первом этаже.
Посмеявшись, Тай уточнил:
– Он собирается забрасывать шланг с улицы?
– Кран врезать ничего не стоит, – ответил Пит под общий хохот.
– А что Лорен по этому поводу думает? – поинтересовалась я.
– Ему все равно. Он сказал – дом отца, пусть что хочет, то и делает.
Я бросила кости и, сделав ход, оказалась на клетке, купленной Роуз. Пришлось платить ей аренду. Полученные деньги сестра аккуратно разделила между двумя кучками: на покупку новой недвижимости и для накопления капитала.
– Так он себе жену никогда не найдет, – заметила я. – Никто не захочет готовить на кухне с дыркой в бетонном полу.
– Гарольд намерен запатентовать идею. Он недоумевает, почему раньше никто не додумался.
– Я бы посмотрел на лицо Ларри, когда он это услышит, – усмехнулся Пит. – Его, поди, разорвет.
– Или он захочет себе такую же кухню, – вставила Роуз. – Либо вообще зальет бетоном весь первый этаж, чтоб переплюнуть Гарольда. Еще и стены пластиком обошьет.
Мы посмеялись, но на следующий день к дому отца подъехал грузовик из лесопилки в Пайке. Водитель постучал в дверь и даже покричал, но отец не показался. Я бросила все свои дела и поспешила туда. Оказалось, водитель привез буфет, раковину, четыре напольных и два навесных шкафа и светло-голубую ламинированную столешницу – выставочный образец кухни, который достался отцу всего за тысячу долларов, как сказал водитель (при изготовлении на заказ такой комплект обошелся бы в две с половиной). Привезенной мебели было недостаточно для всей кухни, но и дополнением к уже имеющейся она вряд ли могла стать. Ни по материалу, ни по рисунку фасадов она не подходила к тому гарнитуру, который привезли когда-то вместе с домом – к желтым шкафчикам и деревянной столешнице, обитой металлом. Я обошла весь дом и даже заглянула в сарай – отца нигде не было, хотя его машина стояла на месте. Водитель с помощником выгрузили мебель прямо на дорожку. Я извинилась, что не взяла с собой чековую книжку, но оказалось, все уже оплачено. Водитель попрощался, сел в машину и уехал. Надо же! Роуз как в воду глядела! Усмехнувшись, я пошла домой и совершенно забыла за делами об этом происшествии, пока Тай не пришел на обед и не рассказал, что заходил к отцу и предлагал помочь занести мебель в дом, но тот отказался, заявив, что еще не решил, куда ее ставить. Пит получил такой же ответ вечером.
Все это несколько нас озадачило, но особенной тревоги не вызвало. Однако прошел день, другой, а мебель все еще стояла на улице. На третье утро мы проснулись и увидели, что все небо затянуто тучами – собирался дождь. Тай быстро поел, и мы вместе отправились к отцу. Я – чтобы приготовить ему завтрак, а Тай – помочь перенести мебель. Если не в дом, так хоть в сарай на худой конец. Когда мы пришли, отец сидел за столом и пил кофе.
– Собирается дождь. По радио сказали, до завтрашнего вечера будет лить, – начала я издалека.
– Эх, кукурузу не успели досеять, – пробормотал отец. – Запаздываем.
– Неужели?
– Не сильно запаздываем, – вмешался Тай. – Тут дел на две минуты: мы все шкафчики затащим в дом, пока Джинни готовит.
– Будешь есть? – поинтересовался отец.
– Уже ел, – помотал головой Тай.
– Тогда лучше посади бобы в углу Мэла. Там низина, после сильного дождя туда еще неделю трактор не загонишь.
– Я как раз собирался. Трактор уже там.
– Ты оставил трактор на нижнем поле?
Я взглянула на Тая. Что так удивило отца? Он сам не раз заранее отгонял технику, когда планировал работать в углу Мэла. Это было самое дальнее поле, и ехать туда на тракторе по дороге гораздо дольше, чем дойти напрямую пешком. Муж поймал мой взгляд и едва заметно пожал плечами.
– Так что с мебелью? – уточнил Тай. – Потом у меня не будет времени, а Питу сегодня надо отвезти в больницу документы Роуз.
– Отстаньте вы от меня с этим барахлом! Сам перенесу, когда будет надо.
– Папа, но ты же не хочешь, чтобы все промокло, правда? Все-таки массив дуба. Хорошая древесина.
Отец одним глотком допил кофе и рявкнул:
– Не указывай мне!
И уставился на нас. Первым не выдержал Тай: он молча встал и вышел. Я мечтала, чтобы здесь оказалась Роуз, уж она-то умела осаживать отца. Наконец я решилась:
– Чего ты добиваешься? Хочешь Гарольда задеть?
Я старалась говорить как можно мягче, чтобы отец не обиделся.
– Не твое дело! – отрезал он.
Я демонстративно замолчала и больше не произнесла ни слова, пока готовила завтрак. Однако отец, казалось, даже не заметил моей обиды. Поев, тут же вышел из дома, сел в машину и куда-то уехал. Я отправилась домой, но то и дело поглядывала в окно. Когда хлынул ливень, я не выдержала, натянула дождевик и пошла посмотреть, что с мебелью. Она так и стояла на дорожке, вода текла по ней ручьями. Удручающее зрелище. Я не знала, что и думать.
А вот Роуз в тот вечер сыпала шутками, как фейерверк в День независимости. Она заявила, что папа, видимо, решил разводить кроликов на вращающихся полках и кур в навесных шкафчиках. Как ни старалась, я не смогла заставить ее сменить тему – было видно, что она в ярости. И Пит завелся – знай подначивал жену. Наконец Тай не выдержал и сказал в своей обычной миролюбивой манере:
– Ларри и раньше делал глупости.
– Тысяча долларов! В трубу! – воскликнула Роуз. – Он купил кухню, только чтобы утереть нос Гарольду, а потом бросил ее под дождем.
– Может, он с самого начала не собирался заносить ее в дом? – заметил Джесс.
– А зачем тогда купил? Для мастерской? Все нормальные люди старую мебель оставляют для хозяйственных нужд, а новую приносят в дом – туда, где ее будет видно.
Атмосфера за игровым столом накалилась. Я то и дело отвлекалась, забывая требовать аренду с противников, попадающих на мои клетки. Роуз бросала кости так, что они улетали со стола, и передвигала фишку как попало. Меня это начало раздражать.
– Нет, – возразил Джесс. – Может, он вообще хотел просто поиздеваться над самой идеей Гарольда?
– А почему нет? – вставил Тай. – Мол, да мне ваши кухни…
– Он спятил, – заявила Роуз. – Кстати, Джинни, у тебя почти не осталось денег, а впереди чужие клетки – наверняка придется платить. Не хочешь продать свои железные дороги?
– Только ей не продавай, – взмолился Пит.
– Он сошел с ума, – продолжала Роуз. – Каждое утро садится в машину и куда-то уезжает, не говоря ни слова. Он ведь еще и диван купил. Не знали? Скоро привезут. В Маршалтауне присмотрел. Это в двух часах езды отсюда. Да-да, он не только по проселочным дорогам мотается. Не нравится мне все это.
– За сколько купил? – спросил Тай.
– Сказал, что не мое дело. Но при этом чуть от гордости не лопнул, когда я спросила. Поди, специально положил визитку магазина на кухонный стол.
– Мы думаем, он заказал диван примерно тогда же, когда и кухню, – вставил Пит.
Я сделала ход и попала на чужую клетку. Платить за аренду было нечем – пришлось продать железные дороги. Кому? Конечно же, Роуз. Она дала за них три тысячи долларов, но шансов на победу в этом кону у меня уже явно не оставалось. Следовало бы, пожалуй, выйти из игры, чтобы не растерять все деньги, но спор за столом увлек меня. Я не могла понять, почему так злится Роуз. Конечно, тысяча долларов – немаленькая сумма, но сестра что-то уж слишком разъярилась. А Тай напротив был чересчур спокойным. Казалось, он не понимал, что подобное расточительство – не банальная прихоть, а нечто, совершенно отцу несвойственное.
– Можно сделать попкорн? – спросила Пэмми, подойдя к игровому столу.
– Конечно, – ответила я и обняла ее.
– Поможешь?
Она прекрасно знала, что я не откажу (это матери ждут от детей самостоятельности, тети же на то и даны, чтобы баловать), но я и сама была рада выйти из игры.
Когда мы пришли на кухню, она тихо спросила:
– Дедушка сумасшедший, да?
– Что ты понимаешь под этим словом?
– Ну… Кричит, рычит, ведет себя как ненормальный. Его в больницу заберут?
– Твоя мама немного преувеличила. Просто мы не понимаем, зачем дедушка делает некоторые вещи.
Пэмми аккуратно и старательно встряхнула кастрюлю.
– Мама не разрешает нам ходить к нему. И еще она не велела открывать дверь, если он придет, а ее не будет дома.
– Это уж чересчур… Но маму надо слушаться.
Зерна перестали взрываться. Я достала миску. Пэмми осторожно сняла крышку, положила ее на плиту и аккуратно высыпала попкорн. Внимание к мелочам и старание все делать правильно достались ей от матери, только для Роуз это был способ самоутверждения, а для Пэмми – всего лишь возможность избежать неприятностей. Я любила Пэмми и прекрасно понимала ее чувства, а вот на Линду, ее младшую сестру-погодку, очень хорошенькую и беспечную, я предпочитала любоваться издали – мы были слишком разными.
– Масло? – спросила я.
Пэмми кивнула.
– Ты боишься дедушку?
– Немного.
– В детстве мы постоянно от него прятались, но если он звал нас, мы обязаны были появиться в течение десяти секунд. Вот так. Твоя мама не боится его, так что просто слушайся ее и все. Поняла?
Пэмми кивнула. Когда мы вошли в гостиную, Роуз говорила:
– Может, у него Альцгеймер?
– Тогда бы он все забывал, – заметил Джесс. – Это первый симптом.
– Ровно наоборот, – хмыкнул Пит. – Он помнит каждое слово, каждый косой взгляд, каждое сомнение по поводу его приказов. Есть такая болезнь?
– Он мог бы продолжать командовать нами, – вмешался Тай. – Я этого больше всего боялся. А он вообще не лезет с указаниями и даже меня спрашивает, что делать. И я уверен – что скажу, то и сделает.
– Да, только он постоянно недоволен, – пробормотал Пит. – Что бы мы ни делали – он всегда недоволен.
– И ладно, – пожал плечами Тай. – Это его дело, главное – не мешает. А на ворчание я внимания не обращаю.
– Нет, но тысяча долларов! – не унималась Роуз. – Поверить не могу! Оставить под дождем такую хорошую мебель! А ведь кто-то ее делал, старался. Смотреть больно!
– И мне, – поддержала я сестру.
– Он спятил!
Мне очень хотелось согласиться.
13
Следующий день выдался ветреным и жарким. Воздух прогрелся до тридцати пяти градусов, а ведь было только 15 июня. Все изнывали от жары. Пэмми и Линда пришли ко мне около десяти – Роуз выпроводила их, не в силах слушать нытье. Она не очень-то нежничала с дочерьми, как когда-то и наша мать с нами. Порой мне казалось, что она чересчур строга. Будь у меня дети, они бы, наверное, из меня веревки вили. Племянниц я баловала. Мы договорились, что я свожу их искупаться в Пайк, если они дадут мне спокойно приготовить обед и расправиться с домашними делами.
В детстве мы с Роуз бегали купаться на пруд рядом с углом Мэла. Он остался здесь еще с тех времен, когда земля была неосвоенной, и казался нам огромным. Там даже тарзанка имелась. Отец осушил пруд незадолго до смерти матери и выкорчевал все деревья и кусты, чтобы было проще пахать землю.
Девочки еще ни разу не купались в этом году, и я думала, что они будут очень рады, однако, когда мы сели в машину, они вдруг притихли.
– Хотите, чтобы мама поехала с нами? – спросила я.
Линда положила подбородок на спинку переднего кресла.
– Тетя Джинни, у нас здесь совсем не осталось друзей.
– Что ты говоришь? Конечно, остались. И они будут рады вас видеть.
– Зачем нас отправили в город? Так ведь никто не делает.
– Ваша мама так решила. И у нее, видимо, есть на это причины. Неужели вам совсем там не нравится?
– Учителя хорошие, – протянула Пэмми.
– Да, но дети все из города. Из богатых семей.
– Не может быть, чтобы все богатые, – удивилась я.
– Притворяются, что да, – вздохнула Линда. – Нам дали клички.
Я почувствовала укол, будто в горло уперлось острие ножа.
– Какие?
– Ну… – протянула Пэмми, ей явно не хотелось говорить. – У меня Бараш, после того как я сделала доклад про выращивание баранов для сельского школьного проекта, а у Линды – Бабуся. Ну та, у которой два веселых гуся.
– Мы хотели, чтобы они звали нас просто Пэм и Линда.
– Еще у кого-нибудь есть клички? – спросила я.
– Да, у некоторых…
Теперь предстояло задать самый сложный вопрос.
– Только у тех, с кем никто не дружит?
Пэмми не ответила, Линда отодвинулась и села на место.
– Нет, не только, – проговорила она, помолчав. – В основном у мальчишек. У девочек почти ни у кого.
– Порой это является признаком симпатии, – проговорила я.
– Только не у детей, тетя Джинни! – воскликнула Линда, а Пэмми вздохнула:
– Еще и здесь друзей не осталось.
– Вы ни с кем не переписывались?
Линда даже наклонилась вперед и снисходительно проговорила:
– Сейчас никто не переписывается, тетя Джинни!
Я засмеялась, чтобы сгладить неловкость. До Кэбота мы ехали молча.
– Знаете, – я нарушила затянувшееся молчание, – мне кажется, все наладится. Поначалу, конечно, будет трудновато, но главное – оставаться приветливыми, и к вам потянутся.
На словах все было легко, да только я сама не верила в то, что говорила. Я тоже не умела сходиться с людьми… Так что прекрасно понимала тревогу девочек. Бывало, на меня иногда накатывал страх оказаться изгоем. Мне казалось, что все устраивают вечеринки, а меня не зовут. И это чувство так мучило и угнетало меня, что я готова была запрыгнуть в машину и объехать окрестности, только бы узнать правду. Когда подростком, уже после смерти мамы, я жаловалась на свои страхи, отец всегда говорил: «Ты должна быть дома. Все должны быть дома». Впрочем, жаловалась я редко, хоть и страстно мечтала о дружбе – не о любви и поцелуях, а просто о дружбе. Никакие школьные танцы не могли сравниться для меня с девчачьими посиделками. И не важно, что отец никогда не отпустил бы нас с Роуз на ночевку к подругам, главным было хотя бы получить приглашение.
Роуз запреты не останавливали. Она не скрывалась, не вылезала тайком через окно и не просила ее прикрыть, а просто выходила через главную дверь и садилась в машину, когда за ней приезжали. Все знали, что в ответ она никого не пригласит и не приедет на своей машине, но ее все равно звали. Она была как трофей, и то, что шла против воли отца, лишь добавляло ей очков. Отец боролся с ее отлучками, но Роуз стояла насмерть. Их стычки вгоняли меня в панику, и я как могла закрывала на них глаза.
Плавательный бассейн находился на окраине Пайка, на западном берегу реки. Его построили не так давно, молодые клены и буки не успели еще набрать силу. Невысокие стволы толщиною с бейсбольную биту не давали густой тени. Парковку, посыпанную белым гравием, заполнили большие американские внедорожники и пикапы. Мы с трудом нашли место, а когда вышли из машины, в лицо нам ударил сильный ветер, смешанный с пылью. Плоские равнины простирались повсюду, куда хватало глаз. Ходили разговоры, что вокруг бассейна планируют разбить парк, но пока все близлежащие земли были распаханы и засажены бобами.
Буквально несколько десятилетий назад, когда отец еще был молод, в округе Зебулон никому и в голову бы не пришло рыть искусственный водоем: прудов и озер и так хватало. Однако времена изменились, и сейчас в каждом городке имелся собственный бассейн или хотя бы его проект. «Многочисленные рекреационные зоны» – как их гордо называли в местной прессе. И в придачу к ним – три абсолютно ровных поля для гольфа.
Мы с девочками переоделись, ополоснулись в душе и расстелили полотенца поближе к мелкой части бассейна. Пэмми достала солнечные очки с черной оправой в белую крапинку и невозмутимо нацепила их на нос.
– Где ты их взяла? – удивилась Линда.
– Купила в Айова-Сити на карманные деньги.
– Дай померить.
– Дай, пожалуйста, – поправила я.
– Пэмми, дай, пожалуйста.
– Нет, – покачала головой та, взглянула на меня и добавила: – Ну, может быть… Потом.
Пэмми откинулась на локти и принялась рассматривать людей вокруг. Ей было уже почти тринадцать, и она постепенно превращалась в девушку, хоть фигурка у нее все еще оставалась тонкой, без женственной мягкости и округлости. Линда достала подростковый журнал и углубилась в чтение. Я заглянула ей через плечо. Статья «Когда макияж превращается в боевой раскрас?» начиналась словами: «Каждое утро девятиклассница Тина Смит тратит по сорок пять минут только на то, чтобы накраситься перед школой».
Я улыбнулась про себя и, оглядевшись, заметила неподалеку двух знакомых женщин, ровесниц моего отца, с внуками. Одна из них, Мэри Ливингстон, помахала мне. Когда-то она дружила с моей матерью, они состояли в каких-то церковных комитетах. Я достала номер «Семейного круга» – если лежать, прикрывшись журналом, ветер меньше досаждает.
– Вон Дорин Патрик. Какой у нее красивый купальник! – заметила Пэмми, сдвинув очки на кончик носа. – Если она подойдет, можно я позагораю с ними, тетя Джинни?
– Конечно. Но зачем ждать? Иди сама поздоровайся.
– Кроме нее я больше никого не знаю. Не пойду…
Пэмми не сводила с девочек глаз. Через какое-то время Дорин с подружкой поднялись и направились в нашу сторону, они явно нас заметили, однако, не сказав ни слова, прошли мимо, в буфет.
– Пэмми, тебя не узнать в этих очках, – пробормотала я, но она не ответила.
Зато к нам подошла Мэри Ливингстон с двумя внуками, мальчиками лет четырех-пяти.
– Здравствуй, Джинни. Как поживает отец? – бодро проговорила она и уселась на край моего полотенца (теперь об отдыхе можно забыть). – Помнишь Тодда и Тоби? Младшие Маргарет. А это, должно быть, Пэмми и Линда. Учитесь в городе?
– Да, мэм, – еле слышно пробормотала Линда.
– Нравится?
– Да, мэм.
– Давай-ка, Линда, поиграй с мальчиками. Их игрушки под лестницей, – велела она. – Тоби, Тодд, ступайте за Линдой, она знает много интересных игр. Бабушка что-то устала.
Все это произносилось уверенным, командным тоном. Точно так же, как и мой отец, она считала, что дети рождаются только за тем, чтобы служить родителям. Я взглянула на Пэмми – та будто сжалась. Мэри громко выдохнула и уставилась на меня.
– Ты ведь знаешь, что мы продаем ферму? Да, Джинни?
– Нет, первый раз слышу.
– Продаем Бобу Стэнли и его племянникам. Уедем осенью, но они уже купили урожай прямо на корню.
– А дом?
– И дом, и вообще все. У нас есть трейлер в Брадентоне, во Флориде. Мы там перезимуем, а летом приобретем дом. Отец присмотрел хорошее местечко в Хейуорде, в Висконсине. Там озеро рядом, можно ходить на рыбалку. Купим небольшой коттедж с двумя спальнями, больше нам на двоих с отцом и не надо, а если дети приедут – снимут что-нибудь поблизости, – проговорила она, вытянув ноги.
– Жаль, что вы уезжаете.
– Да, мы тоже будем скучать. По некоторым.
Их старшего сына убили во Вьетнаме, младший разбился на машине где-то между Пайком и Зебулоном. Остались только дочери. Неужели они бы не справились с фермой? Этого я не могла взять в толк, особенно если учесть подскочившие цены на землю, но спрашивать не стала из вежливости. Мэри глянула на меня и заявила:
– Марв Карсон нас надоумил. Сказал, что сейчас за землю дают хорошую цену. Мы и правда выручили больше миллиона долларов. Представляешь? Часть оставили на текущие расходы и новую машину, а остальное вложили в казначейские векселя, – договорила она и отвернулась, ища глазами Линду и мальчиков – все трое весело смеялись. – У нас никогда не было накоплений. А когда в тридцатых годах грянул кризис, помню, у нас остался всего один доллар и нам нужно было протянуть на него целую неделю. Мы только поженились, я ходила беременная Аннабелью. Кстати, ее старшая поступила в Гриннельский колледж. Умненькая девочка.
– Удачный у вас выдался год.
– Даже не знаю. Время покажет. Как отец? – повторила она свой вопрос и пронзительно уставилась на меня. Неужели видела, как он мотался по окрестностям? Я сказала, что все в порядке.
– А что с Роуз? Говорят, у нее рак.
Краем глаза я заметила, как Пэмми вздрогнула.
– Идет на поправку. Все хорошо.
Пэмми сняла солнечные очки, аккуратно завернула в полотенце и убрала в сумку.
– Тетя Джинни, я пойду окунусь.
Она поднялась и направилась к бассейну, пройдя буквально в паре метров от Дорин и ее компании.
– Девочки ведь знают про болезнь матери? Да? – проговорила Мэри. – Я не думала…
– Конечно знают, просто Роуз не посвящает их в подробности, чтобы зря не тревожить.
– Я всегда считала, что от детей, особенно на ферме, нельзя ничего скрывать. Они должны знать правду. Это их единственная надежда.
Мы замолчали, разглядывая купающихся и загорающих людей. Интересно, а от меня скрывали что-нибудь? Вроде бы нет. Но разве можно сказать наверняка? Я всегда считала себя стойкой… А вдруг это не более чем утешительная иллюзия, внушенная теми, кто действительно знал всю правду? На палящем зное меня прошиб холодный пот.
– Возможно, мы больше не увидимся до нашего отъезда. Отец не большой любитель мотаться по соседям, да и я тоже.
– Впереди еще несколько месяцев. Наверняка…
– Мне надо тебе кое-что сказать.
– Да?
– Мы заговорили про Роуз – и я вспомнила. Вы с сестрой были немногим старше, когда заболела ваша мать. Как она боялась умереть! Очень боялась…
Я не знала, что ответить. Все мы боимся смерти. Но эта фраза покоробила меня, потому что в моей памяти мама осталась очень собранной и спокойной. Да и мы с Роуз как могли скрывали свои чувства: плакали только под одеялом, прикусив угол подушки, чтобы не было слышно. Больше всего боялись расстроить маму.