Читать онлайн Деревянные кони. Повести. Рассказы бесплатно
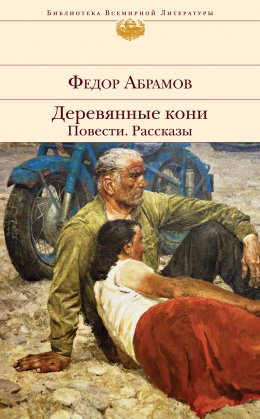
© Абрамов Ф. А., наследники, 2020
© Турков А. М., предисловие, наследник, 2011
© Государственный Русский музей (г. Санкт-Петербург), иллюстрация на суперобложке, 2020
© Самарский областной художественный музей (г. Самара), иллюстрация на суперобложке, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
* * *
Предисловие
На войну Федор Абрамов ушел добровольцем со студенческой скамьи. Синявинские болота под Ленинградом, где ему выпало воевать, накрепко запомнились многим.
- Я сплю,
- подложив под голову
- Синявинские болота,
- А ноги мои упираются
- в Ладогу и Неву, –
писал впоследствии Александр Межиров, создавая обобщенный, гигантский образ солдата.
В жизни все было будничней и в то же время в чем-то многозначительней: невеликий ростом боец Абрамов «упирался» душой в свои северные, дальние края, откуда редко доходили до него весточки, но где были все его корни.
Он снова попал туда в отпуск после тяжелого ранения. Ну что, казалось бы, могло его поразить после фронта и госпиталя в блокадном городе? Но когда видишь, что к вековечным трудностям жизни и работы в этом суровом краю прибавляются новые заботы, тяготы и лишения, когда невесомые листки «похоронок» – извещений о гибели отцов, мужей, братьев – рушат судьбы и семьи, когда люди надрываются от непосильного труда…
Долгим был путь к первой книге об этом.
После демобилизации Абрамов вернулся в Ленинградский университет, в 1948 году окончил его и поступил в аспирантуру. Три года спустя защитил кандидатскую диссертацию, стал преподавателем, а позже – заведующим кафедрой советской литературы.
В этом неуклонном, по-крестьянски основательном и упорном восхождении примечательны два момента.
Один – выбор темы для диссертации. Конечно, Абрамов не первый и не последний, кто занимался исследованием «Тихого Дона» и «Поднятой целины». И все же в обращении будущего автора «Пряслиных» к изучению именно шолоховского опыта невольно подозреваешь подспудные, быть может, тогда самим диссертантом еще ясно не осознаваемые побудительные мотивы…
Другой существенный момент предыстории абрамовских книг – это его полемическая статья, опубликованная в 1954 году в журнале «Новый мир», – «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе». Остро критикуя целый ряд произведений (дотоле восславлявшихся прессой и награжденных высокими премиями) за приукрашивание реальной жизни, автор писал, что «нужна только правда – прямая и нелицеприятная…».
Перечитывая эти строки ныне, думаешь, что пишущий не подает прекраснодушные советы «со стороны», а, говоря словами поэта, сам «собрался в дорогу, выбрал маршрут» и вдумчиво взвешивает, какие трудности ему предстоят и с чем придется спорить.
Он задумывал свою первую книгу еще в пору, когда официальная пропаганда всячески превозносила заслуги Сталина в одержанной Победе и явно умаляла роль народа – тех «братьев и сестер», к которым обратился вождь в первые трагические дни сорок первого года. И называя свой роман «Братья и сестры», Абрамов настойчиво напоминал об истинных героях не просто книги – войны.
И пусть в этом «дебютном» произведении автор еще только осваивается с ролью повествователя, подбирает ключи к читательскому сердцу, но уже здесь ощутимо желание приохотить нас к своему, мало воспетому в литературе родному краю и его обитателям.
В целой веренице изображенных в книге лиц еще не угадывалось, кому предстоит стать главными, кому – второстепенными. Так бывает в забегах на длинную дистанцию, когда спортсмены вначале еще бегут почти слитной массой, несколько тесня друг друга.
И все-таки, все-таки… Когда десятки лет спустя московский Театр на Таганке поставит спектакль по абрамовским повестям, он начнется выразительной мизансценой: перед зрителями возникнут группы мужчин и женщин, молчаливо и строго глядящих в зал. И нечто похожее произошло в первой же книге писателя: еще не прочно или довольно наивно связанные между собой фабулой, герои тем не менее привлекали своими реальными тяготами, заботами, радостями.
Вот одна из лучших страниц романа: недавний простодушный подросток Мишка Пряслин разглядывает заплаканную, лишь к утру забывшуюся тяжелым сном после получения «похоронки» мать:
«Никогда он не задумывался, какая у него мать. Мать как мать – и все тут. А она вот какая – маленькая, худенькая и всхлипывает во сне, как Лизка. А вокруг нее по обе стороны рассыпанной поленницей ребятишки…»
И читатель с болью представляет себе, сколько таких «поленниц» в те годы каждый день возникало на нашей земле…
В эти горестные дни и происходит подлинное человеческое рождение Михаила, хотя внешне и по многим поступкам он еще остается мальчишкой. На его полудетские плечи, «обтянутые старой, выгоревшей отцовской гимнастеркой», ложится нелегкий груз долга перед обезглавленной семьей. И не только за домашним столом занимает он отцовское опустевшее место, но и на колхозных работах сменяет матерых мужчин (не без совершенно ребяческого упоения положением «взрослого»!).
О том, каково пришлось ему и всей пряслинской семье, рассказано в следующем романе писателя «Две зимы и три лета»: «С осени до весны на лесозаготовках, потом сплав, потом страда – по неделям преешь на дальних сенокосах, – потом снова лес. И так из года в год».
Председательница пекашинского колхоза Анфиса Минина, сама великая труженица, говорила, что «за первого мужика Михаил всю войну выстоял».
Тяжко приходится «братьям и сестрам» и в наступившие мирные годы. Драматичны судьбы и Пряслиных, которые все больше выходят на первый план повествования, и недавнего фронтовика Ильи Нетесова, истового труженика, выбивающегося из сил в тщетных попытках прокормить семью, и вернувшегося из плена Тимофея Лобанова. «Как болотная сосенка-заморыш» выглядит любимая сестра Михаила, не покладающая рук Лиза, да и меньшие братья – «худющие, бледные, как трава, выросшая в подполье».
Многообразно показан в книге жестокий административный нажим на деревню (чего стоят хотя бы сцены «добровольной» подписки на заем!). Секретарь райкома партии Подрезов столь ретиво исполняет все директивы и указания, что, по горестному выражению одного из персонажей, не вожжи в руках держит, а – «удилами рот рвет». «Я ведь только и знаю, что кнутом размахиваю», – горько говорит и новый председатель колхоза Лукашин (когда же он решил немного подкормить плотников, сооружавших необходимый колхозу коровник, то угодил в тюрьму за «незаконное разбазаривание зерна»).
По выражению языкастого пряслинского приятеля Егорши, пекашинцы все время попадают из одного хомута в другой и никак из нужды выбиться не могут, если не идут путем самого Егорши, который всеми правдами и неправдами вырывается из деревни, ловко пользуясь при этом разными очередными громкими лозунгами и кампаниями. «Чтобы подвеситься к ним и полетел куда захотел», – похохатывает этот ловкач, ухитрившийся прослыть «передовиком» и попасть в фавор к начальству.
«Вы написали книгу, какой еще не было в нашей литературе, – писал Абрамову Александр Твардовский, прочитав рукопись романа «Две зимы и три лета», которая была вскоре опубликована в возглавляемом им журнале «Новый мир». – …Книга полна горчайшего недоумения, огненной боли за людей деревни и глубокой любви к ним…»
«Пути-перепутья» – так озаглавлен следующий роман писателя, полный все той же неостывающей боли за происходящее в деревне. «Четыре года войны… да шесть после войны… – вырывается однажды даже у Подрезова. – Итого десять лет. Десять лет у людей на уме один кусок хлеба».
Не может не вызвать недоумения и негодования разительный контраст между по-прежнему трудными буднями совестливейшего, работящего Михаила и удачливостью его былого приятеля. Происходящее можно охарактеризовать словами, сказанными самим Абрамовым по поводу сходной ситуации в повести вологжанина Александра Яшина «Сирота»: «Произошло как бы смещение ценностей: растили и вскармливали сорняк, а доброе зерно оставалось без присмотра».
С образа Егорши зарождается у автора и все более крепнет тревожная тема опаснейшего смещения в человеческих душах, умонастроениях, общественной психологии.
Казалось бы, только радоваться надо разительным переменам, которые наконец-то произошли на родине героев – в Пекашине в семидесятых годах: «домов новых наворотили с полсотни», повозвращались на твердый совхозный заработок (не чета былым горевым «трудодням») многие уехавшие прежде мужики; некогда Егорша поразил односельчан своим мотоциклом, теперь чуть не вся молодежь «на железных коней села», а малая ребятня – на «велики».
Последний роман пряслинской эпопеи недаром назван «Дом».
Дом – это и «малая родина» героев, неизбывная красота знакомой с детских лет земли с несмолкаемой «птичьей заутреней», с рекой Пинегой, которая «мать родная была для них», с чистыми борами над ней и отвоеванными отцами и дедами у лесов и болот полями и лугами.
Дом – это и портрет не только некогда воздвигнувших его предков-персонажей, но и его нынешних обитателей, когда, например, Егорша, порвав с женой Лизой и отсудив у нее часть их жилища, довел дело до того, что на месте былого, увенчанного деревянным конем красавца «торчала какая-то безобразная уродина».
Но даже когда в иных домах все вроде бы на месте, «народ другой стал», как горько говорит Лизка, чьи слова горячо подхватывает писатель в своей публицистике последних лет: «Исчезла былая гордость за хорошо распаханное поле, за красиво поставленный зарод, за чисто скошенный луг, за ухоженную, играющую всеми статями животину».
Нет, далеко не все так ладно, как выглядит на вид, ни в самом Пекашине, ни даже в пряслинской семье, когда-то дружной и трогательной «бригадой» спешившей на покос (прекраснейшие страницы романа «Две зимы и три лета»!).
С директором совхоза Таборским у Михаила, по выражению Лизки, «никаких отношений нету – одна война». Когда Михаил восставал против посевов кукурузы, совершенно не оправдавших себя на Севере, директор уламывал его: «Платят тебе по высшему тарифу – не все равно, какой гвоздь куда забивать?» При Таборском в Пекашине утвердилась «хорошо накатанная колея» «благополучного» существования: «Зашибить деньгу, набить дом всякими тряпками и сервантами, обзавестись железным конем, то есть мотоциклом, лодкой с подвесным мотором, пристроить детей, ну и, конечно, раздавить бутылку… А что еще работяге надо?» И что́ с того, что окрестные поля зарастают (зрелище, потрясшее Лизиного свекра и ускорившее его кончину)?! Как писала архангельская уроженка поэтесса Ольга Фокина:
- Рой, взрывай, стирая грани!
- Лес в дыму, земля – в золе.
- Лишь бы нынче – рубль в кармане
- Да бутылка на столе…
И случайна ли сама фамилия – Таборский? Ведь табор – нечто временное, непостоянное («бивак», «шатры бродячего народа» – среди прочих значений этого слова сказано у Даля), не связанное с землей, на которой стоит. Словом, в определенном смысле нечто противоположное дому. «Сегодня тут, а завтра там», – как говорилось в одной критической статье.
И не похож ли он на Егоршу? Такой же краснобай и балагур с ловко подвешенным языком, равнодушный к делу, но зато величайший умелец нравиться и производить впечатление. «Рано хоронить Таборского», – говорит он Михаилу, сообщая о своем назначении на очередную руководящую должность («Сегодня тут, а завтра…»!).
И неизвестно, настанет ли для него когда-нибудь момент жестокой самооценки, посетивший «неудачника, горюна и бедолагу», как сердобольно определяет Егоршу даже настрадавшаяся от его выходок Лиза:
«…Двадцать лет он топтал и разрушал человеческие леса, двадцать лет оставлял после себя черные палы… баб и девок перебрал – жуть. Всех без разбора, кто попадался под руку, валил. Сплошной рубкой шел».
Если бы к тому набату, которым звучали и правдивая, колючая проза Абрамова, и многие произведения других «деревенщиков», как их быстро окрестила критика, вовремя прислушаться, – скольких бед избежала бы наша страна!
Но куда там… Власти только отмалчивались да клеймили за «очернительство», науськивали на писателя односельчан и земляков. Разгрому подвергся в прессе его очерк «Вокруг да около», вызвавший специальное постановление ЦК партии, поскольку автор выдал «государственную тайну» – что у колхозников не было паспортов. Нелегкая судьба была и у романов. Лишь в 1975 году за «Пряслиных» (еще трилогию до появления «Дома») писателю была присуждена Государственная премия СССР.
Однажды Абрамов пожаловался на то, что хотя половина его жизни была отдана повестям и рассказам, критики нередко смотрят на них как на нечто второстепенное.
В утешение ему можно было бы сказать, что подобное предпочтение «больших» произведений «маленьким» – вещь довольно обыкновенная и для читателей, и для критиков.
Что же касается самого «жалобщика», то ведь и он, по собственному признанию, в начале творческого пути почитал единственно «достойной» для себя формой только роман. «Немного смешно сейчас вспоминать, – говорил он в конце жизни, – как я думал тогда: вот, мол, я ученый и не могу начинать с малых форм, с рассказов, а обязательно должен «потянуть» роман».
Разумеется, главной побудительной причиной обращения именно к этому жанру были не эти «амбициозные» соображения, которые Федор Александрович, пожалуй, комически утрировал. В том же разговоре он уже вполне серьезно сказал, что «не написать «Братья и сестры» просто не мог»: «яростно давил «материал жизни».
Первые опыты Абрамова в жанре рассказа относятся к тому времени, когда «Братья и сестры» были уже напечатаны, и, ощутив определенные художественные слабости романа, автор принялся оттачивать перо на малых жанрах. Примечательно, что с публикацией этих рассказов он не торопился.
Они тоже о любимом Севере и его людях. Перед нами то сенокос на отдаленных пожнях («Безотцовщина»), то глухие лесные уголки («Сосновые дети»), то один из местных, прочно тогда вошедших в сельский быт аэродромов, где в часы ожидания презанятную историю можно услышать («Собачья гордость»), то заброшенная деревня («Медвежья охота», потом характерно переименованная – «Дела российские»).
В последнем рассказе искусно сведены вместе самые разные, зачастую противоположные и даже противостоящие друг другу характеры. В разговорах и воспоминаниях охотников воскресает и жизнь ныне заброшенного Корнеевского починка, и его былой хозяин, работящий и вместе с тем «ндравный», со своими весьма жесткими «нормами» и оценками («…девка нужна такая, чтобы спереди была баба, а со спины – лошадь»), и, наконец, роль, которую сыграл в его судьбе в пору коллективизации один из собравшихся. Есть зубоскал Паша, во многом близкий Егорше, и подобный Пряслину Иван.
«Аккомпанирует» происходящему и сам пейзаж этих заброшенных мест. «Виснет туман над озябшим полем да первая звезда одичало смотрит на меня с вечернего неба…» «Одичалость» звезды, прежде как бы входившей в привычный, «домашний» мир, ныне ушедший, – впечатляющий многозначительный образ.
Замечательны две повести, появившиеся почти одновременно с романом «Две зимы и три лета» – «Деревянные кони» и «Пелагея».
Героиня первой, Василиса Милентьевна, которую теперь, в старости, чаще просто Милентьевной зовут, – одна из тех крестьянских женщин, кем издавна любовалась и гордилась наша литература.
Не баловала ее жизнь! Рано выдали замуж: выпал случай «сбыть с рук» почти бесприданницей, ревнивец муж чуть не убил, да и вообще нравы в деревне, куда она попала, были довольно дикие. А когда Милентьевна своим упорством и трудолюбием подняла семью, – покулачили…
Муж умер, двое сыновей на войне пали, третий долго числился без вести пропавшим, дочь в беде руки на себя наложила.
Но тот ровный свет, который смолоду источала душа Василисы Прекрасной, как прозвал ее свекор, не потускнел и по-прежнему притягивает к ней самых разных людей.
Прекрасный портрет героини, созданный в повести, заключен как бы в рамку из описаний удивительного дома, где происходит действие, с его простором, «целым крестьянским музеем» из всяческой утвари, где «все, что бы… ни взял, на что бы ни взглянул – и старый заржавелый серп с отполированным до блеска цевьем, и мягкая, будто медвяная чашка, выточенная из крепкого березового свала, – все раскрывало… особый мир красоты» – «красоты, по-русски неброской, даже застенчивой, сделанной топором и ножом», и – наконец! – с возвышающимся на крыше деревянным же коньком.
Если Милентьевна воплощает лучшие черты русской крестьянки, напоминая героинь народных сказаний и некрасовских поэм, то Пелагея из одноименной повести представляет собой случай несравненно более сложный и кричаще противоречивый.
Многие стороны ее недюжинной натуры в силу условий жизни были целиком обращены лишь на создание и упрочение материального благополучия собственной семьи. Добиваясь хлебного – в буквальном и переносном смысле – места в пекарне, Пелагея Амосова не была особенно брезглива в выборе средств, да и потом умела поладить «с кем нужно».
Все это, разумеется, не могло не сказаться на ее судьбе. И, пожалуй, с особенной силой нравственный надлом ее характера обнаруживается в предсмертные минуты. Овдовевшая, больная, оставленная дочерью, укатившей в город за легкой жизнью, тоскливо догадывающаяся, что все ею нажитое – лишь мишурная видимость счастья, она тем не менее все еще питает несбыточные надежды выдать свою непутевую Альку за сына «нужного» Петра Ивановича, хотя испытывает к нему страх и ненависть.
В свое время именно Пелагея «последний удар» нанесла «великану дому» свекра, настояв, чтобы его «разрубили пополам». И это еще один жесткий штрих в портрете героини.
Однако есть в ее характере и подлинное трудолюбие, стремление выполнять свое дело как можно лучше. Ведь помимо всех хитростей и уловок она устояла в пекарне самим качеством своего «хлебного воинства». И недаром тропа, протоптанная ею к месту работы, прозвана Паладьиной межой.
Обратим внимание на первые же строки повести:
«Утром со свежими силами Пелагея легко брала полутораверстный путь от дома до пекарни. По лугу бежала босиком, как бы играючи, полоща ноги в холодной травяной росе. Сонную, румяную реку раздвигала осиновой долбленкой, как утюгом».
Здесь чувствуется не просто утренняя бодрость героини, но и – пусть самое мимолетное, на ходу (некогда, работа ждет!) – любование всем окружающим. Река увидена «сонной, румяной» – словно милый ребенок.
Есть в утреннем настроении Пелагеи и что-то вызванное ее поистине святым отношением к труду, как ни солоно ей одной подчас приходится в пекарне. Характерно, как после тяжелой болезни собирается туда Пелагея:
«Утром встала ни свет ни заря. Чистая, благостная, – вечером накануне специально сходила в баню, будто к богомолью готовилась. Из дому вышла с батожком – тоже как богомолка».
Постойте, – да ведь это похоже на паломничество нашей «идеальной» героини, старой Милентьевны, на Богатку, как называли расчищенное когда-то по ее почину поле (где теперь лесом все заросло…)!
И не в том, конечно, дело, что обе ныне бредут, на батожок опираясь, а в том, что, как магнитом, притягивает к себе место и память всех забот, стараний и трудов, принесенных и людям, и самим себе.
«Старорежимный человек», – полуиронически, полувосхищенно отозвалась о Милентьевне невестка, говоря, что та, как бы ни устала после хождения по лесу, пить-есть не станет, пока не переберет принесенные грибы. Та же истовость в труде свойственна Пелагее, и Абрамов готов ей многое простить за это.
Болезненная острота, с которой Пелагея воспринимает увиденное в пекарне, пришедшей без нее в полный упадок, заставляет вспомнить переживания Лизиного свекра, Степана Андреяновича, в «Путях-перепутьях», когда он не нашел прежней своей пожни, на расчистку которой двадцать лет убил и которая снова заросла кустарником. (Милентьевна ничего не сказала об увиденном на Богатке, но это молчание не менее красноречиво, чем то, что она потом «два дня лежала лежкой».)
Абрамов горько тревожится, что «старорежимные» свойства – добросовестность в работе, способность болеть за свое дело и принимать близко к сердцу все с ним связанное – исчезают, «выходят из моды», чуть ли не как милый сердцу Пелагеи плюшевый жакет, на который теперь она одна позарилась в магазине.
В Алькиной душе диковинно разрослись отнюдь не лучшие материнские черты вроде готовности при случае пойти на сделку с совестью, а то, что было силой Пелагеи, захирело.
При этом писатель совсем не делает Альку чудовищем. В посвященной ей повести он с сожалением изображает, как треплет судьба эту «живую ветку амосовского дерева», как после «эффектного» прибытия ее, «процветающей» официантки, в родную глухомань после смерти матери она вроде бы проникается запоздалым сознанием своей вины перед ней и нежностью к памятным местам. Ее трогает встреченная в лесу берестяная посудинка, сделанная отцом, чтобы Пелагее было из чего напиться во время ягодной страды. Кажется, не простой солнечный зайчик играет на мокрой бересте, а отблеск тихой и самоотверженной любви, какой самой Альке не довелось испытать.
Но, увы, невелика цена этим покаянным чувствам и порыву остаться дома совсем… Приходит день, когда она решает продать уже не материнские «тряпки», а сам дом, последнее, что еще связывало ее с родиной.
А вот один из персонажей абрамовской повести «Мамониха» свою деревню не бросил, но расцвел тут махровым цветом. Прежде этого лодырничавшего в школе здоровяка Геха-бык звали, а ныне он – Геха-маз, по имени мощного грузовика, который водит. Машина совхозная, но Геха сделал из нее могучее средство собственного обогащения. Можно сказать, пионер будущей «прихватизации»!
«Машинный человек, вся жизнь в его руках», – отзываются о нем люди, вынужденные нередко идти к нему на поклон. Наглея с каждым днем, Геха возвел целые хоромы на пепелище… некогда сожженной барской усадьбы.
Остаться в деревне он остался, но любви к родной земле лишен начисто и ради собственной выгоды готов сделать с ней все, что угодно. Одна из статей его доходов – скупка за бесценок и продажа «на дрова» опустевших изб. А мы знаем, что дом для писателя – не просто строение, «недвижимое имущество», а память души прежде обитавших там людей.
Глядя на красные, вырезанные из жести звездочки на многих избах, напоминающие о том, что здесь жили павшие на войне, Абрамов в одной из своих миниатюр, похожей на стихотворение в прозе, уподобляет эти дома «сказочным бревенчатым мавзолеям, в каждом из которых покоится душа погибшего на войне хозяина-солдата». И этими-то «мавзолеями» Геха спекулирует!
Знаменательно и то, что он спиливает возле дома своего школьного приятеля деревья, некогда посаженные в честь рождавшихся в семье детей и носившие их имена. Он, правда, не знал, что́ знаменуют собой эти посадки, но, и узнав, нимало не смутился!
Боже мой, думаешь, как бы тяжело переживал писатель новые напасти, выпавшие на долю его многострадальной земли в последующие десятилетия! Что́ бы делал, в какой колокол бил, – а ведь обязательно бил бы, такой уж был характер!
Может показаться удивительным, что, начав с больших романов, писатель завершал свой творческий путь произведениями самого малого объема. «Трава-мурава» – называется раздел одной из его последних книг, состоящий из форменных миниатюр, а то даже из обрывков услышанного разговора, удачных реплик, остро сформулированных мыслей, броских, красочных выражений.
«Травка-муравка что, не знаешь? – говорится в эпиграфе. – Да чего знать-то. Глянь под ноги-то. На травке-муравке стоишь. Все, все трава-мурава. Где жизнь, где зелено, там и трава-мурава. Коя кустышком, коя цветочком, а коя и один стебелек, да и тот наполовину ощипан – это уж как бог даст».
В содержании и самой форме этого причудливого жанра сказались и пожизненная приверженность писателя к родным краям, к людям, их судьбам, их северной «говоре», и пристальная зоркость ко всем проявлениям окружающей жизни, стремление успеть запечатлеть их во всей непосредственности и неприкрашенности.
Душа подлинного художника не в силах примириться с возможностью бесследного исчезновения самой памяти о множестве людей, с которыми сводила жизнь. Пусть же на страницах книги останутся они – «коя кустышком, коя цветочком, а коя и один стебелек», да все же останутся! Остановись, мгновение человеческой жизни, – и когда ты и впрямь прекрасно, и даже если ты, наоборот, горько и тягостно, но остановись, запечатлейся в кратчайшем ли эпизоде, выразительном жесте, незабываемом слове, – «это уж как бог даст»!
Как ни густо населены романы Абрамова, обилие персонажей в его миниатюрах еще поразительнее. Люди разных поколений, характеров, судеб тут прямо-таки толпятся.
Чрезвычайно характерно для художественной манеры писателя то, что сильные душевные движения, сочувствие трудным судьбам и переживаниям людей не выставлены напоказ, а приглушены, замаскированы то юмором, то даже нарочитой грубостью.
Так, рассказывая о сватовстве инвалида Аркадия к брошенной возлюбленным девушке («Жарким летом»), писатель безбоязненно воспроизводит якобы ерническую, «бесстыжую» его речь: «Имей в виду, эта посудина и впредь пустовать не будет». «Нахальные» слова прикрывают нежелание выглядеть «великодушным спасителем» и стремление подбодрить женщину.
Приходилось встречать читателей, которых смущали выражения вроде пресловутой «посудины» или отчаянное признание героини рассказы «Бабилей», что она «Гордю-то сама на себя затащила» в ту послевоенную пору, когда на мужиков «в очередь стояли» (по переписи 1959 года женщин в нашей стране было на двадцать миллионов больше!).
Как будто подобным читателям адресованы горестно-насмешливые слова Поли Открой Глаза из одноименного рассказа: «Что, что морщишься? небаско говорю! А баско-то в книжках…»
Вот уж рассказ, написанный поистине слезами и кровью, так что его и шедевром именовать как-то неловко! Тут и ранний рабочий «хомут», легший на неокрепшие плечи (ау, ау, Мишка и Лизка Пряслины!), и поневольное обучение заковыристым «матюкам», поскольку лошадь, к которой приставили на лесоповале четырнадцатилетнюю девочку, именно к «этой политграмоте у мужиков приучена», и бесконечное безрадостное девичество («Хороших-то на войне поубивали»), и отчаянное насилие над собой в окаянную минуту («Ведь так я и зачахну стопроцентной девушкой, ха-ха… решила на случку идти, напилась»).
Помню, как трогал нас в юности финал знаменитого английского фильма «Леди Гамильтон» с последней фразой опустившейся и состарившейся героини: «Не было после, не было потом…» – А что же сказать про эту трагедию, где нет ни проблеска любви и счастья, где «пьяная развязная бабенка», в какую превратилась когда-то непомерно застенчивая Поля, после даровой рюмки завершает свой «небаский» рассказ словами: «Это еще все подходы к моей жизни, а про саму-то жизнь, ежели хочешь знать, я еще и не начинала…»
«Але еще рассказывать? Могу», – кто это говорит? Только ли Поля или сам автор, томимый преизбытком всего пережитого, увиденного и услышанного – от горчайших плачей над такими незадачливыми судьбами до горделивых сказов о неизбывном мужестве, богатырской силе и часто кажущихся прямо-таки невероятными трудах и до искрящихся задорным юмором былей и небывальщин?
Лет пятнадцать тому назад был снят замечательный документальный фильм об абрамовских местах – деревне Верколе и окрестностях, воссоздававший атмосферу, которой дышал, которой жил Федор Александрович, – всю пестроту бытия, все слои истории, обнажающиеся в человеческих судьбах, как почва на речном обрыве. Временами даже начинало казаться, что не камерой кинооператора все это жадно схвачено, а глазами самого писателя, что перед нами как бы его ожившие, переведенные на иной образный язык записные книжки, – вся та, если воспользоваться астрономическим термином, «туманность» жизни, которая потом сгущалась, концентрировалась, преобразуясь в «планеты» – книги.
«Еще до войны, студентом, – говорится в одной «травке-муравке», – записывал я сказки на своем Пинежье. Раз попалась старуха – день записываю, два записываю, три – всё сказывает.
– Много ли еще, бабушка? – спрашиваю.
– А кто зна́. Не считала. Тут который год внучек заболел, фершалица приказала на улицу не пущать, дак я три недели сказками его удерживала. С утра до темени сказывала. Ну, всю-то себя не опорознила».
Так же, при всем обилии и разнообразии созданного, «не опорознил себя» и Федор Абрамов, чья жизнь оборвалась на всем лету.
Андрей Турков
Повести
Деревянные кони
1
О приезде старой Милентьевны, матери Максима, в доме поговаривали уже не первый день. И не только поговаривали, но и готовились к нему.
Сам Максим, например, довольно равнодушный к своему хозяйству, как большинство бездетных мужчин, в последний выходной не разгибал спины: перебрал каменку в бане, поправил изгородь вокруг дома, разделал на чурки с весны лежавшие под окошками еловые кряжи и, наконец, совсем уже в потемках, накидал досок возле крыльца – чтобы по утрам не плавать матери в росяной траве.
Еще больше усердствовала жена Максима – Евгения. Она все перемыла, перескоблила – в избах, в сенях, на вышке, разостлала нарядные пестрые половики, до блеска начистила старинный медный рукомойник и таз.
В общем, никакого секрета в том, что в доме вот-вот появится новый человек, для меня не было. И все-таки приезд старухи был для меня как снег на голову.
В то время когда лодка с Милентьевной и ее младшим сыном Иваном, у которого она жила, подошла к деревенскому берегу, я ставил сетку на другой стороне.
Было уже темновато, туман застилал тот берег, и я не столько глазом, сколько ухом угадывал, что там происходит.
Встреча была шумной.
Первой, конечно, прибежала к реке Жука – маленькая соседская собачонка с необыкновенно звонким голосом – она на рев каждого мотора выбегает, – потом, как колокол, загремело и заухало знакомое мне железное кольцо – это уже Максим, трахнув воротами, выбежал из своего дома, потом я услышал тонкий плаксивый голос Евгении: «О, о! Кто к нам приехал-то!..» – потом еще, еще голоса – бабы Мары, старика Степана, Прохора. В общем, похоже было, чуть ли не вся Пижма встречала Милентьевну, и, кажется, только я один в эти минуты клял приезд старухи.
Мне давно уже, сколько лет, хотелось найти такой уголок, где бы все было под рукой: и охота, и рыбалка, и грибы, и ягоды. И чтобы непременно была заповедная тишина – без этих принудительных уличных радиодинамиков, которые в редкой деревне сейчас не гремят с раннего утра до поздней ночи, без этого железного грохота машин, который мне осточертел и в городе.
В Пижме я нашел все это с избытком.
Деревушечка в семь домов, на большой реке, и кругом леса – глухие ельники с боровой дичью, веселые грибные сосняки. Ходи – не ленись.
Правда, с погодой мне не повезло – редкий день не перепадали дожди. Но я не унывал. У меня нашлось еще одно занятие – хозяйский дом.
Ах, какой это был дом! Одних только жилых помещений в нем было четыре: изба-зимовка, изба-летница, вышка с резным балкончиком, горница боковая. А кроме них, были еще сени светлые с лестницей на крыльцо, да клеть, да поветь саженей семь в длину – на нее, бывало, заезжали на паре, – да внизу, под поветью, двор с разными стайками и хлевами.
И вот когда не было дома хозяев (а днем они всегда на работе), для меня не было большей радости, чем бродить по этому удивительному дому. Да бродить босиком, не спеша. Вразвалку. Чтобы не только сердцем и разумом – подошвами ног почувствовать прошлые времена.
Теперь, с приездом старухи, на этих разгулах по дому надо поставить крест – это было мне ясно. И на моих музейных занятиях – так я называл собирание старой крестьянской утвари и посуды, разбросанной по всему дому, – тоже придется поставить крест. Разве смогу я втащить в избу какой-нибудь пропылившийся берестяный туес и так и этак разглядывать его под носом у старой хозяйки? Ну, а о всяких там других привычках и удовольствиях, вроде того чтобы среди дня завалиться на кровать и засмолить папиросу, об этом и думать нечего. Забудь. Не смей! Старуха в доме.
2
Я долго сидел в лодке, приткнутой к берегу.
Уже туман наглухо заткал реку, так что огонь, зажженный на той стороне, в доме хозяев, был похож на мутное желтое пятно, уже звезды высыпали на небе (да, все вдруг – и туман, и звезды), а я все сидел и сидел и распалял себя.