Читать онлайн Среди дыма и огня бесплатно
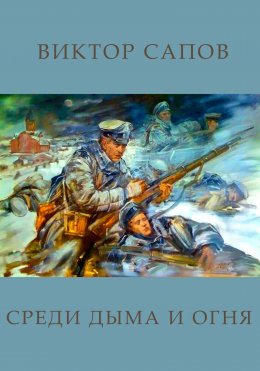
Апрель 1919 г.
1.
Утро. Первое утро дома, после госпитальной палаты. Два одеяла, которыми мама заботливо укрыла уснувшего Петю вечером, теперь лежали у него в ногах, свесившись с дивана на пол. В квартире было натоплено сверх меры, а ведь за окном – весна. Надо бы сказать истопнику, какой месяц на дворе. Чёрт!
Петя попытался встать рывком, по-военному, но вышло не очень. Организм отказывался восстанавливаться быстро, на скудном-то госпитальном рационе! Но теперь он дома, и должен пойти на поправку быстрее. Откровенно надоело быть беспомощной куклой, но что поделаешь? Тиф и так обошёлся с ним мягко, как говорили доктора. Ну да, ну да…
Сидя на диване и ища ступнями тапочки, Петя вспомнил свой сон и нахмурился. Ему приснился Государь Император, Государыня, Великие княжны, Цесаревич. Они стояли босыми на мокром, росистом лугу и смотрели печально вдаль, сквозь Петю. Он, зная, какая участь им грозит, пытался крикнуть, предупредить, но слова не шли из горла. Пытался подойти поближе – не слушались ноги. А потом наполз вдруг густой туман, и они медленно растворились в нём. Петя помнил своё бессилие, корил себя за него. Но сейчас, отряхнув с себя остатки сна, он понял, что вновь пережил тот страшный июльский день, когда, будучи на фронте, узнал о гибели Августейшей семьи.
Дома у него была купленная на какой-то ярмарке открытка, где в обрамлении вензелей и завитушек, в маленьком овальном окошечке были изображены четыре Великие княжны и Цесаревич. Княжны казались Пете какими-то эфемерными, неземными существами, сущими ангелами, опекавшими наследника. Чистота их образов рождала в детском Петином уме только одну мысль – защитить их ото всякой опасности, отдать за них жизнь. Однажды он даже тайно ото всех поклялся в этом перед алтарём. И тем тяжелее была страшная весть, облетевшая полки во время Второго Кубанского похода: Государь убит, убита и вся семья.
Однополчане Петра реагировали по-разному. Находились и такие, кто начинал философствовать на тему злого рока, вызванного действиями самого Государя. Но большинство было просто подавлено, и многие остро ощущали вину за произошедшее. Острее всех, как ему казалось, переживал он сам. Ведь не сдержал клятвы. Не защитил.
На панихиде Пётр держался стойко. Большой портрет Государя, заваленный венками, взывал к отмщению. Уже в следующем бою он заколол штыком молодого безусого красноармейца, уже бросившего наземь винтовку и поднявшего вверх руки. Петя утешал себя мыслью, что убил идейного большевика, но в глубине души понимал, что парень скорее всего был обычным мобилизованным хуторянином. Его живое испуганное лицо, а потом вдруг мёртвое, с остекленевшим, запечатлевшим обиду взглядом, некоторое время преследовало Петра. Впрочем, дальнейшие беспрерывные бои вытеснили из его головы все переживания, связанные с этим случаем. И лишь дома он вновь о них вспоминал, вспоминал и терзался.
Тяжёлые мысли юного марковца начали двигаться в направлении геройской смерти в бою, как единственном способе искупления своей вины. Но, к счастью, их прервал взрыв девичьего смеха, прорвавшийся сквозь плотно закрытую дверь между гостиной и кухней.
«Надя. Ишь, весело ей. И горя не знает», – подумал Петя и стал одеваться.
Выйдя на просторную кухню, служившую одновременно швейной мастерской, Петя застал маму и Надю за работой. Машинки попеременно отстукивали замысловатые ритмы, превращая куски ткани в юбки, блузы и жакеты.
– А вот и наш больной очнулся! – Петина мама протрубила сигнал к атаке, и острая на язык Надюша тут же подхватила:
– Ага, Лазарь наш воскрес! Как по Писанию. Только вот смурной какой-то, вроде как не рад.
– Сон дурной снился. А так я в порядке. Скоро вот совсем оклемаюсь, так сразу на фронт! – буркнул Петя и скрылся в ванной.
– Никак пугает, а Наталья Ивановна? На фро-о-онт. Нешто без него не обойдутся! На ногах вон едва держится…
– Будь моя воля, так и не отпустила бы, – вздохнула Петина мама. – Да только как его удержишь…героя?
В словах Натальи Ивановны вновь сквозила гордость за сына, смешанная с тревогой. Но Надежда, словно заметив едва наметившуюся на горизонте тучку, тут же принялась её отгонять своими весёлым щебетом.
– А может женить его, а? Женатому вроде как отпуск положен. А там, глядишь, победит Его Превосходительство генерал Деникин большевиков, так и не придётся ему больше воевать идти.
– Мал ещё жениться. По-хорошему, так надо двадцати одного года дождаться.
– А у нас в деревне так и в восемнадцать парни женились, а кто и раньше…
– Так то у вас в деревне. А у нас в городе в восемнадцать ещё образование положено получить. Иначе как семью-то кормить?
– Так руками…
– У вас руками. А у нас – головой, – терпеливо объяснила Наталья Ивановна.
– Оно понятно. Интеллигенция… Но вы-то, тёть Наташа – всё же руками?
– То я. А то сын.
– Ааа, – протянула Надежда и задумалась. Но ненадолго.
– Тёть Наташа, а почему воевать можно хоть с шестнадцати, а вот жениться нет?
– Ещё спрашиваешь! Воевать – дело и неучу доступное. А вот семью кормить – разумение нужно.
– Так что получается, ещё три года ждать этой, как её…Ксении?
– По-хорошему – так. У неё у самой ещё ветер в голове.
– А вдруг она Петеньку-то нашего разлюбит?
– Ну, раз разлюбит, то и ладно. Другую подыщем. Чего ты вдруг эти глупые вопросы задаёшь? Давай уже работай, а то строчка вон кривая пошла.
Надя послушно умолкла, но лицо её озарилось довольством.
Тем временем Петя вышел, причёсанный, ладный. Налил себе чаю и удалился в гостиную. Надя вздохнула.
Наталья Ивановна, себе на уме, всё видела и думала о своём. Ей нравилась её работница, её жизненная сила, задор и неиссякаемый оптимизм. Будучи лишена сословных предрассудков, она не видела ничего дурного, если и её Петеньке девушка придётся по сердцу. К Вериным же, и конкретно к Ксении Павловне душа у неё больше не лежала. Наталья Ивановна силилась объяснить себе эту исподволь возникшую неприязнь, но рассудок не находил внятных объяснений. Девушка ведь хорошая, душой чистая. Но материнское сердце упрямо шептало, что счастье её сына лежит в другой стороне.
Поэтому полчаса спустя она вдруг засобиралась «на свежий воздух», оставив сына с Надеждой наедине.
Ничего не подозревающий Петя сидел в гостиной за остывающим чаем и раскрытым томиком баллад графа Алексея Константиновича Толстого, когда в его обитель вторглась Надежда с пыхтящим самоваром в руках.
– Почаёвничаем? Маман ваша перерыв объявила и прогуляться пошла. Так что мне занятиев нету.
Петя кивнул. Напыщенные баллады Толстого о стародавних битвах всё равно не лезли в голову. На войне, увы, всё далеко не так героично…
Надежда установила самовар, принесла чашку и конфетницу, в которой вместо конфет были бублички.
– Угощайтесь, Пётр Александрович!
– Спасибо, Надя. Только опять вы официально ко мне… мы же когда-то договорились? Просто «Пётр»
– Просто, не просто… а вдруг вас в офицеры произвели?
– Нет, Надя, не произвели. Офицеров хватает.
– Ну, не беда. Произведут ещё! Ведь же убыль большая, да? Была вчера мимо храма, а там панихида за панихидой…жуть. Жалко так стало. Все молоденькие, как и вы.
– Нет, я в части самый молодой. Остальные – дядьки. А что убыль – так ведь война.
– Война… – согласилась Надежда, и пропела:
Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жёны?
Наши жёны – ружья заряжёны,
Вот где наши жёны.
– А кстати, – оживился Петя, – как у вас там… с Георгием?
– Знать не знаю никакого Георгия, – выпалила Надя.
– Это как так?
– А вот так! Думала я, что благородный он человек, под венец позовёт, а он того…гулять гулял, по ресторанам однажды даже, а потом пытался приставать, руки распускать, да так противно, водкой от него разило! Я вырвалась и убежала, и с тех пор знать его не знаю, хоть он и ваш друг.
Надя обиженно надула губки и замолчала. Петя нахмурился.
– Надя, послушайте! Не могло быть у Георгия дурных намерений. Я-то его знаю. Разве что от водки что-то помутилось. Нет, простите его, умоляю!
– Так я его простила. Может и от водки… Вот только всё равно отставку ему дала. Не мой он кавалер.
– Очень жаль. Впрочем, он на фронте сейчас. Ему не до романов.
– Вот и пусть. Мне чистая любовь надобна. Как у Бунина, помните? А не шашни эти дурацкие. Честь девичью потерять легко, а восстановить невозможно. А ещё ре-пу-та-цию. Так меня учили. Так что со мной шутки плохи! Со мной не балуй!
– Так я и не собираюсь, Надежда, – улыбнулся Петя, помешивая сахар в чашке.
– Всё вы шутки шутить изволите, Пётр! Знаю, конечно, сердце ваше занято прекрасной дамой, барышней, как можно мне о вас думать? Даже подумать не могу!
Всё её раскрасневшееся лицо, и поза, между тем, отчаянно говорили о противоположном. Но Петя, смутившись упоминанием Ксении, задумался и ушёл в себя.
Его Ксения, ангел, милая и заботливая с ним, пока он беспомощно лежал на госпитальной койке, по мере того, как он выздоравливал, стала вновь отдаляться на привычную дистанцию. Словно, выполнив свою миссию по спасению его жизни, полетела на белоснежных крыльях на другое задание. Нет, Петя всё понимал, она же милосердная сестра и таких больных у неё – полная палата, но к чему опять этот холодный тон, эти тяжкие вздохи, эти недомолвки. Их счастье длилось ровно столько, сколько длилась опасность для его жизни. И всё.
Сосед по палате, тоже перенесший тиф бравый кавалерист, с закрученными по-гусарски усами, с которым Петя поделился своими сомнениями, ответил ему просто:
– А кто их, баб, поймёт! Мой метод с ними прост – шашки наголо и рысью марш! Пан или пропал!
– И как?
– Работает! Ну, иные немного поломаются, но это для виду. Женщины – они приступ любят, напор! И охотно капитулируют. Так что не робей!
Петя представил себе такой приступ в отношении Ксении. Глупо! Всё это не про неё. С ней надо только по-рыцарски: припасть на колено и предложить руку и сердце! И кольцо. Но вдруг – отказ? Таким же леденяще-чеканным тоном, как недавно:
«Пётр, ах, оставьте мою руку. Пожалуйста. Похоже, Вы думаете, что Вы тут один. Вы думаете только о себе».
Разворот. И медленное, величавое покидание палаты. И даже не обернулась. Эх…
– Пётр, вы что же, меня совсем не слушаете? – Надин голос вырвал его из царства тягостных воспоминаний.
– Простите, Надя. Я немного задумался. Что я могу для вас сделать?
– Для меня? Вот чего удумали! Хотя… Сводите меня в кондитерскую, где кофий с пирожным. Я вам тогда ещё стихов, и по-французски почитаю. Где же ещё читать по-французски, как не в приличном месте. А? Не могу же я в таком городе пропадать впустую!
– В кондитерскую? – Петя удивлённо посмотрел на простодушно-весёлую Надю, и потихоньку (нет бы сморгнуть!) стал тонуть в её глазах цвета чистого неба. – Хорошо, давайте…
Надежда аж засветилась от радости, и даже захлопала в ладошки. Потом пожала Петину ладонь и, что-то напевая и пританцовывая, понесла остывающий самовар на кухню. Петя расслышал слова какого-то романса:
На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит1.
В это время отворилась входная дверь и вошла Петина мама.
2.
Земля была холодной и влажной, и Георгий, лежавший, скрючившись за земляным валиком, ощущал её даже через шинель. Весеннее солнце было в зените, степь пахла пожухлой и прелой зимней травой, сквозь которую уже пробивались тоненькие зелёные росточки. Такие яркие и свежие, они были сейчас прямо перед глазами Георгия, и он, на мгновение отрешившись от всего происходящего, залюбовался ими.
«Может, это последняя моя весна», – успел подумать он, как вдруг ощутил толчок в бок от лежащего рядом старого казака, Ступенкова.
– Кажись скачут, ваше благородие!
Георгий припал ухом к земле. Степь отдалась нарастающим гулом. В другое ухо, открывшееся от съехавшей набекрень папахи, влетели звуки выстрелов и гиканье приближающейся конницы.
– Без команды не высовываться и не стрелять! – передал он по цепочке полусотне спешенных казаков, залёгших за придорожной насыпью.
Георгий впервые принял командование. Сотника, Ефима Крюкова, природного казака, тяжело ранило двумя днями ранее. И вот он, подхорунжий – остался здесь за старшего офицера. Георгия немного трясло. Послушают ли его, бывшего студента, «добровольца», «кадета», казаки?
Топот приближался, нарастал. Вот на насыпь вскочил первый всадник, и лихо перемахнул через лежащих ничком пластунов. Опасно! Затем второй, третий…
Это – свои. Конная полусотня заманивала красных притворным бегством. Георгий сдёрнул папаху и решился аккуратно высунуться, чтобы увидеть приближающихся преследователей. Отличить их от своих можно было лишь по красным лентам на папахах. Они дико орали и вращали шашками. Впереди нёсся здоровенный бугай с кумачовым знаменем и яростно пришпоривал коня.
«Спешите, спешите, сейчас доскачете», – мрачно подумал Георгий.
– К бою! – крикнул он осипшим от волнения голосом.
Казаки разом подались на насыпь, выставив винтовки. На правом фланге должен быть готов пулемёт. На него сейчас вся надежда.
– Пулемёт готов! – донеслось до Георгия.
Георгий прицелился в знаменосца.
– По красной сволочи! Огонь!
Знаменосец вылетел из седла и, не отпуская древка знамени, рухнул в траву. Конь встал на дыбы, заржал… дальнейшая какофония звуков разом накрыла этот маленький пятачок Донской земли. Очень быстро всё стихло, если не считать ржания испуганных коней, что без всадников продолжали метаться по полю. Конная полусотня казаков, развернувшись для контратаки, преследовала оставшихся в живых красных. Георгий утёр пот со лба и сел на насыпь, завороженно, будто в трансе наблюдая, как его подчинённые без приказа двинулись цепью по полю боя, деловито достреливая бившихся в агонии коней, и докалывая штыками раненых красноармейцев.
– Стойте, станичники, не убивайте, я свой, свой! – какой-то человек с разбитым в кровь лицом встал на колени перед неумолимо приближающейся цепью, истерично кричал и махал руками. Кто-то из казаков начал поднимать винтовку…
Георгий резко очнулся, встал и побежал к своим, надрываясь на ходу:
– Отставить! Не сметь стрелять в раненых! На подводы их, в лазарет!
Несколько казаков хмуро обернулись. Среди них и Ступенков.
– Ваше благородие! А на черта нам с ними канителиться? Они разве с нами возятся?
– Они – нет. А мы – да! – Георгий решил не сдаваться. Он приблизился к стоящему на коленях красноармейцу, совсем ещё юнцу.
– Кто такой?
– Казак я, ваше высокоблагородие, природный казак станицы Каргинской, и фамилия моя соответствующая – Каргин…
– А почему с красными?
– Так мобилизовали, принудили, ироды. Сказали – мать расстреляют, деда…
Подошёл Ступенков, мрачно глянул, сплюнул…
– Ваше благородие, позвольте. Щас вернётся с преследования Архипов, он с тех мест, дознается, что это за гусь. – Встать, паршивец! Мать, говоришь? Опозорил ты её, и деда свого опозорил… За каинами этими пошёл. Али не слыхал, не видал, что они у вас по станицам творят?
Красноармеец поник головой.
– Слыхал, дядя…так ведь поэтому и страшно стало…
– Страшно? Значит ты никакой не казак! – Ступенков обернулся к Георгию. – Поступайте, как хотите, ваше благородие, но я бы его тут и прикончил, паршивое ведь семя…
Георгий остался твёрд. Парня увели в тыл, ещё полтора десятка раненых красных подняли на носилки подоспевшие санитары. На поле осталось лежать человек сорок. И тридцать коней. У казаков потерь не было.
Георгий продолжал изо всех сил отбивать натиск наползавших на его сердце жестокости и равнодушия. Как и его казаки, он прекрасно знал, что творили в захваченных станицах красные, знал, что есть даже какая-то кровавая бумажка от засевшего в Московском Кремле не то Ленина, не то Троцкого, или кого-то из их кагала, прямо предписывающая поголовно истреблять казаков2. Требуя от них милосердия к злейшему врагу, он требовал почти невозможного. Но понимал, что «белое дело» только оттого и «белое», что встало против зла, бесчеловечности, безбожия, дикости. А если белое знамя забрызгать кровью раненых и пленных врагов, будет ли оно по-прежнему белым?
Георгий стоял, молчал и кусал губы. Молчали и проходившие мимо казаки. Радость победы как-то быстро улетучилась от осознания того, что впереди будет новый бой, а потом ещё и ещё. Красных было слишком много.
А апрельское солнце продолжало ласково и милосердно обогревать и будить землю и всех её крохотных обитателей. Высоко в небе парил степной орёл. Позади поблёскивала широкая излучина Северского Донца, за которым Донская армия пережидала зиму, копила силы, чтобы вновь ринуться в наступление за освобождение казачьих земель. Степной ветерок опять ворошил надежды на возрождение.
Георгий очнулся от созерцания и побрёл за казаками. В глазах многих он увидел уважение, и это обнадёживало. Его чувство чужака потихоньку из него уходило, он старался сродниться со своими бойцами, понять их душу, их чаяния.
«В конце концов, ведь приходили на Дон когда-то беглые, и становились своими, отчего же мне в этом должны быть препятствия?» – так думал Георгий и потихоньку втягивался в казачий быт. Ловил себя на мысли, что ему нравится протяжное их пение, станичный говор… Но больше всего ему по душе было их спокойное чувство собственного достоинства. Отец как-то говорил, что такое чувство в Российской империи – удел в основном лишь дворянского сословия, однако у казаков оно вполне присутствовало, сочетаясь при этом порою с первобытной силой и жестокостью.
«Видимо, сама среда обитания, сама степь к этому располагает», – пытался размышлять Георгий, наблюдая краем глаза парение орла прямо над своей головой. «Орёл вот, птица благородная, но и хищная. Так и казаки…»
Ступенков задержался, дождался Георгия. Заглянул ему в глаза прямо из-под своих косматых бровей, улыбнулся щербатой улыбкой, так что на обветренном лбу собрались складки.
– Поздравляю, ваше благородие! Первый блин, то есть, бой – не комом вышел! Без потерь! Хороший знак! Казаки довольны. А что милосердие проявили, так ведь по-христиански ведь это, и благородно. Мы тут за войной, совсем об этом позабыли, я вот и к причастию уже месяц как не подходил, а проповедей год уже, почитай, не слышал… так что, не сумневайтесь!
Георгий пожал протянутую руку казака. На сердце полегчало, вернулась радость.
– Спасибо, Ступенков. Как думаешь, скоро одолеем красных?
– Если все бои будут такие же, то скоро! Переведутся!
– Хорошо, Ступенков. Седлайте коней, выдвигаемся вперёд, ночуем в станице…
3.
Достопримечательностью квартиры Вериных на Первой линии были большие напольные часы, доставшиеся им вместе с квартирой от прошлых владельцев. А прежние владельцы подались задолго до революции в Петербург, «умножать свои капиталы», и посчитали, что таких часов они там себе накупят сколько угодно, и отдали свои Вериным даром. А изделие, между тем, было дорогой, европейской работы. Если быть точным, то бельгийской, с корпусом из дуба и механизмом, дававшим исключительную точность. Ну и конечно с массивным маятником, и с боем. От них так и пахло стариной, и Павел Александрович считал, что чем старее часы, тем они точнее и надёжнее. Он поговаривал: «Сейчас так не делают. Особенно отечественные мастера. Жалкие подражатели! Другое дело – Европа: Бельгия, Швейцария… Но и там в последнее время стали делать хуже, чем было. И так – во всём. Вспомним восемнадцатый век, барокко! Какая была архитектура, живопись, музыка! А сейчас? Всё, решительно всё клонится к упадку!»
Ксении очень не хватало отца. Он уехал в Новороссийск, потом от него пришло письмо, что мол, он устроился, и всё у него хорошо, есть практика. А в квартире теперь образовалась какая-то пустота. И Георгий – на фронте. Остались они одни, с мамой. Не оттого ли часы сейчас тикают как будто бы громче, а бьют – словно поминальный колокол?
Ксении, сидевшей у приоткрытого окна, стало грустно. За окном – буйство зелени, апрельское вечернее тепло, неугомонно чирикают воробьи и происходит Жизнь. Стоят предпасхальные денёчки. А радости-то на сердце нет и нет.
Мама настояла, чтобы она взяла отпуск от госпитальной работы. Недостатка в сёстрах милосердия сейчас не было, а Елена Семёновна давно чувствовала, что её дочь эта работа выматывает и иссушает внутренне. Она так ей и сказала:
– Ксю, ты надорвалась. Я это чувствую, и папа тоже. Непосильную ты ношу на себя взяла. Мне понятно, что время сейчас такое и требует подвига, но…и подвиг требует сил. А у тебя их нет.
Ксения внешне протестовала, горячилась, но внутренне была согласна с мамой. К тому же, ей стали часто сниться сны, в которых являлись ей умершие от ран офицеры и солдаты. Они стояли над ней с печальными взорами, и молчали. То ли благодарили, то ли укоряли… Так и умом тронуться было недолго.
Зато теперь она бездельничала, если не считать учёбы, которая давалась ей легко и не требовала усилий. Да и в гимназии от учениц перестали требовать того, что было непременным и строго соблюдаемым правилом ещё несколько лет назад. Не стало ни латыни, ни греческого. Ни дисциплины. Все соученицы Ксении мечтали поскорее выпуститься и выйти замуж. Непременно за офицеров. А чего хотела она, Ксения?
Когда её подруга Валя заговорщицки сообщила ей, что Петю на фронт на вокзале провожала какая-то «бесстыжая рязанская девка», Ксения с ужасом почувствовала, что книжного «приступа ревности» у неё не возникло. И обида не закипела, и страсти не забурлили. А что же было? Какая-то пустота. Выходит, любовь ушла?
Она робко поделилась этим с мамой.
– А между прочим, он заходил попрощаться. А тебя не было.
– А вы мне ничего не сказали!
– Я? Забыла, закрутилась. Но ведь всё равно между вами охлаждение было и так заметно.
– Правда? Вот так заметно?
– Конечно. Я-то всё замечаю. Ну, у тебя-то к нему – точно.
– Мама, я не знаю, почему так! Я его любила и спасала, когда он в тифозном бреду метался, и спасла! А потом вдруг всё ушло…
– Ксю, любить и спасать – это немного разные вещи. Это мужчины любят спасать. Женщин, страну и весь мир. А женщинам присуща забота. А забота требует постоянства. И мужчины того же требуют.
– Но как я могла? Я же не жена ему, чтобы постоянно думать только о нём?
– Не жена. Но в кафе-то могла с ним сходить. Или в сад, прогуляться. Он ведь и предлагал. А ты ему отворот дала, помнишь?
– Ах, мама… Понимаете, мне тогда казалось, что он совсем мальчик. Такой маленький и наивный, хотя и повоевал уже и герой. И что мне импонируют более зрелые мужчины. С ними ведь интересней. А теперь вот – не знаю, что и думать…. Наверное, это всё? Конец?
– И я не знаю, Ксю. Мальчик он очень хороший, чистый. Вернётся – поговори с ним, выясните отношения. Надеюсь, что вернётся. Бои там сейчас страшные, вон гробы всё везут и везут.
– Мама, я ежедневно за него молюсь.
– Молись. А там – как будет, так и будет.
В дому пусто, гулко и печально, часы громко отмеряют секунду за секундой. Неумолимый бег времени. За окном – жизнь, а здесь пахнет…нет, не смертью, но одиночеством. Как же не хочется быть одинокой!
Вчера на тротуаре ей попалась навстречу ватага молодых и развязных подростков, одетых как попало. Должно быть, фабричные или грузчики, или бог их знает кто. Преградили ей дорогу, глупо смеялись, распускали руки, предлагали пойти с ними. Насилу вырвалась. Ещё долго в её ушах звенели непристойности. А был бы рядом Петя, он бы им надавал. А был бы рядом гвардейский полковник Павлов, что недавно выписался после ранения, так к ней никто и на пушечный выстрел не подошёл бы. Не посмели бы.
Ксения отошла от окна, взяла книгу. На её страницах храбрые рыцари повергали зло мечом и копьём, а прекрасные дамы дожидались их в высоких башнях, вышивая платки и гобелены. И однажды, когда уже пропадала всякая надежда, вдруг раздавался стук копыт, трубили трубы, опускался подъёмный мост, и появлялся Он, а она, вся в белом, сбегала по винтовой лестнице и падала прямо в объятия своего верного рыцаря, такого же прекрасного и молодого, как и тот юноша, что когда-то уезжал отсюда в Крестовый поход.
Глупо. Устарело. Она с ума сойдёт, дожидаясь в этой полупустынной квартире своего счастья. Надо что-то предпринять, но что? Петя… Ну, мало ли кто его провожал, может быть сестра? Кузина? Не мог же он так, бесповоротно, без объяснений…
Она вошла в свою спальню и осмотрела книжную полку. Вот рыцарские романы, вот Эмили Бронте, а вот рассказы о Блаженной Ксении Петербургской. Всё такое разное, но нужное, чтобы приуготовиться к настоящей жизни. А вот она, настоящая жизнь, в скрипе повозок и в чавканьи вынимаемых из дорожной грязи калош во время Ледяного похода, в предсмертной просьбе «Воды, сестра» умирающих воинов, несомненно обретающих Царствие Божие. В чувстве восхищения достоинством бывалых офицеров, их бравадой ранениями, философской задумчивостью или искромётным юмором перед лицом страданий и смерти.
Ксения понимала, что ей никак не получится стать такой, как её мать, тихой, смиренной, привыкшей к одиночеству и томительному ожиданию под мерное тиканье часов, коротавшей время за вязанием. Жившей в томительном ожидании приезда мужа, в торопливом ожидании взросления и счастья детей, в тревожном ожидании старости…
Нет, она хотела вновь оказаться в гуще событий, среди геройских мужчин. Хотела опять быть им полезной, выхаживать и спасать. Только уже непосредственно на фронте, в атмосфере близких боёв. И там встретить Петю, и там с ним объясниться. И, может быть, пойти на решительный шаг, обвенчаться с ним, прямо перед боем, в каком-нибудь простом сельском храме. И не разлучаться с ним потом до конца жизни.
Мысли носились как вихрь, путались. Ксения то внутренне вспыхивала, то успокаивалась и вновь задавалась тысячью вопросов. Наконец она утомилась и стала молиться. Помолившись, поняла, что всё в её голове обрело ясность, и решение наконец пришло.
Сон унёс её в светлую страну фей. Больше не было никаких угрюмых солдат, ничего страшного. Только покой. Если бы сейчас кто-то посмотрел на Ксению, то увидел бы её улыбку в свете заглядывающей сквозь окно луны.
Июнь 1919 г.
Красные армии, словно льдины – смело вдруг майским половодьем. Добровольцы перешли в наступление в Каменноугольном районе, Донцы вновь нацелились на север Области Войска Донского, на помощь Вёшенским повстанцам, Кавказская армия неумолимо приближалась к Царицыну. Боевой дух белого воинства вырос, словно сама весна щедро подпитывала его теплом. Давно подмечено было – в лютый мороз имеют успех Красные, весной же и летом вся Природа стоит за Белых.