Читать онлайн Сказки о былом бесплатно
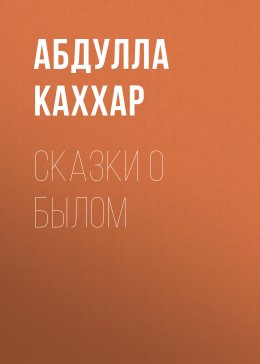
Абдулла Арипов
- Как рыдает напев! Как стремится
- прозвучать
- чей-то горестный век…
- Если музыка так им томится,
- Как же прожил его человек?
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОВЕСТИ
Детские годы мои прошли в кишлаках Ферганской долины: Яйпан, Нурсук, Кудаш, Бувайда, Толик, Алкар, Юлгунзор, Аккурган. И когда в середине тридцатых годов я вспомнил свое детство, оно мне показалось беспорядочным и странным сном; это были времена, когда люди видели в небе хвостатую звезду – комету, а караульщик стрелял из ружья в Бабара, но тот остался жив. Тогда караульщик воскликнул: «Клянусь аллахом, впервые встречаю такого упрямого вора! Выстрелил я почти над его головой, а он и глазом не моргнул!»
У меня таких воспоминаний было множество. Чаще они всплывали на поверхность, но были и такие, что долгое время оставались где-то в глубине сознания. И остались бы там, если бы не Антон Павлович Чехов.
Тридцать лет тому назад мне в руки попало собрание сочинений Чехова. Я прочитал эти книги буквально за несколько дней. Произошло что-то удивительное, словно автор великолепных рассказов, мой глубокоуважаемый учитель, дал мне свои очки. «Надень их и оглянись на прошлое своего народа», – сказал он.
Я точно выполнил этот его наказ и увидел, что «злоумышленник» Антона Павловича, пытавшийся отвинтить гайки на железной дороге, и «упрямый вор» Бабар, который шел туда, куда ему было велено идти, или стоял там, где ему было приказано стоять, были как бы двумя половинками яблока с древа эпохи.
Так проснулись в моем сознании картины детства, и прошлая жизнь еще полнее предстала перед глазами. Может, потому и родились в середине тридцатых годов полные горя и печали мои рассказы: «Вор», «Больная», «Националисты», «Городской парк». Они хорошо были встречены читателем. Однако эти рассказы, хотя они переиздаются и поныне, уже тогда вызвали возражения у многих. Жизнь, изображенную в них, молодежь считала очерненной.
Проходили годы и с появлением нового поколения читателей эти возражения приобрели еще более резкий характер.
Упреки молодых читателей в последние годы стали сильней.
В 1960 году я написал рассказ «Страх» о прошлом узбекской женщины. И то, что в этом рассказе я заключил восемь женщин в гарем старого Алимбека-додхо, одной читательнице показалось оскорблением женской чести. Я получил от нее письмо без подписи и адреса.
«…Может, в прошлом все действительно было так, как вы описали в своем рассказе. Но стоит ли теперь, спустя столько лет, ворошить печальные страницы истории? Мне кажется, когда описываете картины прошлого, вы впадаете иногда в сочинительство…»
После таких обвинительных писем мне захотелось без всякого «сочинительства» описать прошлую жизнь, все, что видел, пережил и что осталось в памяти. Один из критиков, уже прочитавший несколько новелл из моей книги в газетах и журналах, недоверчиво и опасливо воскликнул: «Не сгущены ли здесь краски? Не оставит ли эта книга у читателя слишком тяжелое впечатление?» Этот критик родился в 1930 году. Я не сомневаюсь в том, что молодежь, родившаяся позже него, может высказать свои подозрения куда более резко. Я хотел назвать свою повесть «Страницы былого», но, чтобы успокоить моих читателей, назвал ее «Сказки о былом».
АБДУЛЛА КАХХАР
НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
В Яйпане мы жили во дворе пекаря деда Алима. Посреди тесного маленького дворика, половину которого занимала пекарня, росли астры, желтоцвет, райхон, чабрец, заботливо ухоженные моей мамой. Низкий глинобитный дувал был весь испещрен дырочками, похожими на ласточкины гнезда. Дверь в доме была одностворчатая; маленькое, низкое, почти у самой земли, окошко выходило на айван – небольшую террасу. Чтобы скрыть от чужого взгляда то, что делается в доме, на окно была наклеена промасленная бумага. В доме было сыро и настолько темно, что нельзя было различить друг друга на расстоянии двух шагов. Вторая половина двора, которую занимал сам хозяин, тоже была небольшая, но вся увитая густыми виноградными лозами. Правда, это не спасало от изнуряющей жары в летнюю пору.
Жена деда Алима, женщина уже немолодая, целыми днями пряла пряжу, изредка забегая к нам перекинуться словечком-другим с мамой. В ее глазах мы были несчастными людьми. Она знала, что мой отец, кузнец Абдукаххар, без конца кочует с места на место в поисках хорошей работы, и потому жалела нас. Утешая маму, она говорила:
- Кто не странствовал за солнцем следом?
- Прожил жизнь, не быв ничьим соседом?
- Кто себя, осевши на чужбине,
- Чужаком не чувствовал при этом?
Старики жили одни. Сын деда Алима батрачил у кото-то из баев, дочь они недавно выдали замуж. Алим бува вставал рано, еще до восхода солнца, пек лепешки и, сложив их в корзину из ивовых прутьев, выносил и раскладывал на прилавке перед домом. Потом он исчезал в саду и появлялся только перед вечерней молитвой. Пересчитывал деньги, и, если выручки не хватало, он начинал ворчать, но не потому, что денег было мало по сравнению с проданными лепешками, а просто он жалел человека, который попадает в ад за то, что украл хлеб у ближнего своего.
Стояли жаркие дни. Хотя двор наш был тенистым, в доме было полно мух. Однажды отец, закрыв наглухо дверь и окна, устроил дымовую завесу. Дым был настолько едким, что отец, еле дыша, вышел из дома и долго кашлял. Узнав о его действиях, дед Алим обиделся и, подойдя к дувалу, сказал:
– Не обижайте божьих тварей, уста. И мух тоже бог создал, вселил в них души!
Отец тотчас же прекратил травить мух.
Как-то к нам заглянул мой двоюродный брат – племянник отца, который охотился недалеко от нас, в Пасткурике. Патроны у него кончились, и он забежал к нам набить новые. Несмотря на то, что мама мне строго-настрого наказала не подходить близко к брату, я с любопытством наблюдал, как он заправляет гильзы. Брат поджег немного пороха и показал мне, как он горит, и, взяв пистон, сверху красный, а внутри белый, стукнул по нему камнем – раздался выстрел, я от испуга вздрогнул, а потом запрыгал от радости. Улучив момент, когда брат был занят набивкой патронов, я спрятал два пистона под палас. Когда он уехал, не знаю почему, я поймал муху и, зажав ее между двумя пистонами, положил на наковальню и изо всех сил стукнул по ним молотком – так грохнуло, что мама, которая, разговаривая с женой Алима-бува, перекапывала цветник, схватилась за поясницу и упала на кусты райхана. А старуха от испуга свалилась на мою маму и закричала: «Что ты наделал, сорванец! Иди сейчас же позови отца!»
Мама лежала охая и все же не забыла крикнуть мне: «Надень чарыки!» Я быстро на босу ногу надел чарыки и выбежал на улицу. Кузница наша стояла на перекрестке подле самого базарчика, и оттуда слышался стук молотка о наковальню. Отец раздувал мехи кузнечного горна; увидев меня, он испуганно подбежал и спросил: «Что случилось?» Ничего не объясняя, и сказал ему, что мама плачет. Развязав фартук, отец вышел из кузницы и, вскочив на свою «шайтан-арбу», как тогда называли велосипед, помчался домой. От испуга я остался стоять как вкопанный. На другой стороне перекрестка, там, где располагались лавки торговцев, на деревьях висели разноцветные клетки, и оттуда доносилось несмолкаемое кудахтанье кекликов – горных куропаток – и пение перепелов.
Я вышел из кузницы, перешел на противоположную сторону и только успел подойти к лавке, где кудахтала горная куропатка, как меня позвал отец. Он слез с «шайтан-арбы» завязал фартук и укоризненно покачал головой: «Что же ты в маму стрелял?! Разве можно стрелять в маму, которая тебе подарит братика?» Папа сунул мне в руку конец веревки кузнечного горна. Я понял, что ничего страшного не произошло, и молча принялся раздувать мехи.
Папа взял из печи докрасна раскаленный кусок металла, положил его на наковальню и стал пробивать дырку. Маленький, с горошину, шарик скатился с наковальни на пень, а с пня прямо в чарыки. Чарыки впопыхах я надел неправильно: левый на правую ногу, а правый на левую. Шарик прилип к моей ступне. Я закричал от боли. Папа быстро стащил с моих ног чарыки и, подняв меня на руки, положил на скамью. Когда я опомнился, надо мной уже сгрудилось несколько человек. Один обмахивал меня полотенцем, другой дул на рану… Кто-то сказал: «Да этот мальчик герой, он совсем не плачет, а ржет, как жеребенок!» Хотя нога у меня очень болела, я перестал плакать. Но тело дрожало, и слезы сами по себе градом катились из глаз. Какой-то старик приложил к моей ране кусок обгоревшего войлока и перевязал ногу тряпкой. Один из папиных приятелей сунул мне в руку большой леденец и розовый пряник, по форме отдаленно напоминающий коня. Когда я совсем успокоился, папа сказал мне: «Настоящий кузнец в огне закаляется!» – и погладил по голове.
К вечеру папа закрыл кузницу, посадил меня на спину, и мы отправились домой.
Мама, узнав о том, что я обжег себе ногу, чуть не лишилась чувств. Да так и не вспомнив, зачем она меня посылала к отцу, стала ругать себя за то, что отпустила меня одного в кузницу. Похоронившая восьмерых детей, мама не доверяла меня никому и потому не отпускала от себя ни на шаг. Теперь она даже забыла, что утром я напугал ее. Отец с матерью, удивляясь, говорили о ловкости и смелости такого маленького существа, как я, который один сумел сходить в кузницу. Словно все беды и несчастья, какие только есть в мире, поджидали меня на моем пути, а я, ловко увернувшись от них, добрался до отца.
После этого в глазах родителей – «слава аллаху!» – я заметно вырос и уже вполне самостоятельно мог выходить на улицу, но с условием далеко от дома не забредать. Правда, еще ни разу я не возвращался с улицы веселым. В первый же день моей самостоятельной прогулки я свалился в канаву. На узком мостике через канаву лежала связка стеблей кукурузы; пытаясь сбить ее ногой в воду, я поскользнулся и полетел вниз. Кто-то из прохожих вытащил меня. Со слезами на глазах я возвратился домой со своей первой прогулки. Мама была напугана больше, чем я; она подвела меня к очагу, побрызгла мне в лицо водой, даже забыв снять с меня мокрую, прилипшую к телу рубашку; потом подожгла кусок тряпки и, повертев ею несколько раз вокруг моей головы, выбросила, – так она меня лечила от испуга. После этого случая мне долгое время не разрешали выходить на улицу. А однажды я сидел на пороге дома и лепил из глины разные фигурки, как вдруг со стороны базарчика показалось несколько всадников. Это были казаки. Я никогда раньше не видел их. Заглядевшись на синие фуражки с красными околышами, из-под которых торчали длинные чубы, на их необычную одежду, я и не заметил, как далеко ушел от дома. Когда я огляделся – вокруг было поле. Я сразу повернул назад, но вскоре убедился, что ни дома, ни даже своей улицы мне не отыскать. Я сел на развилке дорог и заплакал. На мое счастье, подъехала арба. Сойдя с лошади, арбакеш обо всем расспросил меня. Оказалось, что он знал моего отца; посадив на арбу, он отвез меня домой. Об этом случае я матери не рассказал – знал, что она перестанет пускать меня на улицу. Но арбакеш все рассказал моему отцу, и мама, узнав о моих злоключениях от папы, страшно обеспокоилась:
– Боже ты мой, повезло тебе на этот раз! Что бы мы делали, если бы казак взял тебя за ногу и ударил об землю? Или увез бы тебя с собой! Запомни, если увидишь русского, беги домой. Лучше не попадайся ему на глаза!
А папа похвалил меня:
– Молодец! Да ты, я вижу, смелый парень. Взрослый и то робеет при виде казака.
И то, что я не испугался казаков, и то, что я уже мог самостоятельно ходить в кузницу, радовало моего отца. После этого мне позволялось свободно ходить на прогулки и даже захаживать на соседние улицы. Если ребята не принимали меня в свой круг, я наблюдал за их игрой со стороны и, когда мне надоедало это занятие, спокойно возвращался к себе домой.
Пришел рамазан. По утрам нас будила барабабанная дробь или звуки сурная, чем-то напоминающие мне блеяние козы. Я представлял себе уразу как что-то интересное и загадочное. Несколько раз я поднимался рано, до восхода солнца, вместе со взрослыми пробовал соблюдать пост. Но самым интересным дня меня оказались базаршабы – ночные базары. Отец однажды повел меня на такой базар.
От перекрестка и до самой площади во всех ларьках и будках горело бесчисленное множество керосиновых ламп и свечей. Народу видимо-невидимо. Крик, шум, смех, песни неслись отовсюду. «Хлеб горячий! Горячий хлеб», «Самса горячая! Полезна и питательна! Особенно на завтрак! Бери у меня, глотай не жуя! – зазывали продавцы. Между ними, рассыпая по земле искры, сновали ребятишки с бенгальскими огнями. Взлетела из-за деревьев к небу ракета и, взорвавшись, рассыпалась на множество огоньков, похожих на яркие звезды.
Папа повел меня в чайхану. Там тоже было много народу. Большая лампа, висевшая прямо над головой, ярко освещала чайхану. Мы прошли мимо сури – низких деревянных настилов, на которых сидели люди, и поднялись на айван. Кто-то подхватил меня под мышки и посадил на ковер. Рядом со мной освободили место моему отцу. То ли под сури, то ли над ней кто-то очень тонким, но звонким голосом пел песню. Я стал озираться по сторонам. Папа толкнул меня в бок и указал на небольшой ящик с огромной трубой. По форме напоминающей цветок повилики, оттуда доносилась песня. Я много раз слышал о заводном ящике, который поет, но видеть его мне раньше не приходилось. Раскрыв рот от удивления, я долго глядел на граммофон. Когда песня кончилась, чей-то голос из трубы произнес: «Молодец, Хамрокул-кары!» Мне показалось, что в этом желтом ящике было заперто много-много маленьких человечков.
А потом вдруг совсем рядом раздался какой-то треск. От испуга я прижался к отцу, но он успокоил меня: «Не бойся, сынок, это ракета!» Я посмотрел в ту сторону, где была толпа. По кругу, как лягушка, прыгал огненный шар. После каждого треска он подпрыгивал выше человеческого роста. Многие, как и я, испуганно шарахались в стороны, а толпа весело смеялась. Тут заговорили о ракетах, фейерверках, и один бородатый старик рассказал такой случай. Был в Ходженте знаменитый мушакбоз. Пригласили его на свадьбу к одному баю устроить фейерверк, так этот самый мушакбоз, привязав к поясному платку четыре ракеты, взлетел выше тополей. Хорошо, люди поймали его за веревку, привязанную к ноге, да спустили на землю. Все слушали и удивленно качали головами.
Снова завели граммофон. В другом углу чайханы завертелась волчком ракета, извергая дым и пламя. Потом началось представление, которое называлось «Буваковок».
Маленький человечек с узкими глазами, вероятно киргиз, появился из-за камышовой циновки. Он положил на сури три бурдюка с кумысом, расстелил коврик и, удобно расположившись, пощелкивая пальцем по косе, стал расхваливать свой товар. Из-за той же циновки верхом на белом ишаке выехал высокий человек с большим животом, с длинной бородой, расчесанной на две стороны. Это и был Буваковок. Проезжая мимо киргиза, он спросил: «Сколько стоит твой кумыс?» Киргиз, расхваливая свой товар, ответил: «Одна коса две таньги!» Буваковок недовольно покачал головой и предложил за десять кос одну таньгу. Киргиз не согласился и даже накричал на него. Люди стали смеяться над продавцом кумыса. Буваковок сошел с ишака, подошел к киргизу, развязал один бурдюк и попробовал кумыс. Потом подошел ко второму бурдюку, проделал то же самое. Киргиз, схватив развязанные бурдюки, крепко зажал им горловины, чтобы кумыс не выливался. А Буваковок тем временем оттащил в сторону третий бурдюк и снова наполнил кумысом косу. После каждой осушенной чаши он приговаривал: «Десять кос одна таньга! Согласен?» Киргиз топал ногами, кричал, но отпустить развязанные бурдюки не мог. Люди же весело смеялись.
Теперь за меня не беспокоились. Я целыми днями бегал по соседним улицам, играл с мальчишками в разные игры и возвращался домой поздно вечером, весь вывалянный в пыли, с порванной рубахой и штанами. Но мама не ругала меня. Она радовалась, что я начал проявлять самостоятельность. И вот, когда я нашел себе хороших друзей на нашей улице, мои родители решили вдруг переехать из этой махали.
Однажды папа на своей «шайтан-арбе» уехал в Коканд. Возвращаясь вечером из города, он повстречал сестру деда Алима – старуху лет восьмидесяти. Папа промчался на велосипеде мимо нее на большой скорости. Когда старуха увидела, что какое-то человекоподобное существо летит по воздуху, не касаясь ногами земли, она от страха упала в обморок. Собрались люди. Старуху на носилках унесли домой. Папа очень переживал за нее и несколько дней не выходил на улицу. Через три дня сестра деда Алима умерла. Отец от переживаний совсем похудел, а мама целыми днями плакала. Через неделю Алим-бува прислал человека и передал: «Пусть уста не переживает! Он не виновен в том, что произошло, просто пришел смертный час моей сестры. Такова, значит, воля божья! Но пусть он больше не ездит на своей «шайтан-арбе».
На следующий же день папа поехал в Коканд и там продал свою «шайтан-арбу». Повстречав деда Алима, папа принес ему свои извинения, а чтобы искупить вину, сделал старику два кетменя и один топор. Но дед Алим, видно, не понял благих намерений моего отца и заплатил ему за все.
На этом вроде бы все успокоились, и нелепый случай с «шайтан-арбой» стал забываться. Но прошла еще одна неделя, и произошло такое, после которого нам пришлось переехать в другой кишлак.
Отправившись утром в кузницу, папа повстречал в переулке женщину в парандже. К ее подолу со спины прилип куст верблюжьей колючки. Папа хотел снять эту колючку и наступил на куст ногой. Колючка отстала, дернув за подол, – женщина обернулась, взглянула на папу и пошла себе дальше. Это была старшая дочь Алима-бува, недавно вышедшая замуж. Дома она рассказала отцу, что Абдукаххар-уста заигрывал с ней и дергал за паранджу.
Рано утром голос деда Алима гремел на весь квартал:
– Эй, шайтан-арба! Эй, пришелец! Выходи! Выходи, и я покажу тебе, как заигрывать с чужими женами! Алим-бува был очень тихим и спокойным стариком. Отец испуганно смотрел на мать. Она, растерянная и бледная, боялась выйти из дома. Папа вышел со двора на улицу. Я последовал за ним. Я совсем не узнал деда Алима. Передо мной стоял совершенно другой человек. Старик стоял, вытащив руку из рукава чапана, словно готовился к кулачному бою. Прежде всегда добрый и ласковый, он звал меня «дитя мое», а теперь из его уст лилась такая брань, какую я отроду не слышал. Выпученные глаза готовы были выскочить из орбит. Лицо старика казалось бледнее его седой бороды. Он весь дрожал от негодования. Как только вышел мой отец, на него посыпались оскорбления. То и дело слышалось: «Пришлая собака…» Все, что ему с преувеличениями рассказала дочь, в его воображении обрело еще большие размеры, и он выложил это моему отцу. Папа стоял, виновато склонив голову, и только повторял:
– Алим-бува, послушайте меня!
Но старик не давал ему и рта раскрыть, а все грозился, ругался, махал перед его лицом руками.
Сейчас же собирай вещи, пришлая собака! Убирайся из моего дома!..
Дед Алим кинулся во двор и, пройдя мимо застывшей в испуге матери, вошел в дом.
Мой папа, все повторяя: «Отец, послушайте меня!», кинулся за ним.
Старик вытащил из дома наши одеяла и швырнул их на улицу в пыль. На шум сбежались соседи. Никто не пытался мешать деду Алиму. А кто-то даже крикнул:
– Ничего хорошего нельзя было ожидать от человека, который ездил на шайтан-арбе! Бей его!
Дед Алим, проходя мимо отца, размахивая руками, сказал:
– Ты думал, моя дочь шлюха? Пришлая собака! Не жить мне со своей женой, если я еще взгляну на твою рожу!
Он ушел к себе, на свою половину двора. Но и оттуда еще долго доносилась его грозная брань.
Папа поднял с земли одеяла и занес в дом. Мама с растрепанными волосами стояла у стены и плакала. Папа, пытаясь успокоить ее, рассказал о том, что произошло на самом деле.
– Сейчас старик в гневе и слушать не хочет меня. Он поклялся, что не будет разговаривать со мной. Но потом он поймет свою ошибку, и ему станет стыдно…
Мама перестала плакать.
– Как вам не совестно заигрывать с чужими женами! Как не совестно!
Папа сердито посмотрел на нее, но ничего не сказала и вышел на улицу.
Вернулся он поздно ночью. Как я потом узнал, папа нашел нам дом в махалле. Кошарык и приехал за нами на арбе, запряженной ишаком. Погрузив свой скарб на арбу, мы в ту же ночь переехали в Кошарык.
«МОЛЧУН»
Махалля Кошарык была значительно дальше от базара. Улица, на которой мы сняли дом, упиралась в рощицу, где протекали два больших арыка. Место это матери очень понравилось: посреди двора росло большое тутовое дерево, старенький светлый домик с пристроенным к нему айваном стоял в глубине.
Ближе к вечерней молитве я вышел на улицу. С шумом и криками по ней носились ребята. Они играли в новую для меня игру. Играющие разбиваются на две команды и, взявшись за руки, выстраиваются в цепи на расстоянии тридцати шагов друг от друга. Старший одной команды, обращаясь к другой, кричит: «Тополь белый, тополь синий, кто из нас тут самый сильный?» Старший второй команды отвечает: «Такой -то!» Избранник должен разбежаться и со всей силы ударить по цепи. Если он прорывал ее, то забирал в свою команду одного пленного, если нет – сам оставался у противника. Я тоже присоединился к одной из играющих сторон. Играли мы долго. Ни одна из команд так и не пополнила своих рядов. Я с нетерпением ждал, когда назовут мое имя. Я бы постарался порвать цепь и привести одного пленного. Но никто так и не назвал меня. Я совсем забыл, что ребята и не могли знать моего имени.
Когда надоело играть в эту игру, долговязый парень, больше всех кричавший на ребят, подошел ко мне и, оглядев с головы до ног, сказал:
– Пришелец!
– Сам ты пришелец! – ответил я и стал пятиться. Мальчишка подскочил и дал мне подзатыльник. Я не хотел отвечать тем же – их было много, и могло кончиться для меня плачевно. Ребята так и носились вокруг меня, как воробьи, завидевшие змею. В это время высокий худой старик в белом чапане, следивший за нами, сказал:
– Оставьте в покое его, ребята! Не трогайте! Ведь он не сам захотел стать пришельцем, бог за грехи его так наказал.
Ребята сразу же разошлись. И если раньше я слышал от Алима-бува слова «пришлая собака», звучавшие для меня как оскорбление, то не думал, что обычное слово «пришелец» вызывает отвращение. Эти слова старика очень сильно ранили мою душу. Я ушел к себе во двор. Ничего о том родителям не рассказал. Я схоронил все это в душе. С этого дня мне стали безразличными все мальчишки нашей махали, и мне расхотелотсь выходить на улицу.
Вскоре мама родила мне сестренку. И даже это не обременяло меня, хотя я целыми днями носился по дому, помогая матери. После родов она захворала. Правда, соседи не оставляли нас без внимания: женщины пекли лепешки, стирали наше белье. Зато все остальные дела по хозяйству легли на меня. Каждый день по два раза я подметал двор и комнаты, ходил за дровами, помогал отцу готовить обед, мыл посуду, носил воду, стирал пеленки Ульмасой.
Болезнь у мамы была какая-то странная: ее мучила сильная жажда, потом судорогой сводило руки, и она лежала, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Папа хотел привести знахаря, но мать не согласилась. «Это оттого, что во дворе у нас нечистый дух поселился», – сказала она. Как-то мама лежала, глядя в окно, и увидела, что через проем в дувале у тутового дерева пролезла к нам во двор черная коза и вдруг на глазах исчезла. По ее мнению, это был джинн. Вот отсюда и все ее болезни, считала мать. Отец купил Коран, подложил ей под подушку. Но это не помогло. Приступы участились. Кто-то из отцовских друзей посоветовал ему сходить к Учармахсуму. Его молитва вмиг ее вылечит, говорили ему. Учармахсум славился на всю округу как великий знахарь. Ходили слухи, что его молитвы изгоняет все болезни, раскрывает тайны и что он силой одних только заклинаний отпирает любые замки. Учармахсумом, крылатым, прозвали его за то, что он вмиг появлялся там, куда его приглашали.
И у нас он появился неожиданно. Учармахсум словно влетел в комнату, такой он был худой и маленький, сел неподалеку от матери, лицо которой было укрыто платком, и, покачиваясь из стороны в сторону, стал читать молитву. У Учармахсума были круглые светлые глаза, из-за редкой бороды и темного рябого лица нельзя было установить его возраст, однако во рту у него не было ни одного зуба. После этого он приходил к нам еще несколько раз. В те дни, когда он был занят, я бегал к нему домой и приносил матери бумажки, исписанные разными молитвами. Мама опускала эти бумажки в пиалу с водой, держала их там, пока не растворялись чернила, и пила.
А как-то Учармахсум пришел к нам со своими девятью учениками, знавшими наизусть Коран. Они сели по обе стороны от мамы и стали читать сорокакратную молитву – это был какой-то особый вид лечения от болезни, после которого больному становилось либо лучше, либо хуже. Через две недели мама немного поправилась и даже вставала на ноги.
После того как мама почувствовала себя лучше, к нам в гости пришли соседки. По обычаю, каждая принесла с собой, что смогла. Они быстро приготовили плов. Большинство гостей были веселые, жизнерадостные женщины. Одна из них, толстая женщина, взяла маму за руку и, как цыганка, стала гадать.
- О святые! О пророки!
- Мы погрязли во грехе.
- Я про все ее пороки
- прочитаю по руке…
Женщины смеялись, слушая ее. Но больше всех смеялась мама. Я ни разу не видел, чтобы она так заразительно смеялась.
Другая женщина, чуть помоложе толстухи, рассмешила всех, давая мужчинам махали прозвища. Мадамин-растеряха – он всегда терялся при виде женщин; Гани-шатун, этот был высокий и сухопарый и, когда ходил, шатался из стороны в сторону. Нурмат-неуравновешенный… и еще о многих она говорила. Она даже показывала, кто как ходит, как разговаривает. Женщина дала папе прозвище «корноухий». Ну и смеялись все! А мама удивилась – столько лет прожив с отцом, она и не знала, что у папы ухо с щербиной.
Когда женщины немного успокоились, толстая женщина, та, что гадала маме, заметила меня, подозвала к себе и, погладив по голове, сказала:
– Мама твоя поправилась, что ты сидишь с женщинами, иди погуляй!
Я ничего не ответил. Я никому не говорил, что не люблю махаллинских ребят за то, что они обзывают меня пришельцем.
– На базарную плошадь цирк приехал. Ты был в цирке? – спросила она.
Я молчал. Тогда в разговор вмешалась молодая женщина, та, что давала всем мужчинам прозвища:
– Отвечай же! Что у тебя, языка нет, что ли?
Я совсем растерялся. Толстуха схватила меня за уши и потерлась головой о мой лоб.
– Будешь говорить или нет?
Мама, вероятно, забыла, как сама не пускала меня на улицу гулять, когда мы жили у Алима-бува, что я целыми днями сидел дома, нянчил сестренку да помогал маме по хозяйству и никто из взрослых со мной почти не разговаривал. Она сказала:
– Он у нас «молчун»!
Толстуха взяла меня крепко за руку:
– Будешь говорить или нет, а не то я упрячу тебя под подол! – Она привстала с места, как бы собираясь привести в исполнение свою угрозу.
Я вырвался и убежал на улицу. Женщины смеялись и говорили обо мне. До самого их ухода я просидел на пороге дома.
Через несколько дней к нам в гости приехали женщины из соседнего кишлака. Они тоже заметили, что я все время молчу, и одна из них сказала: «Хороший мальчик у Абдукаххара, да жаль, немой!» После ухода гостей мама об этом рассказала папе.
Наступила осень. У папы прибавилось работы, и он взял меня к себе в помощники. «Поработаешь, пока найду себе ученика», – сказал он. Я каждый день вставал рано и вместе с отцом отправлялся в кузницу. Он поставил меня раздувать мехи. Работа была несложная: дергай за веревку вниз, потом отпускай, дергай – отпускай. Никому до меня дела нет, разговаривать ни с кем не надо. Хоть и скучно, но я был рад этому: по крайней мере, никто не дразнил меня «пришельцем».
Однажды к нам в кузницу пришел высокий в ковровой тюбетейке каратегинец Додарходжа. И с ним, тоже в такой тюбетейке, пестром чапане, босой подросток, который оказался его младшим братом. Звали его Куляля. Додарходжа вот уже двенадцать лет работал на маслобойне у Артыка-аксакала, и Куляля вместе с братом ходил по кишлакам, продавая масло, кунжут, халву. Додарходжа недавно удалось на время устроить Кулялю учеником к жестянщику, но там ему не понравилось. Додарходжа сказал: «Абдукаххар-уста, обучите моего брата ремуслу кузнеца. Большего от вас не требую. Я буду вам век благодарен». Отец принял Кулялю к себе учеником и даже пообещал платить ему за работу. Куляля, сияющий от восторга, взял из моих рук веревку. Но я вовсе не испытывал никакой радости: опять мне придется сидеть дома с сестренкой и мамой, которая будет пытаться выудить из меня хоть одно слово. Я стал сторониться людей и искать уединения. Это всерьез обеспокоило моих родителей. Мама настояла на том, чтобы папа сводил меня к Учармахсуму. Учармахсум долго читал молитву и дал мне на кончике пальца лизнуть своей слюны. После этого я стал избегать даже своих родителей. Я ни с кем не разговаривал потому, что когда начинал что-нибудь говорить и задумывался над этим, то забывал то, о чем собирался сказать.
«ЗИНГЕР-БАЙ»
Однажды Куляля прибежал из кузницы и, задыхаясь от бега, сказал маме:
– Апа, Абдукаххар-уста просит дать семь с половиной таньга. Он хочет купить «Зингера».
Мама, даже не поинтересовавшись тем, что это такое «Зингер», ушла в дом и вынесла небольшой узелок с деньгами. Считать она не умела и потому, ни слова не говоря, протянула его Куляле. «Наверное, «Зингер» что-нибудь интересное», – подумал я и побежал за ним.
На перекрестке, прямо против кузницы отца, была торговая лавка с небольшой террасой. Сейчас там было много народу, и на сандале – низком деревянном столике – стояла какая-то большая, черная и блестящая вещь, чем-то похожая на жука. Все смотрели на нее с тревогой и удивлением. Те, кто посмелее, осторожно прикасались к машине. Из лавки, вслед за городским человеком в пиджаке с отложным воротником, вышел папа. Куляля одним прыжком очутился на айване и протянул ему деньги. Отсчитав семь с половиной таньга, папа отдал их горожанину, а тот, присев на край сандала, стал что-то писать, разложив на коленях бумагу.
Гомон не смолкал. Обсуждая покупку, люди говорили разное:
– Машина, что шьет шапки!
– Вай, гнусавый, государство не такое глупое, чтобы дать тебе машину, что шьет шапки!
– Говорят, это машина и косоворотки шьет, и пиджаки!
– Верно, стоит только ручку покрутить, а ткань там, внутри машины!
Горожанин протянул папе исписанную бумагу, взял несколько разноцветных лоскутков, лежащих на сандале, прострочил их на машине и, чтобы показать, насколько крепко они сшиты, изо всех сил стал тянуть, стараясь порвать. Ткань лопнула, но не по шву – шов остался целым. Все ахнули: «Вот это да!» – воскликнул кто-то из толпы. Один из тех, кто посмелее, подошел поближе.
– Вот здорово! Скажите, а на ней подпругу сшить можно?
– Все можно! Даже кошму можно залатать! – ответил горожанин и, повернувшись к толпе, рассказал об условиях торга.
Машина стоила сорок восемь таньга. Но если заплатить за нее семь с половиной таньга, то можно ее купить с рассрочкой на шесть месяцев.
Отец взял машину и подал ее стоявшему внизу Куляле. Молчавшая до сих пор толпа оживилась, загудела, как улей. Люди толкали друг друга, лезли вперед, стараясь взглянуть уже не на машину, а на ее владельца. Они смотрели на моего папу с завистью. Куляля взвалил машину на плечо, и мы с ним пошли домой. За нами бежала толпа любопытных мальчишек.
Весть о том, что уста Абдукаххар приобрел «Зингер», мигом облетела махаллю. И через какой-то час к нам началось паломничество. Приходили люди чуть ли не со всего кишлака. Среди них была и та толстуха, что укоряла меня за молчание. Она немного разбиралась в швейной машине и тут же, на глазах у всех, из старой скатерти сшила мне рубашку. Я же, как герой, надел ее и вышел на улицу. Ребята кружились вокруг меня и, забыв о том, что недавно обзывали меня «пришельцем», стали упрашивать: «Покажи нам своего «Зингера!».
Вне себя от радости я побежал домой и затараторил:
– Ребята просят показать им моего «Зингера!»
Толстуха, что учила шить мою маму, взглянула на меня.
– Вай, да у тебя, смотрю, язык появился! – сказала она.
Мама не поняла, видно, отчего я так возбужден, и радостно заметила:
– Спасибо Учармахсуму! Это он своими молитвами выгнал из него беса…
Смущенный, я снял с себя рубашку. А когда через некоторое время вышел на улицу, ребят уже не было.
Спустя два дня махаллю облетела весть: «Надирхон из Кайкувата тоже купил себе «Зингер».
Там Надирхон-тура, здесь уста Абдукаххар!..
Так мой папа стал известным человеком в махалле. С того дня его прозвали «Зингер-баем». Об этом я узнал от махаллинских ребят.
Радость была недолговечной. Вечером папа приходил с работы, и мама принималась рассказывать ему о новых слухах, ходивших по кишлаку: «намаз не читает», «как приехал в махаллю, ни разу не приносил жертву злым духам», «людей сторонится», «чем покупать «Зингер», лучше сделал бы обрезание своему единственному сыну»! Слухи с каждым днем все росли. Наконец Куляля принес с базара весть о том, что «Зингер-бай» когда-то на «шайтан-арбе» убил человека.
Родители тяжело переживали все это. Мама плакала. А папа, хоть и скребли у него на душе кошки, как мог, старался утешить ее. По словам папы, Алим-бува не требовал возмездия за смерть сестры, ибо он считал ее смерть «волею божьей».
Но все же в слухах была доля истины. И мои родители решили исправиться, устроив той по случаю моего обрезания. Целый пуд риса ушло на плов. Видно, папа с мамой не ожидали такого наплыва гостей и очень удивились, когда на той собралась вся махалля во главе с имамом. «Слава аллаху!» – вздохнули они. За угощением зашел разговор о швейной машине, и имам нашей махали будто бы сказал, что в одежде, сшитой на «Зингере», нельзя ходить в мечеть.
После ухода гостей папа завернул швейную машину в мешковину и засунул под тандыр. А сам стал по три раза на день ходить в мечеть молиться.
И на этом вроде все успокоились, если бы не новая тревога.
Как-то под утро мама проснулась от плача Ульмасой. Взглянула в окно и видит: перед паласом, закрывающим проход на улицу, стоит какой-то человек; заметив, что мама проснулась, он перемахнул через дувал. А однажды утром мы обнаружили куски глины, отвалившиеся от дувала, под большим тутовым деревом. Хотя в доме у нас ничего такого, что можно было бы украсть, не было, все же стало как-то тревожно. Несколько ночей папа ходил по двору с топором.
– Больших баев закон охраняет, – сказал папа. – Когда в дом Миракила-хлопкоторговца залезли воры, досталось всем, начиная от мингбаши. Даже следователи из города приезжали. А если Зингер-бая обворуют, никто пальцем о палец не ударит!
Папа откуда-то притащил большой черный револьвер. Он был такой тяжелый, что я с трудом удерживал его двумя руками. Револьвер, видно, был неисправный; ночью, закрыв наглухо окна и двери, при свете керосиновой лампы папа починил его, смазал маслом и стал на ночь класть револьвер под подушку. Мама теперь боялась другого: вдруг кто-нибудь проведает про отцов револьвер – и опять начнутся неприятности. И когда приходилось к слову, она говорила не «револьвер», а «машина-кушик» – «граммофон». Папа даже отругал ее:
– Не смей говорить так! Не дай бог, еще пустят слух, что я купил «машина-кушик»!
Как-никак, а благодаря «Зингеру» авторитет мой среди ребят вырос. Они стали принимать меня в свои игры, и вместе с ними я с шумом и криками носился по улицам кишлака.
Но произошли события, после которых мои родители решили переехать из Яйпана в Коканд.
Поздней осенью из Коканда приехал к нам в гости дядя Абдурахман. Дядю я не помнил, хотя когда-то мне и доводилось его видеть. С длинной клинышком, бородкой, он был очень похож на моего отца. Только чуть повыше ростом и крепче телосложением. Он все время дергал носом и при этом машинально проводил под ним указательным пальцем.
Дядя Абдурахман собирался выдать свою дочь Савринисо замуж за Азима, который был у него в подмастерьях. Он приехал к нам в надежде на яйпанском базаре подешевле купить рис и масло, а заодно сообщить о том, что началась война с Германией. И он предложил нам переехать в город.
С начала войны, оказывается, уже прошло полтора месяца. Об этом и сам дядя узнал только в минувшую пятницу. Элликбаши, останавливая всех шедших на базар, говорил: «Если есть что железное в доме – лом и всякий хлам, – приносите во двор мечети, царскому правительству пригодится». Дядя тогда спросил: «Что же будет делать царское правительство с этим хламом и что оно, как старьевщик собирает всякие железки?» Элликбаши объяснил, что началась война с Германией и что из собранного лома будут отливать пули.
Хотя мы и не представляли себе, что такой война, но от дядиных слов: «Нам теперь всем лучше быть вместе» – в сердце вкралась тревога.
В базарный день папа с дядей купили рис, масло, и в тот же вечер дядя собрался в обратный путь. Перед отъездом он сказал моей матери:
– На свадьбе, видать, тебе самой придется все делать. Моя жена, бедняжка, совсем слегла… Вот я и спешу, чтобы она перед смертью хоть свадьбу дочери увидела…
Через несколько дней, погрузив вещи и папины инструменты на арбу, мы поехали в Коканд.
ГУРИЯ
В Коканд мы приехали в полдень. На улицах народу видимо-невидимо, как в Яйпане в базарные или праздничные дни. Навстречу попадались легкие повозки, запряженные лошадьми с колокольчиками; большие арбы, крытые тентом; люди верхом на ишаках или арбы запряженные ишаками. По обе стороны улицы в ряд расположились лавки, ларьки, мастерские: отовсюду слышен грохот – стучат о наковальни медники и кузнецы. По улице шел нарядный мальчишка и играл на губной гармошке. Когда мы проезжали по одной из улиц, послышался жуткий вой, как будто целый двор женщин зарыдал в один голос, придя на поминки. Я испугался, а папа сказал: «Не бойся, сынок, это завод Мираббибая, народ на работу скликает»
Дом моего дяди находился в махалле Кипчакарык. Зеленый уютный дворик, скрытый от солнца густой кроной деревьев, располагался в низине. Говорили, что на этом месте раньше протекала речка, которую засыпали и стали строить дома. Огромная развесистая ива укрывала тенью чуть ли не половину двора. Нас встретила старушка, одетая во все белое, и худенькая, бледная девушка, с пугливыми черными глазами. Она была в желтом платье и красной жилетке. Старушка оказалась матерью папы, моей бабушкой, а девушка – ее звали Савринисо – моей двоюродной сестрой, дочерью дяди. Бабушка обняла папу, а Савринисо, положив голову на грудь моей маме, расплакалась, потом вытерла слезы и тогда обняла и поцеловала меня. Бабушка и Савринисо повели нас через небольшую постройку, в которой был тандыр и очаг, в темную комнату. Там лежала тяжелобольная жена моего дяди. Она была такая худая и бледная, что, глядя на нее, мне стало страшно. Савринисо взяла меня за руку, и мы вышли во двор. Она повела меня к расположенному в другом конце двора красивому, видно, недавно построенному дому и усадив на ступеньки, ведущие на террасу, достала из кармана две конфеты. «Скоро Гаффарджан из школы придет. Вместе будете играть», – сказала Савринисо и исчезла в доме. Через некоторое время она появилась, неся в руках большой кусок халвы.
Пришел из школы Гаффарджан. Я сразу догадался, что это он, хотя ни разу до этого его не видел. Не обращая на меня внимания, он швырнул учебник на сури и подбежав к дереву, стал что-то искать в дупле. Савринисо подошла и что-то шепнула ему на ухо. Гаффарджан стал хныкать. Савринисо что-то еще сказала ему, тогда он сел на землю, застучал пятками по земле и заплакал. Савринисо вернулась ко мне. Гаффарджан все продолжал орать, только плакал он не беспрерывно, временами он отвлекался чем-нибудь, видимо, позабыв обиду, а когда вспоминал, начинал орать пуще прежнего.
Из дома вышла бабушка и, увидев плачущего внука, подбежала к нему и, гладя по головке, спросила, кто его обидел.
– Я попросила его позвать папу, а он в рев пустился, – сказала Савринисо.
Бабушка прикрикнула на нее:
– Что, не могла соседского мальчишку послать!
Затем она достала что-то из длинного рукава платья и, лаская своего внука, гладя его по головке, отправила гулять на улицу.
Савринисо полила двор и приготовила на сури место для гостей. Не зная, чем заняться, я вышел на улицу. На мосту, у поворота на большую дорогу стояли мальчишки. Я подошел к ним. Они не чурались меня. Мы разговорились. Только почему-то, когда я говорил, они все смеялись и называли меня кишлачным. Потом я понял: оказывается, я все время окал, а они акали. Например, если хлеб я называл «нон», то они – «нан»; если слово «мальчик» я говорил «бола», то они – «бала». Это я понял потом, а тогда никак не мог разобраться, почему они дразнят меня кишлачным. Я ждал, что Гаффарджан сейчас скажет им: «Этот мальчик наш родственник!» А он даже не позвал меня с собой, когда ребята собрались пойти играть на соседнюю улицу.
Я вернулся во двор. Дядя уже был дома. Савринисо возилась возле очага. Все остальные сидели на сури и о чем-то оживленно беседовали. Речь велась о предстоящей свадьбе.
– Мать ее, бедняжка, все ждет, не может спокойно умереть, – сказала бабушка дрожащим голосом. – Как ни зайду к ней: «Свадьбу когда сыграете? Пока жива, хочу свадьбу дочери увидеть!».. Да я и сама все дряхлею. В свое время ко многим на свадьбы ходила. Хоть и не знаю, кто что принесет в подарок, но надежды у меня немалые. То, что собственными руками отдавала, хочу собственными руками и заполучить.
Легли спать поздно. Савринисо спала рядом с больной матерью. Бабушка с Гаффарджаном и дядей расположились в новом доме. А нам постелили во дворе на сури. Папа с мамой долго не могли заснуть. Лежали и о чем-то шептались. И мне не спалось. Я прислушался:
Не лежит у нее душа к Азиму, – сказала мама, вздохнув, – утром прильнула она ко мне на кухне и долго плакала.
Я понял, что речь идет о Савринисо.
Папа рассердился и стал ей выговаривать:
– В своем ли ты уме! Когда-нибудь ты слышала, чтобы девушка вышла замуж за любимого? Или слышала, чтобы какая-нибудь девушка не вышла за нелюбимого? И невесты такой не сыскать, которая бы, уходя из родительского дома, не плакала!..
На следующее утро к дяде Абдурахману пришли в гости две мои тетушки. Мама вдруг набралась смелости и при них, обращаясь к дяде сказала:
– Савринисо только шестнадцать лет исполнилось, может, повременить с ее замужеством, хотя бы годик-другой?
Смелость моей мамы пришлась отцу по душе. Он хотел что-то добавить в ее поддержку, но дядя не дав ему заговорить, закричал:
– А ты сама во сколько лет замуж вышла? Четырнадцати не было! Зачем же ты хочешь Саври старой девой оставить?
– Абдурахман уже решил все, и нечего теперь другим добавлять что-либо по этому поводу, – проворчала бабка.
Свадьбу назначили на пятницу, на восьмое число следующего месяца. Утром в проулке Савринисо с плачем бросилась моему папе в ноги, прося защитить ее. Папа как мог успокоил племянницу. «От судьбы никуда не уйдешь! Раз на роду тебе это написано. Не ты первая замуж выходишь, доченька!» – сказал он.
Мне захотелось посмотреть на этого Азима, который был причиной мучений и страданий бедной Савринисо, и я отправился в кузницу дяди. Азим оказался крепким, невысокого роста, широкоплечим парнем с узким лбом и большими глазами. По словам отца, он считался хорошим молотобойцем. Азим был заикой, но, несмотря на это, любил шутить, острить. Когда Куляля, сраженный его остротой, не растерялся и сказал: «Пока вы произнесете мое имя, моя мать сможет родить еще одного Кулялю», Азим не обиделся, а, наоборот, схватившись за живот, долго хохотал.
Когда дядя был у нас в Яйпане, он обещал до нашего приезда подыскать нам какой-нибудь домишко, но ничего подходящего пока не присмотрел. И потому до того, как мы снимем дом и найдем помещение для кузницы, мои родители решили пожить у дяди, тем более надо было готовиться к свадьбе Савринисо. Папа все эти дни помогал брату. Я стал скучать от безделья. Мальчишки не водились со мной, а Гаффарджан, возвратившись из школы, только и знал, что дуть в дудку до тошноты надоедая всем. Потом убегал на улицу и на болоте убивал лягушек. Единственным человеком, который уделял мне внимание, когда находилось свободное время была Савринисо.
Как-то отпросившись у бабушки, она взяла меня с собой к тете, что жила за угольным базаром. Тетя дала мне и своей дочери Мукаррам деньги и отправила нас вдвоем на Гишткуприк покупать мороженое. Гишткуприк был за базаром, где продавали уголь. По дороге туда мы видели верблюдов, груженных тяжелыми мешками с углем. Но особенно мое внимание привлекали бакалейные лавки, полные разных съедобных вещей в красивых блестящих обертках. Видели прокаженных, сидевших по обе стороны моста с деревянными тарелочками для подаяний; гадалок, разложивших перед собой разноцветные камешки, и не заметили, как подошли к мороженщику. Маленький старичок поскреб ложкой в металлической посудине и, положив на блюдца мороженое, воткнул в белые горочки ложки. Мы с удовольствием ели мороженое, слизывая его с кончика ложечки и подолгу обсасывая ее.
Когда мы вернулись обратно, я заметил, что лицо Савринисо опухло, глаза ее были красными. Наверное, плакала, подумал я. Она старалась казаться веселой, слушая мой рассказ о том, как мы ходили за мороженным, смеялась, будто я ей рассказывал действительно что-то смешное.
Теперь в дом дяди стали чаще приходить женщины – близкие и дальние родственницы. Пришли и две мои тетки. Посовещались о чем-то с бабушкой и ушли втроем, накинув на головы паранджи. О чем они говорили, я узнал в тот же день вечером, уже находясь в постели. Мама рассказала папе, что женщины ходили к Банди-ишану ворожить, располагать Савринисо к Азиму. После этого, как я понял, по наставлению бабушки, Савринисо должна была пить воду из старого кувшина, горлышко которого было заткнуто ватой, и есть пищу только из бабушкиных рук. И еще ей не разрешалось перешагивать через порог дома, где были зарыты завороженные вещи.
Приближался день свадьбы, Савринисо ходила с опухшими глазами. Сядет рядом со мной, обнимет меня и плачет.
А когда наступил новый месяц, мы с Гаффарджаном стали обходить родственников – приглашать их на свадьбу. Сходили даже к старшей сестре моего отца. Она жила далеко, в Айимкишлаке. Тетя обрадовалась и насыпала нам в тюбетейку грецких орехов. Мы с Гаффарджаном поделили их пополам. Вернувшись домой, я свои орехи отдал Савринисо. Она поцеловала меня в щеку и, присев на пороге нового дома, сняла с ноги кавуш и стала каблуком колоть орехи. Одно ядрышко себе в рот положит, а два – мне. Когда мы перекололи все орехи, Савринисо обняла меня, и мы сидели молча. Я положил голову ей на колени, и она, качаясь из стороны в сторону, запела какую-то грустную песню. На лицо мне упала теплая слеза. Со стороны станции слышались гудки паровозов. Савринисо была задумчивой и грустной. Она тихо сказала:
– Поезд меня зовет!.. Зови!.. Громче зови, парвоз!.. Увези меня в далекие края!
Вдруг совсем рядом, над самым ухом, мы услышали громоподобный голос дяди.
– Куда он тебя увезет?! – крикнул он и схватил Савринисо за руку, но она вырвалась и убежала в комнату.
Я едва успел отскочить в сторону. Дядя бросился за ней. Из дома послышался крик Савринисо: «Папа! Папочка! Не надо! Не бейте меня!» – умоляла она. Савринисо все кричала и звала на помощь, потом послышались стоны, и наконец все стихло. И тут я услышал голос бабушки:
Хватит, сынок, меру надо знать! Отругай, припугни, но нельзя же так избивать!
Я стоял под окном и дрожал от страха. Из комнаты вышла мама. Заметив, что я чем-то напуган, подбежала ко мне. Она побрызгала мне в лицо водой из кувшина и спросила, что случилось. Не успел я рассказать ей о том, что произошло, из дома вышел дядя и, сделав знак маме, чтобы она вошла к Савринисо, надел слетевший с ноги кавуш и вышел на улицу.
Я вошел следом за мамой. Савринисо, бледная, с закрытыми глазами лежала в углу комнаты у ниши. Мама дрожащими руками вытащила из ниши одеяло, расстелила его и перенесла тяжело дышавшую Савринисо на постель. От побоев на руках и лице ее виднелись синяки. Савринисо чуть слышно стонала.
– Не беспокойся, не умрет, заживет все до вечера, – сказала бабушка, поправляя сползавший с головы платок. – Смотри подружке ничего не говори!..
С вечеру Савринисо стало совсем плохо. Она вся горела. Мама ни на шаг не отходила от нее. В комнату меня не пускали. Я стоял под окном, изредка заглядывая в приоткрывшуюся дверь, почему-то надеясь, что Савринисо позовет меня. Мне казалось, что сейчас она встанет, засмеется и скажет: «Вот как здорово я вас всех обманула!»
Вечером пришли с работы папа с дядей. Папа вошел в комнату, наклонился к Савринисо и тихонько дотронулся до ее плеча – она чуть приоткрыла глаза, но при слабом свете керосиновой лампы не узнала его. Видно, у нее и сил-то не было вглядываться в моего папу. Она снова закрыла глаза. Папа вышел во двор. На пороге, виновато склонив голову, сидел дядя. Спросил: «ну, как она?» Папа прошел мимо него, ничего не ответив.
Савринисо металась в жару, бредила. Никто из взрослых ночью не спал. Все ходили на цыпочках, разговаривали шепотом, боясь, как бы не почуяла недоброе мать Савринисо. Ближе к утру дядя под каким-то предлогом отнес на руках свою больную жену в дом Абдураззак-сапожника. Никому не хотелось, чтобы мать и дочь хоронили в один день. Савринисо словно догоравшая свеча, медленно угасала на наших глазах. Она смотрела на всех таким жадным взглядом, словно хотела запомнить нас. А еще через некоторое время ее не стало.
Когда труп обмыли и положили на носилки, среди женщин, пришедших на поминки, прошел слух, будто правый бок у девочки весь в синяках, – видно, сильно ударилась обо что-то. Кто понял, а кто и не понял, отчего у нее бок в синяках, но казан с догадками так и остался закрытым – слухи дальше не поползли.
Потом носилки с телом, завернутым в саван, подняли и понесли. Мой дядя вдруг покачнулся и без чувств рухнул на землю. Его унесли домой. Он заболел и не встал на ноги ни на седьмой, ни на двадцатый день поминок.
Через несколько дней после похорон Савринисо из дома Абдураззак-сапожника перенесли жену дяди. После долгих подготовок бабушка сказала ей, что внезапно умерла Савринисо и ничем нельзя было помочь бедной девочке, такова, значит, воля божья.
Больная, от которой остались кожа да кости, широко раскрыла глаза и, высунув побелевший язык, облизала сухие губы. Она ни слова не произнесла, только я заметил, как две слезинки скатились по ее лицу. Мать Савринисо не кричала, не плакала, у нее не было сил для этого.
Бабушка стала утешать ее:
– Доченька, бедняжка, девочкой от нас ушла. На том свете станет гурией…
Проходили дни. И снова черная туча не обошла стороной дом дяди. Слух, который распустила обмывавшая труп женщина, обошел кишлак и теперь мог дойти до миршаббаша – начальника полицейского управления. Я слышал, как отец говорил уста Хамиджану:
– Если эти разговоры дойдут до миршаббаша, плохо дело обернется. Законы у русских строгие. Когда в Яйпане на мясника наехала арба, из города приезжали около двадцати следователей. Два дня не позволяли убрать труп с дороги. Всех поочередно допрашивали.
Уста Хамиджан оказался из робкого десятка. Услышав такой разговор, он, как испуганный петух, вытянул шею и заморгал глазами. Папа и уста Хамиджан ничего не говорили о своем беспокойстве больному дяде. Они пригласили на совет уста Арокула и уста Юнуса. Бабушка и тут успевала сунуть свой нос, никому не давая высказаться:
Смотрите, стараясь скрыть дело, не проболтайтесь сами кому-нибудь. Бог даст, все будет в порядке. Эти сплетни дальше нашей махали не пойдут, у моего сына врагов тут нет.
И все же необходимо было найти человека, который хорошо знает законы. И такой человек нашелся. Им оказался Темирбай-бакалейщик из нашей махали. Он три года назад судился с кем-то и даже дошел до высшего судебного разбирательства – съезда судей. Уста Хамиджан поговорил с ним. Оказывается, Темирбай-бакалейщик уже был в курсе дела и не заставил себя долго ждать с ответом. «Раз нет истца, никакой речи о суде быть не может! Никто не захочет заниматься таким делом!» – сказал он.
Истца, конечно, не было.
Через сорок дней после похорон Савринисо пропал Азим-заика. Где только не искали его. Кто-то из наших знакомых сказал, что встречал Азима в махалле Шалдирамак. Он катил впереди себя тачку, в которой лежало ватное одеяло, подушка и какие-то вещи. Знакомый спросил его:
– Далеко путь держишь, Азимбай?
На что тот ответил:
Эх, лучше не спрашивайте! Видите, до чего докатился я!
После этого никто его не видел.
Без Савринисо двор наш опустел, стал скучным и тихим. Я часто вспоминал ее: то как она колола мне орехи; то как лежала в углу у ниши и тихо стонала; то как несли ее в саване на носилках и они раскачивались из стороны в сторону, а мне слышалась мелодия песни, которую часто напевала Савринисо.
Как-то я сидел на мостике через речку, свесив вниз ноги. Ко мне подсел Гаффарджан.
В прошлом году папа возил меня в Шахимардан. По дороге туда есть высокая гора, и если, проезжая мимо нее, крикнуть: «Эй-эй-эй, сорок девушек!», из горы отвечают гурии: «Эй-эй-эй!» Савринисо тоже теперь с ними, бабушка мне так сказала. Скоро мы снова поедем в Шахимардан, папа обещал свозить.
«Вот бы и мне туда попасть, – подумалось мне, – я бы обязательно позвал гурий, и они б ответили мне хором голосов, и среди них я узнал бы голос Савринисо».
Дядя вскоре поправился. И мама выплакала у папы согласие переехать куда-нибудь в другое место из дома его родных. Я страшно был рад этому, потому что в последнее время я почему-то стал бояться дядю, его длинной клинышком бороды, почерневших, сморщенных рук и даже его старых кавушей.
Мы перебрались во двор Ак-домлы. Мама обещала изредка навещать дядю и его больную жену. А пока все хозяйские дела в доме легли на дочь Абдураззак-сапожника, Амину.
ВСЕВЫШНИЙ
Мы стали жить у Ак-домлы. Половина лба и вся шея у него были покрыты белыми пятнами – следами болезни, которую называют ложной проказой. За эти белые пятна и прозвали его «Ак» – «белый». А почтительное «домла» – «учитель, ученый», – добавилось потому, что он умел читать молитвы и заклинания: в квартале нашем безоговорочно верили в их силу.
Двор Ак-домлы был большой и запущенный. Часть дома он перестроил для себя и отгородил дувалом, а в обветшалой пристройке в дальнем конце двора до нашего приезда было помещение, где жили двое сумасшедших, которых Ак-домла лечил молитвами.
Теперь в этой маленькой пристройке, где раньше жили закованные в цепи и привязанные к балке сумасшедшие, поселились мы. Сумасшедших, перед тем как мы переехали, перевели в другой конец двора, в конюшню.
На второй день после нашего приезда, днем, когда папа ушел в кузницу, я услышал со стороны конюшни какой-то страшный, ни на что не похожий рев и побежал смотреть, что там делается.
Возле конюшни стоял молодой, дюжий парень и, высоко взмахивая палкой, бил ею по очереди двух людей, привязанных в столбу. А хозяин нашего двора, Ак-домла, сидел на корточках на маленьком коврике и, низко, к самым коленям, опустив голову, покачивался в такт молитве. Потом поднимал голову и изо всей силы дул в сторону сумасшедших, изгоняя вселившиеся в них злых духов.
Один из сумасшедших стоял, покорно подставляя спину, и даже не вздрагивал, когда палка со всего маху обрушивалась ему на плечи. А второй при каждом ударе ревел громче верблюда.