Читать онлайн Санкт-Петербургская литература Альманах 2023 бесплатно
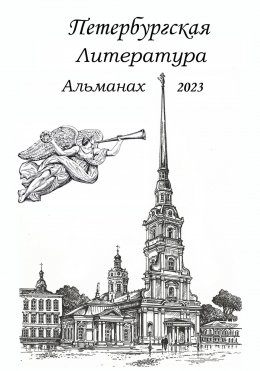
Анатолий Дмитриевич Степанов
историк, главный редактор портала «Русская народная лини линия»
«О базовых постулатах национальной идеологии»
Трудность обсуждения темы идеологии заключается в том, что долгое время само понятие «идеология» было изгнано из актуального политического лексикона. На то были и объективные и субъективные причины. Бытование понятия «идеология» в философском и политологическим дискурсе – очень интересная и показательная история, но это – отдельная тема, обсуждение которой уведёт нас в сторону.
В 2013 году, выступая на Валдайском форуме, Президент России Владимир Путин впервые заявил о необходимости идеологии для государства. Сказано было в общих чертах, без конкретики, но и в таком виде это был прорыв.
Позднее Путин пояснил, что, на его взгляд, идеологией России «должен быть патриотизм».
Через 8 лет, в октябре 2021 года, снова на Валдайском форуме, Глава государства вновь заговорил об идеологии, уже более уверенно и чётко, он определил идеологию яснее и предметнее как «здоровый или разумный консерватизм».
Наконец, 30 сентября 2022 года на церемонии принятия в состав России четырех новых русских регионов Владимир Путин произнёс, по сути, идеологическую речь, в которой в полном согласии с традициями русской славянофильской (в широком смысле этого слова) мысли сформулировал ряд постулатов национальной идеологии. Опираясь на эти мысли нашего Президента и обращаясь к наследию классиков русской национальной мысли, я и попытаюсь сформулировать некоторые базовые постулаты национальной идеологии.
Постулат первый. «Россия – великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация» (Путин). Это – базовое положение для национальной идеологии: понимание России себя как особой Русской (евразийской) цивилизации, а вовсе не «недоразвитого Запада», части проекта «Европа от Лиссабона до Владивостока», «моста между Европой и Азией», «новой Орды» и т.п. Это открытие, что Россия является самобытной цивилизацией, сделали в первой половине XIX века основоположники самостоятельной русской философской и политологической мысли славянофилы Иван Киреевский и Алексей Хомяков. В дальнейшем развили и обосновали учение о русской цивилизации Николай Данилевский, Константин Леонтьев, Иван Ильин, Александр Панарин.
Иван Васильевич Киреевский в своём главном труде «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» сформулировал особенности русской цивилизации в отличие от западной, это – иной тип духовной традиции; иные традиции государственности; иной психо-этнический субстрат нашей цивилизации.
Отличия, как видим, носят фундаментальный характер. Отсюда и противоречия, отсюда и непонимание Западом России. Остроумно высказался об этом известный славянофил Иван Аксаков: «Попробуйте вразумить просвещенную и доступную логическому вразумлению Западную Европу на счет России, ее бескорыстия и миролюбия!.. Не вразумите. У нее нет даже органа для понимания России».
Второй постулат национальной идеологии: Россия является исторической наследницей Византии, Третьим Римом. Об этом Президент в своей речи 30 сентября не сказал, но, смею предполагать, говоря о предназначении, о миссии России, подразумевал.
Вечная Римская Империя, как известно, понималась многими Святыми Отцами как тот самый таинственный Катехон (Удерживающий), о котором пророчествовал Апостол Павел (2 Фес. 2:7).
Учение о «Москве как Третьем Риме» появилось, как мы знаем, вскоре после падения Константинополя на рубеже XV-XVI веков. Оно реализовывалось по-разному. На языке эсхатологических пророчеств (у инока Филофея: «два Рима в ересях падоша, третий Москва, а четвертому не быть»); на языке политики (создание Петром Великим Империи, как соответствующей предназначению России государственной формы; «Греческий проект» Екатерины Великой и др.); на языке публицистики (вспомним слова Федора Тютчева: «В Европе есть только две силы Революция и Россия»).
Быть Третьим Римом – это также значит, что Россия обречена быть только империей. Поэтому крайне важно реабилитировать в общественном сознании изрядно демонизированное понятие «империя». Для этого нам нужно осознать, что есть два типа империй:
– Империя истинная, «миродержательная», наследницей которой являлась Российская (и, во многом, советская) империя, построеннае на принципе «единства во многообразии»;
– Империи западные, возникшие, когда варварские народы Запада похитили идею империи, принципиально исказив её смысл – ведь все западные империи построены на принципе экономического и правового неравенства метрополии и колоний, что заложило основы для грабежа колоний и истребление народов для захвата населённых ими земель, что произошло с индейцами Америки и другими автохтонными народами.
Постулат третий. Без сильной централизованной и даже автократической по своей модели власти России не выжить. Цитирую речь Владимира Путина 30 сентября: гарантией против колониализма стало «сильное централизованное государство, которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма, на открытых для всех русской культуре и русском слове».
Как тут не вспомнить слова выдающегося русского мыслителя и публициста Михаила Каткова, который более 150 лет назад писал, что в России есть господствующая русская народность и множество других племён, порой враждующих между собой; есть господствующая церковь и множество разных верований, порой конфликтующих друг с другом, но «всё разнородное в общем составе России, всё, что может быть исключает друг друга и враждует друг с другом, сливается в одно целое, как только заговорит чувство государственного единства». Путин в тон Каткову говорит об определяющей роли государства в защите и сохранении единства общества. Только сильная Верховная власть, опирающаяся на народ, может ограничить бесчинства бюрократии и олигархата, положить предел их стремлению грабить и эксплуатировать народ.
Постулат четвёртый. Залог социальной стабильности России – симфония властей, власти духовной и власти светской.
Идея симфонии была сформулирована еще в VI веке св. блгв. императором Византии Юстинианом в знаменитой 6-й новелле Юстинианова Кодекса. В нынешних реалиях степень симфоничности отношений двух властей зависит от того, насколько государственные законы основываются или хотя бы не противоречат церковным канонам.
В нашей истории есть немало примеров сложностей в отношениях между светской и духовной властью. Все это приводило к дестабилизации в жизни общества. Поэтому сегодня жизненно необходимо выстраивание церковно-государственных отношений.
Весьма показательно, что идеалом Западной цивилизации является не симфония, а разделение властей. У истоков этой концепции стояли английский философ Джон Локк и французский просветитель барон Шарль Монтескье, разработавший учение о разделении законодательной, исполнительной и судебной власти, ставшее с тех пор неотъемлемой частью политической культуры Запада. Примечательно, что здесь даже не рассматривается власть духовная, она выведена за скобки политического процесса в Западной цивилизации, в сферу частной жизни человека. Это, конечно, связано с кровавыми религиозными войнами и разделением Европы на католическую и протестантскую. Россия не знала религиозных войн, уподобление им Раскола – недопустимое упрощение событий XVII века.
Постулат пятый. Русские – это суперэтническая общность, а русский этнический национализм может стать могильщиком России. Это прекрасно понимали великие государственники: император Николай Павлович, объяснявший русофобу французу А. де Кюстину, что малоросс, остзейский немец, молдаванин, грузин и татарин, которых он видит на балу, и есть русские; и Иосиф Сталин, называвший себя не грузином, а русским грузинского происхождения.
Такое понимание русскости выковывается сейчас на полях сражений на Украине. И два символа позволяют понять это наилучшим образом. Бабушка с красным флагом, которая, услышав русскую речь, вышла к русским, а это оказались не русские, которые ее унизили, оскорбили, растоптали флаг Победы. И рассказ о том, как люди в подвалах в Мариуполе, услышав наверху «Аллах акбар» крестились и говорили: «Слава Богу, русские пришли».
Русский народ всегда был открыт для вхождения в него представителей любых других этносов, для кого русский язык и русская культура становятся родными, а тем паче для тех, кто принимает православие. Наша история знает множество примеров, когда настоящими русскими становились этнические немцы, французы, англичане, греки, поляки, шведы, представители многочисленных малых народов Евразии. Среди них есть те, кого мы почитаем в сонме русских святых, кто проливал кровь за Россию, кем мы по праву гордимся, как выдающимися русскими полководцами, русскими учеными, русскими деятелями культуры.
ПРОЗА
Борис Краснов
«Дом на болоте»
(рассказ)
Сколько коттеджей, и каменных и бревенчатых, и под латиноамериканские ранчо, и под русскую старину, и в виде готических замков, появилось в окрестностях Питера за последние годы. Они огорожены непроницаемыми заборами, оснащены новейшими системами сигнализации, бассейны и альпийские горки с цветами украшают огороженное пространство. Раскрутившись в лихие девяностые, удачно избежав смертельных разборок, с пытками пакетами и утюгами, невидимые их владельцы наконец-то могут вздохнуть свободно – они выстояли! Теперь они могут с гордостью пройтись мимо бассейна с бирюзовой водой, мимо резной беседки, мимо бани с сауной, вокруг крыльца… но у них нет времени на отдых. Они должны делать деньги, им некогда отдыхать, и эти замки, коттеджи ранчо стоят, пустуя, и только телекамеры, строго следят за ними, за такими комфортными и такими безлюдными пространствами…
1.
Мы сидим под сухим ноябрьским снежком, на свежепиленых досках и бросаем из кузова машины ленивые взгляды на серое здание АТС с узкими темными окнами, на бегущих по делам прохожих и на уходящую вдаль улицу. Со мной и Косоворотовым еще некто Серега – серая малопримечательная личность, но крепкая физически.
Постепенно темнеет, и воздух начинает превращаться в густой фиолетовый раствор. Моргнув, зажигается трепещущий свет под колпаком высокого фонаря.
Шофер машины нервно прохаживается рядом с нами и бросает тяжелые взгляды в сторону Юрьича, который набегавшись взад-веперед и наругавшись со всеми, молча стоит возле грузовика и курит.
Крупный нос и широкий рот на узком лице придают облику Юрьича нечто противоестественное, а в свете синих фонарей так даже и демоническое. Но окончательному его демонизму мешают несколько сутуловатая и щуплая фактура тела.
– Юрьич, да брось ты этот аппаратный зал, – бросает с машины Тоша, – сложим во дворе института на автостоянке, накроешь пленкой – и все дела.
– А-а! – судорожно вскрикивает хлипкий Юрьич, – пропади оно все пропадом! – бросает сигарету и снова убегает.
Начальник АТС стоит насмерть и не отдает пустующий аппаратный зал под складирование пиломатериалов. Хотя Юрьич и подпаивал его и обещал неформальные связи с ЛОНИИС. Всё зря…
Приходится Вячеславу Юрьевичу Спицыну разворачивать машину и вести свои "дрова", а именно так он называет набор пиломатериалов для строительства небольшого дачного домика, на открытую площадку к институту. Всю дорогу он печалится:
– Ой, сгниют за зиму там мои досочки. Разворуют, сволочи…
– Да ни хрена с твоими дровами не станется, – раздраженно убеждает его Тоша, – перезимуют в лучшем виде.
А Серега ничего не говорит. Ему это и не нужно.
Потом мы выталкиваем длинные извивающиеся доски из кузова, и легкий дымчатый снег, словно тополиный пух, раскатывается в стороны от звонких деревянных хлопков, обнажая сухой асфальт. Потом, тяжело присев, тащим вчетвером сырые щиты и складываем их в стопки.
На улице совсем темно, лишь со стороны института на площадку долетает ослабленный свет фонарей. По снежной пустыне двигаются, то смешиваясь, то разделяясь, длинные и черные наши тени.
Разгрузившись и отпустив машину, мы бредем по коридору опустевшего института в темную и тесную лабораторию. Там Юрьич, пошарив в тумбочке, достает пару бутылок водки и незамысловатую закусь. Выпитая водка действует незамедлительно. Развязываются языки, нервное и физическое напряжение отпускает. Сама проблема дачного строительства перестает быть проблемой, и перемещается в область риторики – в область абстрактных языковых приложений…
Но все хорошее кончается. Кончается и водка.
Утром следующего дня мрачный Юрьич поглядывает из окна лаборатории на свои драгоценные "дрова", сваленные на автостоянке, и я вижу, как беспокойство гложет его душу. Я уже зарекся, что напросился к Юрьичу в отдел под его крыло. Крыло все более и более кажется мне ненадежным.
В обед, из того же окна, я наблюдаю, как Юрьич, словно некое, странное для зимнего времени насекомое, ползает по своим доскам, набивая полиэтиленовую пленку. Пленка бьется на ветру, хлещет упрямого Юрьича по спине, и я хорошо представляю, как тот стонет и ругается, выплевывая на ветер злые слова.
Потом в столовой, поднося ложку ко рту, он вдруг сосредоточенно задумывается.
– Надо пиломатериалы в ангар перенести, – решительно говорит он. – Там их не украдут по крайней мере. И в ангаре – сухо.
– А на улице мокро, что ли? – возражаю я с досадой.
– А весной? – Юрьич отставляет ложку в сторону и глядит на меня строгим пронзительным взором. – Весной, когда все потечет?
Я вижу, что спорить с ним бесполезно – идея переселения пиломатериалов в ангар уже овладела им решительно и окончательно. И действительно, вскоре, мобилизовав всю мужскую часть лаборатории, Юрьич перемещает пиломатериалы на новое место.
Снова летят доски, тяжелые щиты переползают на обвисших руках инженеров и техников, разодранная полиэтиленовая пленка опять зачем-то набивается поверх досок.
– Теперь я спокоен, – говорит Юрьич.
Но спокойствия я не вижу в его глазах. Теперь его точит мысль, где найти плотников, которые соберут ему дом.
Хотя зима еще только-только началась, но она ведь как началась, так и закончится. Не успеешь к ней привыкнуть, обжиться в ней, как весеннее солнце начнет облизывать лед. А там уже – затяжные оттепели, тонкие капели с длинных прозрачных сосулек, первые торопливые дожди…
И вот уже действительно все тает и размокает буквально на глазах – течет, пузырится и булькает. Грязные бумажки, окурки, собачьи "баранки" вылезают из-под снега с бесстыжей откровенностью. Вылезает трава на газонах – желтая и полеглая…
2.
С приходом весны и началом таяния снега начало подтапливать ангар. Оказалось, что он поставлен на очень низком и невыгодном месте. Теперь каждый день в обед Юрьич уходит туда с линейкой и измеряет уровень воды.
– Сегодня уже десять сантиметров, а вчера еще было семь с половиной, – сокрушается он, показывая нам мокрую линейку.
А вода все прибывает и прибывает. Вот она поднялась до двенадцати сантиметров, потом до шестнадцати, потом до двадцати одного. Очко!
Это – максимальная отметка, на этом уровне вода держится два дня, а потом идет на убыль.
– И почему в эту зиму так много снега выпало? – возмущается Юрьич. – Как будто нарочно.
– Это сама природа тебя предупреждает: отступись, гордый человек, – говорю ему я за обедом в столовой.
– Не на-адо! – останавливает Юрьич мою риторику, изящно упираясь в воздух ладонью…
Не дождавшись окончательной убыли воды, он организовывает перевоз своего будущего дома на пригородный участок – шесть соток, которые институт выделил ему на 63 километре за Зеленогорском. К делу привлечены я, Тоша Косоворотов и народ из лаборатории…
Мы бултыхаемся сапогами в грязной воде, в очередной раз переворачивая доски и щиты. И в очередной раз избытком нервной энергии Юрьич восполняет недостаток энергии физической. "И-эх, взяли! – командует он, лихо ухватываясь за угол щита и подгибаясь словно пук соломы. И мы снова тащим эти уже трижды проклятые щиты по скользкой ледяной воде и, матерясь, заталкиваем их в высокий кузов "шаланды".
Все-таки мы уже приноровились к погрузо-разгрузочным работам – теперь действия наши более осмысленны и расчетливы. Разгружаем "дрова" на участок мы всего за какие-то полтора часа.
Юрьич с грустью перебирает обрывки полиэтиленовой пленки и сокрушается:
– Изорвали, гады, мне весь полиэтилен.
– Юрьич, ты видел: я все аккуратно делал. Все, чтоб – ни царапины, – предупредительно встревает Косоворотов.
– Тоша, – делово отвечает ему Юрьич, – я налью тебе за это лишнюю стопку водки…
По дороге, похрустывая мелкими камушками, к нам подъезжает велосипедист – молодой тощий мужик с несколько диковатым выражением глаз. К раме его велосипеда примотана проволокой широкая алюминиевая труба.
– Ну что, привез свои "дрова"? – весело окликает он Юрьича.
– А, Саня? Здорово. Ты откуда? Со свалки?
– Ага, – Саня улыбается и показывает свою добычу. – Вон, какую трубу уволок? Цветной металл!
– Да, – Юрьич подходит к Сане и уважительно трогает трубу. – Отличная труба.
– Ее куда хошь можно приспособить, – говорит Саня. – Хошь – в печь, хошь – в дренаж.
– Алюминий лучше в дренаж. А печную трубу можно и из жести согнуть, – говорит Юрьич с таким видом, словно он уже бессчетное число раз укладывал трубы в дренаж и гнул из жести печные трубы.
– Да я и сам думаю ее в дренаж сунуть, – соглашается Саня.
Но вот велосипедист уехал, и Юрьич с воодушевлением принимается показывать нам свой участок.
– Вот здесь яму буду рыть для большого дома – плавающий фундамент насыпать, – разводит он руками. – А сюда – "сарай" свой поставлю.
Свой сборный домик Юрьич считает времянкой, полагая, что когда-нибудь ему удастся насшибать баксов на большой кирпичный дом. Но, как говорят классики, ничто не бывает так постоянно, как временное…
– Мне Саня говорит: копай до глины, – продолжает между тем Юрьич, – Хорошо ему говорить – у него до глины всего метр. А у меня – больше двух! Сплошной торф!
– Да, Юрьич, – говорю я. – Занесло тебя в сплошное болото…
– А это у тебя что за кустики? – трогает Тоша ногой какие-то тонкие прутики.
– А, это у меня карликовая береза растет. – Юрьич оживляется, приседает и начинает излагать нам свою идею об устройстве огородов. – Привезу грунт, сделаю насыпные грядки. Сначала лук посажу, потом редиску всякую…
Я с сомнением думаю о том, что, как бы не пришлось нам с Тошей для него самого тут "грядку" насыпать. Работы на участке непочатый край, и работы – тяжелой. Все это для Юрьича, при его непрочной конституции и склонности к "руковождению", может кончиться весьма и весьма печально.
Потом на сыром весеннем ветру мы кое-как распиваем бутылку водки "для сугрева" и трогаемся в обратный путь.
3.
И снова Юрьич мотается по командировкам, "сшибает баксы", и снова – безуспешно. Все это время пиломатериалы валяются на участке, и с каждым днем куча дров тает и оседает, как весенний сугроб. Исчезают половые доски, плинтуса, вагонка. Каждый раз, возвращаясь со своего участка, Юрьич делается все более и более мрачным. Наконец, в конце августа, видя, что концы с концами у него никак не сходятся, а время уходит, он обращается за помощью к Тоше.
Тот позвонил мне на следующий же день.
– Костя, тебе Юрьич, ничего не говорил про свой "сарай"?
– Нет, а что?
– Говорит, Тоша, выручай. Осень на пороге, а дом – в дровах. Сколотите, говорит, с Костей, хоть как. Хоть на "живую нитку". Заплачу по пол-лимона на нос.
– Интересно, – возмутился я. – А почему он именно к тебе обратился? Мы же с ним тут в одной лаборатории сидим – через стол.
– Ну, – замялся Косоворотов, – он думал, что ты откажешься.
– А ты – согласился?!.
– А что? Пол-лимона нынче на дороге не валяется, – невозмутимо возразил Тоша. – Я подумал: соберем, так соберем, а нет – так и хрен с ним!
– Мудро, – оценил я последнее его замечание.
– Ну, так как? Тряхнем стариной? – это он намекал на наши трудовые подвиги в Коми – когда-то в стройотряде мы ставили вместе щитовые дома.
Я задумался – не хотелось связываться с Юрьичевой дачей. Этак можно было и вовсе погрязнуть в ней. Хоть он и говорит сейчас, что "мужики, все там будем отдыхать – баб возить по пятницам" – кто знает, как оно потом все повернется. А с другой стороны "тряхнуть стариной" тоже было заманчиво. Все мы входили тогда в так называемый ностальгический возраст…
Последний мой стройотряд получился не слишком удачным – командир оказался сволочью, и здорово всех нагрел с зарплатой. Мы еще даже судились с ним… Но с тех прошло уже больше двадцати лет, и прошлое былое уже успело покрыться легким розовым ореолом
– Там делов-то всего дня на три-четыре, – продолжал уговаривать меня Косоворотов. – Поставим палаточку, разведем костерок. Юрьич говорит, что он нам готовить будет. Инструмент весь у меня есть…
И, в конце концов, я ностальгически вздохнул и согласился.
Через два дня мы уже ходили по зыбкому болотному участку и разбирали кучу пиломатериалов. Раскладывали и считали элементы будущего строения. Хотя доски и были благоразумно придавлены тяжелыми щитами, все равно лучшие образцы кто-то выдернул и утащил. Из половых досок – длинных струганных дюймовок – осталась всего одна доска.
– На расплод оставили, – сказал Тоша повертывая в руках одинокую досчонку.
– Косоворотов, не трави душу! – страдальчески воскликнул Юрьич и отобрал доску.
За лето Юрьич вырыл в торфе широченную яму, куда насыпал щебенку и песок – это был его знаменитый "плавающий фундамент". По предложению Юрьича, мы с Тошей по очереди попрыгали на плавающим фундаменте и убедились в его прочности и неколебимости. Здесь нам и предстояло ставить палатку и разводить костер.
– А щиты – того, – заметил Косоворотов, – кривые, заразы… Да и отяжелели от воды…
В первый день мы с Тошей только ходили вокруг щитов и досок, раскладывали их по участку и разбирались в инструкции по сборке дома.
Домик был довольно хлипенький в своем основании, ставить его полагалось на восемь или десять опор. Но Юрьич предлагал ставить на четыре, – на четыре бетонные плашки, укрепив предварительно нижнюю обвязку толстым брусом.
Косоворотов скептически осмотрел купленный брус.
– Выдержит брус-то? – спросил он и с сомнением пошевелил его ногой. – Что-то и повело его сильно, подтесывать придется.
– Тоша, блин, – зашумел Юрьич, – все-то тебе не нравится!
Потом мы ходили в лес за дровами, разводили костер. Пока Юрьич кашеварил, а я – ставил палатку, Тоша все еще плутал между четырех опор будущего дома, то прикладывал уровень к брусу, то проставлял мелком какие-то крестики, приседал, чесал свою курчавую голову и горестно вздыхал. Он всегда начинал не торопясь, как бы с трудом преодолевая лень, но потом постепенно разгонялся, входил в раж, и тогда уже за ним было не угнаться.
– Тоша, кончай миллиметры считать, жрать пора! – кричал ему Юрьич и размахивал в потемневшем воздухе дымящейся ложкой.
В песочно-торфяной яме было уютно, хотя и немного сыро. Мы сидели вокруг трепещущего пламени костра, и Юрьич сосредоточенно разливал водку по гулким кружкам.
– Юрьич, не гони, – ласково уговаривал его Тоша.
А вокруг тлела, замирая, вечерняя жизнь садоводства: где-то гудел движок насоса, взлаивали собаки, кто-то стучал вдалеке молотком – однообразно и печально. Большая черно-желтая луна выкатывалась из-за гребенки далекого леса.
– Эх, мужики, – мечтательно вздохнул Тоша, размягченный выпитой водкой, – Хорошо-то как… А помнишь, Костя, как мы с тобой в "Селене" на гитарах бацали?
– Ага, – кивнул я, – прогулки по Гарьинскому "проспекту любви"? Помню, помню твою Машу…
– Гы-гы, – отозвался Тоша. – Да-а… Молодые были!
– Какую еще Машу? – заинтересованно вскинулся Юрьич.
– А была у нас такая – Маша, – оживился Тоша. – Из местных. Это когда мы с Костей в стройотряд выезжали в Коми. Тоже щитовые дома ставили. Костю тогда еще чуть из стройотряда не поперли – он командирскую жену матом обложил…
– Да ты не про жену, ты про Машу давай, – перебил его Юрьич.
– Погоди. Сейчас будет и про Машу, – успокоил его Тоша. – Мы тогда с Костей на танцах в клубе играли. Двенадцать часов бывало отработаешь, а потом – в клуб, на гитарах играть. У нас там ансамбль был – "Селена" назывался. Гена был у нас тогда на ударнике, а Вовик – соло-гитара… Костя, помнишь Вовика?
– Помню, помню, как он пьяный со сцены в зал упал…
– Да ты не про Вовика, ты про Машу рассказывай! – все более горячился Юрьич.
– Сейчас, сейчас – будет и про Машу… Но сначала была там еще такая – Вера. Костя, помнишь Веру?
– Какую еще Веру?
– Здрасте, какую Веру? Ты же сам еще с ней на свадьбе танцевал. А мне ее потом провожать пришлось – ты напился и свалил куда-то…
– Это, погоди, которая в зеленом платье была, единственная приличная дама? Мы тогда по очереди с ней танцевали?
– Да, да, да, да! – подтвердил Тоша. – Она самая…
– А ну вас в задницу, – обиженно сказал Юрьич и начал по новой разливать водку…
Сам он почти не пил, только чисто символически поддерживал компанию.
А Тоша окончательно ушел в воспоминания, физиономия его размягчилась и приобрела умилительно-влюбленное выражение, глазки повлажнели и замаслились. Речь его становилась все более путанной и медленной.
Время от времени он вскакивал с места и уходил в темные кусты. Возвращался оттуда грустный и притихший. Потом принимался вдруг считать своих бывших жен:
– Одна – в Швеции, – говорил он и загибал палец, – Вышла замуж за какого-то водопроводчика. Будто у нас в России мало водопроводчиков! Другая – выучила японский, уехала в Японию. В Японию! Ни куда-нибудь!.. И сына с собой увезла. Будет теперь, блин, японцем… Юрьич, ну разве я похож на японца?
– Нет, не похож, – охотно откликался Юрьич.
– А третья, вообще не знаю где…
– Да, плохи твои дела, Христофор Бонифатьич, – говорил я грустно.
– Эх, мужики, прошла молодость! – вскрикивал Тоша и падал головой на хлипкую Юрьичеву грудь.
– Плачь, Тоша, плачь, – приговаривал Юрьич с ласковой суровостью. – Слезы – они очищают…
Непонятно когда и как, мы забрались наконец в палатку и заснули тяжелым пьяным сном.
4.
Утро выдалось ясное и холодное. Косоворотов вылез из палатки последним, хмурый и помятый. Ушел в кусты, вернулся оттуда с тремя пустыми бутылками.
– Это что же, – удивленно произнес он. – Мы вчера полтора литра уговорили?
– А ты что думал? – сказал я.
Юрьич обнаружил вдруг за палаткой непереваренные остатки вчерашнего ужина.
– Кто блевал? – строго спрашивал он нас. – Кто изгадил мой участок?
Никто не признался.
– Хороших работничков я себе нанял, – театрально сокрушался Юрьич, будто бы и не он вчера усиленно подливал нам в кружки "Пятизвездную". – Облевали все мое болото…
С трудом превозмогая похмелье, принялись мы с Косоворотовым размечать обвязку, распиливать и ворочать тяжелые брусья.
Юрьич пошел за водой к роднику. Возвращаясь обратно с двумя полными котелками, он зацепился ногой за кочку и повалился в сырой мох, разбрасывая воду во все стороны.
– А, ба-лин! – закричал он, падая.
Тоша мрачно посмотрел в его сторону, хотел что-то сказать, но сдержался и ничего не сказал.
– Слишком ногами широко машешь, – строго заметил я Юрьичу. – Не на плацу.
– Да, па-ашел ты, – огрызнулся Юрьич, собрал свои котелки и снова побрел за водой.
Тоша был молчалив и угрюм. Я старался не раздражать его пустыми разговорами. Мы молча пилили брус, молча укладывали его "в лапу", молча вырубали пазы для лаг. Время от времени Тоша говорил: погоди, и ползал по обвязке с ватерпасом, выверяя горизонт. В стройотряде мне как-то не доводилось работать вместе с Тошей – обычно он работал с более сильными напарниками.
Потом мы пили горячий чай, пили много, отпиваясь после вчерашнего. Есть не хотелось.
Потом Косоворотов вбивал здоровенные гвозди, скрепляя углы обвязки. Вбивал расчетливо и сильно. Я размечал и устанавливал лаги – работа скорее математическая, нежели физическая.
Изредка Тоша поворачивал голову и кричал негромко: Юрьич, подай-ка пилу, – или, – Юрьич, принеси еще больших гвоздей." И Юрьич вроде бы и поспешая, но вместе с тем как бы и не торопясь, подавал пилу или же лез в палатку за гвоздями…
К вечеру мы собрали нижнюю обвязку, и Юрьич деловито ходил вокруг и осматривал ее. Приседал, проверяя горизонт, что-то хмыкал себе под нос.
– Сойдет, – сказал Косоворотов, бросая инструменты в ведро. – Завтра будем щиты ставить…
5.
На установку щитов Юрьич зазвал еще двух подельщиков: известного нам уже соседа Саню и некоего полковника, плотного приземистого мужичка. Саня явился в оборванных выше колен джинсах и легкомысленных банных тапочках.
– Саня, мы ведь щиты таскать будем, – предупредил его Юрьич, окидывая подозрительным взглядом Санин наряд. – Посмотри на Тошу – вот как надо одеваться.
Косоворотов как раз напяливал на себя штаны из брезентухи, с заплатами на коленях и клиньями на заднице. Сегодня он был повеселее:
– Но-но, – прикрикнул он, – мои штаны не трожь.
– А ты чего хромаешь? – спросил Саня Юрьича.
– А-а… – отмахнулся Юрьич, – бандитская пуля.
А "пуля" была такая: разбивая утром сушняк для костра, Юрьич неудачно стукнул топором, и обломок сухой березы отскочил ему в ногу. Удар пришелся аккурат в коленную чашечку. Теперь он припадал на одну ногу и сладко постанывал.
– А это он себе нарочно самострел учинил, чтобы щиты не таскать, – сказал Тоша.
– Иди, иди, убогий, – зашипел Юрьич. – Ишь разговорился. Что-то вчера тебя не слышно было. Язык в задницу загнал.
– Вчера я был устамши, – сказал Тоша и расплылся в улыбке, сверкнув своими белоснежными зубами.
Щиты, за то время, что валялись на участке, насосали в себя чуть ли не тонну влаги, и некоторые из них здорово отяжелели. Поэтому большие щиты мы таскали и ставили вчетвером – я с Тошей на одной стороне щита, Саня с полковником на другой.
Саня, несмотря на свое невыдающееся телосложение, оказался сильным тягловым мужиком. Работал он быстро, не думая, и предпочитал все проблемы решать "с рывка". Он сразу сбросил свои дурацкие тапочки, и голыми ногами смело топтал колючий верещатник…
– Эй, бригадир, – кликнул он вдруг Юрьичу, – помоги хоть один маленький щит поднести! Вот этот – легкий.
– Давай, – с готовностью отозвался Юрьич и схватился за другой конец щита. – Ни хрена себе, легкий! – тут же захрипел он, весь подгибаясь и заваливаясь.
– Ничего, ничего! Давай, давай! – бодро воскликнул Саня и, не оглядываясь, пошел вперед.
Щит этот, ничем не выдающийся на вид, был едва ли не самым мокрым и тяжелым. Мы с Тошей специально отложили его, чтобы потом нести вчетвером.
Кусты карликовых берез хлестали Юрьича по сапогам, цепляли за ноги.
– А, ба-лин! – рычал Юрьич, ковыряя ногами мох.
Мы с полковником едва успели поймать его в четыре руки вместе с краем падающего щита.
– Юрьич! – закричал в раздражении Косоворотов,– Отойди, на хрен, от щитов!
Юрьич обиделся и отошел. А мы помаленьку поставили щиты на обвязку, сбили их начерно гвоздями. Косоворотов залез верхом на край шатающейся стены и топором выправлял угол будущего дома.
– Ну как? – спрашивал он нас.
Мы стояли несколько поодаль и зорким оком оценивали точность вертикали.
– Еще, еще подожми! – кричал Саня.
– Не надо, – говорил я. – Так – нормально.
– Какое – нормально?!
– А по-моему, надо малость назад отжать, – интеллигентно встревал Юрьич.
Косоворотов психовал.
– Костя, говори ты!
Я говорил, и Тоша, вытащив топор из стыка, совершал опасный траверс вдоль шаткой стены и перемещался на другой угол. Там все повторялось сначала.
После обеда наши помощники ушли, а мы с Тошей, не торопясь, принялись за верхнюю обвязку. Работа на краю стены требовала аккуратности и точности. Загреметь с трехметровой высоты, особенно внутрь дома, где уже были установлены поперечные лаги и укосины, никому не хотелось. Поэтому работали не торопясь, рассчитывая каждое движение. И все равно, время от времени, что-нибудь у нас падало вниз: то молоток, то ножовка.
Вечером, сидя у костра и потягивая горячий чай, Косоворотов планировал:
– Завтра закончим верхнюю обвязку, сходим вечерком в лес нарубим сосенок ровненьких под стропила. А послезавтра будем их ставить. Тебе, Юрьич, надо в Рощино съездить, купить досок для крыши. Бери дюймовку…
Был тихий теплый вечер. Неизбежные комары, попискивая, вились вокруг огня, кусали за ноги. Мы лениво отмахивались от них ветками. Еще не вполне стемнело. Порыжелый брезент обвисшей палатки светлым прямоугольником выделялся на фоне темных кустов.
– Что-то палаточка наша просела, – заметил я.
– Сейчас подтянем, – с неожиданным энтузиазмом отозвался Юрьич и резво вскочил на ноги.
Взяв топор, он пошел к палатке и принялся переколачивать колья. Слышно было, как в полумраке скрипит песок под его сапогами, как стукает обух топора по сырому дереву. Брезент палатки кривился, то вспухал, то опадал.
– Перекривит ведь палатку, паразит, – лениво сказал Косоворотов, не двигаясь с места.
– А, наплевать, – сказал я.
И тут из-за палатки раздался отчаянный, но уже ставший нам привычным, вопль:
– А, ба-лин!
Что еще такое? Мы вскочили на ноги.
Юрьич вышел из-за палатки держась одной рукой за голову, а другой машинально сжимая топор. Топор он тут же бросил на землю и принялся второй рукой вытягивать из кармана грязный носовой платок.
– А ну, покажи голову! – строго приказал Косоворотов.
Юрьич отлепил ладонь от головы, волосы его были в крови.
– Раздолбай! – коротко выругался Косоворотов.
Он полез в палатку за полотенцем. Намочив полотенце в холодной воде, приложил его к порезу, по счастью не слишком серьезному. Юрьич кряхтел и морщился.
– И на хрена ты так остро топоры наточил, – сетовал он, – бриться ими, что ли, собрался?
– "Взял он саблю, взял он востру и зарезал сам себя…" – вздохнув, подытожил я.
На следующий день Юрьич ходил с перевязанной головой и снова подавал нам гвозди и перетаскивал лесенку от одной стены дома к другой. Но едва лишь он пытался взять в руки топор, как сразу с высоты раздавался суровый окрик Косоворотова:
– Юрьич, отойди, на хрен, от топора!
И Юрьич послушно бросал топор и шел или за водой, или подтаскивал брусья для потолочных лаг.
В обед он пошел к Сане за гвоздями: наша "сотка" кончилась, осталась только "восьмидесятка".
Оттуда Юрьич вернулся хмурый. Как выяснилось, он посетил новый Санин туалет и обнаружил, что туалет сколочен из его родных, Юрьечевых, досок.
– И краской зеленой покрасил, чтобы я не догадался, – зло докладывал он.
– Да ну, – утешал его Тоша, – может, это и не твои доски? Может, он их купил?
– Ага, купил. Он купит, дождешься…
– А может, на свалке подобрал, – подливал я масла в огонь.
К вечеру небо затянуло тучами и начал моросить дождь. Мы закончили пораньше и сидели в палатке, слушая легкий шорох водяных капель. Пасмурная погода не располагала к разговорам…
7.
Мы все дальше и дальше отклонялись от исходного проекта, все более утяжеляли конструкцию "сарая". Юрьич пожелал иметь двухскатную крышу, более высокую и, соответственно, более тяжелую. Кроме того он планировал пустить на пол сороковку вместо похищенной дюймовки. Все это вызывало законные сомнения у Тоши, как главного инженера строительства: а не уйдет ли дом в торф "по самую задницу"?
Последней каплей, переполнившей чашу Тошиного терпения, явились доски, которые Юрьич привез на следующий день из Рощино. Это была необрезанная сороковка. Причем, среди сороковки попадалась и тридцатка и пятидесятка. Доски были либо слишком узкие и перекрученные, либо непомерно широкие с дырами от выпавших сучков. Этими досками нам предстояло покрывать крышу.
– Где ты достал это дерьмо?! – негодовал Косоворотов, приподнимая и бросая то одну, то другую доску. – И этим ты хочешь крыть крышу?
– А где я тебе лучше достану? – срываясь в хрип, кричал Юрьич. – У меня денег не вагон!
За эти несколько дней строительства мы уже порядком устали, и потому ни у кого из нас не было сил спорить. Сороковкой так сороковкой и… зарасти все дерьмом!
Кое-как зашили мы с Косоворотовым оба ската. Последние гвозди забивали уже почти в полной темноте, едва попадая по гвоздям. Разогревшись, Тоша молотил как трактор, и я едва поспевал за ним.
– Все! – объявил он громко, заколачивая последний гвоздь. – Живи, друг! Живи и размножайся!
Мы спустились на землю с дощатых небес и побросали топоры в цинковое ведро.
Недоверчивый Юрьич полез наверх принимать работу.
– Вон там горб, – въедливо объявил он сверху через некоторое время.
И как он там разглядел что-то в темноте?
– Какой еще горб? – угрожающе возвысил голос Косоворотов. – Ты на себя-то посмотри? Горб…
На станцию возвращались, подсвечивая дорогу карманными фонариками. Шагали быстро, и почти не разговаривая – нужно было успеть на последнюю электричку.
Потом, уже на перроне, Юрьич курил, выпуская изо рта в сторону луны лохматые струйки дыма… А в вагоне поезда вдруг принялся поливать свою благоверную. Оказывается, это на ее деньги и по ее инициативе был куплен дачный участок, и затеяна вся эта стройка.
– Дачу ей, блин, подавай, – шипел Юрьич. – Новой русской захотелось стать…
– Не хочу быть вольною крестьянкой, – подхватывал я. – А хочу быть столбовой дворянкой!
– Во-во! А что я ей – золотая рыбка?
– Дохлый ты наш карасик, – грустно улыбнулся Косоворотов.
– Вам-то хорошо, собакам, смеяться. Вы свое отколотили, а мне еще ого-го сколько ковырять!
– Ага, прозрел? Это тебе не по командировкам шастать, бумажками махать, да девочек охмурять, – засмеялся Тоша.
– Ух, ты, блин! Он меня еще учит!
– У каждого, Юрьич, – свой крест. У меня – свой, у Кости – свой, а у тебя – дача…
– Да па-ашел ты…
Юрьич отвернулся к окну, за которым проносились темные кусты и надолго замолчал.
Поезд шел с редкими остановками – за окном мелькали деревья, едва видимые на фоне вечернего неба. Время от времени проносились поселки со спрятавшимися в темноте домами – только желтые квадраты окон выдавали, теплящуюся в них жизнь. Эти мелькающие за окнами дома кто-то тоже ведь строил. Доставал материалы, нанимал плотников, психовал, ругался… Неожиданно в голове всплыли строчки стихотворения одного из питерских поэтов:
"Дом построил себе на болоте,
в гости вас приглашаю. Придете?
Должен быть однозначным ответ.
Да, так да, ну а нет, значит, нет…"
Я посмотрел на своих спутников. Тоша уже кемарил, сдвинув на лоб кепку, заслонившись козырьком от света вагонных ламп. Юрьич улыбался каким-то своим мыслям…
И никто из нас не знал тогда, что перемены в судьбе страны, по-своему, коснутся и каждого из нас. И жизнь растащит нас в разные стороны, и только спустя восемнадцать лет, мы снова соберемся в этом несчастном домике на болоте. Но это будем уже совсем другие мы…
Ирина Втюрина
«Бидончик дрожжевого супа»
рассказ
Марусе было десять лет, когда она перестала бояться бомбёжек. Она считала, что можно не спускаться в бомбоубежище, когда надрывным призывом звучит воздушная тревога. Главное ближе прижаться к печке, потому, что когда на другой день Маруся выходила из дома, то замечала, что дома разрушены, а печки оставались целыми. Таких домов на Васильевском острове было много, и девочка с мамой, бывало, не спускались в бомбоубежище. Они вдвоём передвинули кровать к печке и крепко, прижимаясь, друг к другу – пережидали на этой кровати. Если мама обнимала, не было страшно, когда дом ходил ходуном, а в буфете дребезжала давно не нужная посуда.
– У каждого человека есть ангел – хранитель,– говорила Марусе мама. И, казалось, что Маруся, действительно была кем-то хранима, и их дом….
Она была пионеркой и не задумывалась о том, что ей везёт больше всех её одноклассников. Она верила словам мамы, которая каждый день шептала ей: «Ты выживешь, Маруся». Мама в понимании Маруси, была и ангелом – хранителем, и волшебником, и другом, учителем и самым любимым человеком.
Вначале войны она спрятала Марусю в шкаф, когда согласно списку, детей из её школы забирали на эвакуацию из города. И Маруся знала, что мама поступила правильно, весть о том, что эшелон с её одноклассниками разбомбили, вскоре облетела весь дом.
Это было страшным потрясением и горем, но самые большие испытания ждали всех впереди. В первые дни блокады, Маруся часто оставалась одна дома. Мама ещё была сильная и старалась работать, но постепенно слабея вдвоём, они становились неразлучны.
Этот день был похож на все другие блокадные дни. Мама сутки не вставала с постели, и Маруся лежала, прижавшись к ней. Так было теплее. В эту минуту она понимала, что если они сегодня не пересилят свою слабость и не заставят себя выйти на улицу, то завтра им уже не встать. Сегодня можно было не только отоварить карточки, но и получить пайку дрожжевого супа.
– Мама, мамочка вставай, – чуть слышно шептала она, – нам нужно идти, а то суп кончится.
Этот суп, который раздавали в начале блокады, появлялся всё реже и реже.
Мать с трудом поднялась на локтях, спустила ноги на пол и прошептала: «Прости меня Маруся, но, видно, я не смогу» В этот момент Маруся поняла, что теперь ей придётся стать взрослой, придётся оторваться от мамы и, пересиливая страх выйти. И уже не слушая слабых возражений матери, захватив алюминиевый бидончик и запихнув карточки в варежку, Маруся вышла в обледенелый подъезд. У соседской двери, где жил управдом, белел труп, завёрнутый в простыню, словно египетская мумия. Девочка знала, что к двери управдома свозили умерших людей. Мама объясняла ей, что у родственников нет сил, везти покойников на кладбище. Маруся зажмурила глаза, и, стараясь не открывать их, прошла мимо. Колючий ленинградский ветер щипал лицо, продувая насквозь осеннее пальтишко девочки, перехваченное сверху, словно платком, сложенным вдвое, пикейным покрывалом.
Война застала их с мамой врасплох. Зимнее пальто не успели купить. Вот ноги у Маруси были в валенках, и это не только согревало, но придавало решимости, они были, как раз впору. Где их мама раздобыла, пока ещё могла ходить, Маруся не знала.
Это был Марусин день рождения. Мама тогда ещё работала и, вскипятив чайник, торжественно развернула платок, в котором были две лепёшки дуранды и два кусочка сахара. Маруся была на седьмом небе от счастья, поэтому подаренные в тот же день валенки не вызвали такого восторга и интереса. А вот сейчас, когда ветер и холод обрушились на неё, подарок был оценён. Нужно было пройти квартал, до заводской столовой, где разливали дрожжевой суп. Завернув за угол, Маруся увидела длинную очередь возле заводской столовой. Она опоздала. На такую толпу супа сегодня не хватит. Очередь двигалась быстро: четверть половника и отходи, не мешай следующему. Маруся разглядывала угрюмо стоящих людей, и ей казалось, что в ней одни старики. И вдруг у самой раздачи она заметила Зину. Соседскую девчонку двумя годами старше Маруси. Зина получила свой суп, и теперь бережно неся его, двигалась в конец очереди. Поравнявшись, с Марусей Зина улыбнулась.
– Маруська, как тебя мама одну отпустила?
– Мама болеет, – отвечала Маруся.
– Пойдём вместе за хлебом. Супа тебе всё равно не достанется. Там уже черпачок по дну скребёт, а повар бидон наклоняет.
Пальчики на руках у Маруси давно деревянными стали, нос от мороза щипало и ломило и так хотелось уйти с Зиной, но слабая надежда теплилась. Ведь ещё не объявили о том, что суп заканчивается. Не прозвучало это страшное слово: «Всё». Маруся, молча, помотала головой.
– Ну, стой раз такая упрямая, – махнула рукой Зина. Маруся проводила её тоскующим взглядом и опять стала смотреть на бидон с супом, который по мере убывания очереди наклонялся в руках повара всё ниже. На раздаче стоял худой старичок небольшого роста, одетый в старую ушанку армейского образца и изрядно потрёпанный ватник, поверх которого был, натянут длинный белый передник. Маруся следила за каждым его движением. Наконец он отбросил половник, тот со звоном брякнулся о дно бидона, затем выпрямился и, обведя очередь глазами, вдруг набросился на Марусю.
– Где тебя носит с утра. Свалилась на мою голову! Когда я от тебя помощи дождусь!
Он негодовал, глядя Марусе в лицо. Маруся, ничего, не понимая, оглянулась.
– Не делай вид, что не слышишь! Давай, на чёрный ход!
Маруся ещё раз обернулась.
– Тебе, тебе говорю! Если сейчас же не подойдёшь, всё матери расскажу! Он смотрел прямо на Марусю. Последняя фраза подействовала на неё. Наверно повар знает маму. А она хоть и не знает этого дедушку, но должна ему была сегодня помогать. Мама просто забыла сказать.
Маруся двинулась к чёрному входу столовой. Очередь медленно расходилась. Повар скрылся за дверью. Двор был пустой, замёрзший, безлюдный. Ей сделалось очень страшно, и она уже было хотела повернуть назад, – металлическая дверь столовой со скрежетом отварилась, и всё тот же дедушка-повар спустился по ступенькам и, выхватив бидончик из рук Маруси, скрылся за железной дверью. Маруся опять ничего не поняла, и даже приготовилась плакать, но через минуту повар появился в дверях с её бидончиком. Он протянул полный бидончик девочки : «Иди быстрей домой, никуда не заходи, и ни с кем не разговаривай». Маруся стояла в нерешительности.
– Иди. Иди, малыш, когда закончится война, вспомнишь дедушку Макара. Железная дверь закрылась. И дедушку Макара Маруся больше никогда не видела. Будто, он пришёл в тот день из сказки и в сказку вернулся. Пытаясь понять до конца, что произошло, Маруся спешила домой. Около подъезда стояли управдом, милиционер и дворник. На снегу лежала Зина. Глаза открыты, в них застыл ужас.
– У ребёнка негодяй, хлеб и карточки отобрал, надо сообщить родным, он туда, побежал, – показывая в сторону проходного двора, причитала дворник.
Маруся проскользнула в подъезд. Замёршими руками долго не могла открыть двери, но наконец, открыла. С порога позвала: «Мама! Я пришла. Я стала взрослой! Дедушка Макар нам целый бидончик дрожжевого супа прислал!»
Мама, приподнялась на локте : « Какой дедушка Макар?»
– Ну, тот, которому я сегодня помогать должна была.
Мама прижала Марусю к себе.
– Нет у нас никакого дедушки – прошептала она.
И тут Маруся рассказала всё, что произошло. Мама слушала внимательно, не спуская с Маруси глаз, а потом прижала её к себе ещё крепче и сказала: « Он тебе свою пайку отдал. Пожалел ребёнка. Ты, выживешь Маруся»…
Александр Александров
«Котёнок»
рассказ
-Мат! – Золотарев, довольный, развалился в кресле.
– Стоп-стоп! – замахал руками Андрей Иванович. – Перехожу!
– И так тоже – мат.
– Да? – он задумался. – Подлови-и-ил…
Воронцову сегодня не везло. Проиграл две партии подряд. Зато напарник был в ударе.
– Может еще?
– Хватит. Пора…
Андрей Иванович поднялся, накинул плащ, поправил сбившийся галстук. Хозяин вышел проводить.
Они учительствовали в одной школе. Воронцов преподавал историю, а Золотарев – математику.
– Трудный у тебя завтра день, – посочувствовал коллега.
– Ничего, – улыбнулся Воронцов. – Выдюжим.
Назавтра был назначен показательный урок для участников областной учительской конференции. Воронцов готовился к нему целый месяц. За себя он был спокоен. Как ребята? Не подвели бы…
Вечерние сумерки охватывали город. Теплый ветер доносил запахи свежей листвы. На опустевших улицах зажигались фонари. Желтыми пятнышками светились окна в домах.
Впереди Воронцов заметил девушку. В короткой юбке, с распущенными волосами, она легко ступала по тротуару. Андрей Иванович невольно прибавил шаг.
Через дом девушка свернула под арку. Следуя мимо, Воронцов услышал лишь стук каблучков: « Цок-цок-цок!»
И вдруг…
– А-а-а! Помогите!
Сердце упало, ноги стали ватными. По инерции он продолжал двигаться дальше.
« Зачем это мне? Для чего?»
Остановился… И бросился назад.
Вбегая под арку, едва не столкнулся с парнем, лет двадцати. Тот прошмыгнул мимо; следом – девушка.
– Что случилось?!
– Сумка!.. Сумку украли!
Воронцов помчался за грабителем. Бегал он неважно, догнать не надеялся. Но при девушке…
Беглец уходил дворами. В сумерках Воронцов то и дело терял его из виду.
Он всегда сочувствовал тем, кого догоняют. Может быть, поэтому втайне надеялся, что жулик, в конце концов, убежит. Однако вышло по-иному. Запутавшись в лабиринтах двора, парень оказался в ловушке.
Хватая перекошенным ртом воздух, Воронцов вбежал в длинный узкий тоннель и замер. Прямо перед ним, прижавшись спиной к стене, стоял человек. В тишине было слышно его свистящее неровное дыхание.
Воронцов растерялся… Преодолев себя, сделал шаг, другой. Парень поднял руку и вслед за негромким щелчком из кулака выскочило узкое белое лезвие.
– Брось нож!
Парень не пошевелился.
– Брось! – твердо повторил Воронцов, подступая вплотную.
Опустив голову, грабитель уронил нож на землю. Лезвие глухо звякнуло о камень.
– Сумку!
Тот послушно протянул черную кожаную сумочку на ремне. Но едва Воронцов коснулся ее, как ослепительный желто-зеленый шар полыхнул у него перед глазами… Потеряв равновесие, он упал. И уже сквозь затихающий гул услышал торопливые удаляющиеся шаги.
Придя в себя, Воронцов первым делом схватился за сумку. Она была рядом. Андрей Иванович прижал ее к груди.
– Мя-а-а-у! – раздался где-то неподалеку жалобный писк.
Воронцов огляделся – никого. И снова:
– Мя-а-ау!
В сумке зашевелилось… Воронцов «вжикнул» молнией и опешил. Котенок! Маленький рыжий котенок был внутри… Ни денег, ни документов, ни драгоценностей…Только подстилка из шерстяного платка.
« Идиотка! А если б он меня ножом?!»
Гудела голова, левая сторона лица наливалась свинцовой тяжестью. Воронцов потрогал заплывший глаз, и подумал, что неплохо было бы приложить чего-нибудь холодного.
Девушка ждала его на пустынной улице. Увидев, бросилась навстречу.
– Догнали?
Воронцов, молча, подал ей сумку.
– Ой, как я вам благодарна!
Девушка извлекла из сумки котенка и, чмокнув в пушистую мордочку, посадила за отворот куртки.
– Чего же вы кричали? Я уж подумал…
– Коте-е-енок! – произнесла девушка так, что Воронцов сразу оттаял.
« Чего теперь… Все позади – и ладно»
Они пошли рядом. Андрей Иванович старался держать голову так, чтобы девушка не видела его подбитого глаза. Но она все равно заметила.
– Он вас ударил? Больно?
– Пустяки…
– Вы из милиции?
– С чего вы взяли?
– Не каждый решиться вот так…А вдруг у него нож?
– Нож, кстати, был.
– И что?
– Обошлось.
Они замолчали. Воронцов подумал, что уже целую вечность не гулял по ночному городу.
– Так, где же вы работаете? – снова поинтересовалась девушка.
– В школе… Историю преподаю.
– Здесь, в нашей?
– Нет. В другом районе… Здесь места не нашлось. А жаль… Я ведь рядом живу. Вон, видите? Верхний этаж, окна справа.
– Мя-а-ау! – пропищал котенок, пытаясь выбраться на волю.
– Сиди! – девушка упрятала его подальше и повернулась к Воронцову. – У подруги кошка пятерых принесла. И все такие красивые… А вам бы хотелось котенка?
– Не знаю, надо подумать, – отшутился Андрей Иванович.
Домой он явился заполночь. Жена еще не спала. В комнате мерцал экраном включенный телевизор.
Воронцов разулся, скинул на вешалку измазанный плащ. Сразу войти не решился… Постоял, переминаясь с ноги на ногу в прихожей.
– Где Надя?
– Звонила от однокурсницы. На метро опоздала, останется у нее ночевать. А ты чего поздно?
– С Золотаревым посидели… В шахматишки…
Супруга Воронцова – полная рыжеволосая женщина с низким голосом и ухватками базарной торговки, – возлежала на разобранном диване. Когда она увидела мужа, глаза ее округлились.
– О-у-у! – изумленно воскликнула Вера Михайловна. – Это еще что такое?!
– Подожди… Я тебе все объясню.
– Какой ужас! Пил?.. Не ври, я вижу!
Она неловко поднялась с постели. Под кружевами ночной рубашки колыхнулась рыхлая бесформенная грудь.
Воронцов молчал. Он, конечно, не рассчитывал, что его сейчас начнут жалеть, но все же…
– Где ты был, я тебя спрашиваю? А впрочем… Можешь не отвечать. Я и так знаю…Муж не вовремя пришел?
– Муж? – не понял Воронцов. – Чей муж?
– Известно чей… Той, у которой был…
– Что ты плетешь! Ну что ты плетешь!
– Просто так людям под глаз не наставляют.
– Много ты понимаешь!.. Да просто так – убить могут!
Он бросил на стул развязанный галстук и вышел вслед за супругой на кухню.
– Ты послушай, как дело было… Иду я по улице, слышу крик. Балбес какой-то на девушку набросился. Сумку отнял – и бежать. Я за ним… Догнал, а он нож выхватил…
– Ха-ха-ха! – неожиданно рассмеялась Вера Михайловна. – Поумнее ничего придумать не мог?
– Не веришь?!
Воронцов задохнулся от обиды… Кровь застучала в висках, глаза заволокло горячей пеленой.
– И не стыдно тебе… – жена укоризненно покачала головой. – Взрослый человек, дочь невеста… Вот завтра придет, пусть на папашу полюбуется.
Андрей Иванович хрястнул кулаком по столу.
– А мне не стыдно! Нисколечко! Ни капелюшечки!.. Я что, подлость какую-то совершил?!
Вера Михайловна оставила недопитый чай и молча поднялась из-за стола.
« Что толку ей объяснять, – устало подумал Воронцов.– Ларечница! Одни тряпки на уме… А ведь когда-то учила детей музыке»
Он открыл холодильник, достал из морозилки покрытую инеем пластмассовую решетчатую форму. Ковырнув ножом, извлек оттуда несколько кусочков прозрачного льда. Потом оторвал широкую полоску марли и завернул в нее холодные мокрые кубики.
« Ерунда! За ночь рассосется…»
Проснулся Андрей Иванович рано, еще до будильника и первое, что ощутил – смутное чувство тревоги. Подушка была мокрой от растаявшего льда. Он смахнул с лица влажную марлевую тряпицу и, с трудом приоткрыв заплывший глаз, отправился в ванную.
Ледяной компресс не помог. Левую сторону украшал огромный, отливающий чернильным цветом синяк. Воронцов ужаснулся, представив себе, как в таком виде появится в школе. Это было немыслимо.
– Алло! – произнес он в телефонную трубку. – Тамара Павловна?.. Это Воронцов. Я, наверное, не смогу сегодня на работу придти.
– То есть как? – опешила директор школы. – Что значит не смогу?
– Заболел.
– Когда успели? Еще вчера я видела вас здоровым.
– То было вчера.
– С ума сошли!.. Вы хоть помните, что у вас сегодня показательный урок.
– Помню. Но…
– Вы погибели моей хотите?
– Замените меня кем-нибудь, Тамара Павловна.
– Ну, кем, кем я вас заменю? Вы соображаете, что говорите?.. Проявите мужество, Андрей Иванович.
Воронцов молчал.
– Вы ставите под угрозу честь нашей школы, всего педагогического коллектива… Вы же волевой, сильный человек… Всего лишь на час, Андрей Иванович. А потом я вас отпущу.
Воронцов понял, что выбора у него нет. Эта старая дева от него не отстанет. Он собрался с духом:
– Хорошо, я приеду… Но предупреждаю – будет только хуже.
– Хуже? В каком смысле?.. Вы что, мне угрожаете?
– Ну, что вы, Тамара Павловна. Вы не так поняли…
Всю дорогу до школы Воронцов просидел на заднем сидении автобуса, прикрываясь газетой. Во взглядах окружающих чувствовалось молчаливое осуждение.
Поначалу Андрей Иванович хотел надеть темные солнцезащитные очки. Но на улице, как назло лил дождь. В такую погоду и в очках… Только полный идиот способен на такое.
Ну, что они смотрят? Ведь если разобраться, ничего постыдного он не совершил. Наоборот, повел себя, как настоящий мужчина. Почему только в кино можно умиляться отвагой героя? Отчего в жизни, если с синяками, так обязательно пьяница или хулиган?
Первый урок уже начался, поэтому школьные коридоры были пусты. Лишь рядом с учительской гремела ведрами уборщица тетя Люся. Воронцов на ходу поздоровался с ней, заметив, как взметнулись от удивления ее брови.
« Ну и пусть! Ну и ладно!.. Подумаешь!»
Он решительно толкнул дверь в учительскую. Несколько преподавателей, свободных от занятий, сидели за столиками. Здесь же была и директор школы Тамара Павловна.
– Здравствуйте! – бодро сказал Воронцов.
– Здра-а-а… – только и смогла выговорить потрясенная директриса.
Кто-то некстати прыснул … Возникла неловкая пауза.
Понурив голову, Андрей Иванович стоял перед коллегами, словно двоечник на педсовете. Впору было провалиться сквозь землю.
– Вы… Вы безответственный человек, Воронцов, – изрекла наконец директриса. – Как вы могли? В такой ответственный для всей школы момент…
– Но я же нарочно не планировал! Так получилось… – голос его дрогнул. – Я сейчас все объясню. Понимаете, было поздно, я шел домой, один… Вдруг слышу – кто-то кричит… Грабитель на девушку напал, сумку вырвал. Я – за ним. Догнал, а он на меня с ножом… Вот… Но сумку я девушке вернул.
– Зачем вы врете, Воронцов? Зачем?.. – Тамара Павловна говорила почти ласково, как с больным ребенком. – Напали на вас хулиганы, избили… Так и скажите. А выдумывать-то зачем? Мы же с вами взрослые люди!
Прозвенел звонок. В коридоре послышался шум, топот ног, крики. Засидевшаяся на уроке детвора дружно высыпала на перемену.
– По-вашему я вру? – Андрей Иванович вытянул жилистую шею и стиснув зубы, заиграл желваками. – Выходит, я вру!?
– Тихо-тихо! – воскликнула, отступая, директриса. – Что вы себе позволяете?
– А вы?.. Вы, всегда уверенные в своей правоте! Вы, никогда не знающие сомнений!.. Да вы опаснее любого бандита! Тот бьет ножом в сердце, а вы – прямиком в душу!
– Прекратите сейчас же! – возмутилась Тамара Павловна. – Хам!
– Да сами вы!..
Воронцов развернулся и хлопнул дверью.
« Уволят! Теперь непременно уволят… И пусть, не жалко!.. Зачем только ехал? Ну, сорвался бы этот урок. И что? Подумаешь, катастрофа!»
Прикрывая ладонью подбитый глаз, он спустился на первый этаж и хотел уже выйти на улицу, как вдруг неожиданно увидел возле раздевалки мужчину и женщину. А рядом с ними – своего ученика, грозу класса, хулигана и двоечника Славу Манушкина.
Воронцов вздрогнул… Ведь именно на сегодня он пригласил в школу родителей этого сорванца. Хотел поговорить с ними о его поведении. И что теперь?
Он быстро пошел назад, надеясь, что его не заметят. Но было поздно…
– Андрей Иванович! Подождите!
Притворившись глухим, Воронцов пулей взлетел на второй этаж, но Слава Манушкин не отставал.
– Андрей Иванович! Куда же вы!
Воронцов остановился. Торопливо дыша, спросил:
– Ну!.. Чего тебе?..
Парнишка от изумления разинул рот. Дикий восторг отразился на его лице.
– Мама! Папа! – радостно закричал он, отрезая Воронцову путь к бегству. – Идите сюда! Андрей Иванович здесь!
«Какой кошмар! – успел подумать Воронцов, глядя на поднимающихся по лестнице родителей. – Что я им скажу?»
Манушкин-старший, не дрогнув, пожал ему руку… Женщина удивления скрыть не смогла. И ее можно было понять.
– Хорошо, что вы пришли! – не дав им опомниться, начал Андрей Иванович. – Я, собственно, хотел поговорить с вами о вашем сыне. Дело в том, что он… Видите ли… Он…
Воронцов съежился под пристальным взглядом Славиной мамы и понес дальше что-то совсем уж нелепое.
– Он очень способный, не по годам развитый мальчик. На уроке физкультуры ему практически нет равных. А какой любовью, каким авторитетом он пользуется в классе!.. Да, есть у него маленькие сложности с физикой и математикой. Ну, так и что же?.. Не всем, извините, Энштейнами и Ковалевскими рождаться. Мы с вами должны в первую очередь помнить о том, что перед нами маленький человек, личность, если хотите… И мы всячески обязаны помогать, способствовать развитию всего лучшего, что в нем есть.
Андрей Иванович говорил и говорил: горячо, убежденно, почти без пауз. Слава Манушкин стоял потупясь, с пунцовыми от смущения ушами. Наверное, никто и никогда еще столько его не хвалил.
Спасительной трелью залился звонок. Воронцов с облегчением прервал свою речь и поспешил распрощаться.
– Спасибо, что пришли. А сейчас извините, у меня урок.
Воронцов любил свой предмет. Каждый раз старался открыть ребятам что-то новое, интересное. По привычке, сложившейся годами, он всегда так и начинал: « Здравствуйте! Сейчас я расскажу вам что-то очень интересное ».
Войдя в класс, Воронцов услышал привычный шум отодвигаемых стульев. Ученики, вставая, приветствовали его… На задних партах теснилось несколько взрослых. Это были делегаты областной учительской конференции.
– Здравствуйте, дети! – ласково сказал Андрей Иванович, жестом показывая, что можно садиться. – А сейчас… – он выдержал паузу. – Я расскажу вам что-то очень интересное!
Звенящая тишина повисла над классом. Ни звука, ни шороха… И вдруг! Словно шквальный ветер грянул с небес – абсолютную, космическую тишину в одно мгновение разорвал громкий смех.
Смеялись все… И отпетые двоечники в помятых пиджаках, с протертыми на локтях рукавами, и круглые отличники, с аккуратными чистыми воротничками, и толстые тети с лысыми дядями, сидящие на галерке.
– Извините, – произнес Воронцов, не слыша собственного голоса. – Наверное, я расскажу об этом в следующий раз.
Дождь хлестал тугими холодными струями, вздымая на мутных лужах прозрачные пузыри. Кутаясь в поднятый воротник плаща, и держа над головой раскрытый зонт, Андрей Иванович торопливо шагал по залитому водой асфальту. Непогода была ему на руку.
« Иду, словно вор, и прячусь… – думал он, украдкой поглядывая по сторонам. – Что за нелепость!»
Тяготила необходимость объяснений с дочерью. Что он ей скажет?
Поднявшись на свой этаж, Андрей Иванович позвонил в дверь. Надя была уже дома.
– Ой!.. – воскликнула она, увидев его лицо. – Вот это да!
– А-а, это? … Полез вчера на антресолях прибираться – коробка с книгами упала.
Воронцов снял плащ и принялся развязывать шнурки на ботинках.
– Пап…
– Что?
– А ты у нас, оказывается, герой?!
Андрей Иванович поднял голову и с удивлением заметил веселую хитринку в ее глазах.
« Откуда узнала?»
Воронцов недоуменно застыл, не зная, что ответить… И тут из кухни в прихожую, маленьким пушистым комком выкатился котенок. Рыжий, с белым пятном на груди…
Александр Полянский
«Звезда вечерняя»
повесть
Увидев Владимира, фельдшер полевого госпиталя вытаращил глаза, на его физиономии застыла нелепая улыбка.
Владимир мрачно сверлил глазами фельдшера:
– Так вы что, и похоронку на меня отослали?
Тот еле заметно кивнул и втянул голову в плечи.
– Ты не кивай, а говори, – злобно просипел Владимир, держась слабой рукой за притолоку, – отослали или нет?
– Отослали.
Все поплыло перед глазами Владимира. Он прислонился к стенке и соскользнул на пол.
Очнулся Владимир только к вечеру. Склонившаяся над ним сестра вводила ему под кожу какую-то жидкость.
Владимир с укоризной глянул на сестру.
– Что ж это вы придумали – живого человека в морг определять?
– Так то кома, хлопчик, – медсестра ловко выдернула иглу.
– Что, кома? – переспросил Владимир.
– Такой случай, когда дыхания и пульса нет.
– Когда дыхания и пульса нет, тогда и человека нет, —недовольно пробурчал Владимир, с трудом перевалился на бок и закрыл глаза.
* * *
На девятый день Владимир сидел против госпитального врача и, с жаром прижимая к груди руки, говорил:
– Товарищ старший лейтенант, ну дайте мне любую бумажку. Бригаду мне свою догонять надо.
– Тоже мне, герой выискался. Чего тебе тут не сидится?
– Да геройства здесь никакого нет, товарищ старший лейтенант, просто место у меня в бригаде родное, насиженное. Состав-то у меня инженерно-технический, а до этого я почти год в пехоте оттарабанил.
– А-а, – понимающе протянул врач, – так вот ты о чем.
– Ну да, – еще больше оживился Владимир. – Я места своего в два счета лишиться могу. А куда на пополнение отправят? Не дай бог, в какую-нибудь пулеметную роту упекут. Там мне мало не покажется.
Ты пойми, голова, никакой бумаги я дать тебе сейчас не могу. Весь госпиталь тю-тю, – врач описал рукой немыслимую траекторию. – Только мы тут вместе с Катериной с инвалидской командой застряли. Не горюй. Не сегодня-завтра нас отсюда заберут и…
– Товарищ старший лейтенант, в моем дивизионе меня каждый сверчок знает…
– Ну, куда ж ты, парень, пойдешь? На деревню к дедушке? До фронта – без малого сто километров.
– Степан Филимонович…
– Ты что, Владимир, под трибунал подвести меня хочешь? Все по закону делать надо. Команду в госпитале сформируют и пошлют всех, куда следует, – стараясь не смотреть Владимиру в глаза, офицер нервно забарабанил пальцами по столу.
– Степан Филимонович, мы ж ведь уральские, считай, земляки…
Врач вскинул голову и сердито посмотрел на Владимира:
– Ты, Владимир, из-за своей дурной башки горюшка-то еще хлебнешь. В общем так. Сержант Пулькин!
– Гвардии сержант, товарищ старший лейтенант!
– Гвардии сержант Пулькин! Нарушать законы не буду и вам не советую. Идите!
– Есть, – Владимир поднялся и поплелся в свою палату.
* * *
И в правду, поначалу дела складывались как нельзя лучше. Километрах в двадцати от госпиталя Владимира нагнала машина со связистами.
Перевалив через борт «студебеккера», Владимир почувствовал себя, наконец, в своей тарелке. Старший по званию, лейтенант, строго посмотрел на него:
– Как это тебя, братишка, здесь очутиться угораздило?
– Я, я по пути, – Владимир вдруг смешался. – Часть свою ищу.
– Значит, часть свою ищешь? – лейтенант пристально стал разглядывать Пулькина.
– Так точно, товарищ лейтенант! Четвертую гвардейскую тяжелую минометную бригаду…
– Четвертую бригаду? – в разговор вмешался сидевший подле лейтенанта старшина. – Так мы же там третьего дня были. Ты, случаем, Воронцова Степана не знаешь?
Владимир вскочил:
– Степу? Так он же комсорг дивизиона. Зуб у него еще передний выщерблен, он…
«Студебеккер» подпрыгнул на колдобине, Владимир не удержался на ногах и полетел на дно грузовика.
На развилке дорог автомобиль притормозил.
– Тебе, братишка, в сторону Бешенковичей. Это еще километров тридцать верных. Да смотри, – перевалившись через борт грузовика, крикнул вдогонку лейтенант, – по самой дороге не иди. Иди вдоль, перелесками.
***
Утреннее летнее солнце золотило стволы сосен и приятно согревало спину. Пробудившийся мир ворвался в безмятежную душу Владимира шорохами леса, гомоном птиц, запахами трав и цветов и покосившийся столб с табличкой «Achtung, partisanen!» бессмысленно чернеющей готическим шрифтом, казался атрибутом нереального, выдуманного мира.
Внезапно лесную тишину рассек гул моторов. Владимир поднял голову. Почти над самыми верхушками деревьев пронеслось звено бомбардировщиков с красными звездами.
«Наши, – улыбнувшись, подумал Владимир, и его мысли вернулись в привычное русло. – Лучше, конечно, поспеть к ужину. Приду и строго так скажу: «Это почему вы мне каши не положили?» А еще лучше подползти к палатке и не своим голосом завыть: «Нечипоренко, раб божий, почто ж ты Владимиру махорки-то жалел, почто…»
– Стой! Руки вверх! – словно из-под земли перед Владимиром предстали три автоматчика в ладных гимнастерках с синими петлицами войск НКВД.
– Ребята, чего уж сразу вверх, я…
– А того, – рослый сержант ткнул Владимира стволом автомата в грудь, – ты руки-то не опускай, – он похлопал Владимира по карманам. – Оружие имеется?
– Нет.
– По уставу отвечай: «Никак нет, товарищ сержант».
– Никак нет, товарищ сержант, – ответил Владимир, сообразив, что здесь с ним шутить никто не собирается.
– Документы?
– Тут, в левом кармане.
Сержант извлек желтый листок и быстро пробежал его глазами:
– Больше ничего?
– Ничего.
Увесистый кулак обрушился на голову Владимира.
Едва устояв на ногах, Владимир с немым изумлением уставился на сержанта. Тот снова загундосил:
– А это для тугодумов. Как положено, отвечать надо, понятно?
– Так точно, товарищ сержант, понятно.
– То-то, – сержант с ухмылкой посмотрел на Владимира. – Значит, дезертируем помаленьку?
– Никак нет, товарищ сержант.
– Молчи, с тобой все ясно. Ремень-то сними. Ну, чего как пень стоишь? Ремень, говорю, снимай.
Владимир расстегнул ремень и протянул его конвоирам.
* * *
В низенькой избенке с закопченными окнами за ободранным столом сидел белобрысый молоденький лейтенантик и сосредоточенно выводил на листе бумаги замысловатые кривые. Множась, кривые складывались в загадочные фигуры, затем по мановению руки художника фигуры исчезали, разламываясь на черные квадраты и прямоугольники. Несмотря на летний день, над столом висела зажженная от автомобильного аккумулятора лампочка, уродуя тусклым светом пределы убогой избенки.
– Так говоришь, Петрович, дезертира привели? – не поднимая головы, лейтенантик задумчиво продолжал чертить таинственные знаки.
При звуке этого голоса Владимир с тоской поглядел на конвоиров и, набрав побольше воздуха, выпалил:
– Разрешите обратиться, товарищ лейтенант!
Офицер поднял голову и устремил на Владимира взгляд полный ненависти.
– Помолчи, голубчик. Петрович, документы при нем какие нашли?
Сержант положил на стол злополучный листок. Белобрысый склонился над ним и пожевал губами:
– Треугольный штамп вместо гербовой печати. А где воинский билет, где мобпредписание?
– Товарищ лейтенант, весь госпиталь перевели. Остались только…
– Пойми, голубчик, – перебил его лейтенант, – чем меньше ты будешь врать, тем больше у тебя шансов остаться живым.
– Товарищ лейтенант, ну сами посудите. Если б я был дезертиром, какой смысл мне к фронту идти? Я бы обратно драпал, – Владимир, ища поддержки, остановил свой взгляд на солдате, лицо которого было перечеркнуто глубоким шрамом. Владимиру показалось, что этот солдату его, Владимира Пулькина, врагом не считает.
Лейтенант встал и принялся расхаживать по избе.
– Знаешь, голубчик, сколько я умников речистых видел? Гимнастерка одна твоя чего стоит – цирк. А этот фиговый листочек? Я тоже могу сказать что я – Папа римский, да кто ж этому поверит? – он резко остановился, глаза его сузились в две маленькие щелочки. – Петрович, объясни подследственному всю тяжесть его положения. Да только не здесь, выведите его отсюда.
Через пару минут Владимира снова ввели в избу. Разъяснительная работа Петровича была зафиксирована на лице Владимира в виде основательно разбитой физиономии. Лейтенант указал Владимиру на табурет, дал карандаш и листок бумаги.
– На, пиши. Сегодня двадцать девятое июля одна тысяча… Да не смотри на меня дурнем, под диктовку мою пиши: сегодня двадцать девятое июля одна тысяча девятьсот сорок четвертого года. Написал? Так. Теперь напиши тоже самое, только с левым наклоном.
– Попробую, товарищ лейтенант. Только вряд ли у меня получится с наклоном.
– А ты не тушуйся, – притворно ласково пропел белобрысый, – может, что и получится.
Владимир понял к чему эти упражнения по чистописанию. Он встал.
– Товарищ лейтенант, виноват… Я, я сам себе эту бумагу написал.
На физиономии лейтенанта засияла снисходительная улыбка:
– Вот видишь, уже лучше, уже теплее. Значит, и должностную подпись подделал. Так?
– Никак нет, товарищ лейтенант. Подпись ставила медсестра, Екатерина Ва…, – Пулькин осекся, сообразив, что негоже подводить медсестру, оглашая ее фамилию.
– Так, значит, сообщники имеются.
– Никак нет, товарищ лейтенант.
– Помолчи, голубчик. До тебя здесь один ну так хотел быть похожим на дезертира, а на поверку оказался полицаем. Два дня юлил и все напрасно. Разъяснили мы его. Говори все, как есть, кто ты, откуда, куда шел.
Владимир собрался с мыслями и принялся излагать свою историю. Слушая, лейтенант вдруг стал подмигивать и, покачиваясь на табуретке, с издевкой повторять за Владимиром: Кома…, морг…, похоронка…
Владимир побледнел и почувствовал, как по спине поползли капельки холодного пота.
Белобрысый запрокинул голову и по-мальчишески засмеялся.
– Ну, комик, ну артист! – и вдруг, побелев от ярости, наклонился к самому лицу Владимира. – Даю тебе сроку до завтрашнего утра, вспомнить все как есть, хорошенько вспомнить! – и, обратившись к конвоирам, бросил. – Уведите этого артиста.
* * *
Владимира отвели на другой конец деревни и посадили в глубокую яму. На дне валялась груда разбитых черепков, ошметки луковой шелухи да полусгнивший ящик.
«Немного же они здесь потрудились», – подумал Владимир об «энкавэдешниках», догадавшись, что совсем недавно на месте ямы был деревенский погреб, у которого фугасом сорвало крышу и завалило вход.
Вскоре в яму спустили кусок хлеба и кружку воды. Хлеб был сырой, непропеченный, но Владимир мигом его съел, примостился на ящик и, глотая из кружки тепловатую воду, стал собираться с мыслями:
«Если они мне пожрать дали, значит, в расход пускать не собираются. Да и никаких прав на это у них нет, чтобы без суда и следствия в расход пускать меня, бойца Советской Армии! – Пулькин вспомнил чувство тревоги, охватившей его перед уходом из госпиталя. – Ну, надо же было мне на этих мордоворотов наткнуться! У них одно: «Руки вверх!», а кто ты им наплевать. Да, дело мое штрафбатом пахнет. Пока там разберутся, сколько воды утечет».
Незаметно день склонился к вечеру. Высокие легкие облачка вспыхнули розовыми дымками и, темнея, исчезли. Наступила ночь, и с ней к Владимиру пришел глубокий, чуждый тревог и волнений сон.
Проснулся Владимир под утро от холода. Пытаясь согреться, он охватил себя руками и принялся ходить из угла в угол ямы. Так он «намотал» не один километр и стал опасаться, что о его существовании могут долго не вспомнить, как вдруг в яму спустили лестницу. Склонившийся над краем охранник, крикнул:
– Ну, что, выспался? Вылезай!
В избе за столом сидели двое: тот же белобрысый лейтенант и немолодой майор в очках. Майор, сверкнув стеклами очков, поднял голову и внимательно посмотрел на Владимира.
– Фамилия, имя, отчество, звание, часть?
Живо отвечая на вопросы, Владимир почувствовал, что перед ним именно тот, кто быстро во всем разберется и поможет ему, Владимиру Пулькину, выбраться из этой дурацкой истории.
– Родители живы?
– Отец жив, товарищ майор. Мать в тридцать девятом от туберкулеза…
– Отец на фронте?
На какое-то мгновение Владимир замялся, но тут же открыто посмотрел на майора.
– Никак нет, товарищ майор, осужден по 58-й.
– За что?
– Ошибочно, товарищ майор.
– Ошибочно у нас никого не осуждают, – вставил белобрысый. – Значит, было за что.
– Не перебивайте, лейтенант, – майор посмотрел на Владимира. – Продолжайте.
– Статью ему переменили. Бабка в Москву к Калинину ездила. Осудили за халатность, а срок вдвое скостили.
– Ну, а здесь как оказались?
Владимир тяжело вздохнул:
– В общем, нештатная у меня история, товарищ майор. Десять дней назад…
Владимир говорил неторопливо, подыскивая подходящие слова, стараясь ничего не упустить. Те подробности, которые еще вчера казались ему малозначимыми, обрели с появлением майора совершенно иной смысл, и, внимательно наблюдая за сосредоточенным взглядом офицера, Владимир чувствовал, как его собственный голос звучит все спокойнее, все увереннее, вопреки ядовитым ухмылкам белобрысого.
– Вот такая у меня история, товарищ майор, – закончил свой рассказ Владимир, с надеждой вглядываясь в непроницаемое лицо майора.
Майор, постукивая карандашом по столу, довольно долго молчал, а потом повернулся к лейтенанту:
– Федоров, зачем вы бойца в яме держите?
– Так он же, товарищ майор, толком сказать ничего не может, – скороговоркой затараторил лейтенант. – История эта с моргом, ну, просто несусветица какая- то! Вот скажите, подследственный, а номер «студебеккера» вы случаем не запомнили? – слово «случаем» лейтенант произнес вкрадчиво, одаряя Владимира медовым взглядом. – Федот, да не тот, товарищ майор, – закончил белобрысый.
Майор встал, прошел по избе, остановился и посмотрел себе под ноги.
– Вы бы тоже, Федоров, номер не запомнили. Во всем еще разобраться надо. Отведите бойца на кухню, а в яме больше не держите. Он вам не медведь.
* * *
Овин, куда перевели Владимира, показался после ямы дворцом. Владимир блаженно вытянулся на копне соломы и уставился в потолок. Теперь он был совершенно уверен, что сидеть ему здесь осталось недолго. Пусть там они перестраховываются, пусть проверяют, пусть запрашивают кого надо. Скоро все образуется, и причина тому – майор, он голова, он все на свои места расставит. Но прошел день, за ним другой. Только на третий день к полудню, дверь заскрипела, и сноп света озарил пыльный воздух овина. Владимир мигом вскочил.
– Выходи, – угрюмо бросил охранник.
Снова изба, снова ободранный стол с нелепо горящей над ним лампочкой. Снова на Владимира изучающе смотрит майор, только глаза на этот раз смотрят по-другому. В них холод и безразличие.
– На первом допросе я почему-то вам поверил, хотя и трудно было поверить в вашу историю. Мне казалось, что вы тот, за кого себя выдаете. Но работа у нас такая во всем сомневаться. Этот метод не подвел и в этот раз. Посылая запрос в бригаду, я не сомневался, что сержант Пулькин лицо вполне реальное. Меня интересовало другое. Меня интересовали обстоятельства вашего ранения. Но события последних суток все перевернули. Вы ранее говорили, что свидетельство о смерти Владимира Пулькина отправили из госпиталя в бригаду?
– Так точно!
– Я утверждаю, что свидетельство так и не дошло до части. Сожженный автомобиль с почтой найден вчера в десяти километрах отсюда вместе с телами водителя и офицера связи. Для вашей диверсионной группы наткнуться на этот автомобиль было большой удачей.
Владимиру показалось, что он ослышался. Ноги стали чугунными, пол заходил ходуном.
Майор продолжал:
– Еще в середине июня нам стало известно о предстоящей заброске немецких диверсионных групп в этот район. В одной из перехваченных радиограмм немалый интерес был проявлен к Четвертой бригаде, в которой, по вашим словам, вы проходили воинскую службу. Вот, полюбуйтесь, – майор протянул Пулькину офицерское удостоверение. – Поспелов Виктор Афанасьевич гвардии младший лейтенант. Вы себя не узнаете?
Владимир облизал сухие губы:
– Товарищ майор, сходство большое, но это, это не моя фотография.
– Что ж, другого ответа я услышать от вас и не рассчитывал. Это удостоверение мы обнаружили в тайнике на болоте вместе с рацией, взрывчаткой и фотоаппаратом. К сожалению, тайник и сожженный автомобиль мы обнаружили только вчера.
Пулькин, не веря своим ушам, лихорадочно пытался осмыслить услышанное. Зацепки, позволяющей опрокинуть сконструированную майором систему доказательств, не было.
– Вы скажете: сходство на фото – совпадение. Я до последнего времени это допускал. Последние сомнения рассеял случайный свидетель. Вас опознал деревенский мальчик. Он видел, как вы оборудовали тайник. Лица вашего напарника он не разглядел.
Тут Владимира осенило, его сердце заколотилось с бешеной силой. Он почти закричал:
– Товарищ майор, а моя справка из госпиталя? Откуда я мог знать заранее, что мне попадется машина с почтой?
– Я ожидал, что вы зададите такой вопрос. Это же ваша последняя надежда, – лицо майора оставалось бесстрастным. – Мы обнаружили и второй ваш тайник. Среди прочего там была солидная стопка чистых бланков с печатями различных учреждений и организаций, в том числе и бланки двух госпиталей. Выдавая себя за находящегося в госпитале сержанта Пулькина, вы страховали себя практически от всех неприятностей – в случае возможного задержания любой запрос в бригаду подтвердился бы. И, наконец…, – майор зашелестел бумагами и поправил очки. – Я позволю себе зачитать вам часть ответа на наш запрос «....Относительно факта гибели гвардии сержанта Пулькина В.С. сообщаем, что факт его смерти подтвержден младшим сержантом паркового дивизиона бригады Никифоровым Н.А., находившимся в период с 8 по 22.07 с.г. в том же госпитале». А вот этого предугадать вы уже никак не могли! Это решающий пункт обвинения. Тут не поможет ни ваша природная находчивость, ни ваш талант перевоплощения, ни этот очень тонко разыгранный маскарад с вашей амуницией. Факт смерти рядового Пулькина подтвержден его же товарищем. Вы пытались оболгать светлое имя воина, павшего смертью храбрых.
Майор встал, и, заложив руки за спину, вновь стал мерить шагами избу. В наступившей тишине было слышно поскрипывание рассохшихся половиц.
– Федоров!
– Слушаю, товарищ майор! – вытянулся белобрысый.
– Сегодня выполните все бумажные формальности, а завтра… – майор чуть помедлил.
– Все ясно, товарищ майор, – ответил лейтенант. – Его куда, в сарай или в яму?
– Увести…
Владимир тяжело повернулся на ватных ногах и двинулся к выходу. Его колотил озноб. Зловещая суть происходящего, казавшегося ему до сих пор лишь кошмарным сном, предстала перед ним безжалостной явью. Он понял, уже ничто не в силах его спасти. И только на пороге, словно молния вдруг озарила его сознание. Он резко обернулся, выпрямился и, бросился к майору, протягивая растопыренные пятерни:
– Товарищ майор, а пальцы? Я же сдавал отпечатки пальцев!
Я очень прошу, – он упал на колени. – Снимите, проверьте отпечатки пальцев на рации, на фотоаппарате, взрывчатке, со всего, что вы нашли в тайнике…
– Не пытайтесь затягивать время. Это вас не спасет, – голос майора казался глухим и далеким. – Слишком много совпадений. Солдат не должен молить о пощаде. Солдат должен быть верен единожды данной присяге.
У ямы конвоиры долго и ожесточенно били Владимира. Он не уворачивался от ударов, не закрывал лица руками. Он не чувствовал боли. Он видел лишь лицо майора в кровавом блеске электрической лампочки, слышал его сухой голос и слово «завтра» стократно отпечатывалось в мозгу Владимира.
* * *
Владимир не знал, сколько он пролежал в яме. Час, два? Солнце стояло еще высоко, значит прошло не так много времени. Времени? Для него теперь время не имело никакого значения. Оно остановилось. Его не стало. Мир исчез, превратившись в ненавистную яму с ноздреватыми боками и кучей разбитых черепков. «Завтра» жирной чертой перечеркнет настоящее, и его, гвардии сержанта Пулькина, больше не будет. Колючий ком подкатил к горлу, перед глазами поплыли коричневые круги. Приступ рвоты стал раздирать на части измученное тело. Казалось, душа пыталась покинуть обреченную плоть. Через несколько минут только зубы выстукивали мелкую дрожь да подергивались кончики пальцев.
Мозг, подчиненный инстинктам бытия, снова отдавал нужные приказы. Жизнь пока еще продолжалась.
Владимир вспомнил о цыганке.
«Колдунья, старая ведьма, брата погубила и меня туда же хочешь отправить? А звезда, – с тоской подумал он, – моя звезда? Неужели конец?»
Пулькин обхватил голову руками, и вдруг его взгляд упал на валявшиеся под ногами черепки. Он наклонился к земле, дрожащими руками поднял осколок. Острые края обожгли пальцы холодом. Владимир подошел к стенке и поскреб ее черепком. Сухие комочки земли посыпались к ногам.
«За полчаса, – размышлял Владимир, – можно сделать небольшое углубление в стенке и, упершись в него ногой, выползти на край ямы, а дальше… Дальше остается уповать на ночную тьму и мою звезду. А пока надо лечь и набраться сил».
– Эй, браток, – крикнул Владимир, задрав голову.
В яму заглянул знакомый солдат со шрамом.
«Хоть здесь повезло, – подумал Владимир, – убежать от него будет проще».
– Служба, водицы не принесешь?
Вместе с кружкой воды солдат, порывшись в карманах, протянул Владимиру сухарь. Немало удивившись, он кивком поблагодарил солдата и бережно засунул сухарь за пазуху. Пулькин лег на землю и закрыл глаза.
«Тоже мне, умники, и этот профессор очкастый. Невиновного человека к стенке поставить. Нет, надо делать уступ, земля не такая и твердая, – Владимир погладил ладонью острые края черепка. – А до леса метров сто, а может и того меньше. Этот – свой, – подумал Пулькин об охраннике, – он стрелять не будет. Уйду, как пить дать уйду».
– Вылезай! – незнакомый рябой ефрейтор спускал в яму лестницу.
Владимир растеряно на него уставился.
– Как, – прошептал Владимир, – майор же завтра сказал.
– Мне до майора, как до фельдмаршала Кутузова. Мне приказы отдает лейтенант. Сказано – сегодня, значит – сегодня.
Не видя ничего перед собой, спотыкаясь на дрожащих ногах, Владимир брел по извилистой тропке. За спиной слышалось тяжелое дыхание пожилого охранника, за ним, позвякивая лопатой, шел рябой. Шаги конвоиров то сливались в один шаг, то бухали вразнобой, гулко отдаваясь в голове Владимира.
«Боже, великий Боже! За что? Чем я перед тобой провинился? Нет, ты не дашь мне погибнуть, ты поможешь мне. Сотвори чудо! Спаси и помилуй!»
– Шире шаг, – подгонял рябой.
«Нет. Сейчас меня расстрелять они не имеют права. Без офицера сделать это они никак не могут. Да и по уставу расстрелять может только отделение. Это ж не лагерь какой-нибудь, а воинская часть».
Владимир обернулся:
– Братцы, мне о расстреле приказа никто не зачитывал. Сейчас на это прав никаких нету. Майор же сказал…
– Шире шаг, – буркнул рябой.
«Боже, праведный Боже, неужели дашь свершиться суду неправому? Помоги, спаси и помилуй!»
– Братцы, – Пулькин снова обернулся, – махорочкой не угостите?
Солдат со шрамом полез было в карман, но тут вмешался рябой: