Читать онлайн За гранью. Записки из сумасшедшего дома бесплатно
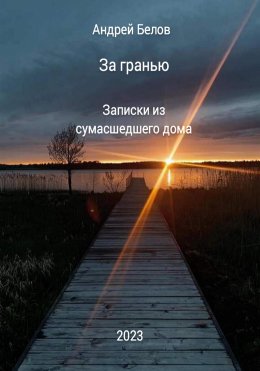
Мама
Нигде, кроме психиатрической больницы, нет той особой ауры, той тишины и того спокойствия, которые привносят сюда специфические пациенты и психотропные препараты. Люди, измученные различными страхами, навязчивыми мыслями, подозрительностью… вдруг успокаиваются, освобождаясь от своих мыслей, а заодно и от проблем. Нет более подходящего, тихого и уединенного места для того, чтобы погрузиться в свое «я». Здесь можно полностью уйти из той – прежней – жизни, где ты кем-то был или не был никем, где у тебя были какие-то отношения, права и обязательства, можно забыть имена не только близких, но и свое собственное. Все это в этом удивительном уголке бытия, с новой точкой отсчета, не имеет никакого значения и уходит в небытие. В этих стенах, с решетчатыми окнами, начинается твоя, и только твоя новая жизнь и заканчивается прежняя, о которой даже нельзя сказать, была ли та жизнь. В этом месте можно говорить все что угодно и молчать о чем угодно. Жизнь после жизни. Нередко побывавшие здесь стремятся попасть сюда вновь и вновь. Лишь страх остаться в этих стенах навсегда – навсегда порвать любые сношения со всем внешним миром – вынуждает тех, у кого еще осталась хоть маленькая искорка веры, надежды или любви, с грустью и страхом, постоянно оглядываясь, покидать это место. Жизнь в психиатрической больнице отличается своей вечной предсказуемостью и отсутствием надуманной суеты: очередей в магазинах, будильника, ежедневной встречи с опостылевшим начальником и не менее надоевшими сотрудниками, ежевечернего «здрасте» старушкам, сидящим у твоего подъезда, и многого другого. Здесь жизнь проста и наполнена только естественными потребностями, а еще тем, что надо склеить несколько конвертиков на трудотерапии и иногда наврать что-нибудь лечащему врачу (так он себя называет), который сам не знает, от чего лечит (впрочем, это всем, включая его самого, совершенно неважно). Нет желания ни читать, ни писать, ни даже думать, поскольку думать не о чем, да и нечем: все извилины давно выпрямлены психотропными пилюлями. Но что-то главное, глубоко-глубоко в подсознании каждого пациента, все же остается в голове. Оно, это главное, уже само по себе оторвано от того мира и не имеет никакого отношения к этому миру. Каждый держит это «нечто» внутри себя. Возможно, когда-то это были любовь, ненависть, обида или что-то еще… – не к кому-то конкретно, а сами по себе, поскольку давно стерлись из памяти истоки их возникновения. Это была суть данного человека, позволяющая ему отличать себя от других.
Сколько удивительных и трагичных историй о судьбах, нашедших здесь «гармонию души», могли бы рассказать стены этой больницы!
Пациенты звали его Алексей, медперсонал – Алексей Леонидович.
Обычным его занятием было покачивание взад-вперед, сидя на койке, которая стояла в самом дальнем от двери углу палаты. Если не вставать с койки, то окна видно не было – только подоконник, и можно было представить себе, что мир, вся вселенная ограничиваются вот этим самым подоконником.
Время здесь измерялось выкриками дежурных медсестер или санитарок: «Принимать лекарства», «На процедуру»… Время шло по кругу, замкнутому раз и навсегда. Алексей Леонидович считал, что прожил ту, свою прежнюю жизнь всю до конца, без остатка. Он сделал все, что мог; он сказал все, что хотел сказать, а если и нет, то… его все равно не хотели услышать; он уже промолчал обо всем, о чем не хотел говорить. Здесь его жизнь складывалась заново и по-новому. Детей и родственников у него не было, бывшую жену и бывших сотрудников он не узнавал. В больнице он заявил, что не помнит о себе ничего, и просил называть его Алексеем Леонидовичем.
В детстве, когда Алеше было восемь лет, не стало мамы. За неделю до этого отец увез его к своим знакомым и вернул домой еще через десять дней. Несколько дней Алеша молча ходил по комнатам, сидел у окна, перебирал фотографии в семейных альбомах. Спустя какое-то время единственное, что он тихо сказал отцу, было: «Мама больше не придет». Это не был вопрос, и отец промолчал.
После этих событий Алеша начал меняться: он перестал смеяться, играть со сверстниками, ходить гулять на улицу – он как будто о чем-то все время думал. Отец догадывался – о маме. Для Алеши мама была всем: его вселенной, его связью с остальным Миром. Она была его звездой, вокруг которой вертелось все его маленькое существо – его опорой и его защитой. Потеряв все это, он очутился в пустом для него пространстве.
Позже отец водил сына по врачам и всегда слышал одно и то же: «У мальчика есть определенные психические отклонения, время, как говорится, лечит, но… надо бы полежать в больнице». Отец смотрел на сына, но тот всегда отвечал: «Психиатрической? Никогда!» И отец отступал и старался создать атмосферу любви, тепла в их маленькой семье, но каждый раз понимал, что не заменит Алеше мать. И для отца эта женщина была светом в окошке. Отец рано поседел, состарился и покинул Алексея после двух инфарктов, случившихся один за другим.
Так Алексей оказался в интернате.
Взрослея, он начал заполнять пустоту книгами и учебой; он быстро стал одним из первых в классе, а затем и в школе; особый интерес и талант у него проявился к математике и физике – по этим предметам он шел на год-два впереди своих сверстников и изучал их по учебникам для старших классов. Друзей у него не было. Все свободное время он отдавал чтению – к двенадцати годам он прочитал всего Достоевского, а к тринадцати – и его дневники, и мемуары о нем современников. Алексей твердо был уверен в том, что мир не цветной и даже не черно-белый – серый. Он замечал за собой неадекватность мыслей и поступков и часто, когда снилась мама, говорил ей: «Мама! Я болен. Как же тяжело стараться всегда, перед всеми выглядеть нормальным!» Он понял, что для этого надо как можно меньше общаться с другими людьми. Он полностью замкнулся в себе.
Окончив университет, он стал работать в известной физической лаборатории. Считался одним из самых перспективных сотрудников, быстро получил должность научного сотрудника; ему прочили большое будущее, но он не соглашался ни на какие повышения и, хотя многие из достижений лаборатории были его заслугой, оставался просто научным сотрудником, даже помогал другим писать диссертации.
Однажды Алексей попытался разорвать круг одиночества: в душе у него вспыхнули добрые и нежные чувства к ассистентке из их же лаборатории, и в результате он женился. Прожили вместе 3 года, но детей так и не было. Они с женой прошли обследования, жена сходила узнать результаты и сообщила, что детей нет по его вине. Жизнь снова стала серой. Алексей опять ко всему охладел, и лишь работа оставалась его отдушиной. Он пробовал пить водку, изменять жене, но все это его не захватило, в душе оставалось только гадкое чувство: все это было не его.
С годами самыми тяжелыми днями в неделе для Алексея Леонидовича стали выходные дни. Приходилось работать дома в своей комнатке; в другой комнате жила его бывшая жена. Они давно развелись, и объединяли их только две вещи: адрес места жительства и номер домашнего телефона. А может, и еще что-то: ведь не вышла же она второй раз замуж после того, как выяснилось, что у него не может быть детей.
Он отпустил бороду, часто ходил в мятых брюках и несвежей рубашке. В конце концов стал слыть среди сотрудников неисправимым чудаком.
Время шло. Он пытался убедить себя в том, что смысл жизни в работе, в открытиях ради человечества, но каждый раз вспоминалась мама. И тогда он понимал, что смысл жизни все-таки в любви к близкому человеку, которого у него нет, в гармонии души, которую нельзя достичь в одиночестве. Алексей не пытался снова завести семью, детей. Бывшую жену и себя он и считал своей семьей и был по-своему благодарен «бывшей» за то, что она не уезжает от него – психически больного человека. Он понимал, что надо жить ради кого-то – жить ради человека, пусть не близкого, а далекого, но чтобы знать, что он, этот человек, есть на свете, и чтобы этот человек просто знал, что ты тоже есть.
Ему было уже сорок шесть лет.
Однажды сотрудник уговорил его взять билет в театр: билет все равно пропадал. Алексей Леонидович заглянул в Интернет. Театр оказался маленьким и малоизвестным. В основном спектакли в этом театре были представлены труппами, состоящими из вчерашних выпускников театральных вузов, а спектакль, билет на который он держал в руке, оказался водевилем.
В тот вечер он ехал домой и, проезжая остановку, где ему надо было пересесть на другой автобус, неожиданно вспомнил о билете. Весь измятый, билет отыскался в заднем кармане брюк. Немного подумав, Алексей все же пересел на нужный автобус.
Спектакль начался, как обычно, с запозданием минут на десять. Алексей смотрел без интереса и оживился только тогда, когда на сцене появилась главная героиня; ей было где-то года двадцать два-двадцать три. Алексей напрягся и широко открыл глаза, взгляд его стал блуждающим, дрожь пробежала по телу. В антракте он ушел со спектакля и, прибежав домой, перерыл все семейные фотоальбомы. Найдя нужную фотографию, он долго смотрел на нее, и слезы текли у него по щекам. Вдруг голова закружилась, началась сильная головная боль, мышцы лица стали подергиваться. «Она! Я нашел ее!» – повторял и повторял он. В то же время он вспомнил о лекарстве, и на этот раз обошлось без приступа.
На следующий день Алексей Леонидович в Интернете узнал, что зовут ее Анна, играет она в нескольких театрах по контракту, нигде постоянно не числясь. Также, через Интернет, он купил билеты на все спектакли с ее участием на три месяца вперед.
Наконец Анна обратила внимание, что один и тот же мужчина всегда присутствует на ее спектаклях, сидит в первых рядах с большим букетом разноцветных роз и всегда дарит розы именно ей. Ее насторожил и испугал его туманный и одержимый взгляд. «С таким взглядом разве что князя Мышкина играть из «Идиота» Достоевского», – думала Анна. Она стала уклоняться от букетов, отходить в сторону, подставляя навстречу мужчине других актрис. Но тот настойчиво обходил других и старался подойти именно к Анне. Подругам Анны приходилось просто выхватывать цветы из рук Алексея Леонидовича. Через месяц неудачных попыток вручить ей букет Алексей стал оставаться после спектакля и ждать на улице, когда выйдут актеры, после чего, не глядя на других, он подходил к Анне и просил разрешения проводить ее или хотя бы поговорить. Она всегда отказывала ему, говорила, что у нее есть муж. В конце концов она стала бояться выходить после спектакля одна и выходила или с друзьями, или муж встречал ее после спектакля. Попытки друзей и мужа поговорить с Алексеем ничем не кончались: он заявлял, что у него разговор только к Анне, разводил руками, поворачивался и уходил.
Так продолжалось около трех лет.
Однажды зимой, когда закончился очередной контракт с театром на один из спектаклей, вся труппа отмечала это событие прямо за кулисами. Выйдя из здания театра только в четыре часа ночи, они увидели стоящего у выхода Алексея. Он подошел к Анне и попросил выслушать его по одному делу. «У меня не может быть с вами каких-либо дел», – отрезала Анна. Алексей неожиданно сильно побледнел, взгляд его стал безумным, лицо исказилось судорогами, и с криком он упал в снег, содрогаясь в конвульсиях. «Припадок, – крикнул кто-то, – срочно надо вызвать скорую помощь».
Когда Алексея увезли, кто-то заметил на снегу фотографию: «Смотрите… а ведь это Анна!» Анна взяла фотографию, внимательно посмотрела и сказала: «Да, вроде я, а вроде и нет. Какая-то фотография… как будто старая». Перевернув фотографию, они прочитали: «Алеше от мамы на память».
Алексей сидел, как всегда, на своей койке и покачивался взад-вперед. Еле-еле было слышно только бесконечно повторяющееся: «Почему?..»
Вдруг он увидел, что в палату вошла его мама. Она подошла к Алексею, что-то спросила и, не дождавшись ответа, погладила его по голове. Потом дала ему в руки фотографию; Алексей счастливо улыбнулся и спросил: «Ты еще придешь, мама? Мне так одиноко». «Конечно, Алеша!» – ответила Анна.
Лечащий врач, проходивший мимо палаты, увидел, как Анна гладит по голове Алексея Леонидовича, отвел ее в сторону и сказал: «Мы, к сожалению, вряд ли сможем вывести его из этого состояния. А вы кто ему?»
Анна уже в дверях палаты, обернувшись и увидев качающегося взад-вперед Алексея, неотрывно смотрящего на фотографию в его руках и счастливо улыбающегося, тихо произнесла: «Мама».
Попутчик
Поезд дальнего следования тянулся по российской глубинке не спеша, возвращая меня к родному городу и к морю. Я лежал на верхней полке плацкартного вагона. Люблю смотреть вперед, по ходу поезда, наблюдая, как извивается состав между сопок и лесов на просторах сибирской земли, пересекая бесчисленные реки и речушки, проезжая полустанки, у которых приютились одинокие избы или небольшие поселки. Путь был неблизкий, и в вагоне мне предстояло провести почти трое суток. Именно в плацкартном вагоне чувствуешь, как жизнь кипит вокруг, слышишь, о чем говорят или спорят в соседних купе. Случайный билет в случайное купе и на случайное место объединяет всех едущих вместе; теперь они просто попутчики.
Где, как не в поезде дальнего следования, отоспаться, почитать, поговорить с пассажирами, услышать удивительные и такие непохожие истории о судьбах людей. Так позже и рождаются рассказы и повести – из самой гущи жизни. Три дня без городской суеты с ее осенней слякотью и непросыхающими ботинками. Поздняя осень!
На нижних полках две старушки наперебой то расхваливали своих внуков, то жаловались на высокие цены, а то и про политику говорили. Полка напротив меня была свободна. Ноябрь, пассажиров мало, и полвагона пустовало.
Наконец на очередной станции в каком-то небольшом городке в купе вошел мужчина лет тридцати шести-тридцати семи. Щупленький, рано полысевший, борода отпущена и не ухожена, впрочем, он был весь неухоженный: сразу видно, что либо давно уже не женат, либо никогда женатым и не был; одет так, как будто только что из дальнего странствия по святым местам. Затем он достал билет, стал смотреть номера мест. Я поздоровался, он что-то невнятно ответил и занял верхнюю полку напротив меня.
Какое-то время он лежал с задумчивым выражением лица и неотрывно смотрел в окно, но только смотрел он вслед убегающим назад сопкам. Казалось, он весь был в прошлом и только о нем и думал. Будто ехал из прошлого в прошлое, которое замкнулось в его голове и крутилось там непрерывно.
– Вам далеко ехать? – неожиданно спросил он меня.
Я назвал город, и он грустно покачал головой:
– Вот и я туда же. К морю. Возвращаюсь. Полгода не был дома, а ведь я там родился и всю жизнь прожил. Обстоятельства сложились так, что в свое время решил уехать оттуда, попытался все забыть, да нет, не забывается и тянет обратно к морю.
– Сейчас у многих финансовые трудности, уезжают из родных мест в поисках работы, – попробовал угадать я.
– Нет, деньги тут ни при чем, – тихо и внятно произнес он. И мы оба надолго замолчали.
Через некоторое время я решил, что разговор наш прервался чересчур неожиданно, и представился, назвав себя и кем работаю.
– Василий, – тоже представился он. – Отец так решил назвать в память о своем отце – моем деде. Отца звали Трофим – вот и получилось Василий Трофимович. А вы, значит, пишете? Много ездите по стране, много людей повидали, много общались, много о судьбах людских слышали? – спросил Василий.
– Работа такая, да и меня всегда люди привлекали, их жизнь, беды и радости, одним словом, судьба, – ответил я.
Снова разговор наш оборвался; Василий вроде как обдумывал мои слова.
Я уже решил, что общение наше на этом совсем закончилось, а тут он неожиданно спросил меня:
– Вы в мистику верите?
– В мистику, не в мистику, а что бывают вещи совершенно необъяснимые – верю, – ответил я. – Вот только необъяснимое не надо путать со случайным. А то навещал я как-то знакомого в больнице, у них в палату привезли мужчину, упавшего с девятого этажа строящегося дома – упал и живой остался. Так это не чудо, а случайность: внизу коробки картонные были, сложенные в несколько рядов.
– Но ведь кто-то положил их на то место, где мужик и упал? – тихо, вроде как размышляя про себя, сказал Василий и надолго замолчал.
Я возражать не стал.
Очнувшись от задумчивости, попутчик мой сказал вдруг:
– Нет, я не про то! А хотите, расскажу?
Я согласился, и он, немного помедлив, начал рассказывать. Историю попутчика я хорошо запомнил.
Наконец-то закончилась еще одна рабочая неделя, ничем, впрочем, не отличающаяся для Василия Трофимовича от многих других. И на два дня – целых два дня! – можно было забыть об обязательном в конторе галстуке и необязательных, но так необходимых нарукавниках. Расставшись еще засветло с сослуживцами около кафе, он медленно пошел в сторону порта подышать прохладным морским воздухом и посмотреть на заход солнца. Улицы были пусты, город притих, готовясь вот-вот окунуться в ночное пятничное гулянье.
Дойдя до порта, сел на опрокинутую кем-то бочку и стал наблюдать за водной гладью. В порту никогда не было тихо: кто-то грузился, кто-то разгружался, слышались крики крановщиков и портовых рабочих. Весь этот шум, знакомый с детства, не мешал ему спокойно думать о своей жизни и вспоминать.
Когда-то в детстве, вот так же сидя на бочке или ящике на причале, тогда еще маленький Вася мечтал стать моряком. Больше всего он любил смотреть на море, когда оно бушевало, когда необузданный ветер срывал пенистые гребешки, дико веселящиеся на верхушках волн, но сегодня море было спокойно, уверено в себе и навевало тихую грусть. Солнце не спеша уходило за горизонт, а к берегу от горизонта ползла серая мгла облаков, суливших затяжные дожди.
Здоровье не позволило ему осуществить свою детскую, а затем и юношескую мечту, и он был вынужден сидеть в конторе и давно уже не мечтал о морских путешествиях и приключениях, об экзотических странах и знойных креолках.
Его жизнь была скучна, однообразна, одинока и, в общем-то, предопределена. Он завидовал кораблям, стоящим на внешнем рейде: кто-то войдет завтра в порт, кто-то отправится в открытое море к далеким берегам, где их кто-нибудь ждет. Самого его никто и нигде не ждал, и судьба его не сулит ни-че-го…
«Умирают не от болезней и старости – умирают от одиночества и тоски в душе», – пришла ему в голову мысль.
Когда солнце полностью нырнуло в море и стали надвигаться сумерки, Василий Трофимович встал, еще раз взглянул вдаль и не спеша пошел по направлению к дому. Как и всегда, вид моря успокоил его, и он медленно брел по улицам, на которых все чаще попадались прохожие, идущие парами или семьями, начиналось традиционное вечернее гулянье горожан. Он всегда уходил домой, чтобы не видеть этот «праздник жизни»; по своей натуре он был замкнут и любил быть один.
Василий Трофимович брел, не замечая начавшегося моросящего дождя; серость вокруг сливалась с его настроением. На мгновение ему показалось, что кто-то наблюдает за ним. Оглянувшись и не заметив никого, кто бы на него смотрел, он пошел дальше.
Только дома он заметил, что промок весь до нитки, и почувствовал, что его сильно знобит. Раздевшись, лег в кровать и, чтобы согреться, укрылся одеялом с головой.
Ему снилось бушующее море и корабли, тщетно пытавшиеся прибиться к берегу.
Он проснулся глубокой ночью и продолжал лежать с закрытыми глазами, как вдруг ощутил, что кто-то смотрит на него. Штора на окне была задернута – свет уличных фонарей и реклам магазинов, расположенных на другой стороне улицы, не мог проникнуть внутрь. Он весь напрягся, осторожно протянул руку к ночнику и включил его. Слабый свет чуть осветил комнату. Оглядевшись справа от себя и ничего необычного не заметив, он повернул голову налево и чуть не вскрикнул: слева от него на кровати лежала женщина и смотрела, не мигая, прямо ему глаза.
Лоб и спина у Василия Трофимовича мгновенно покрылись испариной, он не мог выговорить ни слова: взгляд женщины парализовал его, заставляя смотреть и смотреть неотрывно в ее глаза.
Казалось, прошла вечность, пока он начал понемногу овладевать собой. Зажмурив и открыв глаза, он снова увидел ее, выключил и включил ночник – снова она перед ним.
С трудом шевеля губами, шепотом спросил:
– Ты… то есть вы… вы кто?
Молчание.
– Вы… как… почему… здесь?
«Так…» – послышалось ему, хотя губы женщины оставались неподвижны. Василий Трофимович, так и не поняв, сказала она что-то или нет, стал оглядывать ее. Она вся была накрыта одеялом, кроме головы, нога ее была согнута в колене, и в этом месте одеяло было чуть приподнято, возможно, немного приоткрывая ее тело, но в сумерках ничего было не разглядеть. Он слегка дотронулся до женщины ладонью: нет, все было наяву! Неожиданно одеяло сползло с ее колена, и стала видна нога в черном чулке.
Он смотрел и смотрел в ее глаза, боясь отвернуться, оставив ее у себя за спиной. «Больше всего в жизни бойся собак и женщин. Никогда не знаешь, что от них ждать, и не поймешь, укусит или нет», – вспомнились ему слова матери.
На мгновение он сел на кровати спиной к незнакомке и тут же быстро обернулся и снова увидел ту же картину: нога в черном чулке, и глаза, внимательно смотревшие на него. Одеяло было тонкое, и, еще раз проведя взглядом вдоль нее, он не мог не отметить, что по изгибам тела фигура женщины была красивой и необычайно привлекательной.
Он встал, походил по комнате, не отворачивая головы; ее глаза неотрывно следили за ним, но голова оставалась неподвижной, и ни одного движения ее тела он так и не увидел.
«Какой взгляд!» – подумал он, стоя посредине комнаты, и машинально пригладил свои редкие волосы.
Наконец он произнес:
– Сейчас сварю кофе, – и по-прежнему не смог даже шелохнуться.
Неожиданно на кухне загремела посуда, и он метнулся туда в надежде, что, может быть, именно сейчас все разъяснится. Там он увидел кота, гонявшего пустую миску по полу. «Проголодался, – подумал Василий Трофимович, – хотя такого еще не было, чтобы кот просил кушать среди ночи».
Быстро сварив кофе и почти бегом, чуть не споткнувшись о порог кухни, но все-таки удержав равновесие, вбежал в комнату с кофейником и двумя чашками. Пора было решительно разобраться в сложившейся ситуации. Но… в комнате никого не было, хотя вся двуспальная кровать была смята, а одеяло лежало на полу.
Василий вернулся на кухню, налил себе кофе и стал вспоминать вчерашний вечер: «Ничего особенного вчера не было: посидели в кафе с сослуживцами, как и каждую пятницу, попили кофе, съели по паре пирожных и разошлись. Никакого алкоголя, никаких женщин. Затем сидел в порту. Путь до дома не помню, хотя тоже вроде без каких-либо событий. Дома лег спать – и все!»
«Померещится же такое! Ну как наяву! А женщина красивая, – подумал он. – И вроде я уже видел эти глаза».
Он стал вспоминать всех своих знакомых женщин: с кем работал, учился, командировки, поездки в отпуск, но никого похожего не было. «Может, галлюцинации? Надо выбросить все это из головы и больше об этом не думать, а то действительно свихнешься», – подумал он и на этом успокоился, отметив про себя, что шерсть на коте стояла дыбом и что мяукал тот как-то уж очень недружелюбно, да и кот, скорее, не играл с миской, а раздраженно швырял ее по кухне.
Опять вспомнилось детство, мама. Отца он не помнил.
Когда врачи сообщили, что мальчик родился с отклонениями и, скорее всего, они будут прогрессировать и дальше, отец стал убеждать маму оставить ребенка в роддоме. Мама наотрез отказалась расстаться с новорожденным сыном, и отец ушел из семьи. Позже, через несколько лет, когда он, так и оставшись одиноким, начал пить, он хотел вернуться в семью, но мать даже слушать его не стала. Она считала его уход предательством и простить этого не смогла. Опасения врачей оказались чересчур пессимистичными, и мальчик вырос вполне нормальным человеком, хотя и не без странностей. «А у кого их нет?» – думала мать. Он был чудаковат, доверчив и прост. Ни разу не был женат: отношения с женщинами как-то не складывались, все искал какого-то идеала – идеала не внешности, а души, – может, оттого, что всех он сравнивал с мамой, которая была для него идеалом, а никто не был даже близко похож на нее.
Наконец, немного придя в себя, помыл чашки и кофейник, в комнате отодвинул штору на окне, чтобы не было очень темно, лег в кровать и снова уснул.
Рассвело. Солнце заглянуло в окно комнаты, и Василий Трофимович проснулся. Оглядевшись по сторонам и ничего особенного не заметив, обнюхал кровать и вторую подушку: никакого запаха косметики и женского тела не почувствовал. Решил, что все-таки это действительно был только сон, а не какие-то галлюцинации и ничего мистического этой ночью не было, да и не могло быть.
Уже полностью успокоившись, он заправил кровать, умылся, выпил чашку кофе и сначала решил подмести и вымыть пол. На сегодня у него еще были запланированы стирка и поход в магазин за продуктами на неделю. Он уже давно привык все делать по дому сам и не испытывал неудобств от отсутствия женщины в доме.
Каково же было его удивление, когда он вымел из-под кровати… клипсу. Поднял и, сев на кровать, долго смотрел на нее.
Наконец решительно сказал себе: «Сон! Все! Проехали! Надо делами заниматься», – и положил клипсу в один из ящиков комода.
Следующая неделя прошла без каких-либо событий; о ночном случае он ни разу не вспомнил.
В пятницу, идя как обычно из порта домой, он в какой-то момент почувствовал, что за ним наблюдают. Посмотрел по сторонам, оглянулся назад: нет, никто на него не смотрел. По улице шла компания из трех мужчин, и они были увлечены разговором и торопливо удалялись в противоположную сторону.
Пройдя еще немного вперед, он почувствовал, что ощущение наблюдения за ним исчезло. Он вернулся назад и снова понял, что за ним следит чей-то взгляд. Паника охватила его, и, добежав до перекрестка и свернув за угол дома, он немного постоял, затем резко выглянул на улицу: никого. Так он проделал несколько раз и с тем же результатом. Наконец, сказав себе: «Да это же сумасшествие какое-то! Возьми себя в руки!» – вышел из своего укрытия и снова пошел по улице к дому, разглядывая по сторонам витрины магазинов.
И вдруг… их взгляды встретились – той ночной гостьи и его. Он стоял около магазина женской одежды, и на него смотрела… женщина-манекен – смотрела нежно и удивленно. Брюнетка, фигура идеальная, одета неброско, но элегантно, одна нога у нее стояла на подставке и была согнута в колене. Черные чулки! В какой-то момент взгляд ее стал теплым и влюбленным. В правом ухе у нее была клипса, в левом – ничего! Он, сломя голову, побежал домой, с трудом разыскал в комоде найденную под кроватью клипсу и быстро вернулся к магазину. Войдя туда, сделал вид, что разглядывает продаваемый товар, даже не заметив, что мужской одежды в магазине нет. Дождавшись, когда на него перестанут обращать внимание, подошел к манекену. Он слишком долго завозился около манекена: клипса никак не хотела прикрепляться на прежнее место. Наконец девушка-консультант подошла к нему:
– Мужчина, что вы делаете с манекеном? – удивленно и недружелюбно спросила она.
– Да вот смотрю: на полу лежит. Решил обратно на манекен повесить. – И он показал клипсу.
– Спасибо, не надо, я сама повешу, – сказала консультант.
Он шел домой в отличном настроении и что-то еле слышно напевал.
Всю ночь он не ложился спать: все ждал, не появится ли она опять, как неделю назад. Она не появилась.
В ту ночь в его жизни появился смысл, и он подумал, что даже безответная любовь может сделать человека счастливым!
Он уснул только под утро и спал полдня, улыбаясь и что-то иногда говоря во сне. Ему снилось ночное море в лунном свете и он – он с ней, с любимой, в маленьком утлом суденышке, которое только чуть касалось гребешков волн; волны нежно передавали лодку одна другой, уводя все дальше и дальше от берега к горизонту, помогая двум влюбленным догнать зашедшее солнце, чтобы эта ночь любви никогда не кончалась, чтобы время остановило стрелки часов на этом мгновении и мгновение превратилось в вечность – вечность любви.
– Ты только мой? – спросила она.
– Да! Только тво… – не успел договорить он и проснулся.
Одевшись, счастливый, он побежал к магазину. Все было по-прежнему, как и всегда. Он ясно видел, что она чуть улыбнулась ему, и тихо сказал: «Доброе утро, любимая». Клипса видна была только одна: ту, что он нашел и принес, закрывали волосы.
С этого дня для него началась новая жизнь: с утра он, проходя мимо нее, говорил ей: «Доброе утро», – а вечером подолгу стоял напротив магазина на противоположной стороне улицы и смотрел на нее, про себя беседуя с ней, так, ни о чем, как умеют говорить только влюбленные.
Он по-прежнему ходил по пятницам к морю и представлял, что они вдвоем, обнявшись, смотрят на горизонт. Теперь он радовался не только бушующему, но и спокойному морю. Буря? Буря чувств была у него в душе!
– Мы когда-нибудь уплывем далеко-далеко? – спрашивала она.
– Да, любимая, обязательно! – отвечал он.
Так продолжалось почти полгода, когда в один из серых ненастных дней он увидел на витринном стекле магазина надпись «Ремонт», на витрине ничего не было, а внутри магазина суетились рабочие.
Он зашел внутрь и спросил, ни к кому конкретно не обращаясь:
– Надолго ремонт?
– Месяц, может, два, – ответили ему. – Вот только магазин будет не одежды – другой, а какой, не знаем.
Он на какое-то время остолбенел и, только придя в себя, спросил:
– Переехал?
– Нет, ликвидирован, – ответили ему.
– Как же так? А где все: прилавки, шкафы и другое? На свалку вывезли?
– Нет еще. На заднем дворе пока свалили.
Он оббежал дом и сразу увидел ее, лежавшую рядом с кучей столов, стульев и другого имущества бывшего магазина. На ней не было ничего – только чулки и клипсы; не было даже парика; накрашенные глаза растеклись по лицу. Он прикрыл ее раздвинутые ноги какой-то тряпкой и посмотрел ей в глаза: взгляд был не бездонный, как раньше, в котором его душа могла утонуть и раствориться вся без остатка, а пустой и бессмысленный.
Он встал на колени рядом с ней, прикрывая ее от дождя своим пиджаком, прижал ее голову к своей груди и немного покачивался, как убаюкивают ребенка. Он укачивал свою судьбу, стараясь заглушить тоску.
Прохожие с удивлением смотрели на плачущего мужчину, прижимающего и целующего голову манекена. Не замечая никого вокруг, он чувствовал только одно: стремительно надвигающееся одиночество, быстро и неотвратимо опустошающее душу.
Смеркалось. Моросящий дождь насквозь промочил его. Он снял на память клипсы и, сгорбившись, старческой походкой побрел домой.
Ночью его лихорадило, поднялась высокая температура, он бредил и метался по кровати. Проболев почти два месяца, он уехал из города.
– Вот и скажите, уважаемый попутчик, мог ли я не уехать хотя бы на время из этого города, и не мистика ли это? – спросил мой попутчик.
– Да, история! – удивленно сказал я, не зная, что ему ответить.
– Я могу показать клипсы, – сказал он.
– Не надо. Я вам и так верю.
– Я все-таки покажу, тем более что я сам, как снял и завернул в платок, больше их и не видел, – настаивал он.
Он долго рылся в чемодане, наконец, достал платок, завязанный уголками, как когда-то делали наши бабушки, положил на столик и развернул.
Мы оба стояли и удивленно смотрели на клипсы.
Клипсы были разные…
Не навреди
В длинных больничных коридорах было тихо и безлюдно. Случайный посетитель, окажись он в это время в данном месте, а на часах, висевших на стене напротив стойки дежурной, было уже два часа тридцать семь минут дня, не догадался бы, что за пациенты находятся здесь и от чего лечатся. Был тихий час. Каждый из больных перед сном получил свою дозу психотропных лекарств, и таким образом достигалась эта тишина и спокойствие. Редкий пациент в белой в коричневую полоску пижаме тихо босиком боязливо пробегал на цыпочках по коридору в туалет, затравленно косясь на дежурную медсестру, будто ожидая от нее выстрела в спину.
И только искушенный наблюдатель, увидев, что нет-нет да и проходили по больничным коридорам медбратья крупного телосложения с закатанными рукавами халатов, и заметив на окнах решетки, догадался бы о том, что судьба каким-то лихом занесла его не иначе как в психиатрическую больницу, а говоря по-простому – что само по себе свойственно русской душе – в психушку.
Впрочем, случайных людей оказаться здесь никак не могло, кроме разве что самих врачей, которые после окончания медицинских институтов попадали сюда, пытаясь или по недопониманию, или по какой другой оказии выполнить священную, но невозможную миссию: вылечить несчастных психически больных людей, а в крайнем случае слегка подправить им мозги, чтобы далее они могли жить на благо общества, которое само не знает, чего хочет, и само имеет все признаки неадекватности. Хотя надо честно сказать, что сами пациенты себя несчастными не считали, и если и случались у них рецидивы: тоска во взгляде, проявление агрессивности и прочее, то половина или целая таблетка какого-нибудь желтого или зеленого цвета, добавленная им при плановой раздаче лекарств, снова возвращала обстановку в больнице в состояние, близкое к гармонии. Также надо отметить, что ни у одного врача данного заведения или подобного ему никакой справки о том, что он психически нормальный человек, не было. Такой бумаги и быть не могло, поскольку сама психиатрия смутно представляла себе, где находится та грань состояния разума, за которой наступает ненормальность. Молодые врачи вскоре после начала работы в таком месте начинали осознавать, что само понятие «здоровые мозги» довольно условное и граница, отделяющая здоровых людей от психически больных, достаточно расплывчата. Для пациентов было большой удачей, если врачи в своей работе придерживались бы принципа «Не навреди» и не более.
У психиатра Максима Максимовича, вчерашнего студента, сегодня был первый рабочий день в областной психиатрической больнице. До обеда время ушло на то, чтобы оформить все необходимые документы для начала выполнения своих прямых обязанностей, представиться своему непосредственному начальству, и в этот час тишины по больнице он, сидя за письменным столом в выделенном ему кабинете, закрыв дверь в коридор, обедал тем, что принес из дома. Он был среднего роста, с добрым, располагающим к себе лицом, слегка округлого телосложения, но не полный, любил вкусно поесть, оптимист по натуре, свято верящий в медицину как науку, в то, чему его научили в институте, и в свою миссию помочь всему человечеству стать вменяемым. В выборе своей профессии он пошел по стопам родителей: отец, Максим Аркадиевич, высокий худощавый человек с твердым взглядом и категорическими суждениями, когда-то работал в этой же областной больнице, но ближе к пенсии перешел на работу в психоневрологический диспансер; мать, Зинаида Евгеньевна, тоже когда-то работала психиатром, женщина с покладистым характером, добродушная, немного полноватая, изначально расположенная положительно ко всем новым людям, которые встречались на ее жизненном пути, была уже на пенсии и, зная склонность и отца, и сына вкусно поесть, увлекалась изучением тонкостей кулинарии и, надо отметить, небезуспешно.
В дверь неожиданно постучали, и в кабинет к молодому врачу вошел Александр Алексеевич Кошкин, заведующий отделением, добродушный человек, крупного телосложения, высокий, движения его были медленными и плавными, лет сорока пяти, и, как заметил Максим, с постоянно извиняющейся улыбкой. В руках он держал пачку каких-то документов.
– Хотел, Максим Максимович, послать к вам медсестру с недостающими документами больных, но решил зайти сам, – медленно, нараспев проговорил заведующий. – Вы, как я вижу, обедаете? Извините, если помешал. Кстати, чуть позже подскажу вам, где рядом с больницей можно дешево и быстро поесть.
– Да нет, Александр Алексеевич, нисколько не помешали, – ответил, чуть смутившись Максим, пряча в стол недоеденный бутерброд. – А вот если бы вы подсказали мне, на каких пациентов следует обратить особое внимание, то был бы весьма вам признателен.
– Конечно! Пожалуйста! В основном случаи тривиальные – шизофрения, и вы легко в них сориентируетесь, – он ненадолго задумался. – Разве что обратите внимание на Марию Леонидовну Голубеву. Она поступила к нам всего три дня назад тоже с диагнозом шизофрения по направлению врача из психоневрологического диспансера, но насчет этого у меня есть сомнения. На мой взгляд, у нее возможно просто переутомление – все-таки учится на философском факультете – будущий светило философии, так сказать! Но нельзя все-таки оставить без внимания заключение из диспансера. От приема лекарств не отказывается, да и назначил я ей пока только успокоительные и витамины. Приглядитесь к ней. Она и как женщина очень интересная, но уж с сильно замороченными идеями: то ли они – эти идеи, от большого ума, то ли они за гранью бреда. В общем надо еще разобраться. Впрочем, сами увидите: у вас по графику сегодня беседа с ней. Так что, как говорится, держите ухо востро, но попотеть придется: при внешней общительности, подозреваю, что человек она закрытый для других. Ну, я убежал, а вы тут осваивайтесь. Кстати, как поживает Максим Аркадиевич с супругой?
От такого резкого перехода в разговоре Максим растерялся и не мог сообразить, о ком речь. Он молча и удивленно взглянул на начальника.
– Отец с мамой как поживают? – снова спросил Александр Алексеевич.
– Да вроде все хорошо у них, – сказал Максим.
– Кстати, отец не рассказывал, что мы с ним раньше работали вместе?
– Нет! – ответил молодой человек.
– Это он, наверное, специально, чтобы вы на поблажки в работе не рассчитывали, – улыбаясь, сказал Александр Алексеевич. – Хороший он человек и специалист прекрасный. Как-нибудь выкрою время да зайду к вам в гости.
Александр Алексеевич вышел из кабинета, тихо закрыв за собой дверь. Максим нашел в стопке папок документы Голубевой и стал их просматривать, достав из стола недоеденный бутерброд.
После тихого часа начались беседы с пациентами, четвертой оказалась Мария Леонидовна. Постучав в дверь кабинета и чуть приоткрыв ее, спросив: «Можно?», она, не дожидаясь ответа, вошла и села напротив Максима Максимовича, закинув ногу на ногу и сложив руки на груди. Молодой врач молча посмотрел на нее. Перед ним сидела явно умная женщина, среднего роста, худенькая и стройная, с красивыми большими серыми, с поволокой, глазами. «Такая вполне бы подошла на роль роковой женщины», – мелькнула у него мысль. Она в свою очередь тоже внимательно, с явным интересом и несколько бесцеремонно разглядывала его. На коротеньком халате две верхние и две нижние пуговицы были расстегнуты, что, наверное, сводило с ума всю мужскую половину пациентов отделения. На взгляд Мария Леонидовна была его ровесницей. Когда она отняла руки от груди и положила их на ноги, он отметил про себя, что обручального кольца не было у нее ни на правой, ни на левой руке, и тут же заметил, что она мельком тоже взглянула на его руки. Максим почувствовал, что она ему нравится. «И это с первой же встречи? Да к тому же я ее врач!» – подумал он, удивившись.
– Ну что же, Мария Леонидовна, давайте знакомиться. Я ваш новый…
– Я знаю, – решительно перебила его пациентка и, ничуть не смущаясь, продолжила: – Все женское отделение уже в курсе, что у нас новый, молоденький и симпатичный психиатр.
От таких слов Максим сильнее обычного качнулся на стуле – такая у него была привычка – и чуть не потерял равновесие, но удержался и не упал. Он с досадой на самого себя слегка покраснел: по молодости лет он еще не имел достаточного опыта общения с женщинами.
– О! Вы даже еще краснеть не разучились? – смеясь, сказала Мария Леонидовна. – Ну, уж извините, что смутила! Ладно, начинайте! Доставайте ваши тесты для шизофреников. Начнем беседу, только учтите, что я могу ответить и как шизофреник, и как вполне адекватный человек.
– Откуда такая самоуверенность? – спокойно спросил молодой врач. – Может, вы психиатрию изучали?
Мария Леонидовна сделала вид, что не расслышала вопроса, и молча продолжала сидеть, разглядывая кабинет. Подождав некоторое время и поняв, что ответа он не дождется, Максим Максимович, начиная понимать характер этой женщины и внутренне уже признаваясь себе, что взять инициативу в общении будет не так-то легко, уже более твердым голосом спросил:
– Не хотите отвечать на мой вопрос – не отвечайте, забудем о тестах, но в таком случае предложите сами тему нашего разговора, которая вас бы заинтересовала.
– Да мало ли? Например, откуда появляются мысли в голове человека?
– Хорошо! – согласился Максим Максимович, и они начали разговор.
От напряжения и молодого азарта он не мог усидеть на месте и, беседуя, энергично ходил по кабинету, размахивая руками, высказывая свои мысли и приводя аргументы. Тем не менее, он понимал, что говорит не очень убедительно: Мария Леонидовна, спокойно сидя в кресле, одной-двумя фразами сводила все его рассуждения к нулю.
Максим Максимович наконец перестал расхаживать по кабинету, присел за стол и с удивлением заметил, что они с пациенткой поменялись местами: Мария Леонидовна сидела на его месте и, как ему показалось, уютно там себя чувствовала. В этот момент в приоткрывшуюся дверь заглянул Александр Алексеевич. Заведующий отделением быстро оглядел кабинет и с иронией спросил, обращаясь не к врачу, а к пациентке:
– Когда прием продолжать будете, к вам уже очередь выстроилась?
Максим, сделав вид, что не заметил усмешки начальства, тут же ответил:
– Извините, заговорились, сейчас продолжу прием.
Проводив Марию Леонидовну до дверей кабинета, он вышел в коридор, чтобы как-то оправдаться перед начальником, но Александр Алексеевич, улыбаясь, подмигнул Максиму и тихо сказал:
– Я предупреждал: пациентка еще та! Смотрите, не влюбитесь!
Максим Максимович, успокоившись, продолжил прием пациентов, но молодая женщина не выходила у него из головы. И не потому, что она оказалось умнее его в философских вопросах – это было нормально; он был уверен, что в своей профессии – в психиатрии, он в свою очередь знает гораздо больше нее. Что-то вынуждало его продолжать думать о ней, и эти мысли грозили стать навязчивыми. «Так и самому можно оказаться пациентом этой больницы», – усмехнувшись, подумал Максим.
Закончился его первый рабочий день, но он задержался в кабинете допоздна, приводя в порядок бумаги, накопившиеся за день, и вышел на улицу, когда уже начинало темнеть. До своего дома ему надо было проехать всего две короткие остановки на автобусе, но Максим, постояв немного у выхода из больницы, решил пройтись пешком напрямую через городской парк, примыкавший к территории больницы; автобус объезжал его вокруг. Стемнело. Медленно, уже не направляясь к дому, а гуляя по ночным аллеям, он продолжал думать о Марии и неожиданно заметил, что и в городе с его запыленностью можно видеть звезды: вспыхнула одна звездочка, другая, всего он насчитал их пять. «Пусть их мало, но тем они ценнее для человека, напоминая, что в жизни помимо работы есть еще целый мир – бесконечный мир чувств, который открыт для души каждого, и может быть, он гораздо важнее ежедневной суеты и безоглядной спешки куда-то?..» – думал Максим, удивляясь тому лирическому настроению, которое охватило его.