Читать онлайн Сердца. Сказ 3 бесплатно
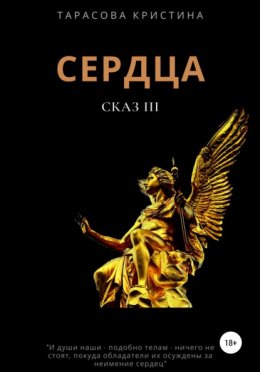
Женщина
Я счастливая.
Нашёптываю это в контексте нелепое созвучие, дабы не свести крестом руки на груди. Пытаюсь проснуться, но сон оказывается явью. Либо же крепко сплю: стоит зажмуриться и открыть глаза, правильно? Когда же? Когда я проснусь?
Я счастливая?
Не понимаю, что происходит. Не понимаю, как долго это длится. Я ничего не понимаю.
Пантеон скорбит?
Жена скорбит.
Безвольно выбираюсь из транспорта и шагаю к паразитическим стенам Монастыря. На меня взирают – из каждого окна, покрытого решётчатыми створками – прекрасные девы, и даже близ находящийся и готовящийся к отправке конвой замирает, чтобы поприветствовать. О чём говорили все эти люди всё то время, что я отсутствовала? Успели сложить немыслимые легенды? а вычурно высмеять? Я, не зная никого, ненавидела всех. Чувство, с которым столкнулась в истине Тел и рассталась в истине Душ, вновь давало о себе знать; что могло ожидать в эпилоге моей жизни?
И я встречаюсь с встречающим меня Хозяином Монастыря.
Он раскрывает объятия, на что девочки подобно щебечущим пташкам перешёптываются друг с другом через окна, и вальяжно бредёт навстречу: улыбается, улыбается во всю силу. Лицо его берёт судорога в тот момент, когда мужчина разглядывает платье на мне – чёрное, с измятым подолом и кровяным багрянцем на рукавах, который сделал ткань твёрже и темнее и придал ей металлический аромат. Выделанная улыбка изгибается в противную ей, а руки – крылья – ударяют по швам подобия камзола. Ян останавливается.
У него хватает сил едва слышно выпалить моё имя. И только. Я же разрезаю оставшееся меж нами расстояние и молчаливо – почти безмятежно – ожидаю дальнейших речей. Но говорим не мы; говорят стены Монастыря, говорят выглядывающие послушницы, говорят обслуживающие, должные робкими взглядами тонуть в хозяйских ногах. Говорит весь мир, а мы – глядя друг на друга – молчим.
– Богиня… – как вдруг приветственно отталкивает Ян, но я не позволяю неприятно-липким речам (мёд – тоже неприятно-липкий) разливаться далее; награждаю краснослова пощёчиной и стальным взглядом.
Послушницы, до того расходившиеся в беспрерывном улюлюканье, затихают. Затихают и земли Монастыря, погружаясь в привычную им атмосферу безмолвия и неспешности. Эта тишина обняла меня, когда я впервой шагнула к монастырским землям из доставившего меня с отчего дома конвоя. Поразительная тишина, подозрительная тишина, настораживающая. Место с пребывающими там десятками прекрасных созданий не должно молчать.
Подглядывающие послушницы пугаются от непонимания и незнания грядущего. Некто посмел использовать силу против самоотрешено использующего силу по отношению к ним. Хозяина Монастыря трогать нельзя никому из послушниц и потому послушницы – после увиденного – вняли: явилась не одна из них.
Ян показательно сплёвывает нам под ноги и говорит:
– Не стоит спрашивать, как у тебя дела?
– Находишь это забавным?
Хозяин Монастыря бормочет, что поступать так, как поступила отбившаяся от мужских рук женщина, не следует.
– Если боишься за авторитет, – отвечаю я, – напрасно нагнал на дом Солнца свору ручных псов. Вот показатель, вот твоё истинное лицо.
– Ты переживаешь? – холодно бросает Ян, а мне от этих слов хочется разве что скулить. Переживала ли я…? Переживала и переживу, вот в чём беда. – Бог Солнца так просто отпустил тебя? – вопрошает следом (и поджигает тем самым утаенный фитиль). – А чувства вы разыгрывали весьма убедительно. Почему же он так поступил?
Молчу.
Молчу, потому что говорить не могу. Не могу отвечать, не могу понять. Что он имеет в виду? Теряю дар речи на скоблящие нас секунды, а затем впопыхах выпаливаю:
– Что ты хочешь этим сказать?
– Он отпустил тебя и всё? В этом проявились все ваши наигранные и блестяще отыгранные чувства?
Я заношу вторую руку для второй пощёчины, но Хозяин Монастыря ловко прихватывает за запястье, утягивает к себе и, прижавшись губами к виску (смотримся мы как обнимающиеся после долгой разлуки), процеживает:
– Ещё только раз, Луна. Боги немилостивы, они любят карать. Тебе ли это не знать…
Он отталкивает меня и в следующую секунду велит следовать.
Что происходит?
– Понимаешь ли ты, что сотворил? – спрашиваю я у склоняющегося –уже в кабинете и над бутылью – лица.
– Вернул своё, – наотмашь бросает Ян и лакает пойло. – То, что не должен был отдавать, – а следом выплёвывает каждое слово по отдельности, – то, чем не следовало делиться; даже мысль допускать подобную.
Делиться…
– Это стоило его жизни?
– Прости?
Ян замолкает и пить прекращает: зубы ударяются о стекло, а напиток плескает по рубахе.
– Твои забавы с самим с собой того стоили? Изрывающая твоё нутро война должна была становиться внешней и касаться нас?
– Что ты сказала до этого? – дрожащим – ставшим таковым в секунду – голосом вторит Ян и медленно опускает дребезжащий меж пальцами стакан. – Чьей жизни стоило?
Я отказываюсь в это верить.
Он не может не знать. С его руки были кормлены псы, разорившие резиденцию Солнца. По его гласу Бог Солнца оставил пантеон. Или нет?
– Повтори, Луна.
Говорит обыкновенно властно. Но я молчу.
– Повтори, Луна.
В этот раз просит, скулит сам.
Дни дороги (дни, за которые конвой доставил меня к монастырским землям) наполнялись разрозненными чувствами: то я обрастала тоской и ненавистью, то выпытывала скорбь и отчаяние. В один момент все чувства столкнулись друг с другом и перестали ощущаться вовсе. Мне казалось, мысли пережуют голову и выплюнут сердце. Грудь распирало, ключицы трещали, но выходить оно не желало. Не желало. Каждое слово, каждое действие, каждая мысль – всё это перегнивало и перегнило внутри меня. Ком желчи застрял в горле, а траур – во взгляде.
– Значит, – убийственно спокойно заключаю я и прохожу к обыкновенно распахнутому окну, – его смерти ты не желал.
– Чьей смерти? – путается Хозяин Монастыря
– Однако добился смерти сразу двух. – Вздыхаю. – Вот только его с нами физически нет, а я продолжаю давиться воздухом. Где справедливость, Бог земных удовольствий?
– Гелиос мёртв? – в ужасе спрашивает Ян и валится в кресло напротив рабочего стола. Истинно в ужасе. Нет в том наигранности или фальши. Лицо бледнеет, глаза же наливаются.
– Гелиос убит, – поправляю я. – Всерьёз считаешь, что он мог отпустить меня? А теперь хорошенько обдумай сказанное о нём и помолись.
Я – почти отчаявшись – улыбаюсь и сажусь подле окна, поджимаю к себе колено, а чёрная ткань сползает по подоконнику и укрывает собой пол. Ян не отражает сползающий по моим губам яд; пронзительно смотрит и встряхивает головой. И повторяет, и повторяет, и повторяет – то неправда. Не могло так произойти. Не могло это случиться. Я вру. Я врунья, так просто.
– Муж не научил тебя не лгать? – пытаясь посмеяться, говорит Хозяин Монастыря, но голос выдаёт – выдаёт! – неконтролируемые вибрации.
– Муж научил бы меня большему, не вмешайся один обиженный мальчишка…
И обиженный мальчикша, вобрав всю силу и по крупицам восстановив коктейль спокойствия и равнодушия, спокойно и равнодушно перебивает:
– Оставь свои личные обиды, новоиспечённая богиня, и ответь по существу. Что случилось? Твоя злость имеет основания?
Имела ли моя злость основания?
– Ты спрашиваешь, – говорю я и пытаюсь преодолеть желание вспороть мужское брюхо ножом для конвертов. – Ты ещё и спрашиваешь…О, Ян, будь у меня возможность пустить в твою голову пулю – я бы воспользовалась ею. Я бы, – поднимаюсь и шагаю навстречу, напираю над креслом и едва не врезаюсь в лицо, нависаю, отталкиваю, гипнотизирую: – Месть не приносит спокойствие душе, но она приносит справедливость в мир. Ты так не считаешь? Сначала мне хотелось – знаешь, стало так больно – окропить земли Солнца собой, – и я коснулась собственного виска – парой щелчков, – вот только пуль не осталось, ни одной.
– Что ты такое говоришь, – дрожит Хозяин Монастыря.
– Он уже боли не чувствовал, а меня оставил с нею. Нечестно, но вины его в том нет. Виноват ты. Ты его убил.
– Я не мог.
– Твои люди это сделали. Кровь на твоих руках, они признались.
– Нет, – отталкивает Ян и отталкивает меня, поднимается и шагает по кабинету. – Просто скажи, что ты лгунья, пытающаяся выжить меня из ума. Просто скажи…Он тебя отправил, да? Свести с ума и вернуться в резиденцию. Да?
– Его уход что-то значит для тебя?
– Я не давал указаний, – спорит Хозяин Монастыря. – Даже не думал. Очнись, Луна. Никогда бы, – поспешно оправдывается, как вдруг хватается за голову и кричит. Резко, быстро, остро. Просто крик. Переводит дыхание и выпускает пар вновь: кричит. Рёв заставляет стены кабинета пошатнуться, а окружающую тишь стать ещё более замкнутой.
Мне доводилось слышать женские крики: вопли, стенания, рыдания, плач. И никогда ещё – мужские. Пугающий гул, что разрезает грудную клетку; хочется провалиться, сбежать, исчезнуть.
– Стало легче? – спрашиваю у остановившегося.
Мы были не на равных: я пребывала с мыслью, что Гелиоса больше нет, несколько дней, он же – несколько секунд. А потому я и только смела препарировать его нутро. Ко мне осознание уже пришло, к нему же наведается позже.
– Кто посмел? – режет Хозяин Монастыря. – Кто это сделал?
– Щенок, что однажды привёз меня к тебе. Хвалившийся знатным папочкой и называющий себя «правой лапой Босса».
– Лука?! И где он?
Мужчина рычит, подготавливая упомянутому мщение и казнь.
– Не с нами.
Острый взгляд велит продолжать.
– Думаю, ты простишь эту потерю и себе, и мне.
Берёт за плечи и злостно сжимает.
– Ты убила его, Луна?
– А что ещё оставалось? Застрелила. Пока он полз под платье жены на глазах у раненного мужа.
Несколько дней пути позволили перегнать эту мысль множество раз; я так часто проигрывала её, что в итоге свыклась. Осталось лишь гнусное послевкусие. Тысяча несказанных слов и столько же не совершённых поцелуев саднили по горлу и губам.
– Надеюсь, ты пересмотришь прислуживающих тебе?
– Как ты можешь об этом думать? – причитает мужчина. – Как ты можешь об этом говорить?
– И Гумбельт письма твои не сжёг. Ни одно из. И все их я прочитала. Как и прочитала ответы. Я всё знаю, Ян. Зачем ты так? Зачем ты убил его?
И вдруг – что я вижу? – он плачет. Сползает на пол, словно бы растекается по нему, а глаза наливаются и пускают излишки влаги.
– Не может быть, – выдыхает Ян и прибивает себя кулаком по лбу. – Нет-нет-нет-нет-нет…Не может быть. Гелиос…
Я хочу верить, что раскаяние его истинно, но намеренно отказываюсь это делать, дабы окропить виноватого желчью произошедшего. И призвать к ответу за мужа.
– Змея! – вдруг восклицает Ян и показывает на меня. Он весь – то неожиданно – в слезах. Не думалось мне, будто Боги плачут. – Ты – змея! Ты, Луна, привела к тому! Ты! Погубила…
И он объясняется на старом наречии, что я забралась в сад и подразнила, а затем надкусила яблоко и выплюнула его.
– А ты поддался слабости и натравил борзых на дом Солнца, – плююсь в ответ.
– Я был слеп!
– И есть сейчас! И будешь, и таковым уйдёшь из мира. Это я тебе обещаю. Это я тебе пророчу.
– Меня ты тоже гонишь из него? Чего ты добиваешься, Луна? – выкрикивает Ян и смахивает с лица только что мной виданное, резво поднимается и наступает.
Мы становимся по разные стороны его рабочего стола. Только я со стороны – кресла и управляющего, а он – послушно высказывающегося.
– Чего добивался ты, Ян? И чего добился?
Я лишь хотела, чтобы мантра «я счастливая» была истиной, а не жалким призывом. Я была счастливой. Почему не понимала этого в моменте? Почему не осознавала, а принимала должным?
– Сначала ты забрал меня у моей семьи, – объясняюсь я, – затем у моего супруга. Ты отнял у меня сестёр, самого себя и следом мужа. Чего Ты добивался?
Я выпаливаю то резко и грубо и в ту же секунду кабинетные двери распахиваются. Очередная сладкоголосая девочка рассыпается в извинениях и просьбах: она не хотела мешать разговорам господ, однако неупомянутой послушнице требовался взор Отца. Что это всё, черт возьми, значило? Ян ругается и проклинает всех послушниц до единой, сгребает со стола бумаги и стаканы и швыряет их на пол. Настойчивая девочка молит прислушаться и взглянуть. В её ноги прилетает бутыль: вино окропляет телесные чулки.
За время моего пребывания в Монастыре Хозяина никогда не вызывали обыкновенные послушницы. До чего опустился этот человек? К чему пришёл?
Он рвётся за сладкоголосой, а я по привычке «следовать за Гелиосом» устремляюсь хвостом. Моё присутствие подле отцовских плеч удивляет присутствующих в комнате дев. А нас удивляет поведение одной из них.
Сибирия.
Сидит у стены, свернувшись в ком, и, глядя на решётку окна, руками показывает молитвы. Ян велит остановиться – женщина даже не смотрит. Тогда Ян злобно скалится и размыкает соединённые ладони, на что Сибирия складывает их обратно. Ни на кого из присутствующих внимание своё она не обращает. Я зову женщину по имени – оказывается глуха. Как и к Хозяину Монастыря, так и к окружающим её девочкам. Ян припадает на колени и в кулаке сжимает челюсти обезумевшей. Он поворачивает её на себя, но пустые глаза проходят сквозь. Я наблюдаю, как треснутые губы нашёптывают о чём-то. Сибирии с нами – что очевидно – больше нет.
– В лазарет её, – хмыкает Ян и быстро смотрит на меня. – А тебя к священнику.
Я проглатываю обиду. Благо, никто из девочек укол не понимает; последнее слово утратило своё значение в новом языке и употреблялось только на старом наречии.
Будучи в кабинете, холодно предлагаю:
– Усыпи её.
Мужчина быстро осушает стакан и, подвывая в рукав рубахи, бегло смотрит на меня.
– Не понял?
– Понял. Всё ты понял. Как с отслужившей своё кошкой. Перепродать эту радость не получится, ибо съехавший ум ума здоровому не добавляет, а выполнять свою работу она уже не в состоянии. Усыпи, – издеваюсь я. – Ты же так с ними и поступаешь! Ласкаешь, зовя на колени, гладишь, а в случае чего – бьёшь и наказываешь. Стерилизуешь их, дабы котята не ползли по Монастырю, и отдаёшь другому Хозяину, когда видишь приближающуюся старость. Усыпи её.
Он видит смысл в этих словах, но за провокацию их не считает. Лишь признаётся:
– Сибирия была первой. Первой, кого я предал и продал. Первой из тех, кого я скормил Монастырю. Она не смогла оправиться и навсегда осталась в роли показываемой послушницы. Но никогда таковой не была. Нет, не была!
Мужчина ударяет кулаком по столу и следом выуживает портсигар. Закуривает и предлагает мне. Я сжимаю сигарету меж зубов, так и оставляя её не подожженной.
– Где Ману?
– У чёрта, – пренебрежительно швыряет Ян.
– А в координатах?
Хозяин Монастыря поднимает на меня уставший взгляд и, дёргая бровью, шипит:
– И как он тебя терпел? Выучила пару новых слов и, думаешь, уже никто тебе не ровня?
– Дело не в словах, но ты прав, – щеголяю я. – А вот что касается терпел-не терпел…есть такие, кого наличие природного ума у женщины не смущает и не стесняет. И недоступность – привлекает, а не заносчиво свербит по эгоизму.
– Да, именно поэтому он и согласился на Сибирию. Первую первому. Ты знала?
Я принимаю колкость, но вида не подаю. Если то правда – мне не в чем попрекать супруга. Однако их прошлое, их многолетняя дружба, многолетнее общение, всё это подтверждается. И бесконечные связи, бесконечные козни –всё это мне неизвестно. Всё это чуждо…
– Ошибки прошлого, – спокойно пожимаю плечами. – Когда-то и я хотела связать свою жизнь с недостойным.
– Ты засматривалась слишком далеко. Жизнь…! Неподвластное счёту явление. Но я сожалею, что вытравил тебя из твоего улья.
– Не представляешь, насколько сожалею я.
Мы замолкаем и обижаемся друг на друга.
– И всё же где Ману?
– Она сказала, если я потревожу Птичку, если вмешаюсь и преследования свои не оставлю, она уйдет. Я потревожил, вмешался и погнался. Она ушла.
– О чём же ты всё-таки думал? – вздыхаю в ответ.
– Ни о чём, – ревёт мужчина. – Напился и послал конвой. Я даже не помню, о чём говорил и кому. Ману рассказала об этом на утро; добавила, что вконец разочаровалась и хлопнула дверью.
– Хочешь сказать, смерть Гелиоса есть ошибка пьяного ума?
И я вдруг рассыпаюсь в слезах. Обещая самой себе эмоции Хозяину Монастыря не показывать, рассыпаюсь. Бегло утираю их и на протянутый платок не смотрю. Плачу. Ян позволяет выплакать всё: ждёт, молчит, наблюдает. Со вздохом выпаливаю, что ко всему произошедшему нас вытравил эгоизм. Эгоизм обеих сторон.
– Я не знал, Луна, правда, – продолжает мужчина и пытается выискать взгляд. – Я надеялся, что конвой вернётся пустым. Или вы прибудете оба и как следует встряхнёте и отсчитаете. Надеялся.
Глупая-глупая-глупая ошибка…
– А когда ты вышла одна, я решил, что он попросту отказался от тебя. Что вы издевались всё то время. Играли. Понимаешь?
– Вот уж удивительная вещь, – ядовито отвечаю я. – Но мир тобой одним не ограничивается, Ян; где-то происходит что-то (и вполне не связанное с Богом Удовольствий), прими факт. Не все, что делается – делается во имя тебя или против.
– Я думал, мы связаны…
– Я забыла тебя, – признаюсь наперерез. Вот так просто. – Не сразу, но забыла. Перестала вспоминать. Перестала думать. Перестала мусолить сказанные тобой слова у себя в голове, перестала искать им оправдания и объяснения. Потому что нельзя понять человека, который сам себя не понимает, слышишь?
Хозяин Монастыря вздыхает.
– Вот мы и вернулись друг к другу. В шрамах и с грузом на плечах, но вернулись.
Я поправляю:
– Наши с тобой прения не должны были касаться хорошего человека.
– Хорошего человека? Вот, что абсурдно. Луна, радость моя, – забавляется – в почти истерике – Ян, а я узнаю это проклятое обращение и всё внутри меня сжимается от досады и ужаса, – мы знакомы с Гелиосом дольше, чем ты живёшь на белом свете. «Хороший» – слишком поверхностное знание, не раскрывающее сути и души. Сердце он своё тебе вряд ли открыл, верно? Жена стала украшением дома, но не скрасила жизненный опыт.
– Открыл, – говорю я, – попросту предпочёл не тревожить грязью, которой вы пожимали друг другу руки. И, несмотря на всё это (и грязь, которую ты льёшь ныне) супруг для меня остался свят и Бог, а ты явился злобным херувимом.
– О, Луна! – восторгается мужчина и спешит заверить. – Молись кому угодно, чтобы слова эти не были никем услышаны и узнаны. Ты попрекаешь былое былым, а это ещё большее безрассудство, чем пытаться попрекнуть будущее в неизвестности.
Я разглядываю стены Монастыря. Когда-то они виделись кошмаром, и несколько ночей сны переносили меня из-под уютных печатей дома Солнца в обозначенную обитель порока. Я тряслась и задыхалась, и вот, столкнувшись воочию, лицом к «лицу» – ничего не ощущала. Меняются не места, а люди. Монастырь перестал быть символом беспокоящего; он явился фоном бесконечных бесед с человеком, который, как и декорация здания, нисколько не изменился внутренне: лишь обветшал снаружи.
– Откуда твои ожоги? – вдруг вопрошаю я у лица, награждённого рисунками.
Помнится, в прошлый раз объяснения мне так и не были даны. Ян медлит. Зачем-то улыбается. Медлит и мельком глядит в крохотное зеркальце вдоль стены, дабы убедиться в наличии этих самых ожогов, будто они могли или смели куда-то запропасть.
– Если я скажу, что ими одарил меня твой супруг в камине некогда вашего общего дома, ты сильно удивишься или расстроишься?
– Меня всецело устроит этот ответ.
И я – как бы невзначай – дополняю, а известно ли самому Хозяину Монастыря, что стало с резиденцией Солнца?
– Если ты спрашиваешь и с такой интонацией, – не без волнения в голосе проглатывает мужчина, – ответ прост быть не может, а предполагать – тебя злить – не осмелюсь.
– И правильно сделаешь. Его сожгли твои люди.
– Что?
– Они. Сожгли. Наш. Дом, – повторяю я.
Хозяин Монастыря хлопает себя по лицу и приправляет сигарету выпивкой, а затем без желания обидеть стегает словами:
– Тебе плевать на него, я вижу. Не осталось там ничего, что могло бы удерживать.
И хлюпает носом:
– Ведь я забрал это.
Мужчина дерёт бутылочными остатками своё горло и отшвыривает полый сосуд в сторону.
– Я виноват…кто дал мне это право? кто наделил им? и что же я наделал?
Он бодро встаёт и косится к окну, вдруг замирает и приземляется обратно в кресло.
Не удерживаюсь от напоминания и швыряю колючее:
– Не я – змея?
Ян вздыхает (едва не задыхается) и закрывает глаза. Сколько-то мы сидим в тишине. Затем он открывает глаза, и мы вновь сидим в тишине. Смотрим друг на друга, но не видим: и размышляем порознь.
Хозяин Монастыря не выдерживает и просит сменить платье.
– Тебя смущает траурный цвет или непривычная среди расхаживающих здесь длина? – процеживаю я.
– Меня смущает именно это платье. Оно Стеллы, будь ты неладна, ясно?
Уж сестрица тебе знакома?
– Даже будь незнакома, факт того, что ты признал на другой женщине платье упомянутой сильно бы выдало тебя, Хозяин Монастыря. Так просто.
Глотает от обиды.
– Но Стеллы рядом с нами я не наблюдаю, а, значит, в платье этом она не нуждается, – брыкаюсь следом. – Вот моё наследство. Единственное, что осталось от дома Солнца помимо воспоминаний и чувств. Когда-то и они канут вместе со мной.
– Она была в нём, когда мы виделись последний раз, – объясняется Ян и смотрит на меня с пренебрежением. – При жизни. Её, разумеется. Она сидела на том же самом месте. – Кивок приходится на облюбованный мной диван. – И она была младше тебя.
– А ты любил её? – спрашиваю я. Неожиданно даже для себя.
– Насколько мог. Но, как оказалось, для её тёплой души – недостаточно.
– Как вы расстались?
Ян усмехается и последнее сказанное мной слово ещё долго режет слух мужчины и кабинета (я взирала на обоих свидетелей).
– Неправильно.
И далее он выступает сухо и неторопливо:
– Я говорил те вещи, о которых даже не мыслил. И, кажется, до сей поры не научился держать язык за зубами. Я…да неужели Гелиос не рассказывал?! – вспыхивает – за секунду – Хозяин Монастыря и бьёт по столу. – Что за исповедь, Луна? Пытаешься свести с ума?
– Пытаюсь понять. А потому выслушиваю… – смягчаюсь я и сжимаю его кулаки, сжимаю выведенное там послание. – У меня есть все основания плюнуть тебе в лицо и покинуть Монастырь. И, поверь, лучше я помру где-нибудь в дороге, в пустыне, пытаясь сбежать от тебя и конвоя, чем буду до скончания века выслушивать сумасшедшие речи.
И вот Ян – вздрагивая – валится из кресла к моим ногам и, обнимая их, содрогается в слезах. Не понимаю… не понимаю того. Что с тобой, Ян? Успокойся! Ты показываешь себя обратным созданному образу.
А он рыдает и рыдает.
– Гелиос не рассказывал о тебе и Стелле, – приправляю я, дабы расслабить обнажённое и горящее сердце. – У твоего друга имелось уважение к тебе и твоим чувствам, а потому он предпочел смолчать. Лишь знаю, вы были с ней вместе.
– Никогда не говори так, как сказала, – просит Ян. – Даже не думай. Не смей! Скажи: это просто шутка.
Он заливисто воет, совершенно не боясь быть услышанным и увиденным, он отрекается и от своего положения, и от своего имени, он уповает на эмоции и снова и снова стрекочет:
– Скажи, что это лишь угроза, а в мыслях у тебя подобного нет и не будет. Скажи.
Ничего не понимаю…
– Луна!
– Это лишь угроза, – повторяю на сдавливающие мои колени руки. – Я притворяюсь, Ян. Извожу тебя и только.
– Скажи, что никогда так не поступишь.
Сдаюсь:
– Я никогда так не поступлю.
Тогда знание приходит само. Я предполагаю последнюю главу из славной, поспешно начертанной, истории сестры Бога Солнца и Хозяина Монастыря. И предполагаю, что платье на мне сейчас было снято с покойника. Неудивительно Гелиос воспрепятствовал его примерке, откинул на изголовье кровати и велел не прикасаться. Я собиралась убрать недобрую вещь по утру, но утро для резиденции Солнца не наступило. Вот так игра: одна в этом платье погибла, вторая – спаслась. Наследство рода за мной сполна не последовало.
Ян уходит всполоснуть пропитавшееся стыдом и потом тело и успокоить разгорячённое лицо. Я же остаюсь в кабинете: смотрю в окно, вид из которого ничуть не изменился, смотрю на книжные стеллажи, содержимое которых обрело смысл и толк с моим знанием языка, смотрю на стол, который был всё так же завален документами, письмами и заметками, смотрю на обшарпанные диваны и облезлые кресла, которые следовало обтянуть новой кожей или избавиться вовсе, смотрю на никогда не пустующие полки с выпивкой и никогда не редеющий портсигар. Я смотрю на комнату, в которой проводила так много времени и набиралась такими значительными, оказавшимися пустотелыми, мыслями и понимаю, что комнату эту уже переросла. Ничего в ней не тревожило и не вызывало былых мыслей. Она стала чужой и более не нужной.
И тогда я ступаю за кабинетный занавес, в спальню. Не сразу осознаю, что делаю то без привычного, заведённого Яном приглашения, одобрения или доброго намерения. Всё слишком изменилось, и мы поменялись.
Вскоре повязанное на бёдрах полотенце встречает мой взгляд, а Ян встречает меня укором:
– Не помешал?
– Мог бы повременить.
– Ты своенравна и не воспитана. Сюда тебя никто не звал.
– Хочешь воспрепятствовать Богине? Обрушь свой гнев на обыкновенных послушниц, со мной же будь учтив, Хозяин Монастыря.
Мужчина проходит к шкафу и, скинув с себя вафельное полотенце, принимается выгружать привычный комплект одежды.
Я отворачиваюсь и вновь засматриваюсь инжиром. Такой же – точь-в-точь – был в саду у Гелиоса. И тогда я вспоминаю Гранат, и самой же себе выкорчёвываю сердце, размышляя о том, что никогда более не увижу и не испробую его (хотя в мыслях созерцаю не образы спелого плода или бегущего по рукам сока – я вижу измятую лужайку и подводящую к ней тропу лабиринта; я вижу любовников; я вижу…)
– Это Стелла, – признаётся Ян и кивает на раскинутые ветви инжира.
Требую объяснений.
– Ты не была в саду?
Мужчина поправляет рубаху, закатывая рукава, и принимает озадаченный вид.
– Была и много раз, – спокойно отвечаю я.
– А в дальней его части? За калиткой, где инжир.
Я вспоминаю приятную тень и разнообразие флоры: чудесные цветы и ухоженные деревья, совсем не тронутую отпечатками поляну и её вечнозелёную рябь. Отвечаю очередным согласием, на что Ян пускается в повествование: у дома Солнца была традиция – не предавать тела земле, а кремировать и прах мешать с цветочными черенками. Угаснувшая жизнь вновь давала о себе знать, произрастая выбранным растением.
– Стелла была слишком молода и мягка, чтобы думать о подобном, –повествует – с нежностью в голосе – мужчина. – Она не говорила, кем хочет стать в следующей жизни, а потому мы сошлись на инжире. Из хрупкой девочки – величественное древо со сводящими от своей сладости плодами. Такой она и была: приторно-сладкой и величественной.
Я улыбаюсь.
Мне грустно, но я отчего-то улыбаюсь.
Как прекрасно он о ней рассказывал, как переживал и предавался воспоминаниям; его сердце уже было отдано: неужели я смела посягнуть на однозначно занятое? приправила печаль и только…
– Когда дерево окрепло и понесло стабильный урожай, Гелиос привёз пророщенную ветвь. Я не хотел, чтобы Стелла бывала в Монастыре, и при жизни она явилась сюда лишь однажды – в последний наш разговор. А потому я вынужден нести это бремя и каждый божий день смотреть на неё, каждый сезон вымаливать процветания к следующему. Единственное, что не иссохло в моих руках – горшок с деревом. Лучше бы я сохранил её человеком.
– Красивая традиция, – соглашаюсь я и припадаю на край перины. – История сада мне не была известна.
– Ты совершенно не знала своего мужа, – то ли вопросом, то ли утверждением швыряет Ян.
– Мне было хорошо, о другом я не думала, – признаюсь следом.
И признаю свою вину перед Гелиосом. Я, собственно, его и не знала. Не докучала и не интересовалась, не чувствовала и не проникалась; считала, что не буду беспокоить понапрасну и потому не ворошила давно позабытые угли, а на деле утаивала задатки пожара под кромками сухой древесины. Его удручающие сны с дрожащими веками, его едва слышимая молва на восходе, его резкие перепады настроения и – как бы невидимые мной – походы ночью за игристым. Я позволила ему увязнуть в острых мыслях…нет-нет! я не помогла ему из них выбраться. Кто – если не партнёр? Ловлю себя на умозаключении, что с ролью жены справлялась не так уж хорошо и порядочно; мне казалось, быть вместе – делить удовольствия; а быть вместе – создавать эти удовольствия. Не нужно наседать на забитую работой или делами голову – требуется лишь приласкать эту голову и заверить в прекрасном.
– Отец? – режет голос из кабинета.
Мы отмалчиваемся. Секунда-две: дверь ударяет и стук каблуков уносит некую по коридору.
– Зачастили сегодня, – мрачно отмечает Ян и застёгивает ремень брюк. – Я устал от этих глупых девиц.
– Глупые девицы – твой доход и стабильное завтра, – хмыкаю я и покидаю спальню.
Мужчина запирает за нами и балдахином прикрывает дверь.
– А вот здесь узнаю слова Гелиоса.
Подоспевшая девочка – уже с другим голосом – стучит и просит разрешения войти; на приглашение причитает о скандальной Сибирии. Упомянутая напала на лекаря и вскрыла ему его же скальпелем парочку сухожилий на руке.
– Ты приехала, и она сошла с ума. Не ведьма ли ты и не воплощение ли греха? – искренне интересуется Ян, пока мы вышагиваем вдоль коридора.
– Может, с ума она сошла много раньше? – отвечаю я. – С тобой то – реально. И вообще: отчего перед безумной махали острым?
Мужчина косится и, решая не лукавить, выдаёт, что дал согласие на любые действа и на любые вмешательства в лечении Сибирии.
– То есть ты разрешил ставить на ней опыты, я правильно понимаю? Думалось, мы (подразумевая род человеческий) давно ушли от подобного. Неприятно удивляешь, Хозяин Монастыря. По традиции.
– Ты читала слишком много книг, – не слишком довольно воздыхает Ян.
– Разве в этом деле бывает «слишком»?
– Когда это целая библиотека, накопившаяся за десятки лет жизни, старца – да.
Мы приходим в полупустую часть здания – здесь находятся лазарет и кабинеты для осмотра. Прибывающие в какой-то определённый период времени врачи разговаривают с монастырскими кошками и выносят по их здоровью заключения. Иногда ставят лечение. Иногда сразу лечат. Я была в лазарете однажды; на беседе. В соседней палате боролись с мешковидной опухолью, выкачивая её вместе с криками из замученной. Но сейчас – без шума и женской стрекотни – место это выглядело совершенно другим. Чистым. Даже стерильным. В какой-то по счёту палате мы встречаемся с раненым лекарем: он жалуется на Сибирию и взмахивает повязкой, на что Ян преспокойно отвечает повышением жалованья и прогоняет неугодного.
Сибирию обрили. Её рыжие кудри лежат в запаянном пакете на одном из столов. По вискам тянутся тонкие запёкшиеся струйки. Картина эта пугает и не только меня. Глаза у Хозяина Монастыря (и так красные от утренних бесед) наливаются ещё больше. Зрачки дрожат. Он смотрит на некогда послушницу и всегда сестру. И наблюдает, к чему её привёл.
– Помнится, ты называл Монастырь обителью красоты и сладкого порока, а не сумасшедшим домом или экспериментаторской, – утверждаю я, склоняясь над мужским плечом.
Отныне будет так. Я стою подле и, нависая то слева, то справа, заверяю в угодной себе истине. И Хозяин Монастыря будет слушаться, ощущая себя вечно виноватым…
Ян согласно кивает и садится на кушетку рядом с буйной. Сибирия не читает молитвы и не складывает их руками – она смотрит на нас, но совершенно безучастно. Смотрит и о чём-то помышляет. Хозяин Монастыря гладит её по выточенным скулам – успокаивает, тешит; наклоняется и целует в щёку, после чего отстраняется и созерцает блаженное лицо. Приступ хаоса отпускает женское тело, но не покидает вовсе – взгляд её всё ещё искажен, безумен: в глазах читается отстранённость от мира реального.
Я сажусь подле и беру женщину за руки. Она улыбается мне – страшно: алыми дёснами наружу. Улыбается и вдруг с придыханием смеётся. Вижу в её широких зрачках тлеющий в танце уголь и саму себя; вижу – понимаю посыл. Сибирия смеётся. Мы готовы взвыть. Сибирия смеётся и тогда Ян, прихватывая с соседней кушетки подушку, наваливается на сестру и удерживает её весом собственного тела. Целует безумную в подставленный висок и следом накрывает. Я глажу её руки, но на самом деле держу – не позволяю им разрезать воздух, не позволяю схватиться за него и за жизнь. Сибирия гудит в подушку: мычит, плачет, смеётся – всё вместе. Как вдруг замолкает.
Хозяин Монастыря открывает лицо задохнувшейся.
Я не верю, что это мы.
Проклинаю место и людей на старом наречии и незамедлительно покидаю стены лазарета. Ругаюсь на охрану подле выхода из Монастыря и они, заслышав незнакомые слоги, добродушно распахивают двери.
Меня встречает сад – его жалкое подобие. Жалкая сколоченная лавка под сухой кроной.
– Прости, не могу удержаться, – обращаюсь в воздух, к Гелиосу – и вызволяю припрятанную сигарету. – Не сердись: теперь я делаю вещи и хуже.
Наполняю лёгкие дымом и медленно выдыхаю. Это обман. Помогают не сладкие ароматы, а размеренность дыхания. Не предмет ингаляции, а процесс.
Я всё ещё не могу проснуться?
К компании прибивается Хозяин Монастыря. Прикуривает от меня и, выпуская облако дыма вровень с танцующим на горизонте облаком пыли, докучает вопросом:
– И как мы до этого дошли?
– Он не ошибся, когда увёл меня отсюда. Ты портишь людей.
– Я позволяю их порокам обнажиться. Признать грех равно встать на путь его исправления.
– В эфемерном идеале, – скалюсь я. – По факту – портишь. Сколько бы дряни мы с тобой здесь наделали? О! может, ещё успеем! Этого ты хотел?
– Думаю, нет.
Ветер обдаёт тёплым воздухом и поднимает воспоминания о резиденции.
– Хочу убраться отсюда, – признаюсь я.
– Но ты остаёшься? – неуверенно спрашивает мужчина.
– Слушай, Ян, – прикидываю и затягиваюсь, – ты меня не только вдовой, но и бездомной сделал. Да, пожалуй, сегодня ты спишь на диване.
– Это ещё почему?
– Хочешь сказать, я сплю на диване? Или, может, как в старые добрые мне подселиться к парочке малосообразительных дев и вечерами делиться секретами и расчёсывать друг другу волосы? У меня имеется про запас несколько тайн нынешних божков…
– Комната и кровать – твои, – спокойно отступает Ян.
Бог
Они переступили черту.
Наблюдаю за ними через окно: содрогаются над содрогающимся телом, а следом отнимают от лица подушку и взирают в широко-распахнутые глаза женщины. Я лишил её здравого ума не для того, чтобы её лишили жизни здравые люди.
Смотрю на них и вспоминаю день торгов: неопытная и колыхающаяся в хозяйских объятиях девочка. Она выглядывает из-под защищающего её крыла и не ведает, что спустя недели распахнёт свои. Спустя месяцы она объявится пантеону и заставит его истинно поклониться богине. Спустя годы заслужит уважение и место среди управляющих. Она приубавит людскую веру и подвигнет воскрешение иной.
Но пока она уклончиво взирает на подоспевших к выступлению Богов. Хозяин Монастыря горделиво касается обвитого тканью девичьего плеча и о чём-то рассказывает; опосля – выходит на сцену. Раскосая музыка надрывающихся музыкантов захлёбывается в пьяных аплодисментах. Их перебивают бокалы. В воздухе танцуют дурман и свет сымпровизированных софитов. Величественное шоу становится пародийным выступлением, красота привезённых с окружающих земель дев очерняется под нескладные речи. Всё это похоже на глупую игру.
Луна – под Отцовское рукоплескание – оставляет столик с напитками и поднимается на сцену. Красное платье покрывает худое тело и раскосые взгляды гостей строят догадки о его вкусе. Ткань взбирается в бледных пальцах и даёт толпе облизнуться на оголившуюся щиколотку; всего-то. Ею и сводит с ума. Костью. Твари выдают себя сами. Вседозволенность и доступность утихают и покидают стены Монастыря: сквозь присутствующих смотрит продажная праведница. И тем окутывает мысли – берёт любопытством, интригует. Следом – отталкивает. Сложные головоломки мало кто любит… Они притягательны первые мгновения, дальше – осознание неспособности одолеть и решить, укор и уход.
Алая печать завораживает и печати ставит на присутствующих. Она отмеряет Бога Солнца почтительным взглядом – единственного, кто ведёт себя достойно: не взрывается и не кричит с места. Бог Солнца же – уставший от всех и вся – желает преспокойно дожить свой век и не объявляться более нигде и ни с кем. Он не смотрит на девочку – смотрит на сжатый бокал, а потому я бросаю в воздух:
– Не послушница, право, богиня.
Бог Солнца отнимает взгляд от дешёвого пойла и врезается в красное платье, очаровываясь вместе с залом. Красота – не подарок; скорее испытание. Не наказание, как может показаться в некоторые моменты жизни.
Хозяину Монастыря известно, кому он отдаст девочку из-под крыла: кому доверит приглянувшееся самому себе. Ему известно, кто оценит неприступную красоту и все богатства мира возложит перед ней и за неё.
Однако против выступает стоклятая Богиня Плодородия. Она зачастила под старость лет игры с молодыми, а потому разбрасывалась остатками общих с её бывшем мужем (Богом Воды) накоплений.
Бог Солнца в очередной раз поднимает усталый взгляд, называет сумму, превалирующую в разы ранее озвученных, что в сию секунду велит замолчать остальным присутствующим, и, на том решив, покидает зал. Алое платье отныне принадлежит ему. Все мы покидаем душные стены Монастыря и все мы задымляем улицу. Полчище сигар и самокруток вдавливают в и без того копчённый воздух ароматы дурмана. Хозяин Монастыря продвигается меж гостей и каждого из них благодарит за посещение и просит возвращаться. А, дойдя до меня, приветливо сдавливает кулаки и, зацепившись взглядом, пускается в тёплые речи. Он повествует, как ему приятна та самая девушка с нефтяных земель, как она притягательна и как хорошо послужит Монастырю.
– В этом ты прав, – заключаю я и довольно киваю головой.
Она послужит Монастырю, но отличительно от иных послушниц. Это я утаиваю.
И Хозяин Монастыря ещё раз благодарит за наводку на чудесный, утаенный под толщей провинции и легкомысленности окружающих, дар. А я благодарю Хозяина Монастыря в ответ: за то, что он прислушался к моему мнению – то было значимо.
Но ещё раньше я одарил этим самым мнением семью Луны, наведавшись к ней и предложив отправить способную сразить своей красотой и своим умом дочь. Никто не спорил, о какой из девочек шла речь, и потому мы поспешно составили письмо для приглашения конвоя Отца. Я сам оберегал Луну от безрассудств, когда за ней приглядывали соседствующие глупцы.
И вот главным её безрассудством и в этот же миг смыслом жизни стал Монастырь и Хозяин Монастыря.
Я взираю на убийц.
Луна осуждающе смотрит на женщину, раскинувшуюся по кушетке, а затем на мужчину подле. Но осуждает она не поступок-проступок, а приведшее к тому.
Я ставлю для себя пометку о втором обречённом под женскими руками; Хозяин же в пометке не нуждается; все те разы я наблюдал и, едва не сбившись со счёту, вкушал. О некоторых из них, кажется, должна была напеть та сама Сибирия той самой Луне, а тот самый Хозяин Монастыря – оправдаться перед последней и поведать свою истину.
Когда он погнал на несчастную гончих – я раззадорил их сырым мясом подле собачьих будок, когда он придушил крикливую – я невидимо восседал в кресле напротив, когда он изуродовал неверную – я пододвинул садовые щипцы.
Всё шло своим чередом. До сего момента.
Женщина
Я просыпаюсь. Так мне кажется. Переворачиваюсь с бока на спину и взглядом желаю столкнуться с нависающим балдахином. То не случается. И подо мной не дубовая кровать, вырезанная из цельного дерева, и лунный свет от окна бьёт не с той стороны, и ткань у постельного белья не ласкает кожу, а саднит по ней.
Я не просыпаюсь?
Вздрагиваю: вижу чёрные картины, вижу ветвь инжира, вижу стены Монастыря. Всё случилось взаправду и Гелиоса рядом нет. Нет и больше не будет. Начинаю всхлипывать и зарываюсь в подушки. Это первая ночь с момента его утраты, когда я смогла заснуть, а не потерять сознание от недостатка сил или избытка выедающих чувств.
Его в самом деле нет. Его нет.
На протяжный вой прибегает виновник разрухи. Нависает и прихватывает за плечи, беспокоится, боится. Я говорю, что никогда не прощу совершённое им и давлюсь бьющей по щекам солью. Он говорит, что не ожидает от меня прощения: слишком высока плата. И садится подле, и, обнимая, успокаивает.
– Это сон, – умоляю я. – Прошу, хочу проснуться. Я хочу проснуться.
– Тише, Луна, – бросает Хозяин Монастыря и заплетает руки в своих.
– Это сон.
– Ты не спишь.
– Ненавижу тебя! – вскрикиваю и гоню прочь, но цепкие щупальца прижимают крепче былого. – Я хочу проснуться, Ян, хочу проснуться, всё это – глупый сон, ошибка. Я хочу к нему…
Рыдаю вновь и с тем засыпаю.
– Верни его.
Бог
Он наводит оружие на виновного и, не мешкая, жмёт на спусковой крючок. Наблюдаю, как вмиг потяжелевшее тело валится к ногам.
– Гелиос! – взрывается женский голос от дома. – Какого дьявола вы здесь… – видит меня и замирает. – В самом деле, какого дьявола?!
Оборачивается к брату и завершает:
– Мы договаривалась: работа – вне стен резиденции. И «вне стен» – не значит, за стенами дома, а значит подальше от особняка и вообще этого места. Ты неисправим!
– Иди домой, Джуна, – ругается в ответ стреляющий и, щёлкнув предохранителем, прячет оружие за пояс брюк.
Женщина – свирепея за секунды – вырывает пистолет и бросает его в мою сторону.
– Дома дети! – кричит Джуна. И тише: – А вы что себе позволяете? Пришёл он, – пинает несчастного, – своими ногами, а уносить потребно на твоих плечах. Рациональность, Гелиос, где?
– Иди домой, – повторяет спокойный голос и, взяв сестру за плечи, разворачивает. – Ступай.
Джуна – ругаясь – уходит.
– Ты уверен, что он был виноват? – спрашиваю я.
Бог Солнца смеётся себе под нос и с рук стаскивает перчатки.
– Я уверен, а вот ты просто это знал, – говорит Гелиос.
В следующий раз свидетелем его настойчивости, уверенности и хладности я стал в Монастыре. Совершенно случайно (как бы не так), и дело для разбирательства было мало терзающим. В кабинет ввалилась послушница и, слезами шагая по ковру, бросилась к духовному Отцу с жалобами на водителя конвоя.
– Что он сделал? – спросил гостивший у Яна Бог Солнца.
Девочка потупила взор и махнула головой. Говорить об этом ей не хотелось.
– Позови его, – велел Гелиос, на что Хозяин Монастыря бросил придирчивый взгляд.
– Есть ли необходимость? – аккуратно уточнил он.
Не присутствуй здесь я, непременно бы разразился свойственный этим двоим скандал. Бог Солнца ответил на старом наречии, что некто минутой ранее посягнул на монастырский кошелек, ибо каждая дева этого места – чистая монета. Ян вздохнул и, выпроводив обиженную девочку, хотел позвать распускающего руки водителя. Гелиос предложил решить этот вопрос у собранного подле монастырских врат конвоя. Сам Бог Солнца был негласным хозяином этого места, но больше – частым клиентом, ещё больше – другом и наставником Яна. Молодой самопровозглашённый бог предпочитал дела решать вертляво, хитро, со стороны. Отличительно от вышагивающего нога в ногу приятеля.
– Не терплю, когда ты вмешиваешься в здешний быт, – отбросил Хозяин Монастыря едва слышно, но я всё равно раскусил его зудящую интонацию.
– Не терплю, когда женщин обижают, – говорит Бог Солнца. – Ты слышал: её обидели.
Они подходят к дверям. Ян причитает:
– Монастырские кошки получают за свои провинности каждый день, но что-то твой глас совести и справедливости дремлет в эти минуты.
– То воспитание (хотя я, право, держусь иной позиции, но со своим мнением не рвусь – твоё дело, твои правила), а ситуация сейчас – домогательство и скол репутации. Пресекай это на корню, Хозяин Монастыря, – подводит Бог Солнца, и упомянутые лица теряются за дверью.
Не следую: остаюсь в кабинете. Обхожу заваленный документами стол (Яну известно, что ничего из имеющегося ни здесь, ни у кого-либо ещё мне неинтересно) и замираю у распахнутого окна. Настраиваясь на беседу, Хозяин Монастыря подходит к готовящемуся к отправке конвою. Хочет, ядовито и ярко улыбаясь, вопросить, с кем же мгновением ранее общалась его девочка. Наперерез беседе выступает Бог Солнца. Видит водителя и, обнажив из-под пояса пистолет, скрепляет рукоять и стреляет.
– Какого? – не удержавшись, вскрикивает Ян и отшатывается от падающего тела. И шёпотом: – Мы хотели поговорить, разве нет?
Другие рабочие смотрят на месиво вместо лица, валятся и просят пощады. Бог Солнца подходит к одному из перепачканных в песке и, каблуком бота прижимая хрустящее мальчишечье бедро, наводит оружие ниже пояса.
– Следующее наказание будет таким.
Испуганные ребята рассыпаются и прилипают к автомобилю.
– Может, отстрелить?
– Нет, сэр, – на старом наречии (что удивительно; сказался стресс и адреналин) бросает прижатый парень.
– Прекрасно. Потому что это иллюстрация того, что будет, если кто-либо ещё позволит распустить свои руки (и даже мысли) в адрес находящихся здесь дев. Эти девы, – Гелиос ставит оружие на предохранитель, – несут службу истинным богам. Вашу порочность – держите до блудливых мест или справляйте нужду в кустах. Здесь же – нельзя. Понятно?
Кивающие головы соглашаются.
Бог Солнца убирает оружие и направляется обратно к Монастырю. Ян следует за ним.
Уже в кабинете последний бунтует:
– Это водитель, чёрт с тобой, – взгляд перебегает на меня и просит прощения; возвращается, – кто повезёт следующие отправки?
– Да, пожалуйста, не благодари, – издевается Гелиос и, приминая кресло, угощается питьём из графина.
– Что ты сказал? – ревёт Хозяин Монастыря.
Бог Солнца отстраняет графин и, затирая бегущее по губам вино, добавляет:
– Говорю, не благодари. Рад услужить Монастырю и его чести. Рад наказать виноватого и пресечь непослушание на корню.
Ян внимает.
– Теперь иные задумаются, – продолжает Гелиос, – прежде чем допустить распутство не то что в делах, сколько в собственных головах. Страх – вершитель прогресса. Страх держит людей и заставляет ступать по избранным нами – управляющими – тропам. А вообще не распыляйся, дорогой друг, ибо у нас гости, а не все гости должны внимать оглашаемым месту истинам.
Я улыбаюсь и соглашаюсь, а Ян терпеливо ступает к столу, вызволяет портсигар и нетерпеливо бросает:
– Меня больше изводит, что после твоих визитов, необходимо счищать чьи-нибудь мозги с камней.
Закуривает.
– Когда-нибудь ты дотрясешься стволом и сам получишь пулю в лоб.
– Надеюсь, нет, ибо лицо у меня красивое, – тщеславно говорит Бог Солнца, и я смеюсь вместе с ним.
– Забавляйся, – ругается Хозяин Монастыря. А сам подразумевает: «в его присутствии» и одаривает меня недобрым взглядом.
Потому я не удивляюсь, когда Бог Солнца – взаправду – ловит несколько выстрелов грудью. Вот только десятилетия спустя; так много он отхаживает без оружия вовсе, решая назревающие конфликты интонацией и видом.
Также я наблюдаю за Богиней Солнца, должной носить иное имя: предвижу грядущее и потому опускаю собственный взгляд. Она кричит. Истошно. Протяжно. Кричит и рыдает, на коленях держа оставившего его супруга. Не проклинает и не разрезает словами небо; их недостаточно. Она кричит, пока не отпускают силы и пока небо не оказывается разрезано женским воплем и молнией. Ливень накрывает резиденцию Солнца и ближайшие земли.
Это необходимо.
Это ломает, оно же и закаляет.
Она плачет, пока дождь умывает руки и лицо от крови и успокаивает надрывающееся сердце вместе с разразившимся пожаром. Вмешиваются иные приехавшие по воле Хозяина Монастыря, ухватывают обезумевшую жену и войлоком усаживают в конвойный автомобиль. Дорожная пыль уносит их.
Я смотрю на бездыханное тело Бога Солнца, избежавшего смерти физической много лет назад, но не избежавшего моральной гибели и эмоционального упадка. Ощущаю его умиротворённость и взгляд перевожу на осыпающийся Дом Солнца. Последний из клана остаётся близ родных земель.
Женщина
Юная отдаёт все свои силы на мольбу и призыв к хозяйскому сердцу, но в этом её просчёт: у Хозяина не было сердца. И я ранено смотрю на него, взглядом вымаливая не трогать девичье тело, однако Ян сечёт её во всю силу и, опосля, прогоняет.
– Ты неисправим, – нервно сглотнув, заключаю я.
– Это у Нас миры перевернулись, – спокойно отвечает мужчина. – А эти же, – он подразумевает послушниц, – в своих собственных и привычных им оболочках. Для них ничего не изменилось и не изменится. В стенах Монастыря ничего не произошло, Луна, ничего.
И потому он розгами выдворяет молодую дурь из молодой дурной головы. Закрыв глаза на добитую часом ранее Сибирию и четырьмя днями до этого Гелиоса. И мысль о нём – та, с которой я свыклась за дни в дороге – колит особенно остро.
– Личные трагедии в массах не нуждаются, – продолжает Ян. – Они ими лишь обсуждаются и провоцируются.
И вскоре он замечает: я не смотрю, не слушаю. Зовёт и препирается с покрасневшими глазами. Хочет взорваться и предложить погнанной девице вернуться, как будто дело могло быть в ней. Как будто меня беспокоили его в равном коктейле деспотизм и садизм. Я отворачиваюсь и, врезавшись в подушку, плачу.
Ян падает рядом и, обнимая за ноги, выпытывает прощение. Он знает (она едина) о причине слёз, он сам ещё не зарубцевался после известия о кончине Гелиоса.
– Мне надо вернуться, – говорю я.
– Куда возвращаться? – говорит он.
Понимает, что я подразумеваю резиденцию Солнца, но не понимает для каких целей: дом сгорел. И я поспешно отвечаю, что его несильного ума приспешники затолкали меня в конвой и не позволили даже проститься; а тело и вовсе – по глупой шутке или злому умыслу – оставили под небом и на утро выкатившимся солнцем.
– Я поеду с тобой, – уверенно объявляет Ян; спешу этот пыл унять.
– Оставайся в Монастыре. Как и всегда. Здесь твоё место.
И это не укол. Наваждение. За часы хозяйского отсутствия Монастырь взаправду редел, пустел и пропитывался глупостью и затхлостью как за сиротские годы. Отец не должен покидать дитя.
– Дай мне тех же людей, что приезжали в ту ночь, – велю я. – И оружие.
Ян хмурится и отвечает согласием. Но только на первое.
– Это не просьба, Хозяин Монастыря. Либо ты закладываешь его в мои руки сам, либо я выкрадываю его в подходящий момент. Попытаешься остановить – вкусишь последствия.
– Не убьешь ты меня, – равнодушно швыряет мужчина, однако поднимается и из закрытого ящика стола вызволяет блестящую игрушку.
– А к чему всё идёт? – усмехаюсь я и перенимаю пистолет. – Думаешь, мы друзья? Надеешься стать любовниками? Считаешь, мы простим друг другу обиды и, ментально проработав опыт, будем вместе? А не пошёл бы ты, Хозяин Монастыря?
– Кануло то время, когда я мог сказать «закрой рот» и ты бы его действительно закрыла, да? – злобно скалится Ян. – Месть не решает проблему, не успокаивает душу.
– Но вносит в расшатанные истины справедливость. Находит правосудие, добавляет равновесия.
– Ты не успокоишь себя этим, что бы ты там не вообразила.
– Не пытаюсь.
– Тогда для чего, Луна?
Это слово уже звучало. Справедливости ради.
– Кому ещё известно о гибели дома Солнца? – вопрошаю наперерез.
– Тем троим из фургона. Четвёртый – Лука – уже (что очевидно) не в счёт. И, разумеется, мне.
– Знание – не всегда сила, верно? – горько улыбаюсь я и оставляю кабинет.
Слышится крик Яна: он запрягает упомянутых для работы. Я приказываю ехать в резиденцию Солнца. И снова из жизни выцепляются равные дороге дни. Мы замираем подле ворот – открытых и никогда более не закрываемых; я велю оставаться в машине, а сама бреду по красивейшей, мельком засыпанной от недавней песочной бури, дорожке. При свете дня зрелище это ещё более тревожное и плаксивое. Часть обугленного дома отсутствует вовсе, а уцелевшая, однако почерневшая, сторона острыми зубьями тянется к непокрытому облаками небу. Я разглядываю и признаю остатки гостиной и идущей оттуда лестницы – свернувшиеся холсты некогда портретов пробираются сквозь некогда позолоченные рамы. Возможно, кабинет сохранился; крыша там едва осела.
Вот только Гелиоса нет.
Я рыскаю у крыльца и дома, я думаю о проклятых тварях и птицах, я опасаюсь иных людей и – по итогу – взглядом ударяюсь в нового жителя сада.
Среди деревьев и кустарников, цветов и трав – юное, новое; ещё не избавившееся от крошечного горшка, едва давшее росток и с трудом пробившее землю.
Кто-то ещё знает о покинувшем небосвод и пантеон богов Гелиосе. Кто-то похоронил его.
Бог
В воздухе до сей поры стоит сладковатый запах гари. По сравнению с обуявшей вчерашней ночью стихией огня недавний костёр был мал и незаметен. Я же – по традиции дома Солнца – поместил прах последнего его представителя в разлагаемый контейнер и высадил на почётное место в саду возле резиденции. Возле родичей. Они все это заслужили: и хорошее, и плохое.
Бог Солнца отмерил половину века и сделал для своей истории всё положенное. Я зачитываю молитву и оставляю его в окружении кровных, а для Луны – что должна подоспеть неделю, думается мне, спустя – оставляю письмо. На старом наречии я вывожу, что любопытство будет распирать вдову много больше, нежели удивление, а потому при удобной встрече – пускай! – спросит легенду о ягодном тисе. И, смею заметить, ей нечего опасаться: через десятки лет я лично провожу её к этому месту и покажу, чем станет ныне крохотный росток.
Последний раз я был здесь несколько месяцев назад. Сопутствовал удару хлипкой ветви в окно дома, на что молодая жена сбежала по лестнице, заметила заливающийся дождём гараж и, направившись туда, нашла наводящие смуту письма.
Здесь я мог несколько преувеличить; истинно божественный промысел не касался меня. Не касалась меня и поломанная ветвь, и плохо припрятанные бумаги. Но и про то, и про то я знал; это ли не оправдывает меня и не делает соучастником?
А ещё до того я был здесь с десяток лет назад. Резиденция дома Солнца пыхтела жаром и разговорами, действиями и красотой. Златоглавые отпрыски двух орлов рассекали величественные – ныне усопшие – залы, глумились и предавались грехам в уютных – ныне пыльных и позабытых – спальнях, отбивали ровные шаги по блестящим – ныне ветхим – коридорам. Дом Солнца жил и оправдывал всю свою мощь, своё признание, свою красоту. Первая семья на слуху, что касалась своими бесконечными лучами даже самых отдалённых мест, домов и просек. Они были – воистину – велики! И я любил их дом, хотя избегал вечеров и званных ужинов (всё дело в рассыпающихся по комнатам гостях, которые оскверняли исключительность и порядок). Но тогда я приехал сам. В моих силах было повлиять на исход: не всегда всё идёт по задуманному (хотя…по исчислении скольких-то лет, понимаешь: случилось угодное и необходимое).
Итак, я приехал в резиденцию дома Солнца.
Роксана и Самсон встретили лучезарными улыбками и призывами отобедать, ибо с охоты – только-только – принесли молодых ястребов. Слуги встретили пытливыми взглядами и гневными замечаниями в спину. Мы сели за стол: я не досчитался старшего из братьев – Гелиоса, одного из близнецов – Аполлона и старшенькую, пожару равную, сестрицу – Джуну. Это хорошо. Не хорошо – что остальные из клана Солнца не прислушались к моим словам.
– Ваши люди вам боле не верны, – сказал я и уклончиво подмигнул полным бокалам.
Хозяева поспешили заверить, что подле них – верные из верных, да и попрекнуть людей в отсутствии или ослаблении их веры равнялось признанию измены. Религия – тяжёлая плата.
– Значит, они изменники, – заключил я. – И Богам дозволено, нет!, богам надобно их наказать, ведь правосудие свершится всё равно. Даже если десяток лет спустя.
Меня колко подбили должностью: я не вестник, а делец. И если не дело привело меня, а новость – опасаться нечего. Откуда эти мысли? В последние недели невероятный шквал сплетен и угроз обрушился на такой гостеприимный и грамотно ведущий свои дела дом. Одну из дочерей похитили, но – благо – вернули; она посмотрела на меня и тут же опустила взор. Всё еще отходила…
Слово за слово, веселье вновь наполнило гостиную и столовую резиденции Солнца. Хозяин дома поднял бокал и тост и, поблагодарив меня за визит, а семью за её наличие, пригубил. Пригубили остальные. Только мой бокал остался нетронут.
Я сказал:
– Вы вынуждаете других людей принимать обязанность мщения.
Улыбки на лицах замерли, замерли и тела на стульях, с которых родичи не успели воспрянуть. Яд подействовал молниеносно и не ударил по красоте клана. Я посмотрел на притаившуюся за дверью прислугу; те понурили взгляд и спрятались: хватило совести и ума. Какие самодостаточные, умные и перспективные лица – все как на подбор; и так оплошали… Поднялся к спальням на втором и услыхал протяжный, сходящий на нет, вой. Над Джуной, которой я не досчитался за обедом, склонился её молодой – из числа прислуг – любовник. В воздухе разило предшествующим развратом. Мальчишка, обматывая вокруг кулака использованную бельевую нить, посмотрел через плечо: смолчал и отвернулся. Джуна задохнулась.
Я покинул резиденцию, как вдруг расслышал выстрел неподалеку. Машину, брошенную за территорией дома, покинул водитель – осёкся, хлопнул дверьми и засеменил в мою сторону. Отвлёк его силуэт садовницы Пенелопы, будущим детям которой было начертано восполнить долго отсутствующих в доме прислуг. Сквозь автомобильное стекло, изрядно покрытое дорожной пылью, взирал второй из близнецов: в виске зияла причина недавнего выстрела.
Я ушёл.
И так было всегда. Все меня видели и никто не замечал.
Клан Солнца пал. Воскреснуть ему поможет…нет, не оставшийся единым в живых наследник в лице Гелиоса…супруга его, во спасение которой он сойдёт с небосвода сам. Солнце угаснет, дабы Луна воспрянула и подняла их имя выше прежнего.
Женщина
– Остановить здесь, – приказываю я. – Выйти всем.
Я посмотрела на резиденцию, убедилась в крепком сне бога Солнца и отправила конвой обратно. Сопровождающие меня вздохнули с облегчением. Рано. На горизонте объявился Монастырь, а я объявила об остановке.
– Осталось ехать недолго, госпожа, – говорит водитель.
– Нам всем нужно подышать воздухом. В кабине душно.
– Мы привыкли…
Бросаю колкий взгляд и повторяю:
– Остановить. Здесь. Выйти. Всем.
Исполняют.
Покидаю душную кабину первой и, отойдя на пару метров в сторону, обращаюсь к уродливой пустыне. Но пусто было не на Земле: внутренние полые пространства ухватили людей и сгустками отсутствующих душ прижигали сердца.
Меня трясёт, но сожалений я не испытываю. Не желаю воображать бессмысленные отговорки.
– Госпожа, – обращается ко мне один из водителей, – с вами всё хорошо?
Госпожа. Когда они ворвались в дом Солнца и речами своими оскорбляли единственных его представителей, такого покладистого тона слышать я не могла.
С вами. Уважение сквозило из каждого слова, чего не было в момент командования погубившего Гелиоса (и нашу семью) щенка; все они намеренно огибали моё имя и сан, ссылаясь на безродное «девчонка».
Хорошо? Мои дела обстояли лучше, чем их, о чём я предпочла не распространяться.
Потому, игнорируя вопрос, велю отойти на некоторое расстояние. Один из них догадывается. Он кидается в мою сторону с сиплым криком, дабы предотвратить запланированное, но оружие – вылетевшее из платья – горланит раньше. Водитель оказывается близок, а потому алые капли приглаживают мои щёки как некогда солнце вырисовывало свои пигменты на лице Гелиоса. Второй водитель растерянно озирается и убегает, но я – без колебаний, то страшно? – нагоняю его свинцовыми близнецами. Третий – что назвал меня госпожой – валится коленями в сухую землю и, предаваясь молитвам, просит пощады.
– Не каждый, кто молит о пощаде, заслуживает её, – говорю я. – Ровно как и не каждый молчащий смиренно принимает свою судьбу.
Мужчина называет меня богиней Солнца и извиняется.
– Бог простит, – смеюсь я. Вот только Боги не прощают, им ведомо лишь одно – кара; боги карают – только.
Выстрел. Покрытое шрамами тело ударяет о покрытую трещинами почву. Все знающие о падении дома Солнца уходят под начало Бога Смерти. Почти все…лишь один – неизвестный – вытаптывает земли близ меня. Кто и в какой момент смел оказаться подле и стать свидетелем скорби, которую я желаю утаить? Мамочка говорила, тайны стерегут исключительно мёртвые. Кому начерталась ещё одна пуля? Неизвестный рассыплет траурные речи и обнажит вдовство? Да и кто смел оказаться на землях Солнца, если гостей мы принимали редко и осторожно; никто напрасно не тревожил Гелиоса и близким другом зваться не мог. А традицию клана продолжили и теперь он крепчает деревом…кому это надо?
Смотрю на пистолет в руках; простой в использовании и тяжёлый в последствиях. Я могла – понимаю то – отпустить безвольных, попавших под влияние борзого Луки; могла, но тогда бы не ощутила всю безвкусицу мести. А она вправду безвкусная…ни сладости, ни горечи: пресно и просто. Месть не заслуживает внимания и многочисленных дум.
Переворачиваю пистолет в руках. В момент, когда Гелиос простился со мной, окатило странным чувством; я схватила брошенное оружие и, захлёбываясь горечью, направила на себя. Рвущиеся наперерез решительности слуги Монастыря не успели; глухой щелчок добавил криков и слёз. Пистолет – пустой – выбили из рук и уволокли меня к конвою. Не помню, отпиралась ли или послушно следовала. Не помню, что говорила и делала. Помню – время спустя – ударившее в лицо рассветное солнце; Гелиос улыбнулся мне и привёл в чувства. Окатил тревогой и осознанием произошедшее. Тогда же пришли особо увесистые думы.
Прячу пистолет и оглядываю застреленных. Как вам такое равноправие полов? Вскоре над несчастными вспорхнут голодные птицы; Хозяин Монастыря услышит сквозь распахнутое кабинетное окно клич падальщиков, насыщающихся его рабочими. Первому – прыгнувшему на меня и получившему пулю в грудь – птицы дорвут рубаху и склюют мягкое сердце, второго – пытавшегося убежать и завалившегося на живот – расковыряют по меткам изрешечённой спины, третьему – вовремя исповедавшемуся – выедят обнажившийся мозг, наличие которого доказано своевременным преклонением богине.
Убитые не тревожат меня, как тревожил первый павший – Лука. Не преследуют. Не морят. Не терзают. Боязно было выпустить пулю впервой; сейчас же я ощущаю, как во мне формируется принятие и знание «я могу». Это неправильно. Это неправильно?
Пешим шагом я возвращаюсь в Монастырь и оповещаю его Хозяина о трагичной гибели троих работяг-последователей.
– Это не похоже на Луну, которую я знал, – со скорбью протягивает Ян и следом натирает затылок: уверена, больше всего его беспокоит, как и чьими силами он будет избавляться от последствий моей горячности. И кто вернёт конвой…
– Луна, которую ты знал, была продана, – уродливо насмехаюсь я.
– Припоминаешь?
– Не даю забыть.
В первую очередь, себе. Здесь – за пределами дома Солнца – должна править только эта истина: друзей нет и быть не может; каждый пользуется случаем и возможностью, каждый отдаёт и предаёт каждого и каждый заботится о собственной исключительности.
– Я любила его, – обращаюсь к силуэту подле окна.
– Ошибаешься, Луна, – осаждает мужчина.
– Пока что ошибался только ты.
– Чего ты хочешь?
И я взрываюсь, вопрошая ответным прихотям и целям, и попрекаю в величайшей из совершённых ошибок: Бог Удовольствий даровал мне очередную свободу, выудив (напрасно) из желаемого плена (промах) и облачив в удручающие (монастырские) оковы.
– Ты говоришь иначе, – бросает он. Вот так сухо и совсем неуместно. А следом объясняет: – Речь твоя стала другой: слова, интонация и даже манера. Всё в тебе переменилось, девочка в красном платье.
Отворачиваюсь и, пожав плечами, предполагаю:
– Подросла?
А Хозяин Монастыря кусается:
– Сразу видно, что воспитанием занимался знатный человек. Деревенского в тебе не осталось.
– Как и в тебе человеческого.
Тогда Ян желает уколоть в ответ. И выбирает самый уродливый из возможных и самый беспощадный по отношению к чужому сердцу способ:
– Каково это: осознавать, что ты – лишь тень? Пережиток прошлого, которое невозвратимо, как бы того не хотелось.
– О чём ты? – пугаюсь я, дозревая до грядущих слов самостоятельно.
– Может, – продолжает мужчина, – ты из семьи Солнца, но ты – не рода Солнца. Ты – не Она. Не Стелла. И никогда её не заменишь.
– Думаешь, я пыталась или пытаюсь? – бросаю оскорблённо.
– И смени, – рявкает Ян, – это чёртово платье!
Со взмахом рук подлетает и пара книг со стола. Оставшийся вечер я терзаю его напоминанием: своим напоминанием, своим – чёрное пятно – скользящим по кабинету и коридорам силуэтом.
Наступает ночь и с ней по-дружески приходит тоска. Не настигает – увы – сон, в отличие от увесистых дум, а потому я, оставив постель, ухожу в ванную комнату. Замачиваю платье – в воду отходит запёкшаяся кровь; отскребаю её с рукавов и подола вместе с пустынной пылью. Голос Яна за дверью интересуется, всё ли в порядке.
Относительно, Бог Удовольствий.
Наотмашь бросаю, что затеяла стирку, и показательно добавляю напор воды.
– У нас есть прачки, Луна, – вздыхает голос.
– К этому платью дозволено прикасаться лишь рукам из клана Солнца.
Ответ не следует. Должно быть, Ян уходит спать.
Удивительно, но последние дни Монастырь молчит и не принимает важных гостей. Не устраивает вечера, не уготавливает приятный досуг для здешних божков. Не воздаёт небесному пантеону на жертвеннике плоти свои клятвы.
Застирываю платье и, перекинув через душевую перегородку, заползаю под серебряный диск. По лопаткам стегает ледяная вода. Налаживаю вентиль – бежит тёплая. Стеклянная перегородка отделяет от раковины, зеркал и шкафов. Красиво здесь, но неуютно…
Пытаюсь смыть с себя воспоминания той ночи, пытаюсь от рук соскоблить чужую кровь, которая незрима обыкновенным глазом, пытаюсь вычистить пустыню из волос. Всё только пытаюсь, как вдруг захлёбываюсь собственным плачем и лицом препираюсь со стеклянной перегородкой.
Ненавижу ночь за накатывающие в большем объёме мысли и повышенную чувствительность, за беззащитность и обнажённость пред миром.
Вода бежит по спине. Ровно, обжигающе. Вдруг! – ноги обдаёт прохладой, сквозняком; не предаю этому значению – занимаюсь самобичеванием. Рыдаю и, растирая глаза, ощущаю к лицу прикасающиеся ладони. Чужое дыхание обдаёт спину, бежит по позвонкам. Голос скулит:
– Прости, что вынуждаю это чувствовать.
Захлёбываюсь слезами ещё больше.
Прости.
Что.
Вынуждаю.
Это.
Чувствовать.
Нет, Ян, то не заслуживает прощения. Любящие, когда знают, где болит, не бьют по тому месту, не расковыривают рубцы и не пытаются осадить напоминанием. Любящие, когда знают, что могут сделать лучше, делают лучше, а не наоборот.
Хозяин Монастыря обнимает со спины и головой припадает к моему плечу. Жёсткие волосы царапают изнеженную кожу, намокающая одежда липнет к нам обоим.
Я говорю:
– Ты ошибся.
– Знаю.
– И долго это будет продолжаться?
Обнимает крепче и всхлипывает сам.
Нет, не эти подобия объятий, вызванные саможалением.
– Как долго будет хотеться ползти на стены? – уточняю я. – Как долго изнутри будет сквозить? Как долго скорбь живёт на сердце?
– Скорбь живёт вечно, Луна, лишь только царапать перестаёт, – отвечает Хозяин Монастыря и выключает над нами воду.
– С тобой так и случилось?
Безмолвно соглашается.
– Ты не любил до Стеллы?
Упоминание её имени скребёт по мужскому лицу. Ян говорит:
– Думалось, любил, но то было напускным, тешущим, непохожим. Когда я узнал её, всё переменилось и после неё тоже. Когда увидел её – в момент понял, что сердце своё отдам и к её ногам брошу миры. А потерял по глупости молодого ума – перестал ценить и слушать, подумал: «всё вечно»
– Что ты почувствовал, когда увидел меня?
Усмехается. Незлобно, спокойно.
И признаётся:
– Я не увидел девушку мечты, как бы тебе хотелось услышать. Я увидел соперника по взгляду и уму, увидел конкурента и ослаб только по тому, как ты виртуозно дразнила собой. Влюбился я не сразу. В Стеллу – да.
– Как оказывается, первое впечатление – самое важное, – говорю я. – Интуитивно.
– Что почувствовала ты?
– С Гелиосом было спокойно с первой секунды. А про тебя я подумала: «тёмная лошадка».
Хозяин Монастыря ослабленно улыбается.
– Подам полотенце, – говорит он. – Прости, что ворвался. От такого плача самого скрутило.
– Ты угробил, Хозяин Монастыря, всё, что могло быть у нас.
– Даже несмотря на моё раскаяние?
Я просыпаюсь и мужской спины по другую сторону кровати не наблюдаю; слышу разговоры за дверью и занавесом. Монастырские дела идут своим чередом, лишь только приход клиентов остановлен. Скоро и это исправится, и кровь вперемешку со слюнями хлынет за красным балдахином, порок рассыплется по обсуживающим комнатам, и монастырские кошки вожделенно вздохнут. Скоро.
Поднимаюсь. Кран дребезжит и выплёвывает ледяную воду: лицо стягивает, а дёсны сводит. Непросохшее платье висит на перекладине в душевую; иду к комодам и избираю белую хлопковую рубаху и льняные брюки в горчичную клетку. Выпускаю на поясе ткань, а пояс по бёдрам едва застёгиваю; от монастырской диеты из питья и курева они наверняка вновь обтянутся.
Выхожу: Хозяин Монастыря сидит на своём привычном месте и никого более в кабинете нет; отмеряет меня спесивым взглядом и отворачивается.
– И тебе доброго утра, Ян.
Беседы, происходящие ночью, в ночи и остаются: о них никто не вспоминает при свете дня, к ним никто не воспевает и не обращается. А потому мы, свойственно предобеденному времени, спорим с Яном. Я восклицаю, что не вернусь в Монастырь.
– Ты уже здесь, – забавляется мужчина.
– Но должность должно сменить, – отзываюсь второпях.
Девочка в красном платье обошлась дорого из расчёта и имеющейся валюты, и человеческих жизней. Промах был более не допустим.
Ян подсобляет, что без мужа я никто и имени мне нет, и разочарованно качает головой. Я же плююсь наперерез:
– Очень знатно! Никто…! И много лучше, чем зваться твоей.
– Прекрати язвить! – пыхтит Хозяин Монастыря. – Язва женщину не красит.
– Вот и славно, ибо красота расцветает с любящими.
От собственного нетерпения Ян замахивается и кулаком соскабливает покрытие стола, после чего ладонью сносит принесённую по утру почту. Письма разлетаются по кабинету.
– Разумно, Отец, – швыряю напоследок и вязну в – некогда его – спальне за занавесом. – Дальновидно и умно.
– Сучка, выучившаяся старому наречию и огрызаться.
Ян ругается. И ругается на упомянутом огрызке языка, отчего я могу лишь всплакнуть или расхохотаться, ведь понимаю каждое проклятие, замечание и адресованное мне имя. Хозяин Монастыря много месяцев не слышал от меня этого колючего и насмешливого (хотя должного выражать уважение и почтение) обращения. Он собирает письма (не без причитаний), я же скоблю взглядом инжир (не без ментальной тоски). У меня не получилось дать то, чего не хватало его сердцу, не удалось восполнить прореху души), хотя роль избрала соответствующую и значимостью себя окрестила соответствующей. Должна ли была я? – вопрос другой. Ведь с Богом Солнца всё складывалось само собой, словно бы всё подталкивало и сопутствовало, словно бы помогало извне. С ним было легко…он позволил в силу своих накопленных лет, знаний и опыта вкусить эту лёгкость и увязнуть в забытье. Резиденция Солнца и в особенности сад её – чистый морфий.
– Во что ты вырядилась? – восклицает Хозяин Монастыря, врываясь в спальню. Находит меня за перелистыванием брошенной у комода книги. – Что на тебе?
– Не признаёшь собственную одежду? – уплываю от ответа и вместе с тем напираю им. – У тебя проблемы с головой, Ян. Что очевидно.
– Что очевидно, – соглашается он. – Если согласился тебя терпеть.
– Не терпи.
– Это моя рубашка и мои брюки, верно?
Спрашивает укоризненно и растеряно одновременно; это вообще возможно?
– В чём твоя проблема, Ян?
Мешкает, размышляет. Подбирает слова.
– Люди подумают, что мы спим друг с другом, – как вдруг объявляет Хозяин Монастыря.
– Разве это не так? – отвечаю я, припоминая прошедшую ночь.
Вот только значение слов различно: без возлежания в привычном для Монастыря контексте, мы по-щенячьи жались друг к другу спинами и дремали. В самом деле щенки. Обиженные, младые, ещё невыученные жизни, но наученные нутром обнажать оскал и щуриться, когда некто посягает на заветную кость.
– Ты поняла, о чём я.
Не ругается, а – наоборот – меняет интонацию. Словно бы прогибается. Желает, чтобы я пошла на уступки?
– Не заставляй это объяснять, – молит Хозяин Монастыря.
– Будь добр, – бросаю холодно и с тем отбрасываю книжонку в мягком переплёте, перешитую и переклеенную ни единожды. – К слову, так себе чтиво.
– У нас будут проблемы, Луна. Особенно, когда в пантеоне узнают, что случилось с Гелиосом. Люди сопоставят и додумают, не увидев тебя подле мужа, а увидев в Монастыре.
– В твоих брюках.
Мужчина вздыхает:
– Не раздражай.
– Просто произнеси это, Ян.
– Что?
– Что я в твоих брюках. Произнеси, признай, прими – станет легче.
Наступает и хватает за горло, придавливает к спинке кровати и воет:
– Затряхнуть бы тебя прямо здесь и прямо сейчас, возомнившая себя богиней деревенщина.
Страх не обнажаю, отталкиваю руку и нарочито смеюсь:
– Сколько же у нас общего, правда?!
Хозяин Монастыря взвывает и выдаёт:
– Как тебя терпеть? Как тебя терпел он? Тебя же хочется задушить, Луна!
– Ему тоже хотелось, – парирую следом. – Но не задушить, а придушить. Это возбуждает. Рассказать тебе об ощущениях?
– Закрой рот. Слушать невозможно.
– Оставь меня одну, Ян. Так привычней.
Исполняет прихоть: остаюсь одна и так в самом деле привычней; хотя одиночество ощутимо даже в компаниях. В шумливых компаниях оно особенно ярко.
Покидаю хозяйскую спальню и хозяйский кабинет и нахожу швейку, которая сидит в одном из подвальных помещений и отпаривает костюмы послушниц. После обедни женщина подаёт мне платье. Бюстье и высокие брифы из нежнейшего атласа, вымоченные в чёрном цвете, а поверх – вшитая накидка из батиста, с обтягивающими рукавами и многочисленными шлицами по юбке.
Я смотрю на себя в то самое зеркало, в которое смотрела на нас вместе с Яном. Но сейчас он отравлен и обижен, а потому пребывает в недовольстве и в кабинете. К нему рвётся одна из послушниц с какой-то идеей и тут же веером оскорблений гонится прочь. Никто не способен воззвать к его сердцу: таковое не имеется.
Ухожу в сад. Точнее – его подобие. Привычки выводятся из тела и ума предельно долго, потому я рассекаю меж деревьями-юнцами и приглаживаю издержки цветов. В сравнении с деревенской пустошью это казалось величием природы, в сравнении с пышной зеленью резиденции Солнца – скромным аналогом.
Смотрю на рассекающую небо вицу: протягиваю за ней руки и пытаюсь ухватить клок облаков. Все грёзы и мечты казались такими далёкими и недосягаемыми. Как и прошлое, которое едва-едва лизнуло уходящие пяты.
В кабинете меня встречают две пары глаз. Хозяин Монастыря давится выпивкой, а я вышагиваю в сторону гостя. Порумяненный Бог Воды расходится на тысячу комплиментов и тут же рвётся с приветствием.
– Ах, богиня, – раскусывая слова, протягивает он и опасливо смотрит в ответ.
Я подаю ему руку – липкий отпечаток губ остаётся на тыльной стороне – и спрашиваю о делах. Ян в этот момент скрючено пялится и пятится.
Бог Воды от радости встречи выпаливает всё подряд, а потом радушно интересуется делами семьи Солнца. Заверяю его в спокойствии и ссылаюсь на собственные дела.
– У меня есть некоторые планы на Монастырь, – объявляю я и, бегло и хитро глянув на Яна, улыбаюсь.
Мужчины договариваются о грядущей встрече грядущего вечера и прощаются.
– Китти, – хмыкает Хозяин Монастыря на примостившуюся за дверью девицу в коротком облачении, – киска, проводи уважаемого.
Она виснет у старика на шее и, обвивая его руками, уводит дальше по коридору. Смех бежит подле.
Ян захлопывает дверь и, сперва оглядев меня, спрашивает:
– И какие, можно полюбопытствовать, у тебя планы на Монастырь?
– Это единственное, что ты заметил? – смеюсь я. – Да, знаю, мне очень идёт.
Я легкомысленно кружусь на носках, а мужчина толкает меня на себя и прихватывает за горло.
– Я задал вопрос, Луна, я требую ответа.
– А я требую, – отбиваюсь от него, – заслуженного обращения.
– Единственная твоя заслуга – вовремя раздвинутые ноги перед Богом Солнца.
В гневе замахиваюсь, но рука оказывается объята мужской рукой.
– Тебя задевает правда или её резкая форма? – шипит Хозяин Монастыря. – Может, тебе и нравилось лепить пощёчины покойную мужу, со мной это – прекращай.
– Я тебя презираю, – объявляю следом.
– Однако всё равно остаёшься. Раз за разом, – издевается змей.
Отшатываюсь и обжигаю бедро о стол. Предлагаю быть реалистами: мне некуда идти. Так просто.
– А было бы куда? Ушла?
– Не сомневайся в том, Ян.
Мужчина предупреждает меня, выплёвывая каждое слово по отдельности:
– Не трогай мой Монастырь.
За него он готов вонзиться зубами. О, Ян, неисправимый…
– За Монастырь, – объявляю я и, прихватив кем-то оставленный и приправленный алкоголем стакан, вылизываю напиток.
– За Монастырь, – подхватывает мужчина и прихватывает с пола бутыль.
– Это неправильно, – постанываю я сколько-то времени спустя. – Это паразитическая связь, Ян. Нельзя быть таковыми: нельзя всю свою сознательную жизнь издеваться друг на другом, сыскивая милости.
– Потому мы не вместе, – подводит мужчина.
Он сидит на подоконнике и разглядывает приближающийся с запада конвой. Пыль пышным хвостом приглаживает пересохшую почву, а солнце – утомляющее – пускает блики.
Решительно резюмирую, что не вместе мы по другой причине: его глупости, моей гордости и – в скромное довершение – павшему по вине обоих.
– Мы с тобой заигрались в свои совершенно глупые игры. Никто не должен был страдать. Никто не должен был пострадать.
– В этом смысл. Ради счастья исключительных страдают лица множественные.
– И много счастья ты видишь? О, скажи, – выпаливаю я, – ты продумал всё это ещё до моей просьбы отдать в жёны, верно? Ты знал, что вернёшь меня, до того, как продал?
Ян извилисто нашёптывает и прячет глаза в пышной листве (деревья в саду подросли и теперь их макушки видно даже с дивана). Скрежет металла и пара выхлопов; прибывший конвой тормозит подле главных ворот, и по выложенной тропе бредёт троица будущих послушниц. Эту троицу в обносках, похожих на юбки и бандо, ведёт другая троица – из сопровождающих мужчин. Быстро же Хозяин Монастыря нашёл замену павшим…
Выпивка прячется в стол. Ян оценочно режет приближающихся дев и предлагает мне выйти. Отказываюсь, шутливо ссылаясь на то, что занимаюсь изучением дел Монастыря, а потому должна присутствовать в момент знакомства с будущими послушницами. Недовольное бормотание сопровождает мою насмешливую улыбку ещё пару минут.
Освобождаю диван и опираюсь о подоконник, лёгкий – однако душный – ветер подхватывает юбку и ласкает тончайшей тканью мужские ноги. Дверь распахивается: троица взваливается в кабинет.
Неужели и я так выглядела?
И дело вовсе не в поношенных чудных вещах или страдальческом – в целом/от жизни в провинции/на пустыре или помирающей деревне – лице. Всё крылось во взгляде; вот, что мне предстояло узнать.
Смуглая шатенка смотрит презрительно удушающе, платиновая блондинка – без понимания и с досадой, светлолицая и с горчичным бобом – обречённо. Вот и собрались все возможные рефлексы на отправление тебя любимой в местный бордель для местных божков.
– Мои красавицы! – рукоплещет Хозяин Монастыря. – Что за дивные цветы? Вас собирали в саду?
Он с улыбкой обращается ко мне, глядя через плечо, и восторгается на старом наречии, что с этими сучками придётся повозиться: слишком резвый нрав и высокое мнение было у каждой и в разных величинах.
Шатенка всё с тем же недоверием косится на незнакомые слова, блондинка приветливо улыбается, словно её одарили лучшими комплиментами, а горчичная выпускает нервный смешок и прячет потерянные глазки; никто ничего не понял и каждый воспринял неясные хитросплетения слогов по-своему.
А затем Ян, утомительно петляя меж выставленными на ковре девицами, приглаживает их оголённые спины или теплится губами у висков. О, с какой досадой и в этот же миг с каким глумлением я отворачиваюсь к окну и ловлю дребезжание зелёных верхушек из виднеющейся части сада.
Ян награждает каждую девочку обольстительным взглядом и гранённым стаканом. Но чёртово обольщение, как и гранённый стакан, сработать не могут – девочки с ядом косятся на меня. Явная претендентка на роль любимицы зудит в их малых умах. Я отступаю от окна и мягкой поступью бреду до новеньких. Эти новенькие были не для Хозяина Монастыря, о нет! Это мои послушницы. В моих силах было показать себя, стравить напыщенные речи Яна о безмолвном послушании ему и закрепиться за управляющей (хотя бы одной из).
Горчичная опускает глаза, но я, ласково ухватив её за подбородок, велю посмотреть. Девочка поднимает испуганное личико и ловит моё дыхание.
Параллельно с тем выступает сам Ян. Его чёртов принцип не касаться новоприбывших и послушниц даёт смачную прореху; и вот мы измываемся друг над другом и друг перед другом.
Хозяин Монастыря, соблазнительно нашёптывая, уговаривает их ступить на земли Монастыря – отныне и навсегда, и зудит о красивой и беззаботной жизни. Я подтверждаю его слова и переманиваю девочек, угощаю питьём и выразительными словами о прекрасном; горчичную едва не обжигаю касанием губ, у блондинки задорно прокручиваю прядь волос, а брюнетке засматриваюсь в глаза и обещаю этим взглядом лучшие из возможных благ. Они соглашаются. Соглашаются: ни разу ничего не уточнив, не спросив и не воскликнув. И соглашаются – вот уж чудо – совершенно без слов: зачарованно качают головками и троицей ютятся на диване. Я растягиваюсь на спинке за их спинами, и вместе мы ожидаем приготовления Отца. Ян подсовывает им документы, а затем поджигает ещё одну папиросу. Дурман стоит невообразимый; пропитанный с ума сводящими ароматами стол – с дымящимися на нём шашками – пускает почти невидимые благовония. Я привнесла в Монастырь долгожданные метаморфозы.
– Ты привнесла в Монастырь разруху и беду, – несколько позже объявляет мужчина.
– Спровоцированы они были исключительно тобой.
– Однако носят твоё имя! Не возжелаешь быть Богиней Хаоса?
– Если такова должность не занята – сочту за честь.
Хозяин Монастыря разглядывает под полупрозрачной тканью на моём бедре белую подвязку. Из старого мира и старых традиций, когда брак торжественно отмечали и документально заверяли, когда жена позволяла мужу снять с себя эту подвязку.
– А ты с чувством юмора, да? – причитает Ян.
Хозяин Монастыря отворачивается и складывает перед собой кипу бумаг, а я, двинув её бедром, присаживаюсь на стол подле. Бумаги сыплются, Ян нервно сглатывает. Закидываю ногу на ногу, и тогда разрезанная ткань велит мрачному взгляду приласкать одаренную солнечной позолотой кожу.
Хозяин Монастыря быстро смотрит на меня и быстро отворачивается.
– И чего ждёшь? Команды? – издеваюсь я.
– Сколько ещё мне терпеть твои мучения?
– А сколько вытерпишь?
Слегка откидываю угол юбки и вместе с тем здравый смысл.
– Взять, – швыряю следом. – Так ты хочешь? Словно собака на кость?
Хозяин Монастыря с недоверием (оправданным) и непониманием (отверженным) взирает на меня и взглядом просит повториться. Я киваю. Взять.
И на ласкающую в секунду руку, бью и по этой руке, и по её обладателю. Возможно, виноват испитый стакан неясного содержания, возможно, скуренные самокрутки, возможно, девы, которых мы пытались соблазнить назло друг другу.
– Это всё что тебе надо? Всё, чего ты хочешь, да? И плевать: какими силами и чьими жизнями. Ненавижу тебя! – огрызаюсь я и – как вдруг – влепляю Яну полюбившуюся (кому из нас больше?) пощёчину. – Ты прикончил Гелиоса и, едва тело успело остыть, ползёшь под юбку его жене? Чёртов псих. Ты психопат!
– Кричишь сейчас ты, не я. Не я псих.
– Как же я тебя ненавижу!
Вдруг заливаюсь слезами и пытаюсь ударить вновь. Перегрызаю внутри себя слова о Гелиосе. Уродливые слова. Мне следовало молчать. Но скудность лица Яна и его лёгкость после тяжёлой утраты выворачивали и напитывали какой-то злостью, даже злобой.
Хозяин Монастыря наступает и загребает в объятия, останавливая судороги и удары, усаживает к себе на колени и, теплясь к груди, успокаивает. Пытается.
– Я тебя ненавижу, – почти воем добавляю я и добавляю какие-то ошмётки кулаков. – Чёрт бы с тобой, Ян… – и вот уже реву. – Ненавижу…
– Тише.
– Ненавижу…
Он обхватывает талию и жмёт к себе: весь горит, трепещет; желание вперемешку с досадой, вот так смех! – мы приготовили чертовски противный (по своей человеческой природе) коктейль и теперь с лихвой пускались в пьяные танцы двух потерявших рассудок.
Будь в нас чуть меньше напыщенной и неоправданной гордости, которая меж двух сердец лишь возбраняется, ничего бы не вышло. Никакие бы горечи и разлуки не оросили нашу историю:
не прояви он свою непокрытую принципиальность, когда сам подбросил Гелиосу,
не прояви я свою преувеличенную горесть, когда рассыпалась меж монастырскими стенами с воем о не случившихся чувствах,
не прояви он своё малодушие и тщеславие, швырнув оскорбительное предложение стать его женой,
не прояви я свою не отпускающую гордыню, издеваясь над гостем…
О, тысяча «если бы не» и больше собрали из нас нынешних нас: изуродованных не только историей и жизнью, но и самими собою. Однако и прекратиться то не могло. Не могли мы остановиться, больше нет. И потому я предупреждаю Яна:
– Мы с тобой, Хозяин Монастыря, идиоты: были и таковые остаёмся. Пора бы прекратить играть в свои бездушные игры, но ставки уже необоснованно высоки. Я устала, Ян, от такой жизни, хотя только начала жить.
– Добро пожаловать в мой мир, – усмехается он.
И вот я сижу на подоконнике, свесив ноги на улицу, и закуриваю тонкую, утаенную Ману, сигарету. Кольцо отлетает с губ и опоясывает зенитное солнце. Гелиос? Я улыбаюсь ему, как вдруг улавливаю звуки на стороне. Горизонт открывает облако пыли и нечто приближающееся.
– Разве ты ожидаешь гостей? – вопрошаю через плечо; мужчина, которого настигли думы, отрывает голову от развороченных листов бумаги и взирает на меня.
– А у нас гости?
– И кто-то важный!
– Почему ты так решила? – удивляется Ян и покидает кресло; равняется со мной и отбирает сигарету.
– Потому что без твоего долбанного конвоя, – ругаюсь следом. – Смотри, как едет. Словно скачет…о, это и вправду лошадь.
Хозяин Монастыря ругается самым скверным образом, ударяет по подоконнику и, стаскивая меня за плечо, велит убираться.
– Неужели есть кто-то, кого ты боишься? – забавляюсь я. – Или просто опасаешься…? Уж за меня не переживай.
– Обыкновенно путник этот несёт смерть.
– Её я не боюсь, видались.
Смеюсь и готовлю три стакана, откупориваю бутыль подарочного коньяка и восседаю обратно на окно. Ян, затянувшись в последний раз, отдаёт мне несчастную спицу.
Незнакомец рассекает промятую конвоем тропу, а чёрные одежды его развеваются по ветру. Лошадь – смоляная красавица, с идеальной выправкой и понимающими глазами; вижу их за версту и желаю познакомиться.
Ян сбагривает документы, расчищая стол, и принимает не слишком задумчивое лицо. Ударяю почти докуренной иглой о дребезжащий подоконник и внимательно рассматриваю прибывшего: некто гарцует по выложенной до Монастыря плитке, замирает подле части сада и, махнув рукой охране (та, к слову, беспокойно и приветливо кланяется), оставляет лошадь. Человек замечает движение и взирает на меня; от вздёрнутой головы с макушки спадает капюшон: взору предстаёт длинная белёсая коса. Мы встречались…
– Бог Смерти, – шёпотом объявляю я и вязну в тени кабинета.
– Вы знакомы? – хмурится Хозяин Монастыря.
– Тебя это пугает или удивляет?
– Сейчас не до твоих издевательств, Луна. Появление Бога Смерти – дурная примета, знаешь ли. Его имя себя оправдывает.
– Разве же он убийца?
– О, ни за что. Суд вершится не его руками. Он лишь гонец, что приносит благие или дурные вести. Но без вестей не является, беда в этом.
Я мыслю о граничащих друг с другом понятиях жизни и смерти. О взаимозаменяемых понятиях. Одно есть отсутствие или следствие другого. Ты даёшь, ты забираешь. И право отнять жизнь у тебя есть, ежели ты способен породить новую. Вот только не порождаются опыт, дух и ум – в этом проблема. Выходит, и право отнимать нет.
– А ты убивал, верно? – решаюсь спросить Хозяина Монастыря.
Тот бросает спесивый взгляд и ведёт бровью, подкашливает и усмехается.
– Своими руками, Ян, – уточняю следом, дабы лишний раз напомнить, что кровь, пущенная чужими, но под его началом, принадлежит хозяйской голове.
– Дерьмо случается, Луна. Бывало.
Сколькими нужно пожертвовать, дабы укрепить дрожащую руку?
– А скольких ты убил?
– Тебе эта информация ни к чему, – отвечает Ян.
– Ты просто не помнишь! – горько насмехаюсь следом.
– А если бы и помнил, что бы это изменило?
– Смотря, что для тебя жизнь, – перебиваю раздосадованное лицо и – вмиг – разгневанный голос.
– Ничто, – спокойно говорит мужчина. – Я Бог, Луна, и для меня жизнь – ничего из себя не представляющая величина: одна из миллионов и более; подчиняемая и воли, и прихоти. Может, даже валюта.
– Не забывай, что и я Богиня.
Он впяливается в саднящее лицо, полное тоски и горечи.
– И что же для тебя жизнь, богиня? – стрекочет Ян.
– Пожелаю взглянуть смерти в лицо, дабы узреть истинный, исчерпывающий ответ.
– Не играйся, Луна! Такие игры – действительно – стоят жизни.
И в этот миг дверь распахивается. Ни сопровождающей охраны, ни его сопутствующих лиц, ни стука, ни приглашения. Бог Смерти, с которым мы беседовали однажды (но не единожды) – у сада, на пороге дома Жизни, взирает на меня и Яна и поочередно приветствует рукопожатием. Я предлагаю сесть, а сама – внутренне – отмечаю его манеру поведения и разговора: он не выделяет полов и соответствующие жесты/фразы, он не ограничивается телесной оболочкой и говорит возвышенно.
Ян, тревожно падая в собственное кресло, интересуется причиной визита.
– Проведать, – улыбается Бог Смерти, а затем, одарив собеседника многозначным взглядом, пожимает мою руку вновь и заверяет: – Я искренне соболезную вам, Богиня Солнца. Можно бесконечно предаваться напыщенным речам о том, что это колоссальная потеря для пантеона и верующих…но это ничего не значит и ничего из себя не представляет в сравнении с вашей личной потерей. Сожалею об утрате и обещаю любую помощь. Ваша искренность чувств, как было отмечено мной в одну из бесед, поразила, а потому не могу не предложить поддерживающе плечо ныне.
Всё встаёт на свои места.
Некто, прознавший о падении дома Солнца и любезно предавший тело его последнего представителя земле. Разумеется, покушаться на жизнь упомянутого господина я не могла. Не имела права и желания. Всё равно тайна скоро обнажится…А Бог Смерти мог стать достойным союзником.
Я выражаю благодарность и велю не зацикливаться на единой теме; время – вершить дела. Бог Смерти, не похожий ни на мужчину, ни на женщину (то есть вобравший и те, и те черты) попросту не мог быть посетителем и уж тем более завсегдатаем Монастыря. Значит, к Яну его привело иное…
Разглядываю бархатную белоснежную косу, пущенную по чёрной мантии, пока обладатель её, предаваясь светским (и, соответственно, натянутым) разговорам, восседает на диване. От алкоголя он отказывается, а на вопрос, чем можно обрадовать гостя, незамысловато отвечает, что предпочитает пить молоко с мёдом и только Хозяину Монастыря то известно: каждый раз Бог Смерти называет одно и то же, но каждый раз Хозяин Монастыря, не грезя о следующей встрече, забывает пополнить запасы бара.
Я давно не слышала этого слова (и молоко, и бар), а потому приправляю человека удивлённым взглядом.
– Спрошу на кухне, – обращаюсь к Богу Смерти и поднимаюсь с места подле, а на злобное лицо Яна, которое подначивает: «не стоило этого делать и даже пытаться», бросаю: – Вполне возможно, не всё извели на шубат.
– Думаешь? – бессовестно хмыкает Ян.
– Уверяю, – шмыгаю следом и покидаю раскалённый кабинет.
Не без ругани на тучных тёток отвоёвываю стеклянную тару и литр белого с комьями.
Бог Смерти с самым живым лицом вкушает данный напиток, а Бог Удовольствий с самым прискорбным видом взирает на нас поочерёдно. Незримы им никакие мирские и земные удовольствия; лишь тягучая имитация от ужасных вещей и поступков.
Мы разговариваем об обыкновенном; а вскоре касаемся и рабочих моментов. Удивительно, но гость наш оказывается интересным собеседником и приятелем.
– Теперь монастырские дела вы ведёте вместе, не так ли?
Ян нехотя роняет правду:
– Похоже на то.
– Однако, – великодушно улыбается Бог Смерти, – не все секреты между вами обнажены, верно? В партнёрстве это плохо сказывается.
– Личные и рабочие моменты должны быть разграничены, – препирается Хозяин Монастыря, а я с интересом и пылом присаживаюсь на соседствующий стул, дабы понаблюдать за борющимися со стороны.
Беседа их была в действительности похожа на борьбу: вот только Хозяин Монастыря в силу своего характера и нрава – скалился и кусался, а Бог Смерти – выжидал и остро колол.
– И там, и там полно скелетов, – веселится последний упомянутый.
Я обращаюсь к Яну с самым спокойным лицом и взглядом прошу ответов.
– Ты что-то скрываешь от меня, дорогой друг? – смеюсь я.
– Это не заслуживает твоего внимания, Луна, – по-змеиному спокойно шепчет Хозяин Монастыря.
– Я припоминаю лишь то, что заслуживает, – нещадно доносит гость. – Иные грехи можно и не ворошить, но этот… в нём следует раскаяться. Тем более перед лицом новой богини, пополнившей ряды пантеона и пришедшей на смену старому небожителю; одари богиню исповедью, пускай же она прознает вкус обнажаемой тайны.
– Бог Смерти, не обижайся, – подначивает Ян, – но ты и так с каждым своим визитом являешь и сулишь прискорбные мысли. Ты есть одна сплошная прискорбная мысль. Навязчивая. Удручающая.
Лошадь, оставленная подле Монастырских стен, выдаёт редеющий, но громогласный гогот. Бог Смерти поднимается и, отдаляясь к дверям, благодарит за приём.
– Был рад повидаться, до новых встреч.
– Я провожу нашего гостя, не беспокойся, – обращаюсь к Яну и, едва улыбнувшись, покидаю кабинет. Предупреждаю: – Кажется, нас ждёт увлекательная беседа.
Иду вровень с Богом Смерти; благо, он не желает недолгий путь вдоль монастырских стен скоротать глупыми или пустыми разговорами. Охрана отступает и двери распахиваются. Свет от ласкающего закатного солнца прилипает к ногам и рукам, тепло раскатывается по груди и лицу.
– Вы рады солнцу, Луна, – говорит Бог Смерти. – И оно радо вам. Вы определенно любимица этой звезды.
– Так и есть.
Едва проходим, как я замираю подле лошади и прошу знакомства. Бог Смерти берёт меня за руку и руки наши накладывает на широкую звериную морду. Ноздри раздуваются, а рот причмокивает.
– Что это значит?
– Здоровается.
Здороваюсь в ответ. И спрашиваю:
– А как его зовут? Или её…?
– У Этого нет имени, – спокойно отвечает Бог Смерти.
– Тогда я назову Это, – восклицаю наперерез, – Розой.
И припаиваюсь второй рукой к гладкой шерсти, и, заглядывая в прелестные глаза, ласкаю нового друга.
– Ваше право, Богиня, – отвечает Бог Смерти.
И я – вот чёрт! – не понимаю истинности слов: укол, забава, факт?
– Но почему Роза…?
– Вас взяло любопытство? Не порок ли то?
– Играетесь.
– Всегда. А вообще, – объявляю я, – в моём понимании роза есть предельно страстный цветок. Сколько легенд и сказаний, сколько мифов и историй (супруг наградил меня ими) связано с этим цветком. Вижу в нём истинные страсть и красоту. Движение, прыть и статность.
– Вы находите спутника смерти страстным?
– Более чем. Поступки их – таковы. Да и мотивы.
– Но мы едва знакомы, чтобы вы могли судить о мотивах, – обыкновенно улыбается человек. – Едва знакомы.
– А мне кажется – всю жизнь. Разве мы не шли бок о бок? Разве не помогали друг другу?
– Возможно.
Говорю:
– Я благодарна вам за сегодняшний визит.
И по глупой привычке подаю руку для поцелуя, но Бог Смерти, не растерявшись, по-дружески жмёт её обеими руками; и только. Затем приглаживает по иссиня-чёрной гриве Розу и признаётся, что имя ему по нраву.
В окно выглядывает Ян – зовёт в Монастырь:
– Луна, свет мой, вернись! Работа не ждёт.
И, прикуривая, исчезает.
Я проглатываю ужасное, колючее, намеренно отравляющее обращение и, бегло глянув в сторону распахнутого окна, прижимаюсь головой к голове лошади. Та спокойно принимает новый жест: ворошит копытами землю, раздувает ноздри, фыркает.
Лицо у Бога Смерти не меняется – меняются планы. Он, заприметив мою тоску и уклончивость в ответе Яну, вопрошает, не желаю ли я обучиться езде. Впопыхах признаюсь, что впервой вижу лошадь так близко и вряд ли удержусь на ней.
– Нестрашно! – восклицает человек и, подав руку, помогает взобраться.
Я приземляюсь в седло и, хохоча (а в этот момент забывается всё), притягиваю поводья. Бог Смерти поправляет меня: опускает ноги и тянет носок ввысь, вторит о правильности и удобстве и, подзывая Розу рукой, ведёт вдоль мощённой дорожки. Я одариваю их обоих комплиментами и признаниями. Мой новый компаньон отмечает способность к верховой езде.
– В вас это есть, – заверяет он и свободно пускает лошадь.
Роза притоптывает и разворачивается, красуется перед хозяином, едва не гарцуя, и забавляет меня. Ян, притаившись за шторой, наблюдает.
Вычерчиваю знаки бесконечности – от сада и до ворот. И так несколько раз.
– Ваши впечатления, богиня? – спрашивает хозяин лошади.
– Мне нравится быть наездником, – отвечаю я и незамысловато улыбаюсь.
Бог Смерти скромно смеётся. А затем говорит, что поможет мне спуститься, ибо самой это сделать с первого раза не получится.
– Не верите в мои силы? – прикусываю я.
– Что-что, а в ваших силах моих сомнений нет. Только в некотором незнании «как правильно». Всё приходит с опытом.
И Бог Смерти просит перекинуть ногу через опущенную голову лошади и выскользнуть из седла в жилистые руки. Держа за талию, ставит на землю. По-новому благодарю и, распрощавшись, желаю скорой встречи.
– Что за потеху ты устроила во дворе Монастыря? – встречает меня недовольный голос Яна, разрезающий его недовольное выражение лица.
– Тебе досаждает, что я веселилась без твоей компании или просто веселилась?
– То, что делала это во дворе Монастыря, – вторит мужчина. – Под наблюдением пытливого взгляда послушниц.
– Как скучно!
– А угощать Бога Смерти, Луна, то еще чванство. И моветон. Глупая примета, которой все остерегаются: «угостить вестника смерти – открыть ему двери в дом». Ты ещё письмо напиши и отобедать пригласи.
– Адрес есть?
Заваливаюсь на диван и впиваюсь в бродящий силуэт взглядом.
– Ты сама себя погубишь, радость. Помяни.
– Взаимно.
Я наблюдаю за рысью Яна: лицо его выражает непокрытую скорбь. Хозяин Монастыря не отдаёт себя ни делам, ни приёмам; он грустит и подтапливает эту грусть градусами. Что имел в виду покинувший нас гость, когда упомянул о сокрытом? Какую из тайн велел обнажить?
– Исповедуйся, Ян, – предлагаю я, – мой внутренний бог послушает тебя. Дьяволу нравится, когда к нему обращаются во всеуслышание с мольбой.