Читать онлайн Игра мистера Рипли бесплатно
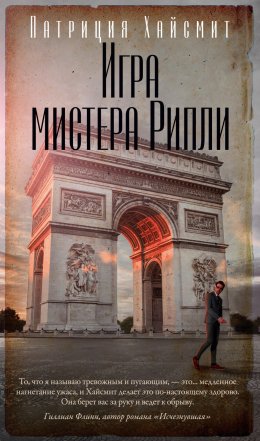
Patricia Highsmith
RIPLEY’S GAME
First published in 1974
Copyright © 1993 by Diogenes Verlag AG, Zürich
All rights reserved
© И. А. Богданов (наследник), перевод, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука®
* * *
То, что я называю тревожным и пугающим, – это… медленное нагнетание ужаса, и Хайсмит делает это по-настоящему здорово. Она берет вас за руку и ведет к обрыву.
Гиллиан Флинн, автор романа «Исчезнувшая»
Криминальные триллеры Патриции Хайсмит связаны с той же экзистенциальной проблематикой, что и романы любимых ею авторов, таких как Достоевский, Конрад, Кафка, Жид и Камю (по словам одного из проницательных критиков, Хайсмит – это Достоевский, «чей вклад включает в себя юмор и обаяние»)… В ее книгах исследуются человеческие души в своих крайних проявлениях, и перед глазами читателей проходит целая галерея мужчин и женщин, скользящих к срыву…
The New York Review of Books
Трудно не болеть за Тома Рипли. Не любить его. На каком-то уровне не желать ему победы. Патриция Хайсмит прекрасно справляется с тем, чтобы он добился наших симпатий.
The Guardian
Патриция Хайсмит – поэт мрачных предчувствий, который создал свой собственный мир, замкнутый и иррациональный, и каждый раз мы входим в него с чувством личной опасности.
Грэм Грин
Подлинный мастер психологического детектива.
Bookforum
Я не смогла бы сделать интересную историю про каких-то идиотов… Убийцы, о которых пишут в газетах, в половине случаев умственно отсталые или просто черствые люди. Например, есть молодые парни, которые могут помочь пожилой леди отнести продукты домой, а затем ударить ее по голове, когда она приглашает их на чай, чтобы ограбить… Многие убийцы именно такие, и они не интересуют меня настолько, чтобы писать о них книгу.
Патриция Хайсмит
* * *
Патриция Хайсмит (1921–1995) – американская писательница, мастер психологического детектива, перу которой принадлежат более 20 романов и несколько сборников рассказов. Ее произведения отмечены престижными литературными премиями и включены в список «100 лучших детективов» английского писателя и критика Генри Китинга. Творчество Хайсмит послужило источником вдохновения для целой плеяды талантливых кинорежиссеров (в их числе Альфред Хичкок, Лилиана Кавани, Клод Миллер, Энтони Мингелла, Эдриан ЛАйн и др.), а также проложило дорогу таким известным писательницам в жанре детектива, как Гиллиан Флинн и Пола Хопкинс.
1
– Идеального убийства не бывает, – сказал Том Ривзу. – Это всего лишь досужий вымысел. Чтобы все просчитать, нужен талант. Ты, конечно, скажешь, что на свете полно нераскрытых убийств. Но это уже совсем другое.
Тóму было скучно. Он вышагивал перед высоким камином, в котором потрескивал небольшой, но уютный огонь. Том чувствовал, что говорит занудливым, назидательным тоном. Но дело в том, что помочь Ривзу он не мог, о чем уже сказал ему.
– Ну да, конечно, – произнес Ривз.
Он сидел в одном из обитых желтым шелком кресел, подавшись всем своим худощавым телом вперед и зажав руки между коленями. У него было костлявое лицо, короткие светлые волосы, холодные серые глаза – лицо не очень-то приятное, но и оно могло быть симпатичнее, не будь на нем шрама, протянувшегося по всей щеке дюймов на пять от правого виска почти до самого рта. Шрам был чуть розовее, чем кожа на лице, и, казалось, был плохо обработан, а может, швы и вовсе не накладывали. Том никогда не спрашивал про этот шрам, но Ривз сам как-то разоткровенничался: «Одна девица ударила меня пудреницей. Представляешь?» (Том не мог себе такого представить.) Ривз в тот раз невесело улыбнулся, но улыбка тотчас сошла с его лица; Том нечасто видел, чтобы Ривз улыбался. А в другой раз Ривз сказал: «Это я с лошади упал. Она волочила меня за стремя несколько ярдов». Ривз говорил это кому-то другому, но Том оказался рядом. Том решил, что шрам, скорее всего, остался после удара тупым ножом в какой-нибудь горячей потасовке.
Теперь Ривз хотел, чтобы Том присоветовал ему кого-нибудь, подыскал кого-то, кто мог бы совершить одно, а может, и два «простых убийства», а попутно еще украл кое-что – дело тоже безопасное и простое. Ривз приехал из Гамбурга в Вильперс для разговора с Томом. Он собирался остаться на ночь и назавтра отправиться в Париж, чтобы еще с кем-то переговорить об этом же деле, а потом – вернуться к себе домой в Гамбург, наверное, затем, чтобы в случае неудачи все хорошенько еще раз обдумать. Ривз начинал как скупщик краденого, но в последнее время имел свой интерес в незаконном игорном бизнесе Гамбурга и намеревался его защищать. От кого? От итальянских акул, которые хотели в него внедриться. Ривзу казалось, что один итальянец был рядовым членом мафии, его заслали в Гамбург шпионить, а еще один его соотечественник мог быть из другого клана. Устранив одного пришельца, а то и обоих, Ривз надеялся пресечь дальнейшие поползновения мафии, а заодно и привлечь к ней внимание полиции. Пусть они ею займутся и вышвырнут вон.
– Эти гамбургские парни – народ вполне приличный, – убежденно говорил Ривз. – Может, то, чем они занимаются, и незаконно, может, они и не имеют права держать пару-другую частных казино, но их клубы легальны, да и доходы у них не баснословные. Это вам не Лас-Вегас, который весь пропитан мафией, да еще прямо под носом у американских копов!
Том взял кочергу и собрал в кучу головешки, а сверху положил треть аккуратно расколотого полена. Уже вечер, почти шесть часов. Скоро можно и выпить. Впрочем, почему не сейчас?
– Не желаешь…
В дверях гостиной появилась мадам Аннет, экономка Рипли.
– Простите, господа. Мсье Том, не хотите ли выпить, раз уж этот господин отказался от чая?
– Да, спасибо, мадам Аннет. Я и сам об этом подумал. И попросите мадам Элоизу составить нам компанию, хорошо?
Тому хотелось, чтобы Элоиза немного смягчила обстановку. Прежде чем отправиться в аэропорт Орли, чтобы встретить Ривза в три часа дня, он сказал Элоизе, что Ривз хочет с ним кое о чем переговорить, и она, делая вид, что работает в саду, то спускалась вниз, то поднималась к себе.
– Подумай, – точно спохватившись, произнес Ривз с надеждой в голосе, – может, сам возьмешься? Ты ничем не связан, а это как раз то, что нам нужно. Безопасность прежде всего. Да и деньги – девяносто шесть тысяч баксов – совсем неплохо.
Том покачал головой:
– Я связан с тобой… некоторым образом.
Да, черт побери, он и без того уже кое-что делал для Ривза, например переправлял по почте кое-какие ворованные вещицы. Или доставал из тюбиков с зубной пастой крошечные предметы вроде рулончиков с микрофильмами, которые туда засовывал Ривз, да так, чтобы курьеры, доставлявшие пасту, ни о чем не догадались.
– Насколько, по-твоему, меня хватит, если я втянусь в это темное дело? Сам знаешь, я ведь и о своей репутации должен подумать.
Том чувствовал, как это смешно звучит, и в то же время сердце у него радостно забилось при мысли о том, как твердо он стоит на ногах, в каком хорошем доме живет, как безопасно себя чувствует, а ведь после истории с Дерваттом прошло всего полгода. Тогда все едва не кончилось катастрофой, но он практически остался вне подозрений. Да, приходится иногда ходить по тонкому льду, но лед пока не треснул. В сопровождении английского инспектора Уэбстера и пары медэкспертов Том ездил в Зальцбург. В тамошнем лесу он сжег тело человека. Предполагалось, что это труп художника Дерватта. «Зачем вы раскроили ему череп?» – спросил у него полицейский. Вспоминая об этом, Том всякий раз вздрагивал. А сделал он это потому, что хотел выбить передние зубы, чтобы спрятать где-нибудь. Нижняя челюсть отделилась легко, и Том закопал ее неподалеку. Но верхняя… один из медэкспертов подобрал несколько зубов, однако в Лондоне ни один стоматолог не имел дела с зубами Дерватта, потому что предыдущие шесть лет Дерватт (как полагали) жил в Мексике. «Это лишь часть замысла, – ответил тогда Том, – мне хотелось, чтобы он сгорел целиком». Но тот, кого сожгли, был Бернардом. Том в который раз содрогнулся, вспомнив, как рисковал тогда, и еще раз ужаснулся своему поступку – ведь ему пришлось ударить большим камнем по обугленному черепу. Но Бернарда он не убивал. Бернард Тафтс покончил с собой.
– Ты и сам найдешь среди своих знакомых того, кто смог бы это сделать, – сказал Том.
– Да, но это будет означать связь – даже большую, чем с тобой. Все, кого я знаю, засвечены в полиции, – произнес Ривз уныло, постепенно сдаваясь. – У тебя ведь много знакомых, Том, вполне приличных людей, вне подозрений.
Том рассмеялся:
– И как же их заставить пойти на такое? Мне иногда кажется, Ривз, что у тебя не все дома.
– Да ты послушай! Ты ведь понимаешь, что я имею в виду. Нужен человек, который пошел бы на это из-за денег, только из-за денег. Ему не обязательно быть специалистом. Мы сами все устроим. Это будет как бы… убийство по политическим мотивам. Если на него падет подозрение, он должен совершенно не походить на человека, который способен па такое.
Вошла мадам Аннет, толкая перед собой сервировочный столик. Блеснуло серебряное ведерко для льда. Столик слегка поскрипывал. Том уже несколько недель собирался смазать колесики. Он мог бы и дальше перекидываться фразами с Ривзом, ведь мадам Аннет, слава богу, не понимает английского, но Тому наскучил предмет разговора, и он был рад, что мадам Аннет их прервала. Экономке шел шестой десяток. Это была коренастая женщина с приятными чертами лица, родом из Нормандии – сокровище, а не прислуга. Том и представить не мог Бель-Омбр без нее.
Потом из сада пришла Элоиза, Ривз поднялся. На Элоизе были расклешенные хлопчатобумажные брюки в розово-красную полоску, причем на каждой полоске сверху вниз тянулись буквы LEVI. Длинные светлые волосы у нее были распущены. Том увидел огненный отблеск в ее волосах и подумал: «Какая чистота в сравнении с тем, о чем мы тут говорим!» Впрочем, золотой блеск напомнил Тому о деньгах. Деньги ему, вообще-то, больше не нужны, даже если картины Дерватта, от продажи которых он получал проценты, перестанут приносить доход, потому лишь, что картин уже не будет. Том продолжал получать проценты от фирмы «Дерватт лимитед», и это будет продолжаться. Был еще скромный, но постоянно возрастающий доход от ценных бумаг Гринлифа, которые он унаследовал, собственноручно подделав завещание. Не говоря уже о щедром денежном содержании, поступавшем от отца Элоизы. Чего еще желать? Том ненавидел убийство, если только оно не было вызвано крайней необходимостью.
– Вы хорошо побеседовали? – спросила Элоиза по-английски и изящно откинулась на желтом диване.
– Да, спасибо, хорошо, – сказал Ривз.
Дальше беседа продолжалась на французском, потому что Элоиза была не совсем в ладах с английским. Ривз не очень хорошо знал французский, но кое-как справлялся, да и ни о чем важном они не говорили: сад, мягкая зима, которая, похоже, уже прошла, потому что наступил март и здесь уже распускались нарциссы. Том взял со столика небольшую бутылку и налил Элоизе шампанского.
– Как есть в Гамбурге? – отважилась Элоиза еще раз спросить по-английски, и Том заметил, что ей доставляет удовольствие наблюдать за тем, как Ривз пытается отделаться дежурной фразой на французском.
В Гамбурге тоже не холодно, и еще Ривз прибавил, что у него также есть сад. Его «petite maison»[1] находится на берегу Альстера, там кругом вода – то есть что-то вроде залива, где люди живут в своих домах в окружении садов и воды, а значит, кто хочет, имеет лодку.
Том знал, что Элоизе не нравится Ривз Мино – она не доверяла ему. Ривз был из тех, от кого Тому, по мнению Элоизы, лучше держаться подальше. Том с удовольствием подумал, как он честно вечером признается Элоизе, что отказался от предложения Ривза. Элоиза всегда прислушивалась к мнению отца. Ее отец, Жак Плиссон, миллионер, владелец известной фармацевтической фирмы, был сторонником Шарля де Голля, а это – основа респектабельности по-французски. Том его вообще не интересовал. «Отец не позволит брать больше!» – частенько предупреждала Элоиза Тома, но он-то знал, что ее больше волнует собственное спокойствие, чем зависимость от помощи отца. Если верить Элоизе, тот часто угрожал оставить ее без содержания. Раз в неделю, обычно по пятницам, она обедала у родителей в их доме в Шантильи. Том знал, что если ее отец когда-нибудь прекратит оказывать ей помощь, то им в Бель-Омбр придется туго.
На обед были médaillons de bœuf[2], перед которыми подали холодные артишоки с фирменным соусом мадам Аннет. Элоиза переоделась в простенькое светло-голубое платье. Том видел – она уже поняла, что Ривз не добился того, зачем приехал. Прежде чем все разошлись по комнатам, Том позаботился, чтобы у Ривза было все необходимое. Он спросил, в котором часу ему принести чай в комнату, – а может, кофе? Кофе, ответил Ривз, в восемь утра. Ривз занял комнату для гостей в левой половине дома, а значит, в его распоряжении оказалась ванная, которой обычно пользовалась Элоиза. Мадам Аннет уже успела перенести ее зубную щетку в ванную Тома, смежную с его комнатой.
– Я рада, что он завтра уезжает. Отчего он так нервничает? – спросила Элоиза, чистя зубы.
– Он всегда такой. – Том закрыл душ и, выйдя из-под него, обернулся большим желтым полотенцем. – Может, потому он такой худой.
Они говорили по-английски, потому что с ним Элоиза не стеснялась своего произношения.
– Как вы познакомились?
Том этого не помнил. Когда это было? Лет пять, а то и шесть назад. В Риме? Чьим приятелем был Ривз? Том слишком устал, чтобы вспоминать, да и не важно все это. У него было пять-шесть таких знакомых, и, как бы его ни расспрашивали, он не смог бы сказать, где познакомился с ними.
– Что ему от тебя нужно?
Том обнял Элоизу за талию, тесно прижался к ее телу, прикрытому ночной рубашкой, и поцеловал в холодную щеку.
– Нечто невозможное. Я сказал «нет». Ты же это поняла. Потому он и расстроен.
Ночью одинокая сова кричала где-то в сосновом лесу за их домом. Просунув левую руку под шею Элоизы, Том лежал и думал. Она тотчас уснула и задышала медленно и ровно. Вздохнув, Том продолжал размышлять, но мысли его были сумбурными. Вторая чашка кофе отогнала сон. Он вспомнил, как с месяц назад попал на вечеринку в Фонтенбло. Тогда в неформальной обстановке отмечали день рождения мадам… как же ее звали? Том попытался вспомнить фамилию ее мужа, именно он его и заинтересовал – английская фамилия, кажется. Ему было тридцать с небольшим, у них был маленький сын. Дом их выглядел внешне заурядным – трехэтажный особняк на богатой улице в Фонтенбло, с садиком позади. Хозяин дома занимался изготовлением рам для картин, поэтому Пьер Готье, который держал магазин художественных принадлежностей на улице Гранд, где Том покупал краски и кисти, и затащил туда Тома. Готье тогда сказал: «Мсье Рипли, идемте со мной. И жену с собой возьмите! Ему хочется, чтобы было много гостей! Последнее время он не в своей тарелке… И потом, раз уж он изготавливает рамы, может, и вы сделаете ему заказ».
Том заморгал в темноте и чуть повернул голову, чтобы не задеть ресницами плечо Элоизы. Высокого светловолосого англичанина он вспомнил с некоторой обидой и неприязнью, потому что на кухне, в мрачном помещении с истрепанным линолеумом и жестяным потолком в разводах копоти с рельефным узором девятнадцатого века, тот сделал Тому неприятное замечание. Трюбридж… Тьюксбери… произнес чуть ли не с издевкой: «Как же, как же, я о вас слышал». Том сказал тогда: «Меня зовут Том Рипли. Я живу в Вильперсе», после чего собрался было спросить его, давно ли он живет в Фонтенбло, рассчитывая, что англичанин, женатый на француженке, быть может, захочет познакомиться с американцем и его женой-француженкой, живущими неподалеку, но его доброе намерение натолкнулось на грубость. Треванни? Кажется, так его зовут? Блондин, с прямыми волосами, похож на датчанина, но англичане часто бывают похожи на датчан, и наоборот.
Впрочем, теперь Том вспомнил, что Готье сказал позднее в тот же вечер: «Он просто не в себе. Он и не собирался грубить. У него болезнь крови – лейкемия, кажется. Довольно серьезно. Да ты и сам видишь, что дела у него идут не очень хорошо, – посмотри, как он живет».
У Готье был стеклянный глаз необычного желто-зеленого цвета – он выбрал этот цвет, скорее всего, потому, что таким же был его настоящий глаз, но затея не удалась. Искусственный глаз Готье походил на глаз мертвого кота. Как ни старайся не смотреть, взгляд все равно невольно в него упирался. Мрачные слова Готье в сочетании с его стеклянным глазом произвели тогда на Тома сильное впечатление. Будто сама смерть посмотрела на него.
Как же, как же, я о вас слышал. Означает ли это, что Треванни, или как там его, подозревал Тома в смерти Бернарда Тафтса, а до этого и в смерти Дикки Гринлифа? Или же англичанин настроен против всех из-за своей болезни? Точно так ведет себя человек, страдающий расстройством желудка. Том вспомнил жену Треванни – женщина некрасивая, но интересная, с каштановыми волосами, дружелюбная и внимательная. Она делала все, чтобы гостям было хорошо и в гостиной, и на кухне, где не всем нашлось место из-за недостатка стульев.
Том размышлял вот о чем: возьмется ли этот человек за работу, которую предлагает Ривз? Том нашел интересный подход к Треванни. Такой подход сработает с любым, надо лишь подготовить почву, а в данном случае почва уже подготовлена. Треванни серьезно тревожился за свое здоровье. Тому пришло в голову сыграть с ним одну шутку, не очень-то хорошую, но ведь и тот не очень-то хорошо обошелся с Томом. Все это продлится день-другой, не больше, пока Треванни не посоветуется со своим врачом.
Тóму стало весело от собственных мыслей. Он отодвинулся от Элоизы, боясь, как бы она не проснулась, если его вдруг разберет смех. А что, если Треванни попадется и выполнит план Ривза как солдат, точно и четко? Стоит попробовать? Да, потому что Тому нечего терять. Как и Треванни. Треванни может даже кое-что приобрести. Да и Ривз тоже – если верить Ривзу, но пусть об этом заботится он сам, поскольку то, что Ривзу нужно, Тому так же непонятно, как и его проделки с микрофильмами, а там дело пахнет международным шпионажем. Знают ли правительства, под какими личинами скрываются некоторые из их шпионов? Или те безрассудные, полубезумные люди, порхающие между Бухарестом, Москвой и Вашингтоном с пистолетами и микрофильмами, – люди, которые, быть может, с неменьшим энтузиазмом ввязываются в международные конфликты между коллекционерами почтовых марок или любителями детской железной дороги?
2
Десять дней спустя, 22 марта, Джонатан Треванни, живший на улице Сен-Мерри в Фонтенбло, получил любопытное письмо от своего доброго знакомого Алана Макнира. Алан, представитель одной английской электронной фирмы в Париже, написал письмо как раз перед тем, как отправился в Нью-Йорк по делам, и, как это ни странно, на следующий день после того, как побывал у четы Треванни в Фонтенбло. Джонатан подумал было – а впрочем, ничего он не подумал, – что Алан хочет поблагодарить его и Симону за прощальную вечеринку, которую они устроили в его честь. Алан и правда написал несколько слов благодарности, но следующий пассаж озадачил Джонатана:
«Джон, меня повергло в шок то, что я узнал о твоей старой болезни крови, но все же надеюсь, что это не слишком серьезно. Мне говорили, что ты все знаешь, но ничего никому не говоришь. Это очень благородно с твоей стороны, но для чего же тогда друзья? Мы тебя не оставим – это и в голову не бери, – и не думай, что мы станем избегать тебя из-за твоей меланхолии. Твои друзья (а я один из них) здесь – и будут с тобой всегда. Но написать обо всем, что мне бы хотелось сказать, не могу, поверь. Лучше выскажусь, когда мы увидимся в следующий раз, месяца через два, когда получу отпуск. Поэтому прости, если эти слова придутся некстати».
О чем это он? Уж не сообщил ли доктор Перье его друзьям что-то такое, чего не сказал ему?.. Например, что он долго не протянет? Доктор Перье не был на вечеринке в честь Алана, но не разговаривал ли доктор Перье с кем-нибудь еще?
Может быть, доктор Перье беседовал с Симоной? А Симона это утаивает?
Джонатан стоял в саду в полдевятого утра, обдумывая все эти варианты. Его знобило, хотя он надел свитер. Пальцы были перепачканы землей. Надо бы сегодня же переговорить с доктором Перье. От Симоны ничего не добьешься. Еще сцену устроит. Дорогой, о чем это ты? Джонатану всегда было трудно понять, когда она устраивает сцену.
А доктор Перье – можно ли ему доверять? Доктор Перье всегда излучал оптимизм. Хорошо, когда болезнь несерьезная, – в таком случае чувствуешь себя на пятьдесят процентов лучше, одного этого бывает достаточно, чтобы поправиться. Но Джонатан знал, что болен серьезно. У него был миелолейкоз, для которого характерно повышенное содержание лейкоцитов в костном мозге. За последние пять лет ему не меньше четырех раз делали переливание крови. И все равно он чувствовал упадок сил. Каждый раз, чувствуя слабость, он обращался к своему врачу или в больницу в Фонтенбло, чтобы ему сделали переливание крови. Доктор Перье говорил (и ему вторил один специалист в Париже), что придет время, когда состояние его резко ухудшится и переливания больше не помогут. Джонатан столько прочитал о своей болезни, что и сам это знал. Еще никому не удалось предложить способ излечения миелолейкоза. Эта болезнь убивает человека примерно за шесть-двенадцать лет или даже за шесть-восемь. Джонатан болел ею шестой год.
Джонатан отнес вилы в небольшое кирпичное строение, бывшее когда-то туалетом, а потом ставшее местом хранения садового инвентаря, и направился к дому. Поднявшись на одну ступеньку, он остановился и втянул в легкие свежий утренний воздух, подумав при этом: «Сколько еще недель мне суждено наслаждаться вот такими днями?» Он вспомнил, что и минувшей весной думал о том же. Держись, сказал он себе. Все эти шесть лет он думал о том, что не доживет до тридцати пяти. Джонатан твердой походкой поднялся по железным ступеням, думая теперь о том, что уже 8:52, а в магазине ему нужно быть в девять или чуть позже.
Симона ушла с Джорджем в école maternelle[3], и дом был пуст. Джонатан вымыл руки под краном, воспользовавшись при этом щеткой для овощей. Симона этого не одобрила бы, но он сразу же вымыл щетку. Еще одна раковина имелась в ванной на втором этаже. Телефон в доме отсутствовал. Первое, что он сделает, когда придет в магазин, – позвонит доктору Перье.
Джонатан прошел по улице Паруас и, свернув налево, вышел на пересекавшую ее улицу Саблон. Войдя в магазин, он набрал номер доктора Перье, который помнил наизусть.
Сестра ответила, что у доктора расписан весь день. Джонатан этого ожидал.
– Но это срочно. Я не займу много времени. У меня только один вопрос, поверьте, я обязательно должен с ним увидеться.
– Вы ощущаете слабость, мсье Треванни?
– Да, – мгновенно ответил Джонатан.
Ему назначили на полдень. В этом было что-то роковое.
Джонатан занимался изготовлением рам для картин. Он резал холсты и стекло, сколачивал рамы, выбирал подходящие из своего запаса для покупателей, которые не умели это делать сами, и – бывало это, правда, крайне редко, – покупая старые рамы на аукционе или у старьевщика, приобретал вместе с рамой и картину, которая казалась ему интересной. Почистив картину, он выставлял ее в витрину для продажи. Но это занятие не приносило прибыли. Он с трудом сводил концы с концами. Семь лет назад у него был партнер, тоже англичанин, из Манчестера. Они вместе открыли антикварный магазин в Фонтенбло, занимаясь преимущественно старьем, которое обновляли и продавали. На двоих денег не хватало, поэтому Рой оставил это дело и устроился механиком в гараже где-то под Парижем. Вскоре после этого врач в Париже сказал Джонатану то же, что говорил врач в Лондоне: «Вы подвержены анемии. Лучше проверяйтесь почаще, а от тяжелой работы воздержитесь». Со шкафов и диванов Джонатан переключился на более легкие вещи и занялся рамами для картин. Прежде чем жениться на Симоне, он сказал ей, что, возможно, не проживет и шести лет, – они повстречались, когда оба врача подтвердили, что его периодические упадки сил объясняются миелолейкозом.
И теперь, спокойно, очень спокойно начиная свой рабочий день, Джонатан думал о том, что если он умрет, то Симона, возможно, снова выйдет замуж. Симона работала пять дней в неделю с 14:30 до 18:30 в обувном магазине на авеню Франклина Рузвельта в нескольких минутах ходьбы от их дома. Она смогла пойти работать только в этом году, когда Джордж подрос и они определили его в детский сад. Они нуждались в тех двухстах франков в неделю, которые она зарабатывала, хотя Джонатан и раздражался, когда думал о том, что Брезар, ее хозяин, слишком охоч до женщин. Он не упускал случая ущипнуть за зад какую-нибудь из своих работниц и наверняка склонял кое-кого из них на большее в задней комнате, где хранились товары. Брезару отлично известно, что Симона женщина замужняя, поэтому, думал Джонатан, вряд ли он всерьез пробовал за ней приударить, но разве такого остановишь? Симона вовсе не была расположена к флирту – напротив, до странности застенчивая, она, вероятно, не считала себя привлекательной для мужчин. За это и ценил ее Джонатан. По его мнению, сексапильности Симоне хватало с избытком, хотя не всякий мужчина это замечал, и больше всего Джонатана раздражало то, что Брезар, этот настырный боров, возможно, учуял, чем хороша Симона, и рассчитывал кое-что с этого поиметь. И дело не в том, что Симона много говорила о Брезаре. Она лишь однажды упомянула о том, что тот подбирается к своим работницам, – а кроме Симоны в магазине работали еще две женщины. Показывая покупательнице акварель в рамке, Джонатан на секунду представил себе, что Симона, выдержав приличествующую паузу, уступила этому ужасному Брезару, который к тому же и холостяк, да и в материальном плане обеспечен получше Джонатана. Глупости, подумал Джонатан. Симоне такие не нравятся.
– Какая прелесть! Чудесно! – воскликнула молодая женщина в ярко-красном пальто, рассматривая акварель на расстоянии вытянутой руки.
На длинном, серьезном лице Джонатана появилась улыбка – будто солнышко вышло из-за туч и засверкало всеми лучами. Она радовалась так искренне! Джонатан не был с нею знаком. Картину, которую она рассматривала, принесла какая-то пожилая женщина, возможно ее мать. Цена должна была бы быть на двадцать франков выше его первоначальной оценки, потому что рамку он сделал более дорогую, не ту, которую выбрала пожилая женщина (у Джонатана в запасе их было не так много), но он не придал этому значения и взял восемьдесят франков, как они и договаривались.
Потом Джонатан прошелся шваброй по деревянному полу и смахнул пыль с трех-четырех картин, выставленных в небольшой витрине. Сегодня утром он подумал, что у его магазина определенно неряшливый вид. Никаких ярких красок, лишь рамы всех размеров вдоль некрашеных стен, к потолку подвешены образцы дерева для рам, на прилавке – книга заказов, линейка, карандаши. В задней части магазина стоял длинный деревянный стол, на котором Джонатан орудовал своими пилами, рубанками и стеклорезами. На том же длинном столе лежали паспарту, которые он заботливо оберегал, большой рулон коричневой бумаги, мотки веревки и проволоки, тюбики с клеем, коробочки с гвоздями разных размеров, а на стенных полках, над столом, – ножи и молотки. В целом Джонатану нравилась эта атмосфера девятнадцатого века, без всякого намека на коммерцию. Ему хотелось, чтобы его магазин выглядел так, будто им заправляет искусный мастер, и это, похоже, ему удалось. Он никогда не завышал цены, заказы выполнял вовремя, а если запаздывал, то извещал об этом своих клиентов открыткой или по телефону. Джонатан знал, что люди это ценят.
В 11:35, вставив к этому времени в рамки две небольшие картины и прикрепив к ним фамилии владельцев, Джонатан вымыл руки и лицо под краном с холодной водой, причесался и приготовился к худшему. Кабинет доктора Перье был недалеко, на улице Гранд. Джонатан повернул висевшую на дверях табличку той стороной, на которой было написано «Открыто с 14:30», запер дверь и вышел на улицу.
Джонатану пришлось ждать в приемной доктора Перье, сидя рядом с отвратительным пыльным лавровым деревом. Оно никогда не цвело, не умирало, не росло и внешне не менялось. Джонатан сравнил себя с этим деревом. Он снова и снова пристально смотрел на него, хотя пытался думать о другом. На овальном столике лежали старые зачитанные журналы «Пари матч», но на Джонатана они производили еще более гнетущее впечатление, чем лавровое дерево. Джонатан знал, что доктор Перье работал еще и в hôpital[4] Фонтенбло, иначе было бы глупо доверяться врачу, который работает в такой захудалой дыре, и уж тем более отдавать ему на откуп вопросы жизни и смерти.
Появилась сестра и поманила его пальцем.
– Так-так, как там мой интересный пациент, мой самый интересный пациент? – проговорил доктор Перье, подавая ему руку.
Джонатан пожал ее:
– Чувствую себя неплохо, спасибо. Но как насчет… я имею в виду анализы, которые сдавал два месяца назад. Не очень хорошие результаты?
У доктора Перье был озадаченный вид. Джонатан внимательно смотрел на него. Доктор Перье улыбнулся, обнажив желтоватые зубы под небрежно подстриженными усами:
– Что значит – не очень хорошие? Результаты вы сами видели.
– Но… я не очень-то разбираюсь в этом…
– Я ведь вам все объяснил… Да в чем дело? Вы опять быстро утомляетесь?
– В общем, нет.
Джонатан знал, что доктору пора обедать, поэтому прибавил торопливо:
– Сказать по правде, один мой приятель откуда-то узнал, что у меня вот-вот должно быть ухудшение. И что я, возможно, долго не проживу. Я, естественно, подумал, что эти сведения исходят от вас.
Доктор Перье покачал головой, потом рассмеялся, подпрыгнув, как птица, затем успокоился и, слегка расставив костлявые руки, оперся ими на верх застекленного шкафчика.
– Мой дорогой, во-первых, будь это правдой, я бы об этом никому не сказал. Это неэтично. Во-вторых, это неправда, насколько я могу судить по результатам последних анализов. Хотите, сегодня сделаем еще один? Во второй половине дня, в больнице, может, я…
– Это совсем необязательно. Я хочу знать лишь одно – это правда? Или вы не хотите мне сказать? – Джонатан рассмеялся. – Чтобы я лучше себя чувствовал?
– Что за глупости! Уж не думаете ли вы, что я из таких врачей?
Именно, подумал Джонатан, глядя доктору Перье прямо в глаза. И да простит его Бог, но Джонатан считал, что вполне заслуживает того, чтобы ему сказали правду, потому что он не боится правды. Джонатан прикусил нижнюю губу. Он подумал, что можно съездить в парижскую лабораторию и попробовать еще раз встретиться со специалистом по фамилии Муссю. Кое-что, быть может, удастся выудить сегодня за обедом у Симоны.
Доктор Перье между тем похлопывал его по руке.
– Ваш приятель – не стану спрашивать, кто он, – либо заблуждается, либо это, по-моему, не очень хороший приятель. А теперь послушайте-ка. Вы должны обратиться ко мне, когда действительно почувствуете утомляемость, и только на это стоит обращать внимание…
Спустя двадцать минут Джонатан поднимался по ступенькам своего дома, держа в руках коробку с яблочным пирогом и длинный батон. Открыв дверь ключом, он прошел через прихожую на кухню. Оттуда тянуло запахом жареной картошки – этот запах, от которого слюнки текут, всегда предвосхищал обед, а не ужин. Симона обычно нарезала картошку тонкой соломкой, а не круглыми ломтиками, как чипсы в Англии. И что это ему вспомнились английские чипсы?
Симона стояла возле плиты в переднике поверх платья и орудовала длинной вилкой.
– Привет, Джон. Что-то ты поздно.
Джонатан обнял ее и поцеловал в щеку, затем поднял коробку и покачал ею перед Джорджем, который, склонив светловолосую голову над столом, вырезал из пустой картонки из-под кукурузных хлопьев части для своей конструкции.
– А, пирог! С чем? – спросил Джордж.
– С яблоками.
Джонатан поставил коробку на стол.
Каждый съел по небольшому бифштексу с вкусной жареной картошкой и зеленым салатом.
– Брезар затеял инвентаризацию, – сказала Симона. – На следующей неделе привезут летнюю коллекцию, поэтому он собирается устроить распродажу в пятницу и субботу. Возможно, сегодня вернусь попозже.
Она подогрела яблочный пирог на асбестовой огнеупорной тарелке. Джонатан с нетерпением ждал, когда Джордж отправится в гостиную играть или пойдет гулять в сад. Когда сын наконец ушел, он сказал:
– Забавное письмо получил я сегодня от Алана.
– От Алана? И что в нем забавного?
– Он отправил его перед самым отъездом в Нью-Йорк. Похоже, он прослышал… – Надо ли показывать ей письмо Алана? Читать по-английски она умеет. Джонатан решил продолжить. – Он где-то слышал, что мне хуже, что у меня вот-вот будет серьезный кризис или что-то вроде этого. Ты что-нибудь об этом знаешь?
Джонатан следил за ее взглядом.
Симона, казалось, была искренне удивлена.
– Да нет, Джон. От кого я могу об этом услышать, как не от тебя?
– Я только что разговаривал с доктором Перье. Поэтому и задержался немного. Перье говорит, что не видит ухудшения в моем состоянии, но ты же знаешь Перье! – Джонатан улыбнулся, по-прежнему внимательно глядя на Симону. – Вот, кстати, это письмо, – сказал он, вынимая его из заднего кармана. Он перевел ей тот самый абзац.
– Mon dieu![5] А он-то откуда узнал?
– Вот в том-то и вопрос. Напишу ему и спрошу. Ты как думаешь?
Джонатан еще раз улыбнулся, на сей раз искренне. Теперь он был уверен, что Симоне ничего об этом не известно.
Прихватив вторую чашку кофе, Джонатан отправился в гостиную, где Джордж успел растянуться на полу среди вырезанных им кусков картона. Джонатан сел за письменный стол, за которым он всегда чувствовал себя на высоте. Это был довольно изысканный французский письменный стол, подарок семьи Симоны. Джонатан старался не облокачиваться слишком сильно на столешницу. Конверт с пометкой «авиа» он адресовал в гостиницу «Нью-Йоркер», Алану Макниру. После нескольких ничего не значащих фраз в начале он написал:
«Не совсем понимаю, что ты имел в виду в своем письме, когда упомянул новости (обо мне), которые тебя шокировали. Я чувствую себя хорошо, и сегодня утром разговаривал со своим врачом, чтобы убедиться, всю ли правду он мне сказал. Он утверждает, что перемены к худшему в моем состоянии нет. Поэтому, дорогой Алан, меня вот что интересует – где ты это услышал? Не мог бы ты черкнуть мне пару строк в ближайшее время? Похоже, тут какое-то недоразумение. Я бы и рад все забыть, но, надеюсь, ты поймешь, почему мне хочется знать, где ты об этом услышал».
По пути в свой магазин он бросил письмо в желтый почтовый ящик. Раньше чем через неделю ответ от Алана не придет.
В этот день Джонатан, как обычно, уверенно водил острым ножом вдоль края железной линейки. Он думал о своем письме, как оно добирается в аэропорт Орли и, возможно, будет там сегодня вечером, а может, завтра утром. Он вспомнил о своем возрасте – тридцать четыре года – и подумал, как мало успел сделать, а ведь, возможно, ему придется умереть месяца через два. Он произвел на свет сына, а это уже достижение, хотя отнюдь не из тех, которые заслуживают особой похвалы. Симону он оставит не очень обеспеченной. Пожалуй, уровень ее жизни даже понизился, и он тому виной. Ее отец всего-навсего торговец углем, но в продолжение ряда лет семья сумела окружить себя кое-какими житейскими удобствами, машиной, например, приличной мебелью. В июне или июле они обычно отдыхали на юге, арендовали виллу, а в прошлом году заплатили за месяц, чтобы Джонатан и Симона смогли поехать туда с Джорджем. Дела Джонатана обстояли хуже, чем у его брата Филиппа, который был на два года старше, хотя физически Филипп выглядел послабее; скучный тип, корпит всю жизнь. Теперь Филипп профессор антропологии в Бристольском университете, особо не выделяется – в этом Джонатан уверен, – но на ногах стоит твердо, делает карьеру, имеет жену и двоих детей. Мать Джонатана, вдова, счастливо живет в Оксфордшире со своим братом и невесткой, ухаживает там за большим садом, ходит за покупками и готовит. Джонатан чувствовал себя неудачником в семье, – это касалось как здоровья, так и работы. Сначала он хотел быть актером. С восемнадцати лет два года ходил в театральную школу. Лицо, как ему казалось, у него вполне подходящее для этой профессии, не слишком красивое – большой нос, широкий рот, – однако достаточно смазливое, чтобы играть романтические роли. И фигура довольно плотная, чтобы со временем играть более солидных персонажей. Что за нелепые мечты! Он и пары проходных ролей не получил за те три года, что слонялся по лондонским и манчестерским театрам, – при этом кормился, разумеется, случайными заработками, например был помощником ветеринара. «Места на сцене ты занимаешь много, а толком себя подать не можешь», – сказал ему однажды режиссер. А потом, устроившись ненадолго в антикварную лавку, Джонатан понял, что торговля антиквариатом ему по душе. Всему, что требуется, он научился у своего босса, Эндрю Мотта. Затем вместе с приятелем Роем Джонсоном они совершили великое переселение во Францию. Тот тоже был полон энтузиазма и хотел открыть антикварный магазин, начав с торговли старьем, хотя знаний и у него недоставало. Джонатан не забыл, с какой надеждой на успех и благополучие он отправлялся во Францию, как рассчитывал на везение и предвкушал свободу. А вместо удачи, вместо того чтобы набраться опыта с помощью череды любовниц, вместо того чтобы сойтись с богемой или с тем близким к искусству слоем французского общества, который, по представлению Джонатана, все-таки существовал, – вместо всего этого ковылял еле-еле по жизни и чувствовал себя не намного увереннее, чем в ту пору, когда пытался найти работу актера или обеспечивал себя случайными заработками.
Джонатан подумал о том, что единственная его удача в жизни – женитьба на Симоне. О своей болезни он узнал в тот самый месяц, когда познакомился с Симоной Фусадье. Он стал быстро утомляться и романтически объяснял это тем, что влюбился. Однако кратковременный отдых не избавлял его от усталости. Однажды в Немуре он потерял сознание на улице и после этого решил обратиться к врачу. Доктор Перье из Фонтенбло высказал предположение, что у него что-то неладно с кровью, и направил его в Париж к доктору Муссю. Через два дня диагноз был установлен – миелолейкоз. Муссю сказал, что жить ему осталось шесть-восемь, если повезет – двенадцать лет. Увеличится селезенка, что, по сути, уже и произошло, и Джонатан не мог этого не заметить. Таким образом, сделав предложение Симоне, Джонатан одновременно объявил и о любви, и о смерти. Наверное, любая другая молодая женщина в подобной ситуации отказала бы ему или же сказала, что ей нужно время, чтобы подумать. Симона ответила «да», потому что тоже его полюбила. «Любовь – это главное, а там видно будет», – сказала тогда Симона. Раньше Джонатан приписывал французам, да и другим романским народам, расчетливость, однако тут ее и в помине не оказалось. Симона сказала, что уже переговорила с родителями. И это спустя всего две недели после того, как они познакомились. Джонатан вдруг почувствовал себя гораздо увереннее, чем когда-либо прежде. Любовь, настоящая, а не романтическая, любовь, над которой он был не властен, чудесным образом спасла его, он это чувствовал, как и то, что с любовью ушел страх перед смертью. Как предсказывал доктор Муссю из Парижа, смерть придет через шесть лет. Может быть. Джонатан не знал, чему верить.
Надо бы еще разок съездить в Париж к доктору Муссю, подумал он. Три года назад в парижской больнице Джонатану сделали полное переливание крови под его наблюдением. Смысл этой процедуры заключается в том, чтобы понизить содержание белых кровяных телец – только на это и оставалось надеяться. Но спустя восемь месяцев количество лейкоцитов вновь повысилось.
Однако, прежде чем договориться с доктором Муссю о встрече, Джонатан решил дождаться письма от Алана Макнира. Алан ответит сразу, в этом Джонатан был уверен. На Алана можно рассчитывать.
Перед уходом Джонатан осмотрел магазин. Интерьер точно из какого-нибудь романа Диккенса. Дело не в пыли, надо что-то делать со стенами. Может, попробовать навести внешний лоск, а для этого начать обдирать покупателей, как это делают многие торговцы рамами для картин, продавать лакированные, под бронзу, изделия по завышенным ценам? Джонатан поморщился. Ну уж нет, он не из таких.
Это было в среду. А в пятницу, корпя над неподатливым шурупом с ушком, который сидел в дубовой раме лет, наверное, сто пятьдесят и не имел намерения уступать клещам, Джонатан вдруг бросил инструмент и оглянулся, куда бы ему сесть. Возле стены стоял деревянный ящик, на который он и опустился, но почти тотчас же поднялся и вымыл лицо, низко склонившись над раковиной. Минут через пять слабость прошла, а к обеду он и вовсе позабыл о ней. Такие минуты бывали каждые два-три месяца, и Джонатан радовался, если упадок сил не заставал его на улице.
Во вторник, через шесть дней после отправки письма Алану, он получил ответное письмо из гостиницы «Нью-Йоркер».
«Суббота, 25 марта
Дорогой Джон!
Поверь мне, я рад, что ты переговорил со своим врачом и что у тебя хорошие новости! О том, что у тебя серьезные проблемы, мне рассказал лысоватый, небольшого роста человек с усами и стеклянным глазом, лет, наверно, сорока с небольшим. Похоже, он был сильно этим огорчен, и тебе, пожалуй, не стоит на него чересчур сердиться, потому как он, скорее всего, слышал об этом от кого-то еще.
Мне нравится этот город. Мне бы хотелось, чтобы и вы с Симоной составили мне компанию. Особенно если учесть, что я в командировке и за меня платят…»
Того, о ком говорил Алан, звали Пьер Готье. Он держал магазин художественных принадлежностей на улице Гранд. Готье не был приятелем Джонатана – так, знакомый. Он часто присылал кого-нибудь к Джонатану с просьбой вставить картину в раму. Джонатан отчетливо помнил, что Готье был у них в доме на вечеринке в честь отъезда Алана, и тогда-то, наверное, они с Аланом и поговорили. О том, что Готье имел какие-то дурные намерения, затевая этот разговор, не могло быть и речи. Джонатана несколько удивляло лишь то, что Готье вообще знал о его болезни, хотя слухи на этот счет ходили, как понимал Джонатан. Надо бы поговорить с Готье и спросить, от кого он об этом услышал, подумал Джонатан.
Утром Джонатан решил дождаться почты, как и накануне. Его подмывало тотчас отправиться к Готье, но он подумал, что тем самым проявит ненужное беспокойство и лучше сначала пойти в свой магазин и открыть его, как обычно.
Из-за трех-четырех утренних посетителей Джонатан не мог сделать перерыва до 10:25. После их ухода он повесил на стеклянной двери табличку с нарисованными на ней часами, извещавшую о том, что магазин снова откроется в одиннадцать часов.
Когда Джонатан вошел к Готье, тот был занят с двумя покупательницами. Джонатан побродил среди полок с кистями, пока Готье не освободился.
– Мсье Готье, – обратился он к нему наконец. – Как идут дела? – и протянул руку.
Готье сжал протянутую руку двумя ладонями и улыбнулся:
– А у вас, мой друг?
– Неплохо, спасибо… Ecoutez[6]. Не хочу занимать у вас много времени, но все же хотел бы кое-что спросить.
– Да-да? В чем дело?
Джонатан поманил Готье, чтобы тот отошел подальше от двери, которая могла в любой момент открыться. В маленьком магазине негде было повернуться.
– Я узнал кое-что от приятеля – его зовут Алан, помните? Англичанин. Он был на вечеринке несколько недель назад у меня дома.
– Ну да! Ваш друг, англичанин. Але́н, – произнес Готье по-французски.
Он вспомнил его и, казалось, внимательно слушал.
Джонатан старался не замечать искусственный глаз Готье и смотрел в другой.
– Кажется, это вы сказали Алану, что слышали, будто я очень болен, так что, скорее всего, долго не протяну.
На спокойном лице Готье появилось выражение озабоченности. Он кивнул:
– Да, мсье, я слышал об этом. Надеюсь, это неправда. Я помню Алена, потому что вы представили мне его как своего лучшего друга. Поэтому я и решил, что он знает. Наверное, мне не стоило этого говорить, простите меня за бестактность. Я думал, что у вас – как говорят англичане – уверенность лишь на лице.
– Ничего страшного, мсье Готье, поскольку уж я-то знаю, что это неправда! Я только что разговаривал со своим врачом. Но…
– Ah, bon![7] Это совсем другое дело! Рад это слышать, мсье Треванни! Ха-ха!
Пьер Готье от души рассмеялся, словно узнал, что духи изгнаны и не только Джонатану, но и ему теперь жить да жить.
– Но мне бы хотелось знать, от кого вы это услышали. Кто вам сказал, что я болен?
– Ах да! – Готье прижал палец к губам и задумался. – Кто? Один человек. Ну да, один человек.
Он мог бы назвать его, но медлил.
Джонатан ждал.
– Но помню, он говорил, что не уверен. Говорил, слышал от кого-то. По его словам, у вас неизлечимая болезнь крови.
Джонатан опять почувствовал какую-то тревогу, что с ним уже бывало не раз в течение последних нескольких дней. Он облизнул пересохшие губы.
– Но кто? Откуда он об этом узнал? Он не говорил?
Готье снова заколебался:
– Раз это неправда, может, лучше не стоит и говорить об этом?
– Вы с ним хорошо знакомы?
– Нет! Уверяю вас, не очень.
– Покупатель?
– Да-да. Покупатель. Очень приятный человек. Но раз уж он сказал, что не уверен… право же, мсье, не сердитесь, хотя я и понимаю, как это вас задело.
– Отсюда возникает интересный вопрос: откуда этот приятный человек узнал о том, что я очень болен? – продолжал Джонатан, в свою очередь рассмеявшись.
– Да-да. Вот именно! Но ведь это не так. Разве не это главное?
Джонатан понял, что в Готье заговорила французская учтивость и нежелание потерять покупателя, а также – что вполне объяснимо – отвращение к разговору о смерти.
– Вы правы. Это главное.
Джонатан пожал Готье руку, сказал ему «adieu»[8], при этом оба улыбались.
В тот же день за обедом Симона спросила Джонатана, не слышно ли чего-нибудь от Алана. Джонатан ответил утвердительно:
– Это Готье сказал Алану.
– Готье? Тот самый, что торгует художественными принадлежностями?
– Да.
За кофе Джонатан закурил сигарету. Джордж гулял в саду.
– Сегодня утром я был у Готье и спросил, от кого он об этом услышал. Он сказал, что от одного покупателя. Смешно, правда? Готье так и не сказал мне, кто это, да я и не виню его. Конечно же, вышла какая-то ошибка. Готье и сам это понимает.
– Но ведь это ужасно, – сказала Симона.
Джонатан улыбнулся, понимая, что для нее это вовсе не ужасно, ведь она-то знала, что доктор Перье сообщил ему весьма хорошие новости.
– Не надо, как говорится, делать из мухи слона.
На следующей неделе Джонатан столкнулся с доктором Перье на улице. Доктор спешил в «Сосьете женераль»[9], куда хотел попасть до двенадцати часов – до закрытия. Однако он все-таки остановился и спросил у Джонатана, как тот себя чувствует.
– Вполне хорошо, спасибо, – ответил Джонатан.
Мыслями он был в магазине, который находился в сотне ярдов и также закрывался в полдень; там он намеревался купить вантуз.
– Мсье Треванни…
Доктор Перье стоял, держась за большую ручку двери банка. Отойдя от двери, он приблизился к Джонатану.
– Что касается того, о чем мы говорили на днях… вы ведь понимаете, ни один врач не может быть до конца уверен. Особенно в таком случае, как ваш. Не хотелось, чтобы вы думали, будто я гарантировал вам полное здоровье, иммунитет на годы вперед. Вы ведь и сами знаете…
– Да я вовсе так не думаю! – перебил его Джонатан.
– Значит, вы все правильно поняли, – улыбнувшись, произнес доктор Перье и тотчас устремился в банк.
Джонатан отправился дальше на поиски вантуза. Вообще-то, у них засорилась раковина на кухне, а не туалет. Симона еще несколько месяцев назад одолжила вантуз у соседей. Но теперь его больше занимало то, что сказал ему доктор Перье. Может быть, он что-то знает, может, последние анализы дали какие-то подозрительные результаты, но пока у него нет достаточных оснований, чтобы говорить ему об этом?
У дверей droguerie[10] Джонатан увидел улыбающуюся темноволосую девушку, которая как раз запирала замок.
– Извините, уже пять минут первого, – сказала она.
3
В последнюю неделю марта Том был занят тем, что писал портрет Элоизы, возлежавшей в полный рост на обтянутом желтым шелком диване. Элоиза редко соглашалась позировать. А вот диван стоял на одном и том же месте, и Тому удалось сносно изобразить его на холсте. Он сделал также семь или восемь эскизов Элоизы: она лежала, подперев голову левой рукой, тогда как правая рука покоилась на альбоме по искусству. Два лучших он отобрал для дальнейшей работы, остальные отложил.
Ривз Мино написал ему письмо, интересуясь, не пришла ли Тому в голову какая-нибудь дельная мысль, – он имел в виду их разговор. Письмо пришло спустя пару дней после того, как Том переговорил с Готье, у которого обычно покупал краски. Том ответил Ривзу: «Пытаюсь что-нибудь придумать, а пока пошевели мозгами, может, и самому что-нибудь в голову придет». Фраза «пытаюсь что-нибудь придумать» была всего-навсего вежливой, даже лживой отговоркой, как и многие другие выражения, служащие для смазки механизма общения между людьми, как выразилась бы Эмили Поуст[11]. В финансовом плане Ривз не очень-то «смазывал» Бель-Омбр; напротив, оплата Ривзом посреднических услуг, которые Том оказывал ему время от времени, покрывая разные его делишки, едва оправдывала расходы на химчистку, но не стоило пренебрегать дружескими отношениями. Ривз достал фальшивый паспорт и быстро переправил его в Париж, когда Тому понадобился документ в деле о «Дерватт лимитед». Может статься, Ривз когда-нибудь еще пригодится Тому.
А вот затея с Джонатаном Треванни была для Тома лишь игрой. Он занимался всем этим вовсе не в угоду любившему рисковать Ривзу. Тóму разонравился риск, и он не уважал тех, кто зарабатывал себе на жизнь – или хотя бы подрабатывал, – пускаясь в авантюры. Это ведь своего рода слабость. Том затеял игру с Треванни из любопытства, потому что тот как-то посмеялся над ним, и еще Тому хотелось посмотреть, попадет ли он в цель, выстрелив наудачу, не заставит ли хоть какое-то время Джонатана Треванни поволноваться, а Том чувствовал, что это человек самоуверенный, не сомневающийся в своей правоте. Потом Ривз забросит удочку, внушив, естественно, Треванни, что он все равно скоро умрет. Том сомневался, что Треванни клюнет, но для него настанут нелегкие времена, уж это точно. К сожалению, Том не мог предположить, как скоро слухи дойдут до ушей Джонатана Треванни. Готье, вообще-то, любил распускать сплетни, но может так случиться, если даже Готье и расскажет двоим-троим знакомым, что ни у кого не хватит смелости затеять этот разговор с самим Треванни.
Поэтому Том, хотя и был, по обыкновению, занят живописью, весенними посадками, изучением немецкой и французской литературы (теперь он взялся за Шиллера и Мольера) плюс к тому надзором за работой трех каменщиков, которые возводили теплицу по правой стороне сада за Бель-Омбр, продолжал считать проходившие дни и пытался представить себе, как складывались события после того дня в середине марта, когда он сказал Готье, что слышал, будто Треванни долго не протянет. Невелика вероятность, что Готье переговорит с Треванни напрямую, если только они не знакомы ближе, чем предполагал Том. Готье скорее расскажет об этом кому-нибудь другому. Том рассчитывал (а на это не рассчитывать нельзя), что угрожающая кому-то неминуемая смерть никого не оставит равнодушным.
Том ездил в Фонтенбло, что милях в двенадцати от Вильперса, примерно каждые две недели. В Фонтенбло по сравнению с Море́ был больший выбор магазинов, химчисток, где можно вычистить замшевые пиджаки, лавок, где есть батарейки для транзисторного радиоприемника и всякие необходимые вещи, которые мадам Аннет хотела бы иметь на кухне. В магазине у Треванни был телефон, что Том отметил, заглянув в справочную книгу, а в доме на улице Сен-Мерри телефон, очевидно, отсутствовал. Том попытался было выяснить номер дома, но решил, что и так узнает дом, когда увидит. К концу марта ему захотелось из любопытства еще раз взглянуть на Треванни, разумеется, со стороны, поэтому, приехав в Фонтенбло как-то в пятницу утром, в базарный день, чтобы купить два круглых терракотовых горшка для цветов, Том положил их в багажник «рено» и прошелся по улице Саблон, где находился магазин Треванни. Близился полдень.
Магазин Треванни явно нуждается в покраске, подумал Том, и смотрится уж больно непритязательно, будто его хозяин – старик. Том никогда не пользовался услугами Треванни, потому что ближе, в Морé, работал хороший мастер по изготовлению рам. Небольшой магазинчик с деревянной вывеской над дверью, на которой выцветшими красными буквами было выведено «Encadrement»[12], соседствовал с другими заведениями – прачечной, сапожной мастерской, скромным бюро путешествий. Дверь в магазин находилась слева, а справа – квадратное окно, в котором были выставлены рамы разных размеров и две-три картины с прикрепленными к ним бирками с ценой. Том небрежно пересек улицу, заглянул в магазин и увидел высокую, как у скандинава, фигуру Треванни, стоявшего за прилавком футах в двадцати от Тома. Треванни, показывая покупателю рамку, постукивал ею по ладони и при этом что-то говорил. Потом он посмотрел в окно, взглянул на Тома и продолжил разговор с покупателем. В лице его не произошло никакой перемены.
Том отправился дальше. Он понял, что Треванни его не узнал. Том повернул налево, на улицу Франс, следующую по значению после улицы Гранд, и продолжил свой путь до улицы Сен-Мерри, где повернул направо. Или к дому Треванни идти налево? Нет, направо.
Ну да, вот и он, разумеется, – узкий, с виду тесноватый, серый дом с тонкими черными перилами на лестнице, ведущей к двери. По бокам ступеньки зацементированы, и на них даже горшков с цветами не поставили, чтобы хоть как-то скрасить подход к дому. Однако Том вспомнил, что за домом есть сад. Неровно повешенные занавески закрывали сверкавшие чистотой окна. Да, именно сюда он и приходил по приглашению Готье в тот февральский вечер. Вдоль левой половины дома тянется узкий проход, который, по-видимому, ведет в сад. Проход упирается в железную калитку, запертую на висячий замок, а перед ней стоит зеленый пластмассовый бак для мусора. Том подумал, что обитатели дома обычно выходят в сад через дверь кухни – ее он помнил.
Том медленно шел по противоположной стороне улицы, стараясь не привлекать к себе внимания, поскольку не был уверен в том, что жена Треванни или кто-то другой не смотрит в окно.
Что бы ему купить? Цинковые белила. Они почти кончились. А для этого нужно зайти к Готье, торгующему всем, что необходимо художнику. Том ускорил шаг, поздравив себя с тем, что цинковые белила ему действительно нужны, так что в магазин Готье он придет с определенной целью, а заодно и удовлетворит любопытство.
Готье был один.
– Bonjour[13], мсье Готье! – сказал Том.
– Bonjour, мсье Рипли! – улыбнувшись, отвечал Готье. – Как дела?
– Очень хорошо, благодарю вас, а вы как? Мне тут понадобились цинковые белила.
– Цинковые белила. – Готье выдвинул плоский ящичек из стоявшего у стены шкафа. – Вот. Вы, помнится, предпочитаете краски фирмы «Рембрандт»?
У Готье имелись и белила, и другие краски производства «Дерватт лимитед». Тюбики с автографами Дерватта, размашистыми, черного цвета, идущими наискось. Но Тому почему-то не хотелось заниматься дома живописью, если фамилия «Дерватт» будет попадаться на глаза всякий раз, когда ему понадобится тюбик с краской. Том расплатился. Протягивая ему сдачу и пакетик с цинковыми белилами, Готье сказал:
– Кстати, мсье Рипли, вы помните мсье Треванни, изготовителя рам для картин с улицы Сен-Мерри?
– Да, конечно, – ответил Том, который как раз размышлял над тем, как бы завести разговор о Треванни.
– Так вот, слухи о том, что он скоро умрет, несколько преувеличены. – При этом Готье улыбнулся.
– Вот как? Что ж, очень хорошо! Рад это слышать.
– Так-то. Мсье Треванни даже к врачу сходил. По-моему, он немного расстроен. А кто бы на его месте не расстроился, а? Ха-ха! Но вы, кажется, сказали, что вам кто-то об этом говорил, не так ли, мсье Рипли?
– Да. Один человек, который был тогда на вечеринке – в феврале. На дне рождения мадам Треванни. Вот я и решил, что это правда и все об этом знают.
Готье, казалось, задумался.
– А вы разговаривали с мсье Треванни? – спросил Том.
– Нет. Нет, не разговаривал. Но как-то вечером я беседовал с его лучшим другом, это было во время другого приема в доме у Треванни, в этом месяце. Кажется, он говорил с мсье Треванни. Как быстро разносятся слухи!
– С лучшим другом? – с невинным видом переспросил Том.
– Англичанин. Ален… фамилию не помню. Он собирался в Америку на следующий день. А вы, мсье Рипли, помните, кто вам об этом сказал?
Том медленно покачал головой:
– Ни фамилии не помню, ни даже как он выглядел. В тот вечер было столько народу.
– Дело в том… – Готье приблизился к Тому и заговорил шепотом, будто кто-то мог их услышать. – Видите ли, мсье Треванни спросил у меня, кто мне об этом рассказал, и я, конечно же, ему вас не назвал. Ведь в таких случаях можно все неправильно понять. Мне не хотелось, чтобы у вас были неприятности, ха-ха!
Сверкающий стеклянный глаз Готье не рассмеялся, но вызывающе уставился на Тома, словно этим глазом руководил отдельный участок мозга Готье, запрограммированный кем-то на то, чтобы знать все наперед.
– Спасибо вам за это, нехорошо ведь делать замечания о здоровье другого человека, да еще искажающие истинную картину, правда?
Том улыбался во весь рот. Перед тем как уйти, он прибавил:
– Но вы, кажется, говорили, что у мсье Треванни с кровью что-то не так?
– Говорил. По-моему, у него лейкемия. Но ведь он с ней живет. Он как-то сказал мне, что эта болезнь у него уже несколько лет.
Том кивнул:
– В любом случае я рад, что он вне опасности. A bientõt[14], мсье Готье. Большое спасибо.
Том направился к своей машине. Шок, испытанный Треванни, – состояние это, возможно, продолжалось лишь несколько часов, пока он не проконсультировался со своим врачом, – не мог хотя бы слегка не поколебать его самоуверенность. Нашлись люди – среди них, наверное, и сам Треванни, – поверившие, что он не проживет и несколько недель. И все потому, что возможность эта не исключается, когда речь идет о такой болезни, как у Треванни. Жаль, что он успокоился, но Ривзу, должно быть, хватит и того, что Треванни на какое-то время засомневался. Теперь игра входит во вторую стадию. Скорее всего, Треванни скажет Ривзу «нет». В этом случае игра закончится. С другой стороны, Ривз поведет с ним разговор как с человеком обреченным. Вот будет забавно, если Треванни даст слабину. В тот же вечер, пообедав с Элоизой и ее парижской приятельницей Ноэль, которая собиралась у них переночевать, Том оставил дам и напечатал на машинке письмо Ривзу.
«28 марта 19..
Дорогой Ривз!
У меня есть для тебя кое-что на случай, если ты еще не нашел того, кого ищешь. Его зовут Джонатан Треванни, лет тридцати с небольшим, англичанин, торговец рамами для картин, женат на француженке, у них маленький сын. (Далее Том написал домашний адрес Треванни, адрес и телефон магазина.) Деньжата, ему, кажется, не помешали бы, хотя это и не совсем тот человек, который тебе нужен. На вид он – сама порядочность и невинность, но что для тебя немаловажно, так это то, что, как я узнал, жить ему осталось лишь несколько месяцев или недель. У него лейкемия, и совсем недавно на него свалилась плохая новость. Возможно, он захочет взяться за какую-нибудь опасную работу, чтобы заработать немного денег.
Сам я с Треванни не знаком и не горю желанием познакомиться, так же как не хочу, чтобы ты ссылался на меня. Если хочешь прощупать его, предлагаю следующее: приезжай в Фонтенбло, остановись на пару дней в чудесном заведении под названием „Черный орел“, свяжись с Треванни по телефону, назначь встречу и переговори обо всем. Наверное, мне не нужно тебе напоминать, чтобы ты не называл свое настоящее имя».
Затея вдруг вызвала у Тома воодушевление. Он рассмеялся, представив себе Ривза, который с обезоруживающим видом неуверенности и тревоги – как бы на ощупь – выкладывает эту идею Треванни, а тот сидит недвижимо, как дух святой. Не заказать ли столик в ресторане или баре «Черного орла», когда Ривз будет встречаться там с Треванни? Нет, это уже чересчур. Тут Том вспомнил кое-что еще и сделал приписку:
«Когда приедешь в Фонтенбло, ни в коем случае не звони мне и не присылай записок. Письмо это прошу уничтожить.
Всегда твой,
Том».
4
В пятницу, 31 марта, днем, в магазине Джонатана зазвонил телефон. Он в это время приклеивал коричневую бумагу к задней стороне большой картины, и, прежде чем снять трубку, ему пришлось отыскать подходящие тяжелые предметы – старый камень с надписью «Лондон», баночку с клеем, деревянный молоток.
– Алло?
– Bonjour, мсье. Мсье Треванни?.. Вы, кажется, говорите по-английски? Меня зовут Стивен Уистер. У-и-с-т-е-р. Я приехал в Фонтенбло на пару дней. Не могли бы вы уделить мне несколько минут для разговора – я думаю, он вас заинтересует.
У говорившего был американский акцент.
– Я не покупаю картин, – ответил Джонатан. – Я делаю рамы.
– То, о чем я собираюсь говорить с вами не имеет отношения к вашей работе. Речь о другом, но это не телефонный разговор. Я остановился в «Черном орле».
– И что же?
– У вас не найдется несколько минут сегодня вечером после того, как вы закроете магазин? Часов в семь? Полседьмого? Мы могли бы что-нибудь выпить или посидеть за чашечкой кофе.
– Но… мне бы хотелось знать, зачем я вам нужен.
В магазин вошла женщина – мадам Тиссо, кажется. Она пришла за своей картиной. Джонатан улыбнулся ей, как бы извиняясь.
– Я вам все объясню, когда мы увидимся, – мягко, но настойчиво произнес незнакомец. – Это займет минут десять. Скажем, в семь вас устроит?
Джонатан заколебался:
– Лучше полседьмого.
– Я встречу вас в вестибюле. На мне будет серый клетчатый костюм. Я предупрежу швейцара. У вас не будет проблем.
Джонатан обычно закрывался около половины седьмого. В 18:15 он стоял у раковины и мыл руки под холодной водой. Погода стояла теплая, и Джонатан был в тонком свитере с высоким воротником и старом бежевом вельветовом пиджаке – не слишком подходящая одежда для «Черного орла», но еще хуже его поношенный плащ. Впрочем, какая разница? Тот человек хочет ему что-то продать. Другого повода для встречи нет.
Гостиница находилась всего в пяти минутах ходьбы от магазина. Небольшой дворик перед ней был отгорожен от улицы высокими железными воротами, к главному входу вело несколько ступеней. Джонатан заметил, что к нему несколько неуверенно приближается худощавый мужчина, стриженный под ежик; держался он скованно.
– Мистер Уистер? – спросил Джонатан.
– Да. – Ривз напряженно улыбнулся и протянул руку. – Выпьем чего-нибудь в баре или вы предпочитаете посидеть в другом месте?
В баре было уютно и тихо. Джонатан пожал плечами:
– Как угодно.
Он увидел ужасный шрам во всю щеку на лице Уистера.
Они вошли в широкую дверь гостиничного бара. Там было пусто, лишь за одним из столиков сидели мужчина и женщина. Уистер повернул назад, точно его спугнула тишина, и предложил:
– Пойдемте куда-нибудь в другое место.
Они вышли из гостиницы и повернули направо. Джонатан знал еще один бар – кафе «Спорт», что-то вроде того, где в этот час молодые люди крутятся возле китайского бильярда, а рабочие сидят у стойки, но едва они оказались на пороге бара-кафе, как Уистер остановился, точно оказался вдруг на поле брани в самый разгар сражения.
– Вы не против, – спросил он, повернувшись к Джонатану, – если мы поднимемся ко мне в номер? Там тихо, и нам принесут все, что мы закажем.
Они возвратились в гостиницу, поднялись по лестнице и вошли в симпатичную комнату в испанском стиле – чугунное литье, покрывало малинового цвета, бледно-зеленый ковер. О том, что номер обитаем, свидетельствовал лишь чемодан на полке. Уистер открыл дверь, не воспользовавшись ключом.
– Что будем пить? – Уистер подошел к телефону. – Виски?
– Отлично.
Уистер на ломаном французском заказал виски. Он попросил принести целую бутылку и побольше льда.
После этого наступила тишина. «Почему он нервничает?» – подумал Джонатан. Джонатан стоял возле окна, через которое его увидел Уистер. Очевидно, тот не хотел начинать разговор до тех пор, пока не принесут бутылку. Джонатан услышал, как в дверь осторожно постучали.
В номер вошел официант в белой куртке, с подносом в руках и любезной улыбкой на лице. Стивен Уистер щедро разлил виски.
– Хотите заработать денег?
Джонатан улыбнулся. Он сидел в удобном кресле, держа в руке стакан с огромной порцией виски со льдом.
– А кто не хочет?
– У меня есть опасная работа – лучше сказать, важная, – за которую я готов хорошо заплатить.
Джонатан подумал о наркотиках: наверное, этот человек хочет кое-что переправить или припрятать на время.
– Чем вы занимаетесь? – вежливо поинтересовался Джонатан.
– У меня разные интересы. Один из них можно назвать так – азартные игры. Вы любите рисковать?
– Нет, – улыбнулся Джонатан.
– Я тоже. Но не в этом дело.
Он поднялся с кровати, на краю которой сидел, и медленно прошелся по комнате.
– Я живу в Гамбурге.
– И что?
– В городской черте азартные игры незаконны, но в частных клубах они в ходу. Не в том, однако, дело, законны они или нет. Мне нужно устранить одного человека, может, двух, а может, придется и украсть кое-что. Итак, я выложил карты на стол.
Он серьезно посмотрел на Джонатана; во взгляде его светилась надежда.
Значит, надо кого-то убить. Джонатана охватил было страх, но потом он улыбнулся и покачал головой:
– Интересно, откуда вы обо мне узнали?
Стивен Уистер не улыбался.
– Это не важно.
Он продолжал ходить взад-вперед по комнате со стаканом в руке, посматривая время от времени своими серыми глазами на Джонатана.
– Девяносто шесть тысяч долларов – это вам интересно? Это сорок тысяч фунтов, или около четырехсот восьмидесяти тысяч франков – новых франков. За убийство только одного человека, может, двух – там видно будет. Дело верное и надежное, вам опасаться нечего.
Джонатан снова покачал головой:
– Не знаю, откуда вы взяли, что я… убийца. Вы меня за кого-то другого принимаете.
– Нет. Вовсе нет.
Уистер столь пристально смотрел на Джонатана, что улыбка сошла с его лица.
– Тут какая-то ошибка… Может, скажете, почему вы позвонили именно мне?
– Дело в том, что… – Взгляд Уистера стал еще более серьезным. – Вам осталось жить не больше нескольких недель. Вы это знаете. А у вас жена и маленький сын, не так ли? Неужели вы не хотите оставить им кое-что после того, как вас не станет?
Джонатан почувствовал, как краска сходит с его лица. Откуда Уистеру все это известно? Потом он понял, что все взаимосвязано, что тот, кто сказал Готье о его скорой смерти, знает этого человека, каким-то образом с ним связан. Джонатан не собирался упоминать Готье. Тот честный человек, а Уистер – проходимец. Джонатану вдруг показалось, что виски не так уж и хорошо на вкус.
– Это просто какие-то глупые сплетни… кто-то распустил их недавно…
На этот раз головой покачал Уистер:
– Это не глупые сплетни. Дело скорее в том, что ваш врач не сказал вам всей правды.
– А вам известно больше, чем моему врачу? Мой врач мне не лжет. Да, у меня болезнь крови, но… состояние мое сейчас не хуже…
Джонатан умолк.
– Боюсь, что не смогу вам помочь, мистер Уистер, и это самое главное.
Уистер покусывал нижнюю губу, при этом его длинный шрам отвратительно шевелился, точно червяк.
Джонатан отвернулся. Может быть, доктор Перье все-таки ему лгал? Джонатан подумал, что надо бы завтра же утром позвонить в парижскую лабораторию и задать несколько вопросов, а то и просто съездить в Париж и потребовать дополнительных разъяснений.
– Мистер Треванни, мне жаль, но, скорее всего, именно вы недостаточно осведомлены. До вас же дошло то, что вы называете глупыми сплетнями, и не я принес вам дурные вести. Вы вольны сделать свой выбор, но в нынешних обстоятельствах, как мне кажется, столь значительная цифра звучит весьма неплохо. Вы могли бы бросить работу и наслаждаться жизнью… ну, скажем, отправиться с семьей в кругосветное путешествие, и все равно жене останется…
Джонатан ощутил легкую слабость. Он поднялся и глубоко вздохнул. Ощущение слабости прошло, но он остался стоять. Уистер продолжал говорить, однако Джонатан едва его слушал.
– …в этом и заключается моя идея. В Гамбурге есть несколько человек, которые внесут свой вклад в сумму девяносто шесть тысяч долларов. Тот – или те, – кого нам нужно убрать с дороги, принадлежат к мафии.
Джонатан так и не пришел полностью в себя.
– Спасибо, я не убийца. Оставим этот разговор.
– Прежде всего нам нужен человек, не связанный ни с кем из нас и не живущий в Гамбурге. Хотя первый мафиозо, рядовой член мафии, должен быть застрелен в Гамбурге. Нам бы хотелось, чтобы полицейские думали, будто две мафиозные группировки в Гамбурге враждуют одна с другой, вот в чем дело. А вообще мы хотим, чтобы полиция выступила на нашей стороне.
Он продолжал расхаживать взад-вперед, глядя больше в пол.
– Первый мафиозо должен быть застрелен в толпе, в метро, которое у нас называется у-баном[15]. Револьвер тут же выбрасывается, и… стрелявший смешивается с толпой и исчезает. Револьвер итальянский, отпечатков пальцев нет. Значит, нет и улик.
Он опустил руки, словно дирижер, закончивший дирижировать.
Джонатан почувствовал, что ему нужно передохнуть хотя бы немного, и снова опустился в кресло.
– Извините, нет.
Как только силы вернутся к нему, он встанет и уйдет.
– Завтра я здесь весь день и, вероятно, пробуду до воскресенья. Подумайте о моем предложении, прошу вас. Еще виски? Оно вас взбодрит.
– Нет, спасибо. – Джонатан заставил себя подняться. – Я пойду.
Уистер кивнул. Вид у него был разочарованный.
– И спасибо за угощение.
– Не стоит.
Уистер открыл дверь, пропуская Джонатана.
Джонатан вышел из номера. Он ожидал, что Уистер сунет ему в руку карточку со своей фамилией и адресом. Джонатан был рад, что тот этого не сделал.
На улице Франс зажглись уличные фонари. Вечер, на часах 19:22. Не просила ли Симона чего-нибудь купить? Может, хлеба? Джонатан зашел в boulangerie[16] и купил длинный батон. Как приятно снова заняться повседневными делами.
На ужин был овощной суп, пара остававшихся со вчерашнего дня кусочков fromage de tête[17], салат из помидоров и лука. Симона рассказала о распродаже обоев в магазине, который находился недалеко от ее работы. За сотню франков они могли бы оклеить всю спальню. Она присмотрела красивые обои с розовато-лиловым и зеленым рисунком, очень светлые, в духе art nouveau[18].
– Ты же знаешь, Джон, в спальне только одно окно, и там очень темно.
– Звучит заманчиво, – ответил Джонатан. – Особенно если это распродажа.
– Самая что ни на есть. Это не тот случай, когда цену снижают на пять процентов, как это делает мой прижимистый босс.
Она обмакнула корочку хлеба в масло, которым был заправлен салат, и отправила в рот.
– Ты чем-то взволнован? Что-то случилось?
Джонатан неожиданно улыбнулся. Ничем он не взволнован. Хорошо, что Симона не заметила, что он немного припозднился, да еще и выпил.
– Нет, дорогая. Ничего не случилось. Наверное, конец недели. Почти конец.
– Ты устал?
Такой же вопрос ему задавали врачи, и он к нему привык.
– Нет… мне сегодня нужно позвонить одному покупателю от восьми до девяти.
Он посмотрел на часы – 20:37.
– Пожалуй, пойду позвоню сейчас, дорогая. А кофе выпью потом.
– Мне можно с тобой? – спросил Джордж, опуская вилку. Он выпрямился, приготовившись спрыгнуть со стула.
– Не сегодня, топ petit vieux[19]. Я спешу. А ты вроде бы собирался поиграть в китайский бильярд.
– Купи «Голливуд»! – крикнул ему вслед Джордж, и вышло у него это совсем по-французски: «Олливу».
Джонатан поморщился, снимая пиджак с вешалки в прихожей. Жевательная резинка «Голливуд», бело-зелеными обертками которой были усеяны сточные канавы, а иногда и сад Джонатана, обладала для юных французов загадочной притягательностью.
– Oui[20], мсье, – пообещал Джонатан и вышел из дома.
Домашний телефон доктора Перье имелся в справочнике, и Джонатан надеялся, что он в этот вечер дома. Какой-то bureau de tabac[21], где тоже был телефон, находилось ближе, чем магазин Джонатана. Его вдруг охватил панический страх, и он заспешил к красной, установленной наискось вывеске «Tabac», светившейся впереди за два перекрестка от него. Он добьется, чтобы ему сказали правду. Джонатан кивнул в знак приветствия молодому человеку за стойкой, которого едва знал, и указал на телефон, а заодно и на полку, где лежали телефонные книги. «Фонтенбло!» – прокричал Джонатан. Было шумно, да еще и музыкальный автомат гремел. Джонатан отыскал номер телефона и набрал его.
Снял трубку доктор Перье. Он узнал голос Джонатана.
– Я бы очень хотел сделать еще один анализ. Даже сегодня. Сейчас – если вы можете взять пробу.
– Сегодня?
– Я мог бы прийти к вам немедленно. Через пять минут.
– Вы… чувствуете слабость?
– Видите ли… я подумал, что если анализ отправить завтра в Париж… – Джонатан знал, что доктор Перье имел обыкновение отсылать анализы в Париж по субботам утром. – Если бы вы могли сделать анализ сегодня или завтра рано утром…
– Завтра утром меня не будет. Мне нужно обойти больных. Если вы так расстроены, мсье Треванни, заходите ко мне сейчас.
Джонатан заплатил за разговор и, прежде чем выйти из кафе, вспомнил про жевательную резинку «Голливуд». Купив пару пакетиков, он сунул их в карман пиджака. Перье жил на бульваре Мажино, минутах в десяти ходьбы. Джонатан ускорил шаг. Дома у доктора ему никогда не приходилось бывать.
Дом был большой и мрачный. Консьержка, старая неторопливая костлявая женщина, сидела в небольшом застекленном помещении, заставленном искусственными растениями, и смотрела телевизор. Джонатан ждал, когда шаткая кабина лифта опустится вниз. Консьержка выползла в холл и спросила с любопытством:
– Ваша жена рожает, мсье?
– Нет. Нет, – улыбнувшись, ответил Джонатан. Он вспомнил, что Перье занимается общей практикой.
Он поднялся наверх.
– Ну, так что вас беспокоит? – спросил доктор Перье, проводя его через столовую. – Проходите в эту комнату.
В квартире царил полумрак. Где-то работал телевизор. Комната, в которую они вошли, была похожа на небольшой кабинет. На полках виднелись книги по медицине, на письменном столе стоял черный докторский саквояж.
– Mon dieu, можно было бы подумать, что вы на грани обморока, а ведь вы явно сюда бежали, у вас даже щеки порозовели. Только не говорите мне, будто до вас опять дошел слух, что вы на краю могилы!
Джонатан постарался взять себя в руки:
– Просто мне нужно быть уверенным. Правду сказать, чувствую я себя не настолько уж блестяще. Да, прошло всего два месяца после последнего анализа, и следующий будут брать в конце апреля, но разве повредит… – Он умолк, дернув плечами. – Ведь пробу костного мозга взять нетрудно, а завтра рано утром ее можно отправить…
Джонатан чувствовал, что французский на этот раз у него выходит коряво. Французское слово «moelle», то есть «костный мозг», вызывало у него отвращение, особенно при мысли о том, что его костный мозг имеет ненормально желтый цвет. Он понимал, что доктор Перье настроился перевести разговор с пациентом на шутливый лад.
– Да, я могу взять пробу. Результат, скорее всего, будет тот же, что и в прошлый раз. Но медикам, мсье Треванни, никогда нельзя полностью доверять…
Доктор продолжал говорить, а Джонатан между тем снял свитер и, повинуясь жесту доктора Перье, лег на старый кожаный диван. Доктор сделал обезболивающий укол.
– Но мне понятно ваше беспокойство, – произнес доктор Перье спустя несколько секунд, вводя шприц в грудину Джонатана и поворачивая его.
Раздался отвратительный хруст, но боли Джонатан почти не чувствовал. Быть может, на сей раз он что-то узнает. Перед уходом Джонатан не мог удержаться от того, чтобы не сказать:
– Я должен знать правду, доктор Перье. Как по-вашему, лаборатория ведь дает нам точные результаты анализов? Надеюсь, они сообщают нам проверенные данные…
– Ни точного результата, ни прогноза на будущее, молодой человек, нам знать не дано!
Джонатан отправился домой. Он решил было рассказать Симоне, что ходил к доктору Перье, что опять им овладела тревога, но передумал: он и так уже доставил ей массу беспокойств. Что с того, если он ей все расскажет? Она только еще больше расстроится.
Джордж уже был в кровати наверху, и Симона читала ему книгу. Опять Астерикс[22]. Джордж сидел среди подушек, а Симона – на низком табурете под лампой. Ну прямо как tableau vivant[23] семейной жизни. Не будь Симона в слаксах, промелькнуло в голове у Джонатана, можно подумать, что идет 1880 год. Освещенные лампой волосы Джорджа казались желтыми, как колосья пшеницы.
– А где резинка? – со смешком спросил Джордж.
Джонатан улыбнулся и достал один пакетик. Второй может подождать до другого раза.
– Тебя долго не было, – заметила Симона.
– Я выпил пива в кафе, – ответил Джонатан.
На следующий день Джонатан, как ему и велел доктор Перье, позвонил в лабораторию Эбберль-Валан в Нёйи. Он назвал свою фамилию, произнес ее по буквам и сказал, что является пациентом доктора Перье в Фонтенбло. Потом подождал, пока его соединят с соответствующим отделом, а в трубке между тем щелчки отсчитывали минуту за минутой. Ручку и бумагу Джонатан приготовил заранее. Не мог бы он еще раз произнести свою фамилию по буквам, если это не трудно? После этого женский голос принялся читать результаты анализа. Джонатан быстро записывал цифры. Гиперлейкоцитоз 190 000. Кажется, это больше, чем раньше?
– Разумеется, мы отошлем письменное заключение вашему врачу, он получит его ко вторнику.
– Эти результаты хуже, чем были до этого, не так ли?
– У меня нет предыдущих результатов, мсье.
– А врача нет поблизости? Может, я лучше с врачом переговорю?
– Я врач, мсье.
– Ага. Это заключение – есть у вас предыдущее или нет, не важно – оно ведь не слишком хорошее, а?
Она заговорила как по учебнику:
– Состояние потенциально опасное, не исключена пониженная сопротивляемость…
Джонатан звонил из своего магазина. Табличку на двери он повернул наружу той стороной, на которой было написано «Fermé»[24], хотя сквозь витрину его было видно. Подойдя к двери, чтобы снять табличку, он увидел, что и дверь не заперта. Поскольку в этот день никто не должен был зайти, Джонатан решил, что может себе позволить закрыть магазин пораньше. Часы показывали около пяти.
Он отправился к доктору Перье, предполагая, что ждать придется больше часа. Суббота – день напряженный, поскольку многие не работают и у них есть время для посещения врача. Перед Джонатаном было три человека, однако сестра подошла к нему и спросила, много ли он займет у врача времени. Джонатан ответил «нет», и сестра, извинившись перед следующим по очереди пациентом, пригласила его в кабинет. Интересно, подумал Джонатан, уж не предупредил ли доктор Перье сестру насчет него?
Взглянув на каракули Джонатана, доктор Перье приподнял черные брови:
– Но тут не все.
– Знаю, но ведь из этого тоже можно сделать выводы, разве не так? Результаты-то хуже?
– У меня такое впечатление, что вы хотите, чтобы они были хуже! – произнес доктор Перье. В его голосе, как всегда, прозвучал оптимизм, однако на этот раз Джонатан его не разделял. – Откровенно говоря, да, хуже, но совсем ненамного. Кардинальных изменений нет.
– Если в процентах, то как бы вы определили – хуже на десять процентов?
– Мсье Треванни, вы же не машина! С моей стороны будет неразумно высказывать какие-то замечания до вторника, когда я получу полный отчет.
Джонатан медленно побрел домой. Он шел по улице Саблон, надеясь встретить кого-нибудь, кто, возможно, собирался зайти к нему в магазин, но никто не попался ему навстречу. Лишь у входа в прачечную царило оживление. Люди с тюками белья сталкивались друг с другом в дверях. Сейчас почти шесть часов. Симона уйдет из обувного магазина где-то после семи, позднее, чем обычно, потому что ее босс Брезар, прежде чем закрыться на воскресенье и понедельник, постарается не упустить ни одного франка. А Уистер все еще в «Черном орле». Интересно, он ждет только его одного? Ждет, когда Джонатан передумает и скажет «да»? Вот было бы забавно, если бы выяснилось, что доктор Перье состоит в заговоре со Стивеном Уистером, что они договорились с лабораторией, чтобы оттуда прислали плохие результаты. А что, если и Готье тоже замешан, разнося сплетни? Кошмарный сон какой-то, словно потусторонние силы объединились, чтобы свести его с ума. Но Джонатан понимал, что это не сон. Он знал, что Стивен Уистер не сговаривался с доктором Перье, как и с лабораторией. И ему не приснилось, что состояние его ухудшилось, что смерть придет скорее, чем он рассчитывал. Но ведь это относится к каждому, кто прожил еще один день, напомнил самому себе Джонатан. Он задумался о смерти, о процессе старения, упадке сил; жизнь – это дорога, идущая вниз. У большинства людей есть возможность идти по ней медленно, начиная с пятидесяти пяти или когда там случится замедлить шаг, и спускаются они постепенно до семидесяти или до иного отпущенного им срока. Джонатан понимал, что его смерть будет как падение со скалы. Всякий раз, пытаясь «подготовиться», он не мог сосредоточиться. В душе он ощущал себя все еще тридцатичетырехлетним, и ему хотелось жить.
Дом Треванни, казавшийся в сумерках серо-голубым, стоял темный, без света. Дом был довольно мрачный, и, когда пять лет назад Джонатан и Симона его купили, им это казалось забавным. «Дом Шерлока Холмса» – так обычно называл его Джонатан, когда они сравнивали его с другими домами в Фонтенбло. «А мне все равно нравится „дом Шерлока Холмса“», – сказал как-то Джонатан. Сейчас ему вспомнились эти слова. На вид дом казался постройки 1890 года. Он производил такое впечатление, будто внутри есть газовые горелки и полированные перила, хотя, когда они перебрались в него, то не нашли там ни одного полированного деревянного предмета. Между тем им казалось, что интерьеру можно придать очарование рубежа веков. Комнаты были маловаты, но планировка интересная; сад, занимавший прямоугольный участок, весь зарос одичавшими кустами роз, но поскольку розы уже были посажены, оставалось лишь привести их в порядок. Небольшой зубчатый стеклянный портик над выходом в сад наводил на мысль о Вюйаре и Боннаре[25]. Но теперь Джонатана вдруг пронзила мысль, что за те пять лет, что они живут в этом доме, им так и не удалось избавиться от ощущения мрачности. Да, новые обои оживят спальню, но это лишь одна комната. Они еще и за дом не расплатились, и выплачивать им оставалось еще три года. Квартира вроде той, в которой они жили в Фонтенбло в первый год после свадьбы, обходилась бы им дешевле, но Симона привыкла жить в доме с небольшим садом. В Немуре у нее всегда был сад, да и Джонатан, как англичанин, ничего не имел против. Он никогда не жалел о том, что на дом уходит столь значительная часть их дохода.
Поднимаясь по ступенькам, Джонатан думал не столько о деньгах, которые нужно было выплатить, сколько о том, что он, очевидно, умрет здесь. Более чем вероятно, что в другом, более светлом доме, ему с Симоной жить уже не придется. Он думал о том, что «дом Шерлока Холмса» стоял несколько десятилетий до того, как он родился, и будет стоять еще десятилетия после того, как он умрет. Он чувствовал, что ему было назначено судьбой выбрать этот дом. В один прекрасный день его вынесут отсюда, может быть, еще живого, но при смерти, и в этот дом он уже никогда не войдет.
К удивлению Джонатана, Симона оказалась на кухне. Она сидела за столом с Джорджем и играла с ним в карты. Улыбнувшись, она посмотрела на него, и в ее взгляде Джонатан прочитал вопрос: звонил ли он днем в парижскую лабораторию? Но спросить это в присутствии Джорджа она не решилась.
– Старый мошенник закрыл сегодня магазин рано, – сказала Симона. – Не было покупателей.
– Хорошо! – весело отозвался Джонатан. – Как идут дела в игорном доме?
– Я выигрываю! – произнес Джордж по-французски.
Симона поднялась и вышла вслед за Джонатаном в прихожую, куда он вернулся, чтобы повесить пальто. Она вопросительно смотрела на него.
– Нет никакого повода для беспокойства, – сказал Джонатан, но она поманила его за собой, и они перешли в гостиную. – Кажется, чуточку похуже, но я себя хуже не чувствую, так стоит ли об этом говорить? Надоело. Выпьем лучше чинзано.
– Ты ведь переживал из-за этого, правда, Джон?
– Да, это правда.
– Хотела бы я знать, кто затеял всю эту историю. – Ее глаза сузились от злости. – Грязная история. Готье так и не сказал тебе, кто распустил слух?
– Нет. Готье говорит, что произошла какая-то ошибка, кто-то сгустил краски.
Джонатан повторил то, что уже говорил Симоне раньше. Но он знал, что это не ошибка, а точный расчет.
5
Джонатан стоял у окна спальни на втором этаже и смотрел, как Симона развешивает в саду белье: наволочки, пижамы Джорджа, дюжину носков, две белые ночные рубашки, лифчики, его бежевые рабочие штаны. Не было лишь простыней, которые Симона отдавала в прачечную, потому что предпочитала хорошо выглаженное постельное белье. На Симоне были твидовые слаксы и тонкий красный облегающий свитер. Она доставала из большой овальной корзины кухонные полотенца и прикрепляла их к веревке прищепками. Было видно, что у нее сильное, гибкое тело. Стоял приятный солнечный день, в легком ветерке чувствовалось приближение лета.
Джонатан увильнул от поездки в Немур и от обеда с Фусадье, родителями Симоны. Они с Симоной ездили туда, как правило, через воскресенье. Если за ними не заезжал брат Симоны Жерар, то они добирались до Немура автобусом. Потом плотно обедали в доме Фусадье вместе с Жераром, его женой и двумя детьми, которые также жили в Немуре. Родители Симоны всячески старались угодить Джорджу и всегда готовили для него подарок. Около трех часов дня отец Симоны Жан-Ноэль включал телевизор. Джонатану чаще всего было скучно, но он ездил с Симоной, потому что так было принято и еще потому, что уважал сплоченность французских семей.
– Ты хорошо себя чувствуешь? – спросила Симона, когда Джонатан сказал ей, что не поедет.
– Да, дорогая. Просто я сегодня не в настроении, да и хотел бы землю подготовить для помидоров. Почему бы тебе не поехать с Джорджем?
И днем Симона с Джорджем уехали на автобусе. Симона сложила в маленькую красную кастрюлю остатки bœuf bourguignon[26], так что Джонатану оставалось лишь разогреть ее, когда он проголодается.
Джонатану хотелось побыть одному. Он думал о загадочном мистере Уистере и его предложении. Джонатан вовсе не собирался звонить сегодня Уистеру в «Черный орел», хотя он чувствовал, что Уистер оставался еще там, ярдах в трехстах, не больше. У него не было намерения вступать в контакт с Уистером, хотя сама эта идея казалась на удивление привлекательной и волнующей – как гром среди ясного неба, как луч света в его однообразном существовании, – и Джонатану хотелось посмотреть, что будет, а возможно, и даже извлечь из всего этого какое-то удовольствие. У Джонатана возникло также чувство (доказательств тому было достаточно), что Симона читала его мысли или, по крайней мере, знала, когда он чем-то бывал озабочен. В это воскресенье он мог показаться ей рассеянным и не хотел, чтобы Симона заметила его состояние и спросила у него, в чем дело. Поэтому Джонатан усердно работал в саду и мечтал. Он думал о сорока тысячах фунтов. Этой суммы вполне бы хватило, чтобы сразу расплатиться за дом и еще за пару вещей, которые они взяли в кредит, покрасить внутри дома то, что требовало покраски, купить телевизор, отложить какую-то сумму Джорджу на университет, накупить новой одежды Симоне и себе… ах! как сладостно мечтать! Все тревоги отходят на задний план! Он подумал о мафиози. Допустим, их даже двое – крепко сбитые, темноволосые головорезы. В минуту, когда их настигает смерть, они вскидывают руки и тут же падают. Но, втыкая в землю лопату, Джонатан никак не мог себе представить, как он спускает курок или целится в чью-то спину. Откуда Уистер узнал его имя – это будет поинтереснее, вот где загадка, вот что опасно. В Фонтенбло против него что-то затевается, слухи об этом каким-то образом дошли до Гамбурга. Не мог же Уистер его с кем-то перепутать, ведь он сам заговорил о его болезни, жене и маленьком сыне. Джонатан решил, что кто-то, кого он принимал за друга или, по крайней мере, за близкого знакомого, вовсе не был дружески к нему расположен.
Джонатан подумал, что Уистер, по-видимому, уедет из Фонтенбло сегодня часов в пять. К трем часам Джонатан успел пообедать, разобрать свои бумаги и старые счета и сложить их в ящик круглого стола, стоявшего посреди гостиной. После этого, радуясь тому, что совсем не чувствует усталости, он, взяв швабру и веник, усердно поработал еще, подметая пол вокруг мазутной печи и сметая пыль с ее труб.
В самом начале шестого, когда Джонатан смывал над раковиной сажу с рук, явились Симона с Джорджем, а также ее брат Жерар с женой Ивонн. Они выпили все вместе на кухне. Дедушка с бабушкой подарили Джорджу круглую коробку пасхальных лакомств, включая яйцо в золотой фольге, шоколадного кролика, разноцветные леденцы – все в желтом целлофане, еще не разорванном, потому что Симона не разрешила ему вскрывать пакет, поскольку в Немуре он и без того наелся сладостей. Джордж отправился в сад вместе с детьми Фусадье.
– Не ходите там, где вскопано, Джордж! – крикнул ему вслед Джонатан.
Он прошелся граблями по перекопанной земле, а камешки оставил Джорджу. Тот, наверное, заставит двух своих приятелей собирать их, чтобы загрузить красную тачку. За тачку камешков Джонатан выдавал пятьдесят сантимов, хотя тачка и не бывала полна – камешки лишь едва прикрывали ее дно.
Начинался дождь. Джонатан успел принести в дом сушившееся на улице белье.
– Как чудесно в саду! – сказала Симона. – Взгляни, Жерар!
Она отвела своего брата на заднее крыльцо.
А сейчас, думал Джонатан, Уистер, наверное, едет на поезде из Фонтенбло в Париж или взял такси от Фонтенбло до Орли, если судить по тому, сколько у него может быть денег. Возможно, он уже в воздухе, en route[27] в Гамбург. Присутствие Симоны, голоса Жерара и Ивонн выдворяли Уистера из гостиницы «Черный орел» или, во всяком случае, превращали его в нечто, существующее лишь в воображении Джонатана. И еще Джонатан втайне радовался тому, что не позвонил Уистеру и тем самым не поддался искушению.
Жерар Фусадье, электрик, опрятный, серьезного вида человек с темными аккуратно постриженными усами, был немного старше Симоны. Он увлекался морской историей и делал модели фрегатов восемнадцатого и девятнадцатого веков. В них он вставлял крошечные электрические лампочки, которые зажигались полностью или частично с помощью выключателя в гостиной. Жерар и сам смеялся над этим анахронизмом – электрические лампочки на фрегатах, но эффект получался замечательный, особенно когда свет в гостиной выключался и казалось, что восемь или десять кораблей плывут по темному морю.
– Симона говорила, что у тебя что-то неладно со здоровьем, Джон, – откровенно сказал Жерар. – Мне жаль, если это так.
– Ничего страшного. Просто еще одна проверка, – ответил Джонатан. – Результаты примерно такие же.
Джонатан привык к такого рода клише. Это все равно что сказать «Очень хорошо, спасибо» в ответ на вопрос, как ты себя чувствуешь. Ответ Джонатана, похоже, удовлетворил Жерара, а значит, Симона не слишком много ему рассказала.
Ивонн и Симона разговаривали о линолеуме, который на кухне прохудился перед плитой и раковиной. Когда они покупали дом, он уже был не новым.
– Ты действительно хорошо себя чувствуешь, дорогой? – спросила Симона у Джонатана после того, как Фусадье ушли.
– Лучше не бывает. Меня даже занесло в котельную. Ну и копоти там. – Джонатан улыбнулся.
– Ты с ума сошел. Но сегодня ты хотя бы можешь прилично поужинать. Мама уговорила меня взять с собой три paupiettes[28], которые остались от обеда, – такие вкусные!
Ближе к одиннадцати, когда они уже собирались отправиться спать, Джонатан вдруг ощутил упадок сил, будто его ноги, а потом и все тело погрузились во что-то вязкое и он побрел по пояс в грязи. Может, он просто устал? Но усталость, казалось, была больше умственная, чем физическая. Джонатан обрадовался, когда погас свет, когда можно было расслабиться, и он расслабился и обнял Симону, а она его – они всегда так засыпали. Он думал о Стивене Уистере (или как там его звать на самом деле?). Наверное, сейчас он летит на восток, вытянувшись на сиденье длинным телом. Джонатан представил себе лицо Уистера с розоватым шрамом. Лицо озадаченное, напряженное, но о Джонатане Треванни Уистер больше не думает. Он размышляет о ком-то другом. Джонатан решил, что у него, наверное, есть еще две-три кандидатуры.
Утро выдалось холодным и туманным. В девятом часу Симона отправилась с Джорджем в école maternelle. Джонатан стоял на кухне и держал в руках, согревая их, вторую чашку café аи lait[29]. Дом отапливался плоховато. Зимой им было довольно неуютно, и даже теперь, весной, по утрам холодновато. Когда они купили дом, котел в нем уже стоял; его хватало на пять радиаторов внизу, но не на пять наверху, которые они установили, рассчитывая, что так будет теплее. Джонатан вспомнил, что их предупреждали на этот счет, но новый котел обошелся бы в три тысячи новых франков, а денег у них не было.
В щель для писем в двери проскользнули три конверта. В одном оказался счет за электричество. На обратной стороне квадратного белого конверта Джонатан увидел пометку: «Гостиница „Черный орел“». Он вскрыл его. Из конверта выпала визитная карточка. Джонатан поднял ее с пола и прочитал: «Для Стивена Уистера». Это было написано над следующим адресом:
«Ривз Мино
159 Агнесштрассе
Винтерхуде (Альстер)
Гамбург 56
629–6757».
В конверте оказалось также письмо.
«1 апреля 19..
Дорогой м-р Треванни!
Жаль, что Вы не объявились ни сегодня утром, ни хотя бы днем. Но если Вы все-таки передумаете, прилагаю карточку с моим гамбургским адресом. Если что-то придет Вам в голову по поводу моего предложения, пожалуйста, позвоните мне за мой счет в любое время. Или приезжайте в Гамбург, и мы поговорим. Ваши расходы на дорогу туда и обратно будут оплачены по телеграфу, как только Вы со мной свяжетесь.
Да, и неплохо бы вам проконсультироваться с каким-нибудь гамбургским специалистом по поводу вашей болезни и узнать еще одно мнение, как вы думаете? Возможно, от этого Вам станет легче.
Я возвращаюсь в Гамбург в воскресенье вечером.
Искренне Ваш,
Стивен Уистер».
Джонатан был удивлен, доволен и раздосадован одновременно. «Легче». Это просто смешно, ведь Уистер уверен, что он скоро умрет. Если гамбургский специалист скажет: «Ach, ja[30], вам осталось месяца два-три», – станет ему от этого легче? Джонатан засунул конверт вместе с карточкой в задний карман брюк. Бесплатный билет до Гамбурга и обратно. Уистер все обдумал, лишь бы его соблазнить. Интересно, что письмо было отправлено в воскресенье днем, чтобы он получил его рано утром в понедельник, хотя Джонатан мог позвонить ему в воскресенье в любое время. Но по воскресеньям почту из ящиков не вынимали.
На часах было 8:52. Джонатан задумался, что ему необходимо сделать. В Мелене надо бы купить паспарту в одной фирме. Как минимум двум покупателям нужно написать открытки, их картины готовы уже больше недели. По понедельникам Джонатан обычно приводил в порядок дела в своем магазине, не открывая его для покупателей, поскольку по французским законам магазин может работать только пять дней в неделю.
Джонатан пришел в магазин в 9:15, завесил дверь зеленой портьерой и заперся изнутри, вывесив табличку «Fermé». Он продолжал думать о Гамбурге, делая вид, что работает. Мнение гамбургского специалиста, пожалуй, не помешает. Два года назад он консультировался со специалистом в Лондоне. Его выводы были те же, что и у француза, и Джонатан удовлетворился подтверждением диагноза. А что, если немец добросовестнее, да еще и в курсе последних достижений? Допустим, он примет предложение Уистера съездить туда и обратно. (Джонатан переписал адрес на открытку.) Но тогда он будет обязан Уистеру. Джонатан понимал, что втайне обдумывает, как убьет кого-то ради Уистера, даже не ради Уистера, а ради денег. Члена мафиозной группировки. Но ведь они и сами преступники, разве не так? Разумеется. Если взять деньги на дорогу, то Уистеру всегда можно будет вернуть долг, напомнил себе Джонатан. Дело в том, что сейчас Джонатан не мог взять деньги из банка, – там их недостаточно. Если действительно хочешь узнать правду о состоянии своего здоровья, то Германия (или, скажем, Швейцария) для этого вполне годится. Там ведь по-прежнему лучшие врачи в мире, не так ли? Джонатан положил визитную карточку представителя фирмы в Мелене рядом с телефоном, чтобы не забыть позвонить ему завтра, – сегодня эта фирма тоже не работала. И как знать, может, предложение Стивена Уистера и вправду осуществимо? Джонатан на мгновение представил себя под перекрестным огнем немецких полицейских – они накрыли его сразу после того, как он выстрелил в итальянца. Но, даже если ему суждено умереть, Симона с Джорджем получат сорок тысяч фунтов. Джонатан опустился на землю. Нет, никого убивать он не намерен. Но Гамбург… поездка в Гамбург – это интересно, в этом есть какое-то разнообразие, даже если новости, которые он там узнает, будут ужасны. Но это будут факты. А если Уистер заплатит сейчас, Джонатан сможет расплатиться с ним в течение трех месяцев, надо лишь поприжаться, не покупать никакой одежды, даже пива в кафе не пить. Джонатан, правда, боялся рассказать об этом Симоне, хотя, конечно же, она с ним согласится, поскольку речь идет о консультации еще с одним врачом, а врач этот, скорее всего, превосходный. Экономить Джонатан будет только на себе.
Около одиннадцати часов Джонатан заказал разговор с Уистером в Гамбурге за свой счет. Спустя минуты три-четыре его телефон зазвонил, и Джонатану показалось, что слышимость даже лучше, чем обычно бывает с Парижем.
– …да, это Уистер, – произнес Уистер присущим ему легким и уверенным тоном.
– Я получил от вас письмо сегодня утром, – начал Джонатан. – Это насчет того, чтобы съездить в Гамбург…
– Ну конечно, почему бы и нет? – равнодушно сказал Уистер.
– То есть мне хотелось бы встретиться со специалистом…
– Я сейчас же высылаю вам деньги телеграфом. Вы получите их на почте в Фонтенбло. Деньги там будут через пару часов.
– Это… это очень любезно с вашей стороны. Когда приеду, смогу…
– Вы можете приехать сегодня? Сегодня вечером? Здесь найдется для вас комната.
– Сегодня? Не знаю.
А почему бы и нет?
– Перезвоните мне, когда возьмете билет. Дайте знать, когда прилетаете. Я целый день буду на месте.
Когда Джонатан повесил трубку, его сердце билось чуть чаще, чем обычно.
Дома, во время обеда, Джонатан поднялся наверх, чтобы посмотреть, где чемодан. Он лежал на шкафу – там, куда они его положили, когда последний раз, почти год назад, вернулись из отпуска, проведенного в Арле.
– Дорогая, хочу сообщить тебе кое-что важное, – сказал он Симоне. – Я решил съездить в Гамбург, чтобы проконсультироваться со специалистом.
– Вот как? Это Перье предложил?
– Видишь ли… вообще-то, нет. Это моя идея. Я бы не прочь узнать мнение немецкого врача. Знаю – это потребует расходов.
– О каких расходах речь, Джон! Ты узнал что-то сегодня утром? Но ведь лабораторные анализы будут известны только завтра, не так ли?
– Да. Они всегда говорят одно и то же, дорогая. Мне нужно свежее мнение.
– Когда ты хочешь уехать?
– Скоро. На этой неделе.
Еще не было и пяти, когда Джонатан позвонил на почту в Фонтенбло. Ему ответили, что деньги переведены. Джонатан предъявил свое carte d’identité[31] и получил шестьсот франков. Выйдя из почтового отделения, он направился в туристическое агентство на площади Франклина Рузвельта, что всего в двух кварталах, и купил билет в Гамбург, туда и обратно. Самолет вылетал из аэропорта Орли в 21:25 в этот же вечер. Он понимал, что необходимо спешить, и ему это нравилось, потому что не давало времени на размышления и колебания. Он отправился в свой магазин и на этот раз позвонил в Гамбург за счет того, кому звонил.
Трубку снова снял Уистер:
– Отлично! Хорошо, в одиннадцать пятьдесят пять. Садитесь в аэропорту в автобус и езжайте до кольца. Я вас там встречу.
После этого Джонатан позвонил покупателю, который должен был забрать у него картину, и сказал, что магазин будет закрыт во вторник и в среду «по семейным обстоятельствам», – он всегда называл эту причину. На пару дней нужно вывесить на дверях табличку с таким же текстом. Ничего особенного, подумал Джонатан, хозяева частенько закрывали магазины то по одной, то по другой причине. Джонатан даже видел однажды такую вывеску: «Закрыто по причине похмелья».
Джонатан запер магазин и пошел домой собирать вещи. Задержится он дня на два, не больше, думал Джонатан, если только в гамбургском госпитале, или где там он окажется, не настоят на сдаче анализов, тогда придется остаться подольше. Джонатан проверил расписание поездов до Парижа. Один из них, отправляющийся около семи часов вечера, его вполне устраивал. Ему нужно добраться до Парижа, потом на метро до станции «Дом инвалидов»[32], а там пересесть на автобус в Орли. Когда Симона с Джорджем вернулись домой, Джонатан стоял внизу с чемоданом.
– Значит, сегодня? – спросила Симона.
– Чем скорее, тем лучше, дорогая. Что-то мне не терпится. Я вернусь в среду, а может, даже завтра вечером.
– Но… где мне тебя найти? Ты заказал гостиницу?
– Нет, но я сообщу тебе телеграфом, дорогая. Не волнуйся.
– Ты обо всем договорился с врачом? Кто это?
– Пока не знаю. Я связывался только с больницей.
Джонатан выронил паспорт, пытаясь засунуть его во внутренний карман пиджака.
– Я никогда не видела тебя в таком состоянии, – сказала Симона.
Джонатан улыбнулся:
– Во всяком случае, я не теряю сознание!
Симона хотела проводить его до станции Фонтенбло-Авон и вернуться назад на автобусе, но Джонатан отговорил ее.
– Я тотчас же дам тебе телеграмму, – пообещал он.
– А Гамбург – это где? – спросил Джордж уже во второй раз.
– Allemagne – Германия! – ответил Джонатан.
Джонатану повезло – такси он поймал на улице Франс. Когда он добрался до станции Фонтенбло-Авон, поезд как раз подходил, и Джонатан едва успел купить билет и вскочить в вагон. Потом он взял такси от Лионского вокзала до «Инвалидов». У Джонатана еще немного оставалось от шестисот франков. На какое-то время о деньгах можно забыть.
В самолете он дремал, уронив журнал на колени. Джонатан воображал себя другим человеком. Самолет уносил этого нового человека от того, кто остался в темном сером доме на улице Сен-Мерри. Он представлял, что какой-то другой Джонатан в эту самую минуту помогает Симоне мыть посуду и беседует с ней на такие скучные темы, как цена линолеума для кухни.
Самолет произвел посадку. Дул резкий ветер, и было гораздо холоднее, чем в Париже. Длинная освещенная автострада постепенно перешла в городские улицы, на фоне ночного неба выступали неясные очертания массивных зданий. Уличные фонари по форме отличались от французских, да и светили иначе.
А вот и Уистер. Улыбаясь, он шел навстречу Джонатану и протягивал руку.
– Добро пожаловать, мистер Треванни! Хорошо долетели?.. Моя машина тут рядом. Надеюсь, вы не против того, что вам пришлось самому добираться до кольца? Мой водитель – вообще-то, он не мой, я лишь использую его от случая к случаю – освободился только несколько минут назад.
Они сошли с тротуара. Уистер продолжал что-то говорить со своим американским акцентом. Если не считать шрама, ничто не указывало на то, что Уистер предрасположен к агрессивности. Джонатан подумал, что он даже чересчур спокоен, а по мнению психиатров, это предвещает недоброе. А может, он просто вынашивает зло? Уистер остановился возле ухоженного черного «мерседеса-бенц». Человек постарше, с непокрытой головой, взял у Джонатана его небольшой чемодан и распахнул перед ним и Уистером дверцу машины.
– Это Карл, – сказал Уистер.
– Добрый вечер, – произнес Джонатан.
Карл улыбнулся и пробормотал что-то по-немецки.
Ехали они довольно долго. Уистер показал Джонатану Rathaus[33] – «самая старая в Европе, к тому же бомбы в нее не попали» – и большую церковь или собор. Его названия Джонатан не расслышал. Они с Уистером сидели на заднем сиденье. Машина ехала по городскому району, более похожему на сельскую местность, потом пересекла очередной мост и двинулась по более темной автотрассе.
– Вот мы и приехали, – сказал Уистер. – Здесь я живу.
Машина свернула на уходящую вверх дорогу и остановилась перед большим домом, в котором горело несколько окон и освещался содержавшийся в образцовом порядке главный вход.
– Дом старый, в нем четыре квартиры, и одна из них – моя, – пояснил Уистер. – В Гамбурге много таких домов. Они все переделаны. Отсюда хороший вид на Альстер. На Aussen Alster[34] – тот, что больше. Завтра увидите.
Они поднялись наверх в современном лифте. Чемодан Джонатана нес Карл. Он нажал на звонок, и дверь с улыбкой открыла пожилая женщина в черном платье и белом фартуке.
– Это Габи, – сказал Уистер Джонатану. – Моя экономка. Она работает у меня неполный рабочий день, а потом трудится на другую семью в доме, где и ночует. Я сказал ей, что сегодня мы бы хотели поужинать. Габи, это герр Треванни aus Frankreich[35].
Женщина любезно поздоровалась с Джонатаном и взяла у него пальто. У нее было полное круглое лицо, излучающее доброжелательность.
– Здесь можете вымыть руки, если хотите, – предложил Уистер, указывая в сторону ванной, где уже был зажжен свет. – Я налью вам виски. Вы, наверное, голодны?
Когда Джонатан вышел из ванны, в большой гостиной горели четыре лампы. Уистер сидел на зеленом диване и курил сигару. Перед ним, на кофейном столике, стояли два стакана с виски. Тотчас же Габи внесла поднос с сэндвичами и бледно-желтым сыром.
– Спасибо, Габи, – поблагодарил Уистер и, обращаясь к Джонатану, добавил: – Для Габи уже поздно, но когда я сказал ей, что жду гостя, она настояла на том, что останется и приготовит сэндвичи.
Уистер по-прежнему не улыбался, хотя и произнес эти слова бодрым тоном. Более того, наблюдая за тем, как Габи расставляет тарелки, он сдвинул и без того прямые брови. Когда она вышла, он спросил:
– Вы хорошо себя чувствуете? – И продолжил: – Давайте сразу перейдем к главному – визиту к специалисту. У меня на примете есть хороший человек – доктор Генрих Венцель, гематолог в Eppendorfer Krankenhaus. Это здесь самая большая больница. Знаменита на весь мир. Я записал вас на прием завтра в два, если вас это устроит.
– Конечно. Благодарю вас, – сказал Джонатан.
– Таким образом, у вас есть возможность выспаться. Ваша жена, надеюсь, не очень возражала против такого стремительного отъезда?.. В конце концов, вовсе нелишне проконсультироваться с несколькими врачами по поводу серьезного заболевания…
Джонатан почти не слушал его. Он был как в тумане и как будто даже сбит с толку окружавшей его обстановкой – все вокруг немецкое, а в Германии он был первый раз. Гостиная обставлена традиционной, скорее современной, нежели антикварной, мебелью, хотя у стены, напротив него, стоял красивый письменный стол в стиле бидермейер[36]. Вдоль стен тянулись низкие книжные стеллажи, на окнах висели длинные зеленые занавески, а лампы, стоявшие по углам, отбрасывали мягкий свет. На стеклянном кофейном столике лежала открытая деревянная коробка, наполненная самыми разными сигарами и сигаретами. Белый камин, отделанный бронзой, не горел. Над камином висела довольно интересная картина, похоже, кисти Дерватта. А где Ривз Мино? Уистер – это и есть Мино, подумал Джонатан. Уистер сам об этом скажет или же дождется, когда Джонатан об этом догадается? Джонатану пришло в голову, что им с Симоной надо бы оклеить весь дом белыми обоями или покрасить белой краской. Если они хотят, чтобы было больше света, то белый – это логично…
– …А вы не задумывались над вторым предложением? – тихо спросил Уистер. – Тем самым, которое я сделал в Фонтенбло?
– Боюсь, на этот счет я не переменил мнения, – ответил Джонатан. – А значит… отсюда следует, что я должен вам шестьсот франков.
Джонатан попытался улыбнуться. Виски подействовало на него, и поняв это, он нервно отпил еще немного из своего стакана.
– Я смогу расплатиться с вами в течение трех месяцев. Проконсультироваться со специалистом сейчас – крайне важно для меня. Это прежде всего.
– Разумеется, – согласился Уистер. – Но о том, чтобы возвращать деньги, и думать забудьте. Глупости какие.
Джонатану не хотелось спорить, но ему стало немного не по себе. У него было какое-то странное ощущение, будто он унесся куда-то в своих мечтах или он – это не он. Ему все казалось чужим, нереальным.
– Этот итальянец, которого мы хотели бы убрать, – заговорил Уистер, сплетая пальцы рук за затылком и глядя в потолок, – все время крутится в одних и тех же местах. Ха-ха! Смешно! Он лишь делает вид, что работает «от» и «до». Его можно встретить в клубах около Рипербана[37]. Он делает вид, что любит азартные игры, или притворяется, будто работает виноделом, но я уверен, что у него есть приятель на… как там называется здешний винный завод. Он каждый день ходит на винный завод, но вечера проводит в одном из частных клубов, сидит за столом, играя по маленькой, и высматривает, с кем бы пообщаться. По утрам он спит, потому что бодрствует каждую ночь. А теперь главное, – выпрямившись, продолжал Уистер, – он каждый день едет на у-бане до дома, где снимает квартиру. У него аренда на шесть месяцев, а чтобы все выглядело законно, и на винный завод он устроился на шесть месяцев. Да возьмите же сэндвич!
Уистер протянул ему тарелку, словно только что вспомнил о еде.
Джонатан взял сэндвич с языком. Другие были с салатом из шинкованной капусты и с маринованными огурцами.
– Важно учесть, что из у-бана он выходит один на станции «Штайнштрассе» каждый день около шести пятнадцати. Он ничем не отличается от других деловых людей, возвращающихся из офисов. В это время мы и хотели бы с ним покончить. – Уистер положил свои костлявые ладони на колени. – Убийца стреляет один раз, если удастся – в спину, возможно, два раза – для надежности, бросает револьвер – и привет от дядюшки Боба, так, кажется, говорят англичане?
Это выражение действительно было ему знакомо, он давным-давно его слышал.
– Если все так просто, зачем я вам нужен? – Джонатан изобразил на лице вежливую улыбку. – Я, мягко говоря, любитель и только все испорчу.
Уистер, казалось, не слышал его.
– В у-бане, возможно, соберется небольшая толпа. Сколько человек – кто знает? Тридцать, может, сорок, если полицейские появятся достаточно быстро. Станция огромная, отсюда поезда уходят по главным направлениям. Вероятно, кого-то станут обыскивать. Ну, а если обыщут вас? – Уистер пожал плечами. – Револьвер уже выброшен. Вы обмотаете руку тонким чулком, а спустя несколько секунд после выстрела выбросите и чулок. Ни следов пороха на ваших руках, ни отпечатков пальцев на револьвере. С убитым вас ничто не связывает. Да до всего этого и дело не дойдет. Достаточно взглянуть на ваше французское удостоверение личности, к тому же у вас назначена встреча с доктором Венцелем. Вы вне всяких подозрений. Моя идея, наша идея, заключается в том, что для этого дела требуется человек, который никак не связан ни с нами, ни с клубами…
Джонатан слушал молча. В день убийства, думал он, ему нужно быть в гостинице. Если полицейский спросит, где он остановился, не следует говорить, что он гостит у Уистера. А как же Карл и экономка? Им что-нибудь об этом известно? Можно ли им доверять? Чушь какая-то, сплошная чушь, думал Джонатан. Ему хотелось улыбнуться, но улыбка не получалась.
– Вы устали, – сказал ему Уистер. – Хотите взглянуть на свою комнату? Габи уже отнесла туда ваш чемодан.
Спустя пятнадцать минут Джонатан принял горячий душ и надел пижаму. Окно его комнаты выходило на улицу, как и два окна гостиной. Джонатан видел поверхность воды и огни вдоль берега, оказавшегося совсем близко, – то горели красные и зеленые фонари на привязанных лодках. Было темно. Все это создавало ощущение покоя и простора. По небу рыскал луч прожектора. Кровать, на которой ему предстояло спать, была полуторная, одеяло аккуратно откинуто. На столике возле кровати стоял стакан – похоже, с водой – и лежала пачка «Житан» из маисовой бумаги – его любимые сигареты, а также пепельница и спички. Джонатан отхлебнул немного из стакана и убедился, что это и в самом деле вода.
6
Джонатан сидел на краю кровати и маленькими глотками пил кофе, который только что принесла Габи. Именно такой кофе он любил – крепкий, с добавлением жирных сливок. Джонатан проснулся в семь утра, потом опять уснул, пока в 10:30 Уистер не постучал в дверь.
– Не извиняйтесь, я рад, что вы выспались, – сказал Уистер. – Габи готова принести вам кофе. Или вы предпочитаете чай?
Уистер прибавил, что заказал Джонатану номер в гостинице, – по-английски ее название звучит как «Виктория». Они сходят туда до обеда. Джонатан поблагодарил его. О гостинице больше разговоров не было. Но это только начало, решил Джонатан – так он думал и накануне. Если ему суждено осуществить план Уистера, он не должен быть гостем в этом доме. Джонатан, однако, был рад тому, что через пару часов его не будет под крышей дома Уистера.
В полдень явился то ли приятель, то ли знакомый Уистера по имени Рудольф. Фамилию его Джонатан не разобрал. Это был молодой, стройный человек с прямыми черными волосами, нервный и учтивый. Уистер сказал, что он студент-медик. По-английски он, очевидно, не говорил. Глядя на него, Джонатан вспомнил фотографии Франца Кафки. Они все вместе сели в машину, за рулем которой сидел Карл, и отправились в гостиницу. На взгляд Джонатана, по сравнению с Францией все вокруг казалось таким новым. Он вспомнил, что Гамбург был разрушен во время войны. Машина остановилась на оживленной торговой улице возле гостиницы «Виктория».
– Там все говорят по-английски, – сказал Уистер. – Мы вас подождем.
Джонатан вошел в гостиницу. Коридорный у дверей взял у него чемодан. Он зарегистрировался, проследив, чтобы номер его английского паспорта записали правильно. Потом попросил отнести чемодан в номер, как велел ему Уистер. Судя по всему, гостиница была среднего класса.
Затем они поехали обедать в ресторан. Карл остался в машине. Прежде чем принесли горячее, они выпили бутылку вина, стоявшую на столе, и Рудольф очень развеселился. Он говорил по-немецки, и Уистер перевел несколько его шуток. Джонатан думал о том, что в два часа ему нужно быть в больнице.
– Ривз… – обратился Рудольф к Уистеру.
Джонатану показалось, что Рудольф однажды уже произнес это имя, но на этот раз ошибки не было. Уистер – Ривз Мино – отнесся к случившемуся спокойно. Как и Джонатан.
– Малокровие? – спросил Рудольф у Джонатана.
– Хуже, – улыбнулся Джонатан.
– Schlimmer[38], – перевел Ривз Мино и дальше заговорил с Рудольфом по-немецки. Джонатану казалось, что немецкий Ривза не лучше его французского, но объясняться он может на обоих языках.
Еда оказалась превосходной, порции огромные. Ривз захватил с собой сигары. Но не успели они их докурить, как настало время ехать в больницу.
Больница располагалась в нескольких зданиях, стоявших среди деревьев на обширной территории. Вдоль дорожек росли цветы. Отвез их туда опять же Карл. Больничный флигель, куда вошел Джонатан, напоминал лабораторию будущего – комнаты по обеим сторонам коридора, как в гостинице, с той разницей, что в них стояли хромированные стулья и кровати, и освещены они были лампами дневного света или разноцветными светильниками. Пахло не дезинфицирующим средством, а каким-то таинственным газом, напоминавшим Джонатану тот, запах которого он чувствовал пять лет назад под рентгеновским аппаратом, который так и не помог ему справиться с болезнью. В таких местах простые смертные полностью отдают себя во власть всеведущих специалистов, подумал Джонатан и тотчас едва не потерял сознание от охватившей его слабости. Джонатан шел по, казалось, бесконечному коридору со звуконепроницаемым полом в сопровождении Рудольфа, который, если понадобится, мог бы выступить в роли переводчика. Ривз остался в машине с Карлом, но Джонатан не знал, станут ли они дожидаться, как и не знал, сколько продлится осмотр.
Доктор Венцель, крупный мужчина с седыми волосами и усами, как у моржа, говорил немного по-английски, но длинные предложения составлять и не пытался. «Давно?» Шесть лет. Джонатана взвесили, спросили, не потерял ли он сколько-нибудь в весе за последнее время, раздели до пояса, пропальпировали селезенку. Врач все это время бормотал что-то по-немецки сестре, а та делала записи. Ему измерили кровяное давление, осмотрели веки, взяли анализы мочи и крови и, наконец, образец костного мозга с помощью инструмента, похожего на компостер, который работал быстрее и доставлял меньше дискомфорта, чем тот, которым пользовался доктор Перье. Осмотр занял минут сорок пять – не больше.
Джонатан и Рудольф вышли из больницы. Машина стояла в нескольких ярдах среди других припаркованных машин.
– Ну как?.. Когда будет ответ? – спросил Ривз. – Вернемся ко мне или поедете в гостиницу?
– Благодарю вас, думаю, мне лучше в гостиницу. – Джонатан с облегчением опустился на заднее сиденье.
Рудольф, похоже, вовсю расхваливал Венцеля. Они подъехали к гостинице.
– Мы заедем за вами перед ужином, – бодрым голосом произнес Ривз. – В семь.
Джонатан взял ключ и поднялся в свой номер. Сняв пиджак, он повалился на кровать лицом вниз. Пролежав так минуты две-три, он резко поднялся и подошел к письменному столу. В ящике лежала писчая бумага. Он сел за стол и принялся писать:
«4 апреля 19..
Дорогая Симона!
Меня только что осмотрели, результаты узнаю завтра утром. Очень хорошая больница, врач похож на самого императора Франца Иосифа, говорят, это лучший гематолог в мире! Каким бы ни был результат, мне будет гораздо легче, если я узнаю правду. Может, я вернусь домой еще до того, как ты получишь это письмо, если только доктор Венцель не захочет взять еще какие-нибудь анализы.
Телеграфирую сейчас же, чтобы сообщить, что со мной все в порядке. Скучаю по тебе, думаю о тебе и Caillou[39].
A bientôt, с любовью,
Джон».
Джонатан достал из чемодана свой лучший темно-синий костюм и повесил его в шкаф, затем спустился вниз, чтобы отправить письмо. Минувшим вечером в аэропорту он разменял десятифунтовый чек из старой книжки, в которой оставалось чека три или четыре. Симоне он отослал короткую телеграмму, сообщив, что с ним все в порядке, а подробности в письме. Потом вышел из гостиницы, отметил для себя название улицы и осмотрелся в поисках чего-нибудь запоминающегося. В глаза бросился огромный щит с рекламой пива. Теперь можно и прогуляться.
На улице толпились прохожие, разносчики фруктов, попадались таксы на поводках, на каждом углу продавали газеты. Джонатан засмотрелся на красивые свитеры в одной из витрин. Его внимание привлек также голубой шелковый халат, висевший на фоне мягких белых овечьих кож. Он попытался было перевести цену на франки, но бросил, поскольку вовсе не собирался его покупать. Перейдя через оживленный проспект, по которому шли трамваи и автобусы, он оказался перед каналом с пешеходным мостом. Переходить на другую сторону он не стал. Пожалуй, можно выпить кофе. Джонатан приблизился к приятному на вид кафе с пирожными в витрине, со стойкой и маленькими столиками внутри, но заставить себя зайти не смог. Он понял, что боится результатов анализов, которые станут известны завтра. Его вдруг охватило знакомое ему чувство опустошенности, появилось ощущение, будто он выжат как лимон, а на лбу появилась испарина, словно сама жизнь покидала его вместе с потом.
Еще Джонатан знал или, по крайней мере, подозревал, что завтра он получит липовые результаты. Джонатан не доверял Рудольфу. Студент-медик. Рудольф ничем не помог, да в его помощи и не было нужды. Сестра говорила по-английски. Возможно, Рудольф сам и напишет сегодня вечером липовый отчет. Или каким-то образом его подменит. Джонатан даже представил себе Рудольфа, который пробирается днем в больницу и крадет там больничные бланки. Только не сходи с ума, сказал себе Джонатан.
Он повернул обратно к гостинице, стараясь выбрать путь покороче. Добравшись до «Виктории», он взял ключ и поднялся в номер. Снял башмаки, зашел в ванную, смочил полотенце и лег на кровать, накрыв полотенцем лоб и глаза. Спать ему не хотелось, но состояние было какое-то странное. Чудной этот Ривз Мино. Дать взаймы шестьсот франков совершенно незнакомому человеку, сделать это безумное предложение и пообещать больше сорока тысяч фунтов… Тут что-то не так. Ривз Мино никогда не добьется ничего путного. Ривз Мино живет в мире фантазий. Может, он и не мошенник, просто немного не в своем уме, из тех, кто воображает, будто обладает влиянием и властью.
Джонатана разбудил телефонный звонок. Мужской голос произнес по-английски:
– К вам джентльмен, сэр. Он здесь, внизу.
Джонатан взглянул на часы – шел восьмой час.
– Скажите ему, что я спущусь через пару минут.
Джонатан вымыл лицо, надел свитер с высоким воротником, пиджак и взял пальто.
В машине сидел один Карл.
– Хорошо провели день, сэр? – спросил он по-английски.
Они поболтали о том о сем, и Джонатан убедился, что у Карла неплохой запас английских слов. Интересно, подумал Джонатан, сколько иностранцев обхаживал Карл таким образом для Ривза Мино? И чем, по мнению Карла, Ривз занимается? А может, это ему и не нужно знать? И все-таки – чем же занимается Ривз?
Карл остановил машину на том же наклонном подъезде к дому. На этот раз Джонатан один поднялся на третий этаж.
Ривз Мино приветствовал Джонатана у дверей. Он был в серых фланелевых брюках и в свитере.
– Заходите! Надеюсь, сегодня вы не волнуетесь?
Они выпили виски. Стол был накрыт на двоих, из чего Джонатан заключил, что вечер они проведут вдвоем.
– Мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели на того человека, о котором я говорил, – сказал Ривз.
Поднявшись с дивана, он подошел к своему бидермейерскому письменному столу и достал из ящика две фотографии. На одной из них был запечатлен в фас, а на другой – в профиль мужчина в группе из нескольких человек, склонившихся над столом.
За таким столом играют в рулетку. Джонатан стал рассматривать фотографию, сделанную в фас, – снимок четкий, как фото на паспорт. Мужчине лет сорок, у него квадратное, мясистое лицо, какое бывает у многих итальянцев, от носа к уголкам толстых губ уже протянулись морщины. В темных глазах угадывалась усталость, почти испуг, и вместе с тем в слабой улыбке можно было прочитать: «И что я такого сделал, а?» Ривз заметил, что его зовут Сальваторе Бьянка.
– Этот снимок, – Ривз указал на групповое фото, – был сделан в Гамбурге примерно неделю назад. Сам он никогда не играет, лишь наблюдает со стороны. Это тот редкий случай, когда он смотрит на колесо… Бьянка лично убил, наверное, дюжину человек, иначе он не был бы членом мафии, но как мафиозо он ничего собой не представляет. Ему всегда найдется замена. Его уберешь – найдутся другие…
Ривз продолжал говорить, а Джонатан тем временем допил свое виски. Ривз налил ему еще.
– Бьянка все время в шляпе – то есть когда на улице. Фетровая шляпа, обычное твидовое пальто…
У Ривза был проигрыватель, и Джонатан с удовольствием послушал бы какую-нибудь музыку, но ему казалось, что с его стороны будет неловко, если он об этом скажет, хотя ему нетрудно было вообразить, как Ривз бросится к проигрывателю и поставит то, что Джонатан пожелает.
Наконец он перебил его:
– Самый обыкновенный человек – шляпа надвинута на глаза, воротник пальто поднят, и вы хотите, чтобы его опознали в толпе лишь по этим двум фотографиям?
– Один мой приятель поедет тем же маршрутом от станции «Ратхаус», где садится Бьянка, до станции «Мессберг» – это следующая и единственная остановка перед «Штайнштрассе». Смотрите!
Ривз снова пустился в объяснения. Он показал Джонатану карту Гамбурга, которая складывалась гармошкой. Линии у-бана были изображены на ней голубыми точками.
– Вы садитесь с Фрицем в у-бан на станции «Ратхаус». Фриц зайдет после обеда.
«Мне жаль разочаровывать вас», – хотелось сказать Джонатану. Ему было немного неловко оттого, что он позволил Ривзу зайти в своих объяснениях так далеко. Или же он невольно подстрекал его к этому? Ну уж нет. Ривз затеял безумную игру. Он, вероятно, привык к таким вещам, и Джонатан, быть может, не первый, кому Ривз делает подобное предложение. Джонатан хотел спросить, первый он или нет, но Ривз продолжал долдонить:
– Вполне может случиться так, что выстрелить придется еще раз. Мне бы не хотелось вводить вас в заблуждение…
Джонатана порадовало, что в этом деле есть и плохая сторона. До сих пор Ривз представлял все в розовом свете – выстрелил, и привет от дядюшки Боба, потом карманы, полные денег, и распрекрасная жизнь во Франции или еще где-нибудь, круиз вокруг света, все самое лучшее для Джорджа (Ривз спрашивал, как зовут его сына), обеспеченная жизнь для Симоны. «Как же я объясню ей, откуда все эти деньги?» – подумал Джонатан.
– Это Aalsuppe[40], – сказал Ривз, беря в руку ложку. – Гамбург славится этим блюдом, а Габи любит его готовить.
Уха с угрем оказалась замечательной. К ней было подано превосходное охлажденное мозельское вино.
– В Гамбурге есть знаменитый зоопарк – Tierpark Гагенбека[41] в районе Зеттлинген. Совсем недалеко отсюда. Можем съездить туда завтра утром. Если только, – на лице Ривза вдруг появилось беспокойство, – не случится ничего непредвиденного. Я жду, чем разрешится одно дело. Сегодня или завтра утром станет ясно.
Можно подумать, что зоопарк важнее всего.
– Завтра утром мне нужно узнать в больнице результаты анализов. Я должен там быть в одиннадцать утра, – заметил Джонатан.
Джонатан уже был в отчаянии, будто в одиннадцать утра он должен умереть.
– Ну да, конечно. Что ж, в зоопарк можно сходить и днем. Звери находятся в естественной… естественной среде…
Sauerbraten[42]. И красная капуста.
В дверь позвонили. Ривз не двинулся с места. Спустя минуту вошла Габи и объявила, что пришел герр Фриц.
Фриц, одетый в довольно поношенное пальто, держал в руках кепку. Лет ему было около пятидесяти.