Читать онлайн Брабантский мастер Иероним Босх бесплатно
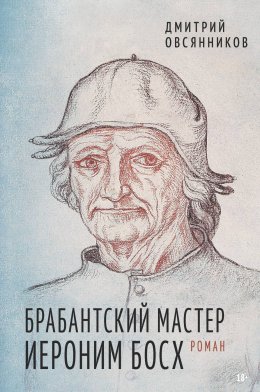
© Д. Н. Овсянников, текст, 2023
© АО «Издательский Дом Мещерякова», 2023
Предисловие автора
Работая над этой книгой, я убедился, что Иероним Босх, знаменитый брабантский художник позднего Средневековья – настоящая загадка, разгадать которую до конца вряд ли удастся.
Йерун Антонисон ван Акен – таково настоящее имя Иеронима Босха. Его псевдоним и большая часть работ, дошедших до наших дней, знакомы многим, однако в биографии мастера остается масса неясного.
Казалось бы, история его жизни и творчества может считаться хорошо изученной специалистами. От многих художников – земляков и современников Босха – не осталось даже имен, а его биографию можно восстановить и исследовать по официальным документам. О Босхе написаны книги и сняты фильмы. Все или почти все они строятся по одной и той же модели – за коротким и сухим изложением биографических фактов следует пространный анализ картин.
Отчего так? Вероятно, оттого, что документы о жизни Босха при всей их точности довольно скупы на информацию. Все они связаны с разного рода сделками, уплатой налогов и в конце концов пышными похоронами знаменитого уже при жизни художника.
Что позволяют установить такие источники? Это несложно перечислить: оседлый образ жизни, привилегированное положение в городе и Братстве Богоматери (духовно-светской организации, действующей по сей день), высокий достаток и родственные связи Йеруна ван Акена. Больше из них не следует ничего. Да и первое из упоминаний Йеруна в документах сделано тогда, когда он был уже взрослым человеком.
Таким образом, документальная информация о жизни Босха освещает только ее экономическую и юридическую сторону, не более того. В связи с чем даже в исследовательские труды закрадывается масса фактических ошибок и нестыковок, наиболее безобидные из которых сводятся к укорачиванию жизни ван Акена лет на десять – двадцать.
Что же касается знаний о личности Йеруна, то они наполовину состоят из предположений и домыслов. Не сохранилось ни личной переписки, ни дневников, ни даже прижизненных портретов художника. Те три изображения, что известны в наше время – предполагаемые портреты, написанные после смерти ван Акена. Нельзя сказать с полной уверенностью, передают ли они его реальный облик. Личность художника остается загадкой. Увы, недостаток сведений создает простор для всевозможных фантазий, в том числе весьма безответственных.
Не имея в распоряжении свидетельств о личности Босха, исследователи пытались восстановить его образ, опираясь на его картины, и получали широкий простор для ошибок. Дело в том, что Босх не датировал свои работы и, как правило, не подписывал их. Не осталось также и названий, которые сам художник давал своим трудам, – те, что известны сейчас, даны искусствоведами намного позже. Самые современные методы исследований позволяют установить только временной диапазон, в который была создана картина, он всегда достаточно широк – а ведь раньше не было доступно даже это! Так что перед тем, как исследовать творчество Босха, предстояло выбрать именно его работы среди множества подделок и подражаний – ведь характерный стиль мастера в свое время породил настоящую моду, продолжавшуюся в течение всего XVI столетия.
Итак, картины и рисунки Босха не проливают свет на его личность. Скорее, наоборот, напускают туман. Дело в том, что больше всего внимание людей на рубеже XIX–XX столетий привлекали причудливые, странные и страшные образы, созданные художником. Босхом вдохновлялись сюрреалисты, ему пытались приписать связи со всевозможными еретическими сектами, диагностировать у давно умершего человека то или иное психическое расстройство, сексуальные отклонения или хотя бы алкоголизм, приведший художника к белой горячке.
Тут-то и приходят на помощь те самые скупые документальные свидетельства, которые, казалось бы, позволяют разве что пересчитать прижизненные заработки Босха.
Обратившись к этим документам, мы увидим долгую и размеренную жизнь средневекового мастера, уважаемого в городе. Нельзя забывать, что художник Средних веков или эпохи Ренессанса был именно мастером-ремесленником, чаще всего – хозяином и руководителем собственной мастерской. Он мало походил на богемного художника XIX–XX веков, часто полунищего, ведущего беспорядочную во всех смыслах жизнь. Даже если такие персонажи существовали во все времена, то история не сохранила ни слова о них.
В Средние века безумные выходки не позволили бы человеку долго оставаться на одном месте. В худшем случае они привлекли бы внимание инквизиции. Не стоит думать, что подобные дела непременно приводили человека на костер – к высшей мере такого рода приговаривали не всех и не сразу. Чаще всего дело ограничивалось различными покаяниями или поражением в правах. Но самое главное – разбирательства церковных судов подробно документировались, их материалы неплохо сохранились до наших дней. Однако подобных свидетельств, связанных с именем Йеруна ван Акена, нет.
Не мог он быть и тихим безумцем-затворником – примерно с середины и до конца жизни ван Акен имел статус присяжного брата в Братстве Богоматери, то есть входил в элиту Братства и города. Такое положение обязывало его к активной общественной работе. Среди заказчиков Босха было немало сильных мира сего. Достичь такого, скрываясь в своем безумии от людей, невозможно.
Представляя себе характер ван Акена, я увидел не просто человека с богатой фантазией. Он представляется мне настоящим сказочником, способным вместить в одной работе множество историй, забавных или ужасных, где каждый образ – загадка сам по себе. Немало среди них буквальных изображений пословиц, поговорок и шуток. Мастер Йерун брался за смелые эксперименты, сочетал в своих работах высокий стиль религиозной живописи с книжными маргиналиями и декоративными орнаментами, широко распространенными в искусстве Северного Возрождения.
И уже это делает Босха новатором, причем он, судя по всему, имел в распоряжении только искусство своих соотечественников-северян. Трудно сказать, знал ли он о трудах итальянских художников, мог ли обратиться к их опыту. А ведь современником и почти ровесником Босха был сам Леонардо да Винчи! Более того, в работах брабантского художника можно разглядеть отсылки к творчеству знаменитого итальянца. Так, водоем в «Саду земных наслаждений» формой напоминает «Витрувианского человека», а адская машина на триптихе «Страшный суд» имеет сильнейшее сходство с танком Леонардо. Встречались ли два мастера, знали ли друг о друге – остается еще одной загадкой.
Примечательно, что долгая жизнь ван Акена пришлась на относительно спокойный период истории Брабанта. Всего один год художник не дожил до начала Реформации. Он не застал ни гонений, которые развернули против его творчества иконоборцы, ни событий Нидерландской революции, ни двух осад родного города. Между тем картины и рисунки Босха свидетельствуют о богатейшем жизненном опыте. Вряд ли возможно настолько щедро напитать фантазию, если тихо коротать год за годом в провинциальном городе. Весьма вероятно, что ван Акен немало пережил и повидал в начале своего пути, а после перерабатывал и выражал в творчестве все богатство накопленных впечатлений.
С этими мыслями я и написал роман о жизни мастера Йеруна из города Босха.
Дмитрий Овсянников
Сокровище Вильгельма Оранского
Заскрипел ворот. Толстая, и без того туго натянутая веревка, пропущенная через блок, поползла вверх. Подвешенный за руки человек резко вскрикнул, закачавшись из стороны в сторону. После затих, уронив голову на грудь.
– Прикажете добавить грузы? – Заплечных дел мастер повернулся к высокому седобородому сеньору, сидевшему в кресле. Тот руководил допросом. На него же посмотрели двое других, помладше, так же, как и он, облаченные в дублеты офицеров испанской армии. Секретарь, сидевший чуть поодаль, снова обмакнул перо в чернильницу – было видно, что с самого начала допроса ему нечего заносить в протокол.
Седобородый молча взглянул на дыбу, прищурился на испытуемого. Затем сделал останавливающий жест рукой.
– Я не понимаю твоего упорства, Ханс. – Обращаясь к подвешенному, сеньор заговорил по-брабантски. Было видно, что местная речь, хоть и знакомая, дается ему не без труда – верно подобранные слова звучали с сильнейшим испанским акцентом. – Принц Вильгельм Оранский, твой хозяин, сбежал, даже не позаботившись забрать тебя с собой. Оставил тебя на милость… впрочем, оставил там, где тебе место, в твоем родном городе. Под властью законного государя.
Испытуемый промычал что-то невнятное.
– Ты не беглец и не мятежник, – продолжал седобородый. – Ты честный человек не в пример своему господину. Возможно, ты даже не еретик, а добрый католик, но речь не о твоей вере. Поверь, Ханс, мне нет до нее никакого дела. А тебе ни к чему запираться. Взгляни, куда привело тебя твое упорство. Оно привело тебя на дыбу. Нехорошо, Ханс!
Испытуемый молчал.
– Меня не занимает ни твоя вера, ни твое собственное имущество. Я лишь хочу знать о живописном триптихе, том, что видели не более двух месяцев тому назад в Большом зале дворца. Где он, Ханс? Где он сейчас?
– Я… не знаю… – процедил сквозь зубы Ханс.
– Неужели? – поднял брови испанец. – Ты двадцать лет возглавлял дворцовую стражу, был на хорошем счету. Ты стерег сокровища принца и не знаешь, где они сейчас? Ты честный человек, Ханс, но сейчас я не могу поверить тебе.
Седобородый коротко взмахнул рукой. Скрипнул ворот. Подвешенный вскрикнул и застонал.
– Я, господин… – Он поднял на испанца затуманенные глаза. – Я человек невежественный. Что мне знать об искусстве?
– Что ж, Ханс, это похоже на правду, – кивнул седобородый. После повернулся к палачу: – Снимите его и оставьте здесь. Привести сюда младшего. Его можете расспросить с грузами на ногах.
– Не надо! – Ханс забился, насколько позволяли веревки. – Он не знает!
– Твой сын невежественен, подобно тебе, – кивнул испанец. – Однако не слеп. И наверняка более внимателен. Он не раз бывал в Большом зале вместе с тобой, не так ли? Вижу, бывал. Юноша не упустил бы из виду широкую доску, средняя часть которой густо расписана небывалыми чудесами и обнаженными девицами.
* * *
– Дворцовые стражники не отвечают даже под пытками. – Один из двух капитанов, присутствовавших на допросе, выглянул в окно, стараясь разглядеть сквозь тучи неяркое осеннее солнце. После того, как это не получилось, он произнес несколько непотребных фраз, щедро смешивая испанскую ругань с фламандской, нечистых зверей со змеями, а кальвинистов – с чертями и евреями. Впрочем, завершить трескучую тираду ему не удалось – в комнату вошел седобородый сархенто-майор. Капитан резко оборвал поток слов – его начальник терпеть не мог ругани. Даже с простыми солдатами сархенто-майор вел себя с изысканной вежливостью, впрочем, это не мешало ему держать подчиненных в страхе.
– Что так возмутило вас, дон Диего? – Седобородый, без сомнения, слышал все, что успел выпалить капитан.
– Только то, что еретики упорствуют, сеньор. Мне думается, герцог будет недоволен.
– Допрос еще не завершился. – Сархенто-майор говорил приветливо, и капитан перевел дух. – К тому же мы на верном пути. Любое сокровище можно найти, любому упрямцу можно развязать язык. Главное, правильно подобрать к нему ключ.
– Сеньор?
– Да, капитан.
– Вот-вот начнутся бои.
– Считайте, уже начались. Ведь не зря численность верных королю войск в Семнадцати провинциях увеличена вдвое?
– Безусловно, не зря, сеньор. У меня дурное предчувствие.
– Так поделитесь им.
– Вожди мятежников Эгмонт и Горн схвачены. Вильгельм Оранский пока еще на свободе, но и его черед наступит. Однако вы сами видите, как сопротивляются горожане. Пока еще подспудно.
– Поэтому мы здесь, капитан. Герцог Альба сумеет убедить кого угодно, поверьте моему опыту!
– Эта война не будет легкой! – с жаром продолжал капитан. – А мы тем временем ищем какой-то триптих. Неужели эти доски с голыми девками настолько ценные?
– А как вы полагаете, капитан? – Глаза седобородого недобро сверкнули. – Если принц не бросил их просто так, а соблаговолил упрятать неизвестно куда? Впрочем, скоро будет известно. Если герцог Альба лично распорядился заняться их поиском и известить его о находке?
– Позвольте узнать, сеньор, что на том триптихе? Памфлет, любимый еретиками, который надлежит уничтожить?
– Отнюдь, капитан. Триптих следует отыскать, чтобы спасти.
– Я не понимаю.
– Триптих создан в старые времена, когда в этих землях еще не расплодилась кальвинистская ересь. И создан добрым католиком. Его написал именитый брабантский живописец из города Хертогенбоса. Мастер Иеронимус ван Акен – вам что-то говорит это имя?
Капитан отрицательно покачал головой.
– Неудивительно, если учесть, что мастер Иеронимус больше известен как Босх. Так он прозвал себя в честь родного города. Босх пользовался немалым уважением при жизни – его работы заказывали для множества храмов, в Хертогенбосе и за его пределами. Вельможи считали за честь украсить ими свои дворцы – вот и принц Вильгельм не стал исключением.
В комнату скользнул луч солнца – оно показалось как будто лишь затем, чтобы снова спрятаться за тучами.
– Карамба, до чего оно тусклое, – проворчал капитан. – Солнце еретиков!
– Вы не слушаете, – заметил сархенто-майор. И, убедившись в обратном, продолжил: – Почтение к Босху настолько велико, что и сейчас, спустя полвека после кончины мастера, множество проходимцев кормятся на его имени – выдают подделки за оригинал его кисти. А легковерные богачи из мещан готовы разориться, лишь бы обзавестись подобным. Да и маститые художники не стесняются подражать ему. Здесь же, в Большом зале дворца, без сомнения находился оригинал – принц Вильгельм мятежник, но не легковерный простак!
– Но, если мастер так почитаем, почему его работу нужно спасать? Что может грозить ей?
– Все та же ересь, будь она проклята. Предавшиеся ей мыслят и действуют ничуть не лучше турок. Кальвинисты считают искусство, созданное для нужд матери нашей католической церкви, идолопоклонством. А траты на него – расточительством. Вы слышали о том, что учинили еретики год назад в церкви Богоматери в городе Антверпене?
– Да ведь они ободрали стены едва ли не до кирпичной кладки! Не пожалели дорогого убранства, разбили статуи святых! И они смеют называть себя христианами!
– Предположим, мне нет дела до того, как хотят молиться еретики, – продолжал седобородый. – Если бы весь их вред заключался только в этом! Воля их, пусть молятся хоть в свином хлеву. Но нельзя оставлять на растерзание еретикам то, чего они не ценят, – и здесь я согласен с герцогом. Мы непременно завершим порученные нам поиски!
– Сеньоры, – в комнату вошел второй капитан. – Ханс сознался. Он готов показать тайники принца.
– Идемте, господа. – Сархенто-майор шагнул к выходу. – Для Вильгельма триптих – сокровище, но оно неизбежно погибнет, если останется в руках еретиков. Этого нельзя допустить.
– Сеньор, а вы сами видели работы мастера Босха?
– Я не видел. Но герцог Альба видел их в Эскориале. И был потрясен.
Часть I. Ученик
Кувшин и альрауны[1]
Среди болотистых низин, лугов и заводей, на слиянии рек Аа и Доммел, некогда шумел густой лес – охотничьи угодья сеньоров Брабантских. Пролетали годы, сменялись века. Все чаще в лес наведывались люди, все реже среди них встречались охотники господской свиты. Да и приходили они не ради охоты. Наступило то время, когда усадьба, где останавливались знатные господа и их гости, перестала быть единственным человеческим жилищем в лесу. Да и самому лесу пришлось потесниться – на его месте раскинулось многолюдное селение. От охотничьих угодий оно и получило свое название – Герцогский лес. Так оно называлось на языках всех народов, среди которых оно было известно, будь то немцы, французы или фламандцы. Не оставили его без внимания и знатоки книжной латыни – именно латинское название можно видеть на старых картах. Чаще всего селение называли по-фламандски – Хертогенбос.
Надо отдать должное сеньорам – они вовремя оценили пользу, которую обещал новый, обжитой людьми вид их владения. Генрих Смелый, граф Брюсселя и герцог Брабанта, прославленный крестоносец и герой обороны Иерусалима, получив Хертогенбос под свою руку, даровал ему статус города. С тех пор на торговом пути из Брюгге в Кёльн изрядно прибавилось купцов и ремесленников. Город креп, богател и разрастался. Название «Хертогенбос» зазвучало заманчиво, оно привлекало многих сметливых да оборотистых. Впрочем, населявшие новый город бюргеры через раз называли его по-простому – Босхом.
С высоты холма открывается вид на долину. Обширная, насколько хватает глаз, она изрезана, помимо рек, множеством ручьев и каналов – Хертогенбос стоит на болотистой земле. Впрочем, в достатке здесь и полей, и лугов – за сотни лет люди немало потрудились, отвоевывая у топей драгоценную землю. На холмах вращают крыльями ветряные мельницы, мимо них вдаль тянутся дороги. По дорогам спешат путники самого разного рода, скрипят одинокие повозки, движутся обозы. В древние времена все дороги вели в Рим. Позже примеру вечного города последовали города помоложе, во множестве разросшиеся по всей Европе. Конечно, стянуть к себе абсолютно все дороги не удалось бы ни одному из них, но все окрестные дороги сходились возле этих городов. Хертогенбосу даже повезло – помимо дорог, идущих по суше, ему достались судоходные пути, проложенные по ближайшим рекам и каналам.
Сказывали, что в прежние времена селение было неприступно из-за окружающих его болот. Злые языки даже прозывали его логовом дракона. Впрочем, любой местный житель – а им лучше знать – с уверенностью сказал бы, что драконов здесь отродясь не водилось. Поэтому горожане позаботились о своей защите сами – город в долине окружили надежной стеной, а кроме того, обнесли рвом, наполненным водой.
В остальном Хертогенбос – вполне миролюбивый город. Жители валяют и продают сукно, куют и плавят металл, делают ножи, а церковные колокола работы здешних мастеров славятся по всей Северной Европе, и дело литейщиков процветает. Особо почитаемы среди них братья Хурнкен.
Хертогенбос – не самый большой из городов Брабанта, хотя величиной уступает только Брюсселю, Антверпену и Лувену. Жители здесь – большей частью торговый и мастеровой люд, благородные господа встречаются нечасто. Быть может, поэтому город и не может похвалиться роскошными дворцами вроде тех, которыми славится Брюссель.
Невысокие дома вдоль городских улиц и каналов жмутся друг к другу зубчатыми фасадами, и жмутся так тесно, что порой могут показаться сплошной стеной. Цвет этой стены – все больше серый, изредка – белый, коричневый или темно-красный. Да, город Босх удивительно сер. Даже может показаться странным, что он получил свое название в честь леса – зелень проглядывает лишь местами. В нем больше сходства с низким и обыкновенно пасмурным небом северного Брабанта. Или с тем камнем, из которого построены здания. Как раз, подобно камню, Хертогенбос приземист и крепок. И таков же вид города сверху, если взглянуть, например, с высоты церковной колокольни.
А церквей в Хертогенбосе предостаточно – горожане столь же набожны, сколь трудолюбивы. И подлинный владыка среди городских храмов – собор Святого Иоанна, что стоит невдалеке от Рыночной площади.
Возведенный на месте старой сгоревшей базилики, собор еще продолжает строиться, и в этом нет ничего удивительного – величественные красавцы, подобные этому, растут десятки, а то и сотни лет. Нигде в городе больше не встретить подобного великолепия – оно заметно даже сейчас, когда строительство еще не завершилось. Нигде не встретить таких высоких стрельчатых окон, таких прекрасных скульптур ангелов и святых.
С ангелами соседствуют и обычные люди – пилигримы и музыканты с лютнями и волынками. Много здесь и зверей – будь то обычные божьи твари или невообразимые горгульи, скалящие хищные пасти, или совсем уже небывалые создания вроде кентавров, сирен и грифонов. Труд зодчих совершается постепенно, и кажется, что совершенству нет предела.
Не менее великолепно внутреннее убранство храма – впрочем, это свойственно не только собору Святого Иоанна. Над множеством фресок и ярко расписанных алтарей трудятся городские живописцы.
* * *
Мастер Антоний ван Акен, художник, ординарный член Братства Богоматери города Хертогенбоса, принялся за работу. Живописцу предстояло выполнить очередной заказ Братства, алтарный триптих, изображающий несение креста. Братство собиралось разместить новый триптих в одной из городских церквей. Ван Акен прекрасно представлял себе место, где окажется его будущая работа – два месяца назад он завершил эскизы церковной утвари для того же самого храма. Что ж, занятие уважаемое, к тому же Братство не скупилось, когда речь шла об оплате, ведь за работу брался один из его членов, пускай и ординарный, но талантливый и уважаемый в городе художник.
Разложив перед собой лист бумаги, мастер Антоний трудился над эскизом центральной части триптиха. Ее предстояло написать на буковой доске размером пять футов в ширину и чуть больше трех в высоту. Боковые части триптиха в сложенном виде будут закрывать центральную полностью. По замыслу мастера левую створку должны были занимать сцены страстей Христовых, центральную – путь Христа на Голгофу, правую – сцена снятия с креста. Еще предстояло решить, что разместится на внешней стороне створок, обращенной к прихожанам в течение шести дней – створки триптиха открывались лишь по воскресеньям. Мастер Антоний подумал о том, что хорошо бы изобразить на внешней стороне сцену Воскресения Христова.
Здесь же, в мастерской, рядом с мастером трудились трое его сыновей и учеников – Гуссен, Ян и самый младший – Йерун. Сейчас они упражнялись в нанесении рисунка. Все трое получили задание и теперь старательно выполняли его. Ян и Йерун рисовали поставленный перед ними глиняный кувшин, перед старшим и более опытным Гуссеном отец поставил деревянную статуэтку, изображающую монаха. После, когда у мастера Антония будут готовы эскизы, один из сыновей – пожалуй, Гуссен, он наиболее терпеливый из всей троицы, – поможет отцу готовить краски. Нужно будет растереть в ступках красители, затем развести их льняным маслом, а уж потом сам мастер примется за дело, смешивая краски, получая нужные оттенки. Но это еще не скоро. Пока что сыновья художника скрипели грифелями – каждый над своим рисунком. Ученики упражнялись, рисуя мягкими свинцовыми грифелями на деревянных дощечках. Неверные и лишние линии стирали хлебным мякишем. Набив руку за несколько лет непрерывного учения, они смогут освоить и более тонкий инструмент – писчее перо и чернильницу, наполненную особенной бурой краской-бистром. Пером и бистром опытные художники делали рисунки на пергаменте, но в мастерской ван Акена вдоволь было и новомодного материала – льняной и конопляной бумаги.
Сделав несколько набросков фигуры Спасителя, мастер Антоний ненадолго остановился, разглядывая свою работу. Задумчиво покачал головой. На каждом из рисунков Христос шагал на Голгофу с самым гордым и победным видом, какой только можно было себе представить. Он шел, расправив плечи и подняв голову. На прямых ногах, отведя левую руку в сторону. Крест, положенный на правое плечо, казалось, нисколько не отягчал Спасителя.
Художник не сразу сообразил, отчего вышло именно так. Мастеру невольно вспомнились торжества на главной площади перед городской ратушей, куда он был приглашен вместе с прочими членами братства. И верно – точно так вышагивали тогда гвардейцы герцога Бургундского, посетившего Хертогенбос. Они несли на плечах алебарды и церемониальные двуручные мечи – огромные, в человеческий рост, богато украшенные, с пламенеющими клинками, истинные шедевры немецких мастеров-оружейников. Из-за тяжести такие мечи не были предназначены для боя. Но все же они уступали в размере и весе римскому кресту – толстой деревянной балке с перекладиной наверху, способной выдержать вес взрослого человека!
Что ни говори, торжественный марш гвардейцев – зрелище яркое. Не каждый день увидишь такое. И нечего теперь удивляться тому, что несколько бравых вояк бодрым шагом словно влетели прямо на эскиз художника, на котором им не было места.
– Все оттого, что я давно не работал с изображениями людей, – проворчал мастер. – Последние полгода – сплошь орнаменты, да звери с птицами, да химеры, будь они неладны. Нехорошо. Но поправимо.
С этими словами мастер Антоний снова покачал головой и отложил набросок, собираясь сделать новый. Однако тут же вернулся к первому рисунку.
– Закончу, пока свежо в памяти, – проговорил он вполголоса. – Переодену их в доспехи, крест заменю на копье. Здесь мне еще пригодятся римские воины-стражники. Нарочно бы так не получилось, ей-богу!
Когда воинственные римляне были готовы, мастер вернулся к фигуре Спасителя, сгибающегося под тяжестью креста. И тут взгляд художника упал на учеников – Йерун как раз обронил грифель и наклонился, чтобы поднять его. Грифель закатился под табурет и нашелся не сразу. Мальчишке пришлось согнуться и широко расставить ноги.
– Йерун! – окликнул его художник. – Замри!
Мальчик поднял голову на голос, мастер Антоний одобрительно кивнул:
– Да, вот так. Подожди, руки. – С этими словами он подошел к сыну, поднял его руки и расположил их так, как считал нужным. – Побудь немного так. Сейчас я сделаю набросок, тогда распрямишься.
– Отец! – Йерун завертел головой, стараясь не менять позы. – Почему опять я? Ян или Гуссен позируют гораздо лучше!
– Так уж вышло, Йерун. – Мастер, прищурившись, принялся за набросок. Свинцовый грифель споро заскрипел по дереву, на доске одна за другой появлялись согбенные фигуры, приседающие в широком шаге. – Ты принял настолько смиренную позу, что лучше и не выдумать. Грех терять такое! Гуссен поможет мне позже, а пока, будь добр, перестань вертеть головой!
Со вздохом Йерун принял прежнюю позу. При этом его лицо приняло такое страдальческое выражение, что художник, не удержавшись, запечатлел его отдельным рисунком. И успел закончить как раз вовремя – Йерун, не выдержав, рассмеялся. Сумев наконец распрямиться, мальчик вскочил с табуретки и сделал несколько прыжков на месте, размахивая руками, точно мельница крыльями. Затем подобрал свой грифель и вернулся к работе.
Внешностью Йерун больше всех братьев напоминал своего деда Иоганнеса, художника родом из города Аахена. Обучившись своему мастерству в Неймегене, Иоганнес женился и вскоре перебрался вместе с семьей в город Хертогенбос, что в северном Брабанте. В городе процветала торговля и ремесла, возводились новые церкви. Здесь, среди богатых купцов и бюргеров, для молодого художника нашлось немало заказов – приезжий умелец оказался одним из немногих живописцев в городе, при этом едва ли не самым искусным из всех. Со временем мастер Иоганнес ван Акен вступил в Братство Богоматери, в котором состояло немало знатных и уважаемых горожан. По заказам братства он выполнял работы для украшения собора Святого Иоанна – тот еще строился, обещая по завершении работ сделаться самым красивым храмом города. Сейчас в братство входил сын Иоганнеса Антоний. Туда же тот собирался ввести в будущем своих сыновей. Что до работы художника, то в семействе ван Акен она передавалась по наследству. Прежде Иоганнес (или Ян, как чаще называли его на новом месте) обучил всему, что умел сам, четверых своих сыновей из пяти. Теперь Антоний по примеру отца обучал своих детей.
В честь Яна-Иоганнеса мастер Антоний назвал своего среднего сына, однако внешность деда сильнее всего угадывалась в младшем Иерониме, или, по-фламандски, Йеруне. Раз за разом, глядя на лицо сына, Антоний видел такие же небольшие, но быстрые глаза, подмечающие все с первого взгляда, прямой длинный нос и светлые густые брови, готовые в любой момент взлететь вверх или встретиться на переносице, собрав лицо во множество мелких морщинок. «Ни дать ни взять мой отец, – думалось Антонию. – Только маленький».
Впрочем, казалось, что от деда Йерун унаследовал только фамилию и внешность. Антоний прекрасно помнил нрав мастера Иоганнеса – немногословного, сосредоточенного человека, казавшегося суровым и даже мрачным. Иоганнес предавался работе целиком, и в такие моменты казалось, что в мастерской нет ни души – старый ван Акен даже переступать умудрялся беззвучно. Двигался он медленно и плавно, если говорил, то короткими фразами, а смеяться как будто не умел вовсе, разве что коротко улыбался одними уголками губ, сопровождая это парой шумных выдохов, больше похожих на фырканье ежа. Нетрудно догадаться, что особенно хорошо мастеру Иоганнесу удавались лики святых отшельников – изможденные и бесстрастные.
Йерун же, не в пример деду, уродился непоседливым. Его широкий рот, точь-в-точь такой же, как у мастера Иоганнеса, всегда готов был болтать и смеяться. Казалось, Йерун не способен удержаться на месте. Принявшись за его обучение ремеслу художника, мастер Антоний поначалу даже опасался, что мальчику не хватит необходимой живописцу усидчивости, однако вскоре понял, что ошибся в своем младшем ученике. Шустрый, казавшийся суетливым Йерун проявил рвение в учебе, а грифель в его руке не уступал в скорости его же языку.
Йерун никогда не замирал перед мольбертом надолго, не вглядывался молча в поставленный перед ним предмет, который предстояло изобразить. Он быстро перемещался между предметом и рисунком, а после казалось, что изображение возникло само собой, словно по волшебству. Причем изображение всякий раз выходило весьма недурным. Однако были редкие случаи, когда, достигнув достаточного внешнего сходства, Йерун не останавливался. Он продолжал – и одному Богу было известно, во что превратит рисунок его неудержимая фантазия.
Если вещь, нарисованная по заданию учителя с натуры, была изображена достаточно строго, то все, что взято Йеруном из головы, дышало безудержным озорством, помноженным на детскую неловкость рисунка. Впрочем, в неловкости не было ничего удивительного – постигать мастерство художника сыновья Антония начали, как полагается, с самых азов, и учиться изображать людей им предстояло еще не скоро, перед этим их ожидало множество упражнений на более простых предметах. В обучении мастер Антоний был весьма строг и последователен, шаг за шагом передавая детям то, что сам в свое время получил от отца.
Впрочем, нехватка навыков не останавливала Йеруна. Стоило учителю хоть немного отвлечься, оставить мальчика незанятым, как он тут же брал дело в свои руки. Тогда по краям рисунка начинали бегать нарисованные человечки – чаще всего смешные и нескладные, больше похожие на альраунов, чем на людей. Попадались и сами альрауны – их Йерун рисовал не реже, чем людей, и с куда большим удовольствием. И более прилежно, чего уж там. Быть может, дело было в том, что этих диковинных существ никто никогда не видел, стало быть, можно было не стесняться, изображая их как угодно. Народная фантазия чаще всего представляла альраунов с вороньими лапами вместо ступней – Йерун охотно воспроизводил эту деталь, но ею не ограничивался. Были здесь и крылья, и хвосты ящериц, и лапы лягушек. Островерхие шапки, которые чудной народец носил, натянув едва ли не на глаза, на рисунках младшего ван Акена чаще всего походили на перевернутую воронку. Но Йерун не ограничивался и этим – часто на его рисунках живые существа сочетались с неживыми предметами. В ход шло все, что только попадалось на глаза или всплывало в памяти, будь то горшки или шапки, корзины или лодки. Не оставались без внимания и музыкальные инструменты. Стоило младшему ученику художника заметить хотя бы малейшее сходство неживого с живым, оно непременно появлялось на рисунке очередным чудным созданием – иногда странным, иногда страшным. Привычная домашняя утварь вставала на длинные тонкие ножки, начинала моргать круглыми глазками. Иногда даже могло показаться, что она приходит в движение.
Старший брат Гуссен смотрел на забавы Йеруна сквозь пальцы, принимая их за простое мальчишество, которое пройдет со временем. Благо с учебой младший брат справлялся не хуже прочих. Гуссена альрауны Йеруна даже забавляли. Чего уж там – он и во всем остальном поощрял братьев, в которых души не чаял. Особенно – в учебе, ведь Гуссен начал учиться раньше. Теперь, все чаще помогая отцу в его работе, он поглядывал на труды младших братьев глазом мастера и даже пытался наставлять их по мере сил.
Среднего же брата, Яна, нарисованные чудеса отчего-то раздражали. Наиболее затейливые даже вызывали испуг.
– На что тебе эти страшилища, братец? – ворчал он. – Они же мерзкие!
– И ничего не мерзкие, – улыбался Йерун. – Забавные. И очень даже смешные!
Обращал внимание на фантазии младшего сына и мастер Антоний. Сам он за годы труда видел предостаточно рисунков и изваяний всевозможных химер и горгулий – когда надо было, умел изобразить их сам – но мало интересовался ими.
Антоний ван Акен предпочитал изображения людей и зданий, а новый заказ предоставлял небывалый простор для работы над тем и другим. Ведь на заднем плане центральной части триптиха по замыслу мастера должен был виднеться Иерусалим. Каков он из себя, художнику оставалось только догадываться – он не представлял себе видов Святой земли. Само собой, город он изобразит таким, каким привыкли видеть прихожане церкви, стало быть, похожим на родной Хертогенбос. Только без каналов – Палестина не настолько богата водой. Об этом он знал наверняка со слов тех немногих паломников, рассказы которых доводилось слушать. Зелени тоже негусто – говорят, солнце в тех краях немилосердное. Какими же должны быть краски? Яркими? Или, наоборот, если то самое солнце выжгло все яркие цвета с домов, одежд и всего, чего бы ни коснулись его лучи? И тогда пейзажи Святой земли должны напоминать поле, перенесшее затяжную засуху? Подумав, живописец остановился на втором варианте, решив оставить яркими только одежды наиболее значимых персонажей.
Сейчас мастер Антоний продолжал делать наброски людей – благо их на будущем триптихе умещалось множество. Здесь будет место и для стражников в красном, и для ожесточенной толпы – ее мастер после короткого раздумья решил изобразить темной и безликой массой, в которой угадывались бы фигуры. Пусть с первого взгляда даже будет неясно, человеческие они или бесовские. Особое место отводилось персонажам праведным – для них живописец приберег светлые оттенки.
Гуссен уже вовсю готовил доску к началу работы – очистив, покрывал грунтом. Когда подготовка завершится, мастер вдвоем со старшим учеником будет переносить на доску рисунки для будущего триптиха. Антоний уже решил, что начнет работу с центральной части. Отложив готовые наброски, художник подошел к среднему и младшему сыновьям, чтобы взглянуть на их работы.
Осмотрев рисунки Яна и Йеруна, мастер Антоний понял, что увлекся работой над эскизами и надолго оставил учеников без внимания. Каждый из мальчиков успел завершить заданное и занялся чем-то своим.
Ян, нарисовав поставленный перед ним глиняный кувшин, перевернул его вверх дном и принялся рисовать с другой стороны. Больше всего Яна занимала выгнутая ручка кувшина – он нарочно повернул ее к себе и теперь старательно выводил, раз за разом принимался снова, добиваясь сходства. Он успел сделать уже десятка полтора набросков. С каждым новым ручка получалась все лучше. Добавив несколько дополнительных штрихов на рисунке Яна, мастер похвалил ученика и повернулся к работе Йеруна. Увиденное заняло его надолго.
Йерун как будто не замечал опытов брата с кувшином. На его рисунке кувшин был всего один, зато большой, размещенный по самому центру. Он казался чем-то вроде стога сена или, скорее, одиноко стоящей башни, широкой у основания. Нетрудно догадаться, что такая внушительная вещь теперь принадлежала целому сонму крохотных суетливых существ.
У основания стоял человечек, в котором угадывался Ян (и верно он – сходство налицо, хотя и нарисовано очень просто, всего несколькими линиями), и выводил на стенке кувшина кувшин. Получалось больше похоже на бутылку с длинным горлышком. По соседству двое нескладных мужиков в шляпах, утыканных стрелами вместо перьев, пытались прорубить стенку кувшина крохотными топориками. В стороне собака гналась за странным зверьком. Больше всего он напоминал хищную рыбу с разинутым ртом, но маленький хвостик и длинные уши выдавали в нем зайца. В этой погоне не было бы ничего удивительного, не будь у косого восемь лап вместо четырех.
– Почему так? – удивился мастер Антоний.
– Так быстро бежит, что четыре лапы выглядят, как восемь? – предположил Гуссен, который тоже подошел рассмотреть рисунок младшего брата.
– Нет, их и есть восемь, – серьезно ответил Йерун. – Пока бежит на четырех, четыре отдыхают. Потом меняются.
– Так не бывает! – фыркнул Ян.
– Если верить охотникам, бывает!
– Да уж, те расскажут! Их только слушай!
Верхнюю часть кувшина заняли птицы вперемежку с альраунами. Те плясали и прыгали на краю, кувыркались, ходили колесом. Двое долговязых существ играли в мяч, третий, самый маленький, скакал между ними. Четверо косматых черных коротышек, уместившись на самом носике кувшина, дули в длинный рог, похожий на шею и голову гуся – разинутый клюв и сердитые круглые глазки удались особенно похожими. Еще двое коротышек вытягивали за хвост третьего – тот свалился внутрь гигантской для них посудины. Несколько длиннолапых не то мышей, не то лягушек облюбовали ручку кувшина и теперь катались по ней, как с горки – правда, для них это заканчивалось падением во что-то, кучей наваленное внизу.
– Ну, Йерун, – только и сказал мастер Антоний.
Мэтр Иоганнес
Мэтр Иоганнес ван Вейден, ученый муж, преподаватель латинской школы, был весьма уважаемым членом Братства Богоматери. Что там братства – все образованные жители Хертогенбоса относились к нему с большим почтением. Поговаривали о том, что нужно непременно избрать его присяжным братом – такого человека были бы рады видеть и в высших кругах братства.
В молодости ван Вейден обучался в университете в Базеле и имел звание магистра философии. Прекрасно образованный, он не прекращал обучение, постоянно постигая что-то новое, при этом не ограничиваясь своими основными науками – философией и латынью. Мэтра занимало и право, и естественные науки. Не чужд он был и вопросов богословия, и изящных искусств. И здесь он был настоящим кладом для своего друга и товарища по братству, живописца Антония ван Акена.
Дело в том, что мэтр ван Вейден много путешествовал, стараясь посетить новые места и обогатить свои и без того удивительные познания. Он собирал редкие книги, чучела животных и птиц. Посещал храмы и соборы других городов и немало мог рассказать о церковном искусстве дальних мест. Мастер Антоний, наоборот, покидал Хертогенбос довольно редко, и всякий раз недалеко и ненадолго. Однако же творцу невозможно жить без новых знаний – а новыми знаниями охотно делился мэтр Иоганнес.
Ученый муж и живописец познакомились на одной из встреч братства, что каждую неделю проходили в капелле собора Святого Иоанна. С тех пор много и с удовольствием общались, нередко бывали друг у друга в гостях. Мастер Антоний был любознателен и прекрасно умел слушать, а мэтру ван Вейдену всегда было о чем рассказать. К тому же он умел увлечь слушателя, будь то единственный собеседник или полная аудитория студентов. Спокойный и сдержанный на первый взгляд, ван Вейден удивительно преображался, когда бывал увлечен чем-либо. В глазах его загорались задорные искорки, движения становились быстрыми и ловкими, голос начинал весело звенеть. Этот высокий седеющий мужчина старше сорока как будто молодел сразу на добрый десяток лет.
Вот и сейчас друзья держали путь в мастерскую художника – ван Акену не терпелось показать другу начатый триптих. Нет, живописец не был неуверен в своей работе – скорее наоборот. Подобная задача радовала и воодушевляла его. К тому же заказ на написание алтарного триптиха – не просто большая работа. Это знак признания мастерства и доверия церковного начальства художнику. Это не могло не радовать. Однако сейчас мастеру хотелось слышать мнение стороннего человека, не владеющего искусством живописи. Тем более было что показать – на днях ван Акен завершил работу над центральной частью триптиха, изображающей путь Христа на Голгофу. Самому ван Акену был известен каждый мазок. Опытный глаз художника не мог взглянуть на триптих отвлеченно – и для этого был нужен взгляд человека со стороны. Например, мэтра ван Вейдена.
Рынок тканей располагался на центральной площади Хертогенбоса, там, где линии домов сходились все ближе, образуя равнобедренный треугольник. Его заполняли торговые ряды – множество прилавков под холстинными навесами – и огромное количество людей. Продавцы и покупатели, портные и резчики, торговцы сукном и шерстью – все те, чьим трудам покровительствовал святой Франциск. Были и другие, пришедшие неправедно поживиться – нищие и мелкие воришки. Находились и стражники, и праздные зеваки – да возможно ли перечислить всех, кого привлекала главная площадь торгового города? Пестрели разложенные на прилавках ткани, мелькали одежды всех мыслимых в северном Брабанте фасонов. Гомонили сотни голосов, скрипели повозки, фыркали упряжные лошади. Где-то поблизости закричал осел, да так внезапно, что проходящий вдоль рядов носильщик едва не выронил тюк. Друзья шли к дому художника, четвертому от края площади. Мастерская находилась в нем же, на первом этаже.
– Вот она, моя палитра. – Мастер Антоний с улыбкой кивнул в сторону рядов. – Сколько угодно оттенков и лиц.
Мэтр Иоганнес понимающе кивнул.
– Превосходно, мой друг. Что еще может пожелать живописец, изображающий людей?
Между тем в мастерской никто не ждал гостя. Хозяина, впрочем, тоже – Йерун, Ян и даже всегда серьезный Гуссен затеяли игру в «яйца». Те самые «яйца» – два кожаных полукружья, набитые конским волосом и соединенные гибкой перемычкой, – трое подмастерьев увлеченно перебрасывали друг другу при помощи деревянных рогаток и ловили теми же рогатками. В мастерской стояли гвалт и хохот. В тот миг, когда мастер Антоний открыл дверь и перешагнул порог, «яйца», пущенные Йеруном, пролетали поперек входа. Инстинктивно вскинув руку, художник ухватил их на лету – мужчины в семье ван Акенов отличались удивительной ловкостью рук, даром что труд живописца не располагал к ее развитию.
Тишина воцарилась мгновенно. Казалось, войди в мастерскую сам герцог Бургундский – и ему бы не удалось произвести подобного воздействия. Трое озорников замерли на своих местах – Гуссен растерянно уставился на вошедших, Ян от неожиданности обронил рогатку, Йерун, в момент броска кричавший что-то, оборвал фразу, однако забыл закрыть рот. Сейчас его лицо было настолько схоже со скворечником, что мэтр Антоний не сдержал улыбки. Однако тут же напустил на себя строгий вид.
– В чем дело, господа? – сурово спросил он. – Вы, я вижу, перепутали мастерскую художника с задним двором дома? По-вашему, это достойно похвалы?
– Мы… не хотели ничего дурного, – кое-как выдавил из себя Гуссен. Ему было неловко, пожалуй, более, чем двоим младшим братьям, ведь он оставался за старшего.
– Стало быть, безобразие вы учинили нехотя, – вздохнул мастер Антоний. – Но об этом поговорим после. Можете продолжить на улице – сейчас у нас гость.
С этими словами он запустил «яйца» через всю мастерскую. Долговязый Гуссен, не растерявшись, подпрыгнул и подхватил их рогаткой. Смущенно бормоча, трое братьев покинули мастерскую.
– Как дети, – проворчал художник.
– Но ведь они и в самом деле дети, – улыбнулся ван Вейден. – Будьте снисходительны к ним, мой друг. Не наигравшись в детстве, человек не наживет достоинства в зрелые годы. Мне постоянно приходится думать об этом, глядя на моих оболтусов-школяров – а ведь все они старше ваших сыновей. И зачастую не настолько усердны.
Центральная часть будущего триптиха, написанная на широкой доске, стояла в самом центре мастерской. Ни один пролет «яиц» не потревожил ее – не то подмастерья оказались настолько искусными игроками, не то судьба благоволила мастеру Антонию. Художник вздохнул с облегчением.
Мэтр Иоганнес долго рассматривал изображение Иерусалима на заднем плане.
– Очень интересно, мастер Антоний, – сказал он наконец. – Вы совершенно точно изобразили пейзаж. В нем преобладают желтые оттенки, и зелень почти отсутствует. Даже небо и то не выглядит ярким. Все как будто выгорело на солнце.
– Я писал со слов паломников, – кивнул живописец. – А те видели своими глазами. Но, хоть вы и не бывали на Святой земле, я, право, готов поверить, что вы знаете ее так, как будто видели сами.
– О, не преувеличивайте! – рассмеялся мэтр Иоганнес. – Здесь мои знания весьма скромны. Их пополняют рассказы тех же самых паломников, да несколько книг в придачу. И я не всегда уверен в том, что их авторы писали по собственному опыту и впечатлению. Ведь зачастую их занимают не пейзажи, а деяния героев и святых. Как будто то место, где все это происходит, не имеет значения и не представляет интереса.
– Я больше думал о том, что вид выжженной солнцем земли навевает скорбь. Так же скорбен и путь Спасителя на Голгофу.
– Да, это чувствуется.
Иерусалим, изображенный на заднем плане, больше всего напоминал Хертогенбос – во всяком случае, здания древнего иудейского города смотрелись вполне европейскими. Однако над шпилями и башнями развевались кроваво-красные знамена с полумесяцем.
– Полумесяц – недобрый знак, как бы его ни толковали, – пояснил мастер Антоний. – Ведь всем известно, как обманчива луна, то и дело меняющая фазу. К тому же именно полумесяц изображают на своем флаге неверные последователи Магомета.
– Да, лучшего символа для города, где Спасителя обрекли на муки и казнь, не придумать, – согласился ван Вейден. – Особенно сейчас, когда в руках магометан не только Иерусалим, но уже Константинополь.
– Они, по всему видно, не собираются останавливаться, – нахмурился художник. – Овладев вторым Римом, начнут точить зубы на первый.
– Однако сейчас магометан теснят в Испании. Хочется верить, что скоро их владычеству в пиренейских землях наступит конец. Кто знает, не станет ли Вальядолид новым оплотом христианской церкви?
– На все воля Божья. Если и так, то будут ли испанцы праведны в своей вере? Если бы суметь привить им идеи нового благочестия!
– Все возможно, друг мой. И наше братство действует для тех же целей. Я тешу себя надеждой, что наш пример не останется замкнутым в стенах Хертогенбоса, но послужит другим городам христианского мира. Пока же католическая церковь – какой бы она ни была – объединяет испанцев в их борьбе с маврами. И служит им победным знаменем.
Мастер Антоний не ответил. Он не мог объяснить даже самому себе, почему мысль о воинственных испанцах, вдохновленных католической церковью где-то далеко, на самом юге Европы, кажется ему пугающей. Несущей тревогу сюда, в Северный Брабант, настолько далекий от границ Кастилии и Арагона. При одной мысли об этом живописец чувствовал безотчетную тревогу – пожалуй, большую, чем та, которую следовало бы испытать христианину при мысли о турках в Константинополе. А ведь мастер Антоний – добрый католик. Как те же испанцы…
Тем временем внимание гостя привлекло изображение толпы, окружающей Спасителя. Темные, почти безликие фигуры, иные изображенные в угрожающих позах, напоминали похоронную процессию, на треть разбавленную чертями.
– Весьма занятное решение, – одобрил он. – Обыкновенно гонителей Христа изображают, как обычных людей – так оно, безусловно, и было.
– Я искал новый способ передать чувство, – ответил мастер Антоний. – Вначале я готовился изображать обыкновенных людей – вы знаете, что этот труд я люблю особенно. Однако, приготовив наброски, я увидел, что среди них будет непросто разглядеть самого Спасителя.
– Это не смущает никого из ныне действующих мастеров, работающих с фресками, алтарями или миниатюрами в книгах.
– Но мне хотелось найти что-то новое. Более выразительное, чем все, что было написано прежде.
– Если вы говорите о чувствах – значит стоит придать их людям. Вряд ли сейчас кого-то можно удивить только правильно написанными фигурами.
– Согласен, – кивнул художник. – Я не раз задумывался об этом.
– Быть может, вам стоит попробовать проработать лица? – Мэтр Иоганнес продолжал всматриваться в написанную темными красками толпу. – Что, если изобразить Христа светлым и спокойным перед лицом мучений, когда сами же мучители скалятся и щерятся не хуже чертей в преисподней?
– Возможно, вы правы. Я ищу способ, мой друг. И если не отыскал его, то, может статься, отыщу в скором будущем. И смогу передать своим ученикам.
– Вы рассуждаете верно, – кивнул мэтр Иоганнес. – И мне давно хотелось поделиться с вами своими соображениями на этот счет.
– Буду рад выслушать.
– Я видел не слишком много, – начал ван Вейден. – Ведь помимо Хертогенбоса я бывал только в Брюсселе, Генте и Антверпене. Да, еще в Брюгге. Но мне посчастливилось лицезреть одни из лучших образцов церковного искусства Бургундского герцогства.
– Я видел Гентский алтарь, – оживился мастер Антоний. – Тот, что написали братья Хуберт и Ян ван Эйк. Он прекрасен. Его сработали больше полувека назад, но мастерство живописцев Гента поныне остается непревзойденным.
– Безусловно. И я подумал – есть ли необходимость в том, чтобы превосходить их самих и их последователей в деле, в котором им уже удалось, кажется, достичь совершенства? Когда уже создали свои шедевры братья ван Эйк и Робер Кампен.
– О чем вы?
– Об изображении людей на том же Гентском алтаре. Они великолепно написаны, выглядят объемными и как будто осязаемы.
– Это ли не вершина мастерства?
– Отчасти да и отчасти нет. Они правдоподобны, но настолько красивы, что в них не веришь. Такая красота присуща небесным ангелам – тут нельзя поспорить.
– Но не людям, живущим земной жизнью. И уж тем паче не тем, кто испытывает лишения, подобно святым отшельникам в пустыне.
– Вот и я про то же, дорогой друг. Как бы высоко ни было искусство художника, он не должен забывать о назначении своей работы.
– Оно бывает разным! – Мастер Антоний указал рукой вокруг. На стенах мастерской виднелось множество эскизов церковной утвари, рисунков орнаментов, которым предстояло стать частью церковного убранства. Были и работы, предназначенные для будущих триптихов. Десятки, если не сотни набросков самого разного вида.
– Да, вам ли не знать об этом, мастер! Но если поговорить о назначении на примере тех самых алтарных триптихов, над одним из которых вы трудитесь сейчас…
Мэтр Иоганнес встал возле центральной части триптиха так, как будто бы находился в аудитории перед студентами – дала о себе знать многолетняя привычка лектора. Однако держался ученый муж непринужденно – он не забывал, что слушатель перед ним всего один, и он не школяр, но признанный в городе мастер-живописец. В придачу они друзья.
– Ведь такого рода триптихи раскрывают перед прихожанами только во время воскресных богослужений, – начал он. – Изображенные на них картины – своего рода рассказ для прихожан. Пожалуй, в разы ярче любого произнесенного вслух.
– Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, – согласился художник. – Этому и служит наше искусство. Любое искусство изображения, будь то живопись, рисунок или ваяние.
– Совершенно верно. Нечто подобное могли бы дать книги, но их пока не хватает на всех. Полагаю, что со временем печатный станок мастера Иоганна Гутенберга поможет исправить это, но, сколько ни печатай книг, большинство прихожан все еще остаются неграмотными. Зато видят и понимают зримые картины, изображенные на алтарном триптихе. Так вот, я полагаю, что для этих картин недостаточно ангельской, небесной красоты.
– Что же нужно помимо нее?
– Я бы назвал это достоверностью, мастер Антоний. Люди должны верить в то, что видят. Иначе любая красота останется для них неживой. Пусть даже объемной, но неосязаемой. Безусловно, она радует глаз, но в нее не станут верить – достаточно повернуть голову в сторону обыкновенных людей, братьев во Христе. Положа руку на сердце, редкий человек своими глазами видел ангела. Но друг друга люди видят постоянно. Среди людей протекает жизнь, среди людей говорят и действуют праведники и грешники. Иными словами, тот, кто смотрит на триптих, должен понимать, что речь идет не о пресветлых ангелах, подрядившихся во благо церкви изображать людей. Речь идет о людях. Обо всех и о каждом. О нем самом – ткаче, кузнеце, литейщике, в воскресный день посетившем Божий дом. Мне думается, мастер Антоний, что воздействие таких картин на людей будет значительно сильнее тех, что просто поражают нездешней красотой.
– Благодарю, – кивнул художник. – Я много думал об этом, но вы сумели коротко и ясно изложить мои мысли. Ведь достоверность – это то самое, чего мне хотелось бы добиться. Вы знаете, что меня занимают люди. Их внешность, движения тел, выражения лиц. Все понимают, что они, люди, не бывают малоподвижными, бесстрастными, одинаковыми по росту и телосложению. Редко носят безупречно чистые платье и обувь.
– Я полагаю, что именно в открытии достоверного изображения кроется будущий успех ваших учеников, мастер Антоний. Ведь им рано или поздно придется соперничать со школами братьев ван Эйк, Кампена и подобных им. Но есть еще один способ.
– Какой же?
– Я уже говорил, что триптих рассказывает истории по воскресеньям. Если на картине всего одна история, она быстро наскучит. Ее разглядят за несколько месяцев, самое большее – за год. После триптих перестанет привлекать внимание. Но если бы насытить его множеством сюжетов!
– Все так. – Мастер Антоний подошел к окну, указал рукой на рынок. – Вот, ради примера можно даже не выходить за порог. Что ни прилавок – своя история.
– Вы позволите мне взглянуть на работы ваших учеников?
– Если угодно.
Живописец разложил перед ученым несколько листов с набросками. С краю он кое-как пристроил Йерунов кувшин, обсиженный альраунами, и сильно удивился, что именно он привлек внимание мэтра Иоганнеса.
– Я никак не могу отвадить младшего от этого озорства, – вздохнул ван Акен.
– Не надо отваживать, что вы! – горячо возразил ван Вейден, не отрывая глаз от альраунов. – Похоже, мальчик способен уловить то, о чем мы только что говорили! Мне думается, что детское внимание подобно самой широкой и самой вместительной сети, способной перекрыть от края до края хоть целый океан. От него ничто не скроется. Не лишайте Йеруна столь редкого орудия! Постарайтесь приспособить его к делу.
– Прежде мне казалось, что его склонность к мелкому рисунку годится только для изображения маргиналий в книгах! Я бы желал для своих наследников более благородных работ.
– Одно другому не мешает! У вас в руках два превосходных подхода к изображению, достоверность и обилие ярких образов! А с учетом высокой школы, вроде той, что представлена на алтаре в Генте, уже три! Подобному богатству может позавидовать любая мастерская. Распорядитесь им наилучшим образом, мастер Антоний! Я верю, что ваши ученики смогут создать шедевры.
Сова Минерва
Ян, средний из трех братьев ван Акен, угрюмый здоровяк, что есть силы налегал на грифель. Складки ткани, которые старался изобразить ученик художника, выходили из рук вон плохо. Ворча и переводя дух, Ян снова и снова принимался за работу.
– Йерун, зачем ты держишь в мастерской эту дрянь? – Оторвавшись от работы, Ян с неодобрением посмотрел на небольшую сову. Птица устроилась на насесте напротив того места, где обыкновенно трудился Йерун, младший из братьев. Она облюбовала нишу в темном углу за шкафом – ни дать ни взять дупло, как раз по росту. До сих пор сова деловито чистила клювом лапу, но, услышав слова Яна, насторожилась. Она повернула голову и уставила на него два неподвижных черных глаза.
– Вон, полюбуйся! – проворчал Ян. – Бессловесная, а понимает! Ух, бестия! – Он погрозил сове кулаком. Та продолжала смотреть, как будто силилась разобрать человеческую речь.
– Потому что умная, – усмехнулся Йерун.
Мальчик как раз царапал что-то грифелем. Перед ним, как и перед братом, стояла доска, задрапированная складками ткани, но не ткань занимала Йеруна. Мальчик изображал сову – в черных линиях уже угадывалась круглая птичья голова с парой глаз и острым клювом. Там, где доска оказалась неровной и линия нечаянно раздвоилась, получилось нечто похожее на человеческий рот, растянутый в улыбке от уха до уха.
– А много бывает людей, наделенных даром речи, но глупых, – продолжил Йерун.
– Есть и птицы, наделенные даром речи. – Гуссен, самый старший из братьев, растирал краску и до сих пор в разговор не вступал. Сейчас он как раз отошел от стола, чтобы взять бутыль льняного масла. – Из южных и восточных стран иногда привозят чудных и ярких пташек. Их называют папскими петухами, papa gall, – всё из-за разноцветного оперения. Они здорово подражают голосам других птиц и даже людей.
– Скажешь тоже – людей! – фыркнул Ян.
– Я слышал сам! И даже видел такую птицу. Вот, взгляни! – Гуссен взял грифель и в несколько взмахов изобразил на доске Йеруна нечто длиннохвостое, с высоким хохолком на голове. – Один из купцов выставлял папагалла на нашем рынке. В ярмарочный день три месяца назад, когда подрались сапожники! Говорю вам как есть – птица говорила по-человечески!
– Сапожников с их дракой помню, – наморщил лоб Ян. – Тогда еще Якоб надел на голову толстому Виллему стол.
– Это как?
– Это надо было видеть. Так вот, стол на голове и драку помню. Говорящего петуха – не помню.
– Иногда папагаллов берут в путешествие моряки, – продолжал Гуссен.
– И после этого с птицами лучше не разговаривать! – рассмеялся Йерун. – Что там папагаллы – вы же помните, как Урбан-трубочист выучил говорить ворону?
Братья прыснули со смеху.
– Да, обыкновенную ворону, каких в городе тысячи! Она потом все время звала его по имени и требовала корма. «Ур-р-бан! Жр-рать!» – каркнул Йерун, совсем по-вороньи. – Ох и измучился трубочист через месяц!
– Да, Йерун, так и есть. – Мастер Антоний, хозяин мастерской, отец и учитель троих братьев, подошел неслышно. – Дар речи – еще не признак ума. Ибо сказано: «Слово – серебро, молчание – золото». Поэтому довольно болтать, ребята. Принимайтесь-ка лучше за дело.
– А мы его и не бросали. – Йерун снова взялся за уголь. – Просто Яну не нравится сова в мастерской. Как будто в ней что-то небывалое. Вот если бы я привел сюда камелопардуса…
– Кого? – не понял Ян.
– Диковинного зверя из ливийских земель. Он описан в бестиариях.
– И что он такое?
– Зверь с телом лося, хвостом льва и головой антилопы на длинной змеиной шее.
– Ну и химера! – поморщился Ян.
– Вовсе нет. Выглядит гармонично, да и грации как будто не лишен.
– А какого он окраса?
– Светлого, в темных пятнах по всему телу.
– Вроде лошади в яблоках?
– Вроде того. Хотя ближе к леопарду. Оттуда и название.
– Ливия – место далекое и чудное. – Гуссену совсем не хотелось уходить от интересного разговора. – Там и драконы, и василиски.
– И лоси со змеиными шеями, – вставил Ян. – А у нас Йерун завел в мастерской бесовское отродье.
– Не знаю, чье она отродье, – серьезно ответил Йерун. – Но нашел ее маленькую на чердаке я. И выходил тоже я. А от меня, ты чуешь сам, серой не пахнет. Сова – не более бесовская птица, чем курица или гусь. А еще ее зовут Минерва.
– Мине… р… в… – не сумел повторить Ян. – Да что ж так сложно-то?
– Так звали сов в Древнем Риме.
– Не сов, – улыбнулся мастер Антоний. – Мудрую языческую богиню. Сова была ее спутницей. И заодно – символом мудрости. Сову даже чеканили на монетах. И никто не видел в ней бесовщины. Где ты слышал о Минерве, Йерун?
– Мне рассказал о ней мэтр Иоганнес из братства, отец. Про камелопардуса – тоже от него.
– Он любит рассказывать такие вещи, – кивнул мастер. – Мэтр Иоганнес – книжник и знаток старины. Когда придет время, вы так же вступите в Братство Богоматери и сможете беседовать не только с ним. Там много достойных и сведущих, уважаемых людей. Но для этого вам надлежит стать мастерами своего дела! Поэтому сейчас – за работу.
– Скажи, отец, почему сов не любят теперь? Что в них плохого?
– Что плохого? – переспросил мастер Антоний. – Плохого, пожалуй, ничего. Куда больше необычного. Все птицы дневные – сова промышляет ночью. Сова скрывается от солнца – люди думают, что ей претит свет божий. Наконец, ее зловещий хохот в ночной тишине. Все не как у других птиц. Все непонятно, а непонятное пугает. И вскоре начинает казаться бесовщиной – уж очень повадки совы напоминают повадки лукавого. Наконец, ее облик – ведь он похож на человеческое лицо. Только более страшное. Ну вот, здесь это хорошо видно. – Он указал на рисунок совы на доске Йеруна.
– А по мне, ничего страшного! Скорее смешная получилась. Постойте, вот так. – Мальчик, заметив лишнюю линию под совиным клювом, вывел ее сильнее. Теперь совоподобное существо на рисунке улыбалось совсем по-человечески. На его круглой морде обозначились пухлые щеки в обрамлении кудрявой бороды, а клюв превратился в длинный и мясистый нос.
– Мне нравится рисовать птиц, – пояснил Йерун. – Но любая дневная птаха постоянно носится туда-сюда. А мою Минерву удобно рисовать с натуры – она спокойная и не суетится. И все понимает, даром что бессловесная.
– Теперь она похожа на старого еврея. – Ян прищурился, разглядывая рисунок брата.
– Кто сумеет сделать сове обрезание – пусть берет ее в подарок, – отозвался Йерун.
– Многие подмечают подобное, и это сходство не добавляет совам доброй славы, – кивнул мастер Антоний. – Поверь, Йерун, ты не первый и не единственный, кто рисовал людей-сов. И снова необычное кажется людям нечистым, бесовским. Хотя, по мне, ты прав. В сове не больше бесовщины, чем в любой другой птице. Для чего-то и сова создана Всевышним. Поэтому пускай Минерва живет в мастерской. Но если твоя бессловесная умница вздумает нагадить на картину – не обессудь, Йерун, я ее выгоню. Что скажешь?
Младший сын художника молча смотрел вокруг – на сову, на мастерскую отца, на краешек рыночной площади, шумевшей за окном. Он думал о чем-то своем, о чем-то большем, чем все, что попадалось на глаза. И наконец ответил:
– Когда я стану мастером, как ты, отец, я сделаю все возможное для того, чтобы необычное перестало казаться людям бесовщиной. Пусть занимает, веселит, заставляет задуматься. Это будет много лучше, много полезнее дьявольского страха.
Пожар
Надпись на обложке книги гласила: «Видение Тундгала». Книгу совсем недавно напечатали в Хертогенбосе. Йеруну книгу передал его знакомый из Братства Богоматери, клирик отец Стефан. По его словам, «Видение» могло дать зримые образы ужасов и мук преисподней, проще говоря – богатую пищу для фантазии живописца. Любопытный от природы, Йерун охотно согласился и взял книгу домой.
Речь в «Видении» шла о некоем ирландском рыцаре Тундгале, при жизни успевшем побывать в аду в сопровождении своего ангела-хранителя. Якобы после этого грешник встал на путь праведный. Пропустив длинное посвящение, прочитав куртуазное вступление между строк, Йерун отметил, что грешный рыцарь не казался злодеем, достойным адских мук. Скорее – вполне добрым малым. Даже странно, что подобное откровение выпало именно на его долю.
Но, добравшись наконец до самого потустороннего путешествия, художник замедлил чтение. Вдумчиво вчитываясь в каждый абзац, он останавливался и подолгу не возобновлял чтения. Если бы кто-то видел Йеруна в этот момент, ему бы представился человек, молча сидящий над раскрытой книгой, то и дело закрывающий лицо руками.
Нет, Йеруну вовсе не хотелось смаковать описания ужасов и чудовищ ада. Не было ни малейшего желания видеть их своими глазами или же делать наброски. Дело было совершенно в другом. Жуткие небылицы, описанные в «Видении», напомнили художнику о давнем ужасе, пережитом много лет назад, пережитом не в видении, но наяву. Стертые милосердной памятью, поблекшие со временем, адские образы предстали перед воображением с новой силой.
* * *
Это было больше двадцати лет назад.
Погода злилась с самого утра. С наступлением сумерек ветер взъярился настолько, что не хотелось лишний раз выходить из дома. Порывы ветра норовили сбить с ног или, наоборот, подхватить прохожего за плащ и подбросить повыше. Скрипели флюгера, раскачивались вывески лавок и мастерских. Вода в каналах и та волновалась так, что могла бы захлестнуть небольшую лодку. Где-то завыла собака, вскоре ей отозвались другие – их тоскливая разноголосица упорно пробивалась сквозь ветер, и тот, кому доводилось ее слышать, поневоле начинал тревожиться. Призывал он святых или же поминал нечистого – все едино, в душе рождались тоска и страх, ощущение скорого несчастья.
На рыночной площади под напором ветра едва держались дощатые прилавки, уже закрытые на ночь. Взглянув за окно, мастер Антоний увидел, как одна из построек сорвалась с места и взмыла в воздух на высоту чуть выше человеческого роста. Ветер с грохотом поволок ее по крышам соседних лавок. Художник перекрестился.
Ближе к полуночи издалека, со стороны речного порта начал доноситься гул.
– Не к добру этот гул, Антоний, – обеспокоенно сказала художнику его жена Алейд. – Ветер так не воет.
Мастер Антоний встал и молча принялся одеваться, жена последовала его примеру.
– Алейд, поднимай детей! – крикнул художник, спешно выходя из спальни на лестницу, ведущую вниз. – Лизхен! Лизхен, поднимайся!
Служанку – крепкую, поперек себя шире, немку – долго звать не пришлось: она слышала то же, что и хозяева, и успела всполошиться не меньше них. Разбудили детей – Яна и Йеруна, Катарину и Берту. Гуссена не было дома – ему как раз пришло время нести службу в городской пожарной страже.
И тут же к отдаленному гулу прибавились крики множества людей. Вскоре крики начали приближаться, гул – нарастать. Затем на площади застучали копыта летящих вскачь лошадей, тревожно запели рожки глашатаев, поднимая горожан. И, словно в ответ рожкам, на колокольне собора ударили в набат.
– Йерун, и вы, девочки, бегом в кладовую, – на ходу распоряжался мастер Антоний. – Багры, топоры, ведра – сколько есть, на улицу. Ян, идем за лестницей. Лизхен, Алейд – бочка с водой во дворе. Сейчас понадобится еще вода.
Йерун не помнил, с чего началась та ужасная ночь, спустя несколько лет не сказал бы наверняка, сколько она продлилась. Помнил лишь, что она не пожелала уходить с рассветом. Быть может, даже пожрала и смешала в своем смрадном чреве несколько обычных ночей и несколько дней в придачу. Он запомнил ее на всю жизнь как ночь, когда чернота с ночного неба спустилась вниз, к людям. И заполонила все, на что бы ни упал взгляд.
Чернота повисла в воздухе едкой, удушливой хмарью, осела на земле, стенах домов, оградах и прилавках рыночной площади. Впрочем, это стало заметно позже, когда стих ветер. А прежде с чернотой соперничал огонь. Огонь и извергал черноту, и обращал в черноту все, до чего мог дотянуться. Хертогенбос охватил чудовищной силы пожар.
Йерун помнил, как люди из домов, окружавших треугольную рыночную площадь, высыпали на улицу – такого шума и суматохи не случалось в обычный базарный день. Огонь приближался к площади – его рев, усиленный воем ветра, напоминал голос исполинского чудища. Может быть, так мог звучать голос дракона, того самого дракона, которого молва в прежние времена селила на месте города. И сейчас могло подуматься, что болтуны прошлого разглагольствовали не впустую, и чудище, веками спавшее среди болот, пробудилось, чтобы напомнить людям о себе.
Над крышами то тут, то там поднималось зловещее багровое зарево. Оно колыхалось, но не уходило, делалось шире и ближе. По одним улицам куда-то убегали люди – обычно целыми отрядами. Они гремели ведрами, щетинились баграми, спеша встретить и остановить пожар, не допустив его до рыночной площади. С других улиц выбегали разрозненно – там огонь одержал верх, и уцелевшие спасались бегством. Без умолку трубили глашатаи пожарной стражи, причитали женщины, плакали дети. С колоколен церквей взывали колокола. В черном от дыма небе темными клочьями метались вороны, их хриплый грай сливался с адской какофонией – голосом и без того жуткой картины всеобщего бедствия.
Каждый сосуд снова и снова наполнялся водой. Люди обильно поливали деревянные балки и перекрытия домов – лакомую добычу подступающего огня. Пропитывали водой грубую ткань, спеша укрыть ею стены и кровли домов. Первым делом опустошались бочки, припасенные во дворе каждого дома, но этого было мало, и вскоре цепочки жителей протянулись до ближайших каналов – люди черпали воду, едва успевая передавать друг другу тяжеленные ведра.
Пожар ревел все ближе – неистовый ветер гнал огонь по узким улочкам, точно по желобам, перебрасывал искры и целые головни с крыши на крышу. Казалось, горит самый воздух над головой. Зарево разгоралось все ближе и все ярче, окрашивая страшную ночь в багровое и черное. Уже в трех местах пламя с грохотом вырвалось на площадь, выбросив клубы дыма и снопы искр. Скоро огнем занялись ближайшие дома.
Все это Йерун вспоминал много позже – то одна, то другая страшная картина внезапно вставала в памяти, а буйная фантазия художника с готовностью дорисовывала то, чего не примечал глаз мальчика, боровшегося с огнем плечом к плечу со всеми. В ту ночь он видел только людей вокруг, стены домов – неизменно черные либо охваченные пламенем – и бесконечные ведра с водой. Успевал ли Йерун хоть на минуту разогнуть спину? Кажется, нет. А вокруг было зарево – красно-черное, колышущееся повсюду, подобно раскаленной тьме преисподней.
Йеруну выпало стоять невдалеке от канала, в котором черпали воду; мальчик видел, как дома на противоположной стороне пылают и рушатся, а ветер силится перебросить огонь через канал, и в холодной воде багровое снова сходилось с черным, то вытесняя его, то отступая. Казалось, этой схватке не будет конца.
«И волновались воды озера, подобно морю, и не было видно неба за его огромными темными волнами. И метались среди волн адские твари размером с башню, и жаждали они разорвать бедные души грешников в клочья. И разевали чудовища пасти, исторгая пламя. И казалось грешной душе Тундгала, что сама вода в озере и та пламенеет».
Кое-где на фасадах домов появлялись черные фигурки с топорами и баграми – смельчаки торопились подрубить горящие перекрытия, обрушить их внутрь здания, чтобы не дать огню перекинуться дальше. Йерун видел, как один из них потерял равновесие, наклонился, взмахнул руками – и сгинул в пылающем провале. Мальчик готов был поклясться, что расслышал вопль несчастного.
По мосту через канал бежали люди – невозможно было разобрать, стражники или простые горожане. Да окажись они хоть монахами – неважно: черные в кроваво-красных отсветах, издалека люди больше всего напоминали сонмище бесов. Торчащие во все стороны крючья и багры еще больше усиливали сходство.
«И взял ангел душу Тундгала за руку, и подошли они вдвоем к темному провалу. „Смотри же!“ – промолвил ангел. Но не было видно дна – лишь тьма и огонь представали перед взором. И доносились оттуда стоны и крики мучающихся там грешных душ. И поднимался из провала дым от горящих там в серном пламени тел. И обонять тот дым было для всякого, кто случился поблизости, еще страшнее, чем гореть в бездне.
И качался над провалом подвесной мостик, лишенный перил, длиной в тысячу шагов и шириной только в один фут. Дрожал он и раскачивался в серном дыму, и трепетал так, будто сам был соткан из зыбкого дыма и копоти. Лишь избранные могли пройти по этому мостику. И видела душа Тундгала, как множество душ, обреченных на испытание, пытались перейти по мостику, но снова и снова срывались в провал. И слышала душа Тундгала крики и вопли горящих внизу.
Только один смог пройти над бездной. Был он священник и в руках держал пальмовую ветвь. И вот ангел взял бедную душу Тундгала за руку, и они прошли по мостику».
– Куда? Куда, мать вашу? – кричал охрипшим голосом один из командиров городской стражи. Свою алебарду он держал обеими руками перед собой, загораживая дорогу нескольким мужчинам – тех было человек семь или восемь, не меньше. – Бежать решили? Тут каждый человек дорог!
– Божья кара! – кричал в ответ страшный здоровяк в обгорелой одежде, с перекошенным, как у безумца, лицом. Он без конца тряс кулаком и показывал пальцем вспять, в сторону пылающих домов. – Бесполезно противиться! Это конец, конец!
– Отливать против ветра бесполезно! – не уступал стражник. – А ну, быстро взяли ведра – и в строй, мать вашу! Рук не хватает!
– Бежать! Божья кара! – Казалось, здоровяк то ли не слышит стражника, то ли притворяется, что не слышит. При этом он не забывал нависать над стражником – тот был ниже ростом и вдвое тоньше. В какой-то момент беглец вцепился обеими руками в древко алебарды; между ним и стражником началась борьба, весьма похожая на борьбу человека с медведем. Все происходило настолько скоро, что прочие беглецы не успели ввязаться, или, быть может, они полагались на силу своего товарища.
– Кто говорит о каре Божьей, дети мои? – Рядом со сцепившимися из темноты вывалился могучего сложения монах. В длинных полах и широких рукавах его рясы зияло множество прожженных огнем дыр. – Сие есть ложь, что исходит от лукавого! Образумьтесь, дети мои!
Видя, что дерущиеся не слушают его, монах подскочил к ним и одним размашистым ударом повалил здоровяка навзничь. Затем, стоя над ним, разинул рот пошире и вызверился не хуже бывалого ландскнехта. Вмиг все стихло; монах, перекрестив собственный рот, протянул лежащему руку и рывком поднял его на ноги.
– За мной, дети мои! Дружно и нечистого бьют! In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti![2]
Подхватив оброненный кем-то багор, могучий монах ринулся в сторону горящих домов. Люди, только что помышлявшие о каре свыше и бегстве, послушно последовали за ним.
«Бедная душа Тундгала увидела ужасное чудовище. Голова его была больше горы, его глаза величиной были схожи с холмами и полыхали огнем. Пасть его, казалось, могла вместить десять тысяч воинов. И видно было двух великанов в самой пасти чудовища. Один стоял на нижних зубах, а голова его подпирала ряд верхних зубов, другой же, наоборот, стоял так, что голова оказалась внизу, а ноги вверху. Так они стояли там, подобные двум живым колоннам, подпирая собой страшные ворота исполинских челюстей. Темное пламя вырывалось из пасти чудовища. Тысячи безобразных демонов загоняли ударами бичей и железных крючьев в жуткую пасть чудовища несчастные души грешников. Невыносимый смрад исходил из глотки чудовища, а с ним доносились оттуда вопли и стенания тысяч мужчин и женщин, испытывающих там неописуемые страдания. „Гляди же! – сказал ангел душе Тундгала. – Гляди и запомни! Оно пожирает корыстолюбивых“».
– Петер, не зевай! Чего уставился, в этом доме сотни три золотых! Я знаю, где ван дер Гроот сделал тайник! Я работал в его доме!
– Он не вынес его?
– Клянусь небом, нет! Сам видел, как он сокрушался! Идем, дело верное!
– Ты в своем уме? Дом горит, того гляди, обрушится! Да ну их к дьяволу!
– Кого к дьяволу?
– И тайники, и монеты! И тебя с твоей жадностью!
– Да ну тебя, лодырь! В пропое трехсот золотых ты не участвуешь, так и знай!
Йерун видел, как двое парней бранились у входа в горящий дом. Видел, как один нырнул в пышущий огнем и дымом дверной проем. Видел, как тот, что остался снаружи, вытягивает шею, вглядываясь в пылающее нутро чужого дома, – сейчас он больше всего напоминал рассерженного гуся. Слышал, как он криками подбадривает своего приятеля, шарящего в поисках тайника. Слышал, как изнутри донесся грохот – должно быть, обрушилось перекрытие. И сразу же – два вопля, раздирающих душу: один донесся изнутри дома, другой издал прохвост, оставшийся снаружи. Он закрыл лицо руками и бросился прочь.
Йерун не видел, как горел собор Святого Иоанна, хотя от него до рыночной площади по прямой было не более четверти часа пути. Позже об этом рассказывал Гуссен. Именно там с огнем боролся отряд пожарной стражи, набранный из горожан. Но не только пожарные бросились на защиту красивейшего из городских храмов. Монахи, строители, жители окрестных домов изо всех сил отстаивали здание, раз за разом сбивая со стен и кровли собора подступившие вплотную волны пламени. Люди задыхались в дыму, еле стояли на ногах от усталости, но продолжали держаться с невиданной стойкостью, даже когда огонь, одолевая людей, ворвался внутрь собора и принялся пожирать церковное убранство. Позже Гуссен рассказывал, как в тот миг, когда казалось, что собор отстоять не удастся, четверо монахов, обернув лица мокрыми тряпками, вбежали в собор и вынесли из него драгоценную реликвию – старинную статую Богоматери, сработанную из дерева. После они говорили, что статуя воссияла навстречу им божественным небесным светом, и это укрепило их дух. Сияла ли статуя, Гуссен не знал – еще внутри собора монахи поспешили обернуть ее мокрой тканью, но в том, что люди воспрянули духом, он убедился на собственном примере. И часа не прошло, как огонь на хорах был погашен. В великом пожаре, спалившем едва ли не большую часть Хертогенбоса, собор Святого Иоанна пострадал, однако же не сгорел.
Йерун помнил божественный свет. Таким показалось ему удивительное зрелище восхода солнца, что забрезжило над горящим городом. И туда, где всю ночь багровое спорило с черным, где ад соперничал с довременной тьмой, пришло золотое. Поначалу несмелое, едва заметное свечение набирало силу, делалось ярче. Было оно нежным, но казалось, что ужасающий адский свет пожара бессилен перед светом небесным. Первые лучи пробились сквозь дверной проем сгоревшего дома на другом берегу канала, затем забрезжили в окнах, наконец утренняя заря поднялась над черной, иззубренной кромкой разрушенных и покрытых гарью стен. Йерун видел, как лучи осветили понурых людей – и они уже не казались обреченными на муку и поражение. Еще тут и там пылали гигантские костры пожара, но над городом уже вставал рассвет. А рассвет всегда приносил людям надежду.
Подходя к дому, Йерун почувствовал легкое прикосновение к плечу – откуда ни возьмись прилетела сова Минерва. Сейчас птица уселась на плечо своего хозяина.
– Привет, умница, – пробормотал мальчик. Он уже не ожидал увидеть свою птицу живой. Потянулся, чтобы погладить ее, и лишь тут заметил, что натруженные пальцы почти не разгибаются.
– Ты сейчас как черт, ни дать ни взять! – проворчал Ян, неодобрительно глядя на брата. – Мало что весь в саже, так еще и с совой на плече!
– Так и ты не лучше. – Йерун, несмотря на усталость, не удержался от шутки. – Но ты хотя бы без совы. А то два одинаковых черта на улице – это скучно.
– Слава Пресвятой Деве и Иисусу Христу, – произнес мастер Антоний, увидев всех своих домочадцев в сборе, живыми и невредимыми. (Гуссен прибежал ненадолго, чтобы проведать родных, – сейчас ему предстояло вернуться к товарищам по пожарной страже.) Больше в тот день Антоний, кажется, не сказал ни слова.
Ван Акенам удалось отстоять дом – многим соседним домам повезло меньше, часть зданий сгорела дотла.
Йерун не чувствовал ни сил, ни желания привычно болтать – усталость вытеснила все. Пережитый страх пылающей ночи и тот до поры затаился, чтобы вскоре вернуться и напоминать о себе всю оставшуюся жизнь, снова и снова проявляясь на картинах с изображением ада.
«Вся долина была покрыта горящими углями. На углях лежала железная решетка, и красный свет исходил от нее, ибо была она раскаленной. И невыносимым смрадом несло от той огромной жаровни. Несметные толпы обреченных душ грешников восходили на страшную жаровню и изжаривались на ней до тех пор, пока их тела не таяли как сало на огне и не стекали каплями сквозь решетку жаровни в пламя. Но и этим не завершалось их мучение, ибо продолжилось оно в горящих углях».
Еще одним ярким воспоминанием о том пожаре стал образ пепелища – кажется, того самого дома, который в ночь пожара привлек двоих мародеров. Тогда, случайно задержав взгляд, Йерун заметил мертвое тело, вернее, то, что от него осталось. Обугленный труп, придавленный упавшей балкой, прижимал руки к груди, словно готовился к кулачному бою, и скалился на небо уцелевшими зубами…
* * *
– Как вы находите это сочинение, мастер Иеронимус? – поинтересовался отец Стефан на очередном собрании братства, когда Йерун возвращал ему «Видение Тундгала».
– Благодарю, весьма любопытно, – кивнул художник. – Автору не занимать фантазии.
– Вы смогли почерпнуть что-либо, нужное вам в работе?
– Пожалуй, смог. Здесь написано, что души праведников, прежде чем достигнуть рая, становятся свидетелями мук ада, чтобы осознать тот ужас, которого смогли избежать. Это же навело меня на мысль, что те люди, кому довелось видеть нечто подобное аду при жизни, должны сделать все, что в их силах, чтобы это не повторилось вновь.
– Истинно так, – коротко ответил клирик.
Часть II. Белая дама
Профессор ночных кошмаров
– Босха называют профессором ночных кошмаров! – разглагольствовал Мэттью Перри, приехавший из Нью-Йорка. – Он создавал картины по заказу церкви. Чтобы напугать людей.
– Просто взять и напугать? Но для чего? – осторожно поинтересовался я. Не знаю точно, чего я хотел больше – прекратить словоизвержение американца или же, наоборот, подогреть его. Уж очень занятно было слушать, как размышляет о всех сферах жизни этот ковбой-искусствовед.
– Это же Средневековье, там же сплошь тирания! – Американец поднял брови и широко распахнул глаза – видимо, не мог скрыть удивления от моей непонятливости. – Церковная и светская одновременно. Власти только и делали, что выдумывали новые законы, предписания, запреты, наказания и казни! За все подряд, за обычные проявления любви к жизни!
– У вас есть примеры подобных законов? – улыбнулся Тиль. Он обожал рассказывать анекдоты о странных, почти средневековых запретах, действующих в США, и я всерьез забеспокоился, что разговор сейчас повернется в эту сторону.
– Да только посмотреть, кто и как мучается в босхианском аду! – увлеченно продолжал Мэттью. – Игроки в карты, влюбленные, музыканты! Хотя бы тот, что распят на струнах арфы? Или другой, с нотами на заднице? А люди видели это, верили и боялись. А потом забывали и брались за старое, пускались во все тяжкие. И правильно делали. Природа создала нас не для того, чтобы мы торчали в церкви и распевали каноны! Средневековые ценности безнадежно устарели. Но их по-прежнему считают произведениями искусства, – победно завершил американец, не замечая того, что мы уже еле сдерживаем смех.
Тем временем за Босха уже успели вступиться наши близнецы. Братья Карл и Хуберт, как нарочно, выслушали все, что было сказано. И им, ценителям и знатокам не только Босха, но и всех его последователей вплоть до Сальвадора Дали, не понравилось, что мастера ругают.
– И учтите – Босх не был безумцем! Чтобы доказать это, достаточно сопоставить известные факты о нем!
– Будь он тихим безумным затворником, он бы не занимал высокого положения в городе! Не получал бы заказов от вельмож и высокого духовенства! Ему бы не поручали ответственных дел в Братстве Богоматери! Может, разглядели бы его работы после его смерти, и то не факт!
– В общем, он не был похож на Говарда Лавкрафта! К тому же шизофреники бредят на какой-то один, свой собственный, лад и не меняют его по настроению! А творчество Босха многообразно!
– А будь Босх шумным фриком – оброс бы анекдотами! Да, при жизни! И, может быть, доигрался бы до обвинения в ереси со всеми вытекающими! Но ничего этого не было! Он прожил долгую жизнь, был богатым и уважаемым человеком!
– Безумцы в те времена не жили долго! Да и пьяницы тоже – это я для тех, кто приписывает Босху алкоголизм!
Оба одинаковых рыжебородых великана говорили наперебой, отчего казалось, что один человек странным образом раздвоился и не замолкает, при этом меняется только глотка, из которой он хочет звучать дальше. Диспут уже обернулся перепалкой, перепалка грозила перерасти в полноценную баталию. Дело в том, что братья не привыкли стесняться в выражениях, если чувствовали себя задетыми.
Забавнее всего было смотреть на беднягу Мэттью – он, кажется, так и не понял, в чем его ошибка и за что его собираются покусать сразу с двух сторон. В другой раз я бы с удовольствием понаблюдал за развитием событий, но сейчас понял, что гостя пора выручать.
– А вы не могли бы рассказать о триптихе «Распятая мученица»? – обратился я к Карлу и Хуберту. Прием сработал – оба поклонника Босха обернулись ко мне, мгновенно оставив в покое слегка недоеденного Мэттью.
– Это про Юлию Корсиканскую? – поинтересовался Карл.
– Да, иногда «Распятую мученицу» связывают с ее именем.
– Трудно сказать, есть ли у триптиха связь именно с ней, – с готовностью ответил Хуберт. – Дело в том, что сам Босх не подписывал названия своих работ. Юлия, если верить легенде, была карфагенской рабыней. А мученица Босха одета как принцесса.
– На ней нарядное платье, и даже корона на голове, – вставил слово Карл.
– Это интересная история, ее стоит узнать. – Я жестом пригласил Мэттью послушать, он присоединился, хотя на близнецов взглянул не без некоторой опаски. – Пример того, что Босх писал не только чудовищ и сцены адских мук.
– Поэтому, скорее всего, «Мученица» – это не святая Юлия, хотя ее и почитали в Хертогенбосе, – продолжил рассказ Карл. – Скорее он изобразил принцессу Вильгефортис. Ее почитали не меньше.
– Хотя она и не существовала, – вступил Хуберт. – Принцесса – вымысел чистой воды, придуманная по образу и подобию множества христианских мучеников. Трогательная сказка о вере. Само ее имя, считайте, говорящее, в духе нравоучительных сказок.
– «Virgo fortis», то есть «стойкая дева» по-латыни.
– За мужество? – робко спросил Мэттью.
– Нет. За бороду! – хором ответили близнецы.
– Вы меня разыгрываете. – Теперь уже американец выглядел раздосадованным.
– Нисколько. Таков сюжет. – Карл уже забыл, что несколько минут назад сердился на иностранца. Все-таки делиться знаниями ему нравилось гораздо больше, чем устраивать разнос. – Давным-давно, где-то в далекой Португалии, юная принцесса была обещана своим отцом-королем в жены мусульманскому владыке. И все бы ничего, только принцесса тайно крестилась и нипочем не хотела идти замуж за иноверца. Чтобы сорвать свадьбу, она истово молилась Господу Богу, прося сделать ее уродливой. Господь внял молитвам истинно верующей, и за ночь лицо принцессы обросло густой бородой. Свадьба не состоялась. А отец, разгневавшись, распял дочь точно так же, как некогда был распят Иисус Христос.
– Если истово молиться, можно не успеть побриться, – добавил Тиль, подмигивая близнецам.
– И вы говорите – не ужас, – понуро произнес Мэттью.
– Если знать, как была придумана легенда, то ничего ужасного нет, – улыбнулся Хуберт. – Даже смешно. Дело в том, что в Италии распятого Христа часто изображали в длинной тоге. Иногда с венцом на голове. А жители северной Европы привыкли видеть его в набедренной повязке. Тогу они неизменно принимали за женское платье, а борода на лице при этом никуда не девалась. Вот и вышли из положения, как сумели. Придумали себе мужественную бородатую принцессу.
– Но ведь у мученицы на триптихе нет бороды? – спросил я.
– Была, – с готовностью ответил Карл. – Просто триптих плохо сохранился, сейчас ее почти невозможно разглядеть. Она была нанесена едва заметными мазками.
– Складывается впечатление, что художник как будто пожалел уродовать лицо девушки бородой, – продолжил Хуберт. – Так ли это и почему – загадка.
Распятая мученица (начало)
– Я предложил бы вам, господа, изобразить сцену поклонения волхвов. – Йерун, обращаясь к заказчикам, старался говорить медленно и размеренно, чтобы те не упустили ни единого слова и все верно поняли. Впрочем, его опасения оказались напрасными – заказчики прекрасно знали фламандский язык. – Либо сцену из жития Святого Иоанна, чье имя носит этот прекрасный собор.
Собеседники мастера лишь отрицательно покачали головами.
Пару дней назад члены Братства Богоматери представили Йеруна иноземцам – богатым венецианским купцам. Братья Маттео и Федерико Дореа уже не в первый раз прибывали в Хертогенбос по торговым делам. Художник встретился с итальянцами в капелле собора Святого Иоанна, где обыкновенно проходили собрания братства.
Сказывали, что купцам нет дела до искусства, и они обычно не заказывают картины. Однако же Йерун по собственному опыту знал, что это не так. Хотя чаще всего к мастерам искусств обращались дворяне или служители церкви, но художнику не раз доводилось работать для состоятельных бюргеров, торговцев и ремесленников. Даже домовитые, сдержанные во всем жители Хертогенбоса, разбогатев, не отказывали себе в предметах роскоши, украшая картинами и триптихами домашние молельни. Иные просто полагали, что обладание чем-то подобным хотя бы немного приближает их к знати – потуги таких мещан во дворянстве часто бывали смехотворны, а от доставшихся им картин всякому сведущему в живописи делалось дурно. Встречались и такие, кто искренне проникался написанным, ведь картины и триптихи почти всегда изображали сцены из Священного Писания или иллюстрировали жития святых.
Поэтому Йерун не удивился, когда венецианские купцы обратились к нему с заказом – ведь итальянцы славились как первые ценители искусства во всей Европе. Удивительно было другое – братья Дореа с необыкновенным тщанием обсуждали сюжет будущей работы. Купцов совершенно не занимало то, что чаще всего изображали для домашних молелен. Они задумали сделать подарок самому кардиналу.
– Тут непростое дело, маэстро Иеронимо. – Маттео Дореа, старший из братьев, говорил неторопливо, старательно произнося каждое слово. Лишь легкий акцент выдавал в его речи иностранца. – Необычный заказ. Понимаете, кардинал Гримани не только известный собиратель живописи и меценат, будь оно так, речь не зашла бы о заказе…
– Кардинал – большой оригинал! – вмешался Федерико. Младший брат говорил торопливо и громко, и верное произношение нисколько не волновало его. Увлекаясь, он начинал размахивать руками, а в его фламандскую речь тут же врывались итальянские слова, о смысле которых Йерун мог только догадываться. – Grande dibattente! Великий спорщик! Maestro della sorpresa! Мастер удивлять!
– Да, кардинал любит удивлять, – подтвердил сдержанный Маттео. – В его коллекции представлены работы лучших мастеров со всей Италии, но и этого мало. Он с превеликим удовольствием показывает свое собрание гостям города и друзьям, богатейшим людям Венеции, патрициям. Вышло так, что с одним из них Гримани поспорил. И было сказано, что ни один живописец в мире не сможет представить что-либо достойное внимания, но в то же время отличное от работ итальянских живописцев. Вы понимаете, маэстро?
Йерун кивнул, хотя сам еще не до конца понял мысль венецианца. Старший Дореа продолжал:
– Кардинал загорелся желанием получить в свою коллекцию подобную диковинку, непременно кисти живописца из дальней страны. Например, фламандского. Но при этом – не связанную с сюжетами из Священного Писания.
– Но почему?
– Потому что все работы итальянцев – о том же. Если один и тот же сюжет изображают разные кисти, остается только поставить картины рядом и сравнивать, искать сходства и различия.
– Для ценителей искусства это может оказаться увлекательной игрой!
– Возможно, маэстро. Но не более чем игрой. Сравнение неизбежно заставит говорить о лучшем и худшем мастере. Будет спор, но победителя не будет.
– Потому что каждый останется при своем! – живо добавил Федерико. – Даже если кто-то из признанных мастеров и знатоков искусства возьмется рассудить, это вряд ли повлияет на исход спора так, как хотелось бы кардиналу! Все потому, что пристрастия у людей разнятся. Он хотел бы что-то особенное, способное удивить, поразить! Чтобы не возникло и мысли о сравнении! О вас, маэстро Иеронимо, говорят как о мастере самых удивительных, ни на что не похожих образов!
– Мне доводилось изображать на рисунках и триптихах муки и ужасы ада, – кивнул Йерун. – Там все законы бытия встают с ног на голову, от этого рождаются поистине невообразимые явления и образы. Кролики начинают охотиться на людей, пословицы и поговорки выглядят так же, как звучат, лед и пламя шествуют бок о бок и не мыслят соперничать друг с другом, свет не вытесняет тьму, но густо перемешан с нею. Любые химеры обретают жизнь, плоть и движение. И даже чудовищное здесь может выглядеть по-своему красивым. И не в одной преисподней – везде и всюду, где только нечистая сила подступает к человеку. Быть может, вам стоит обратить внимание на это, господа?
С этими словами он положил на стол несколько рисунков с изображениями монстров и альраунов – те, что выбрал заранее, сочтя наиболее занимательными. Венецианцы молча принялись рассматривать изображения. Впрочем, молчали они недолго.
– Bravo! – взорвался Федерико. – Bravissimo, маэстро Иеронимо! Право, это потрясающе!
Маттео оставался спокойным:
– Действительно, это чудесно. Однако же мы не хотели бы останавливаться на обитателях преисподней, как бы причудливы они ни были, – и, уловив вопросительный взгляд художника, венецианец пояснил: – Адские сущности не сумеют удивить образованных итальянцев. Они слишком хорошо знакомы с трудами синьора Данте Алигьери. Описания ада в «Божественной комедии» сделали дьявольские изломы мироздания настолько привычными для наших соотечественников, что даже ви́дение ада собственными глазами вряд ли будет удивительно для них. Даже столь необычного ада, как описали вы, маэстро.
– А ведь Данте – не единственный, кто описывал ад! – добавил Федерико. – После него поэмам о хождениях на тот свет нет числа! Не отстают и проповедники – они как будто соперничают в выдумке друг с другом! Вдохновляются, надо полагать, теми же поэмами.
– Словом, живописать ад не стоит, – закончил Маттео.
– Что же тогда способно обогатить коллекцию кардинала таким образом, как он желает? – Художник не скрывал удивления. Он впервые столкнулся с тем, что фантастические образы не могли удовлетворить искателей диковинного.
– Новый сюжет. Неведомый итальянским мастерам, к тому же написанный не в привычной итальянской манере живописи. Следовательно, его не должно быть в Библии, а саму работу следует выполнить без оглядки на Италию.
– Только и всего?
– Но хотелось бы, чтобы работу выполнил прославленный, искусный живописец. Не похожий на собратьев по цеху. И поэтому нам рекомендовали вас, маэстро Иеронимо.
Теперь даже Федерико заговорил спокойно – он понял, что самое главное сказано его братом, и другого уже не будет. Хотя и видно было, что младший Дореа жалеет о тех диковинных обитателях преисподней, которых так и не напишет знаменитый мастер из Хертогенбоса.
– Ведь здесь, на севере, сильно почитание собственных святых, – сказал он. – Взять хотя бы святую Либерату.
– У нас ее чаще называют Вильгефортис, – кивнул художник. – Стойкая дева покровительствует девицам, желающим уберечь себя от не в меру настойчивых ухажеров. Предание о ней в Северном Брабанте известно каждому.
– Следовательно, вы изобразите мученичество virgo fortis, – улыбнулся старший Дореа. – Это будет то самое произведение северного искусства, которого, как считает кардинал Гримани, не хватает в его коллекции.
– Закажете картину?
– Триптих. Пусть распятая мученица будет изображена на центральной части, изображения на боковых – по вашему усмотрению.
* * *
Подходящую для триптиха доску искать не пришлось – она весьма кстати оказалась в мастерской Йеруна. Ранее художник взялся за триптих по заказу знатных господ из Гента, но те отказались от произведения вскоре после начала работ. Триптих остался незавершенным. На боковых створках так и сохранились изображения для незадачливых заказчиков – Йерун решил, что написать поверх них новое не составит труда. Центральная же часть оставалась нетронутой – художник даже не успел нанести набросок.
Йеруна удивляло то, на чем в конце концов остановились венецианские заказчики. Их пожелание свелось к самому обыкновенному изображению мученичества святой, имя которой не было известно в Италии, причем изображение следовало сделать без особых изысков.
– Все потому, что пристрастия у людей разнятся, – усмехнулся он, вспомнив слова Федерико. И тут же дал ответ сам себе – то, что заурядно в Брабанте, будет настоящей диковинкой в Венеции. Правда, исполнить такое мог бы любой художник из Хертогенбоса, однако же иметь дело с авторами без громкого имени итальянцы не пожелали.
Что ж, пусть будет так, как хотят братья Дореа. К тому же иноземцы не поскупились, заплатив вперед – должно быть, сыграло роль то самое громкое имя. Да и о рекомендации братства забывать не стоит. Йерун решил, что обязательно щедро пожертвует собору Святого Иоанна, когда триптих будет завершен и оплачен полностью.
Центральная часть триптиха не была большой – чуть больше трех футов в ширину и в высоту, с соразмерными створками. Взяв в руки свинцовый грифель, Йерун принялся делать набросок распятой мученицы. Знакомые ему изображения Вильгефортис мало отличались от распятого Христа, с той лишь разницей, что стойкую деву рисовали одетой, венец на голове принцессы не был терновым, а по бокам не стояли еще два креста с распятыми разбойниками. Чаще всего Вильгефортис принимала крестную муку в гордом одиночестве – поблизости не изображали даже стражников, которым, по здравому размышлению, следовало быть; лишь изредка на картине появлялись коленопреклоннные заказчики.
– Забавная выходит история. – Йерун задумчиво обратился сам к себе. – Как будто благочестивый католик, а то и двое, набрели в пути на распятую знатную деву с бородой на лице, да здесь же и вздумали помолиться. Вот это уж точно удивительно, никаким альраунам не сравниться с этим!
Грифель с тихим поскрипыванием ходил по доске, средняя часть триптиха покрывалась набросками людей.
– Толпа зевак, – рассуждал вслух художник. – Толпа зевак, это уж как вам угодно. И не таких, как на Голгофе. Кто мог пожелать смерти принцессы, кроме разгневанного отца-язычника? То-то же, никто. Изумление, сожаление, горе, много горя, но злорадства здесь не будет. Там никто не кричал: «Распни ее!» Воскреснуть ей тоже не довелось.
Сейчас каждый человек был изображен лишь несколькими линиями и увенчан кружком в том месте, где предстояло написать голову. Однако Йерун уже видел каждую фигуру так, как будто она была завершена, – оставалось только закончить рисунок. Наметив фигуры людей, обступивших крест, и сам крест, Йерун принялся за фигуру распятой мученицы. Он изобразил ее сразу же, отошел взглянуть – и отрицательно покачал головой. Фигура распятой показалась мастеру тяжеловесной, угловатой, как будто на кресте вместо принцессы оказался кто-то из рыцарей. Размяв в пальцах хлебный мякиш, художник стер изображение.
Он взял небольшую дощечку и принялся чертить на ней одну только принцессу. Конечно, за долгие годы художник перерисовал бессчетное множество женских фигур, но здесь как будто не годился весь его предыдущий опыт. Несколько раз получился Иисус, одетый почему-то в женское платье. Йерун задумался.
– А ведь только так ее обычно и рисовали, – проговорил он. – До сих пор художники довольствовались сходством стойкой девы с Сыном Божьим. Но ведь Вильгефортис не Христос. Она же принцесса!
Йерун снова принялся за наброски. На этот раз он изобразил мученицу нагой, умело передав грацию стройного девичьего тела. Затем добавил нарядное платье, густые длинные волосы, плащом ниспадающие вниз, старательно вывел юные черты лица. Поставив доску у стены, мастер отошел взглянуть – в этом наброске он добился того, чего хотел с самого начала. Но тут вздрогнул и выронил грифель. Не сводя глаз с рисунка, Йерун тяжело опустился на табурет…
Говорят, время лечит. Нельзя поспорить с этим, но нельзя также забывать, как именно лечит время. Оно не удаляет из человеческой души старую горечь и боль, но старательно закрывает их новыми и новыми слоями памяти. Под ними бывает непросто отыскать то, что когда-то прежде заслоняло небеса, сжимало грудь, не давая дышать, или же, наоборот, дарило крылья, заставляло петь от счастья, как будто лишь затем, чтобы вскоре исчезнуть, оставив человека оплакивать утрату.
Точно так же живописец, не желая сохранять нанесенные на деревянную доску изображения, пишет новую картину поверх старой. И как только высохнет вновь нанесенная краска, ни один человек, взглянув на работу художника, не сможет судить, прекрасно или уродливо сокрытое. Отвлеченный, не знающий всего зритель не оценит, насколько великим или малым был труд, плоды которого исчезли под новым слоем. Он даже не догадается о том, что под краской скрыто нечто. Загадка, невольно созданная живописцем, останется неразгаданной навеки, разве что в будущем люди научатся видеть сквозь тела, не повреждая внешних покровов. Может статься, это умение хорошо послужит лекарям будущего.
Однако же человеческая душа не картина. Ее глубинные слои не так уж сложно растревожить и поднять на поверхность – достаточно напомнить о них. Порой оно проступает само – в мыслях ли, в поступках ли рвется наружу то, что, казалось бы, давным-давно забыто и ушло вглубь.
Оставив триптих, Йерун решительным шагом подошел к сундуку, стоявшему в углу мастерской. Из сундука, с самого дна художник извлек небольшой ларец, открыл его и вынул сверток белой ткани. Затем развернул его на крышке сундука. На тонком белом полотне была вышита птица, сова-сипуха вроде тех, которых так охотно и часто Йерун изображал на своих картинах. Некоторое время мастер разглядывал вышивку, затем тяжело вздохнул, и этот вздох больше напоминал стон. Бережно свернув полотно, он вернул его в ларец; однако затем, подумав, вынул снова, развернул и оставил на видном месте.
Сейчас то, что было пережито без малого тридцать лет назад, прорастало подобно дереву. Йерун сразу понял, из каких семян оно берет начало…
Корабль дураков
Эльдонк, Мир-вверх-Дном, трехдневный праздник в преддверии Великого поста. Карнавал пел, плясал и шумел всеми мыслимыми звуками на улицах и площадях Хертогенбоса. Впереди ждал строгий и суровый пост, он продлится сорок дней. А сейчас народ веселился, переворачивая вверх дном привычный мир, стирая границы и запреты. В дни карнавала и священник, и сеньор были смешными, а не грозными, ученые мужи – глупыми, а дьявол и сама смерть не казались пугающими. Над ними потешались, ненадолго забывая страх.
В прежние времена, бывало, церковь осуждала карнавалы, пыталась запретить их, но вскоре уступила. «Бочки с вином лопнут, если время от времени не открывать отверстия и не выпускать из них воздух, – рассудили святые отцы. – Все мы, люди, – плохо сколоченные бочки, которые лопнут от вина мудрости, если это вино будет находиться в непрерывном брожении благоговения и страха Божьего. Нужно дать ему воздух, чтобы оно не испортилось. Поэтому мы и разрешаем себе в определенные дни шутовство, чтобы потом с большим усердием вернуться к служению Господу». С тех пор добрые католики, даже священнослужители не оставались в стороне от праздника. Подобно тому, как миряне в дни карнавала выбирали короля дураков, так и церковные служители выбирали дурацкого епископа.
– Эй, дамы-господа, потеснитесь! С пути корабля расступитесь! Дорогу прославленному кораблю – всех кораблей королю! Лежишь ты или идешь – все едино, на нем плывешь!
Впереди корабля вышагивали четверо великанов футов по десять ростом, в длиннополых одеждах, из-под которых при каждом шаге показывались ходули. Великаны забавно раскачивались в такт своим широким шагам. Корабль тянули запряженные в него ряженые, изображающие чертей – кто с бараньей или козлиной головой, кто с пятачком свиньи, кто с корзиной, надетой поверх головы так, что напоминало голову жабы или лягушки. Корабль не плыл по одному из городских каналов – он ехал по улице от Рыночной площади в сторону собора Святого Иоанна, стоя на длинной подводе, со множеством чертей в упряжке.
Чтобы не было сомнений в том, что корабль сухопутный, борта были густо обвешаны сеном и соломой, вместо мачты кверху торчало дерево с кое-как обрубленными ветвями. На верхушке развевался красный флажок со знаком полумесяца, чуть ниже маятником раскачивался свиной окорок, и толстый коротышка в рясе монаха потешно подпрыгивал, силясь дотянуться до него кухонным ножом.
– Хо-хо! Руперт, сын мясника! Руперт, давай, ты сумеешь! Не посрами отцовской науки! Отмахни кусок получше!
Подмигнув толпе и отсалютовав ножом, наряженный монахом Руперт продолжал прыжки.
– Без моря корабль плывет, без руля дорогу найдет! Сам черт капитану не брат – не тонет, тому и рад! Любого приветит наш флаг, на ком дурацкий колпак! – горланил с носа корабля тощий долговязый парень в шутовском наряде. Он размахивал посохом с набалдашником в виде головы гуся.
За кораблем бежали люди, и развеселые пьяные монахи и монахини, свешиваясь через борт, наливали пиво в подставленные на бегу кружки. Один выпивоха, опрокидывая кружку, снова пускался вдогонку за необычным судном. На четвертый раз монах, узнав проныру, вместо пива наградил его подзатыльником под дружный гогот толпы.
– Пусть ветра над нами не станет – сам дьявол корабль тянет! Надежней любой оснастки, доставит скоро, как в сказке!
Двое монахов, усевшись на корабле, шумно резались в карты, то и дело затевая потасовку. Затем мирились, выпивали, и толстая монахиня, взяв лютню, принималась петь непристойные куплеты. Тогда игроки начинали подпевать ей стройным басовитым хором, торжественно, точно на богослужении.
– Любого влечет – он таков, наш славный корабль дураков! Будь нищим или сеньором – вслед за ним потянешься скоро! Полюбишь, напьешься ли в хлам – добро пожаловать к нам! Рыцарь, аббат, виллан – каждому рад капитан! Матросом наряженный черт учтиво проводит на борт!
При этих словах на нос корабля с треском выскочил некто, с головы до ног перемазанный сажей. Из одежды на незнакомце были только красная набедренная повязка да широкий пояс – на нем сзади крепился ослиный хвост. Чумазый сорвал с головы матросскую шляпу и важно раскланялся на все стороны, при этом люди увидели торчащие рога. Теперь черт кривлялся, повторяя каждое движение шута-глашатая.
– Ай да Урбан! – хохотали в толпе. – Ай да трубочист! Ночью привидится – не открестишься!
– Он и вне карнавала черен, ему не привыкать!
– И ловок не меньше!
– Давай, Урбан! Застращай грешников!
За кораблем тянулась целая кавалькада всадников – частью на мулах и осликах, иные нарочно сидели задом наперед. Среди них не было видно чертей, зато полно было ряженых епископов в митрах и с посохами, королей и герцогов в золоченых венцах, рыцарей в оперенных шлемах – те бежали вприпрыжку, зажав между ног помело или печной ухват. А уж за рыцарями валом валила развеселая толпа, наряженная кто во что горазд, – в масках чудовищ, зверей и птиц, в одеяниях из бараньих и собачьих шкур, вывернутых мехом наружу, со всевозможной посудой, надетой на голову вместо шапок. Вся процессия звенела пастушьими колокольчиками и бубенцами, трубила в рожки, барабанила половниками о кастрюли и горланила песни на разные голоса.
– Чего ж капитан не рад? Прибыл корабль прямо в ад! Не бойся, тут жизнь без изъяна – весело, сыто и пьяно! Разве что черт – редкий гость – вколотит в задницу гвоздь!
И тут трубочист, наряженный чертом, ухватил глашатая поперек туловища, перевернул и уложил себе на колени. Затем он извлек откуда-то молоток и здоровенный, не меньше фута в длину, гвоздь. И принялся исполнять то самое, о чем только что прокричал шут. Молоток стучал по шляпке, гвоздь на глазах уходил все глубже в седалище шута. Тот сучил ногами и вопил дурным голосом. Публика заходилась хохотом.
– Гляди, Йерун. – Гуссен указал пальцем в сторону бесовской расправы. – Это шутовская уловка, гвоздь-то хоть и железный, а все же не настоящий.
Йерун вопросительно взглянул на брата.
– Он состоит из двух частей. Верхняя, что со шляпкой, она трубчатая. Нижняя вставлена в нее, но не до конца. У шута в штанах дощечка, гвоздь упирается в нее. Молоток ударами насаживает верхнюю часть все глубже на нижнюю. А выглядит это, как будто гвоздь забивают по-настоящему.
– Ну да. Хитры канальи, – усмехнулся стоящий рядом Ян. – А не будь оно трюком – никаких бы задниц не напаслись!
Йерун понимающе кивнул.
Он обожал карнавалы с малых лет. В Хертогенбосе, хоть и не последнем городе Брабанта, но все же не самом большом, все образы быстро становились привычными глазу, а новые появлялись редко. Живое воображение мальчика, затем юноши отчаянно требовало подпитки. Иногда на помощь приходили книги, которые приносил с собраний Братства Богоматери отец, но случалось это нечасто, картинок и маргиналий в манускриптах хватало обычно на несколько дней, самое большее – на месяц. Но ежегодные карнавалы пестрили образами один другого ярче, и всякий раз разными, знай успевай смотреть и запоминать.
Йеруну было известно, что над оформлением карнавальных процессий трудились многие люди, и в первую очередь – городские художники. Несколько раз заказы такого рода получал отец, и тогда они вдвоем с Гуссеном – старшим из подмастерьев – надолго уединялись в мастерской. До наступления праздника образы карнавала и шутовские уловки старались сохранять в строгом секрете. «Чтобы никто не обрадовался раньше времени», – подмигивал в таких случаях отец, выпроваживая из мастерской не в меру любопытного Йеруна.
Впрочем, ближе к концу работы занятие в мастерской находилось для всех, и младший сын художника с интересом рассматривал длинные ряды чудных фигур, нарисованных на собранных в полосы листах пергамента. Что ни говори, а необычное, сочетающее черты людей и животных, живого и неживого, привлекало мальчика больше прочего. И каждый новый карнавал, уже не просто нарисованный, но воплощенный и дышащий, дарил Йеруну искреннюю радость. Такая радость доступна, пожалуй, лишь детям, и то не всем, а лишь самым любознательным и веселым.
Всякий раз, глядя на карнавальное шествие, Йерун мечтал, что когда-нибудь и ему, уже признанному мастеру, закажут оформление очередной процессии. И всякий раз давал себе слово, что сумеет расцветить карнавал такими чудесами, каких город не видывал со дня основания.
В воображении юноши всадники ехали не на простых животных, а на диковинных, описанных в бестиариях, – верблюдах и антилопах, полосатых лошадях, грифонах и единорогах всех мастей. О них сейчас мало кто задумывается, многие даже не верят. Но говорят, что все эти звери водятся в дальних странах. В Индии или Ливии – неужели настолько далеко? А как бы хотелось показать их людям, хотя бы близкое подобие! Как бы изобразить это? Надеть маски на лошадей? Нужно подумать об этом, решил Йерун. Для начала просто попробовать изобразить удивительных зверей, хотя бы для себя. Пригодится в будущем.