Читать онлайн Богач, бедняк бесплатно
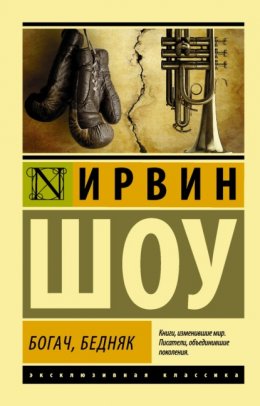
Irwin Shaw
RICH MAN, POOR MAN
Печатается с разрешения наследников автора и литературных агентств The Sayle Literary Agency и The Marsh Agency Ltd.
© Irwin Shaw, 1969
© Издание на русском языке AST Publishers, 2014
* * *
Моему сыну
Часть первая
Глава 1
I
1945 год
Мистер Доннелли, тренер школьной легкоатлетической команды, отпустил ребят раньше обычного, так как на площадку пришел отец Генри Фуллера и сообщил, что получил телеграмму из Вашингтона: брат Генри погиб на войне в Германии. Генри лучше всех в команде толкал ядро, и поэтому, выждав, пока Генри переоделся и ушел с отцом домой, мистер Доннелли свистком собрал ребят и объявил, что они могут расходиться – в знак уважения к брату Генри.
А бейсбольная команда тренировалась на своем поле, но ни у кого из игроков в тот день не погиб брат, поэтому они продолжали игру.
Рудольф Джордах (лучший результат в беге с барьерами на двести двадцать ярдов) прошел в душевую. Бегал он сегодня мало и даже не успел вспотеть, но дома у Джордахов вечно не хватало горячей воды, и он никогда не упускал возможности помыться в душе при гимнастическом зале. Школа была построена в 1927 году, когда у всех водились деньги, поэтому душевые были просторные и горячей воды в избытке. Там имелся даже бассейн. Обычно Рудольф после тренировки еще и плавал, но сегодня он не стал этого делать из уважения к погибшему брату товарища.
Ребята в раздевалке говорили вполголоса и не валяли дурака, как обычно. Смайли, капитан команды, встал на скамейку и заявил, что, если будет панихида, им всем следует скинуться на венок. Пятьдесят центов с носа вполне хватит, сказал он. По лицам парней сразу можно было понять, кто может выложить пятьдесят центов, а кто – нет. Рудольф не мог, но сделал вид, что может. Предложение Смайли с энтузиазмом поддержали те ребята, которых каждую осень родители возили в Нью-Йорк и там закупали им одежду на целый учебный год. Рудольф носил то, что продавалось здесь же, в Порт-Филипе, в универмаге Бернстайна.
Тем не менее одет он был всегда аккуратно и со вкусом: рубашка с галстуком, кожаная куртка, свитер, коричневые брюки, оставшиеся от костюма (пиджак протерся на локтях, и Рудольф его больше не носил). А Генри Фуллер был из тех ребят, которым одежду покупали в Нью-Йорке, но Рудольф был уверен, что сегодня это не доставляло Генри никакого удовольствия.
Не задерживаясь, Рудольф быстро вышел из раздевалки. Ему не хотелось возвращаться домой ни с кем из ребят, потому что пришлось бы говорить о брате Генри Фуллера. Рудольф не особенно дружил с Генри: тот был туповат, как, наверное, и положено быть толкателю ядра, и Рудольф не склонен был притворяться, выражая чрезмерное сочувствие.
Школа находилась в районе особняков, расположенном к северо-востоку от делового центра; ее окружали ряды домов, соединенных общей стеной, – дома эти были построены в то же время, что и школа, в период, когда рос город. Первоначально они были все одинаковые, но с годами владельцы – для разнообразия – выкрасили двери и рамы каждый в свой цвет, а кое-кто пристроил себе эркер или балкон.
Держа учебники под мышкой, Рудольф шагал по выщербленному тротуару. Стояла ранняя весна. День был ветреный, но не очень холодный, и у Рудольфа было отличное, чуть ли не праздничное настроение: тренировка была короткая, и он не устал. На многих деревьях уже распустились первые листочки, а еще голые ветви пестрели набухшими почками.
Школа была построена на холме. Сверху Рудольф видел еще по-зимнему студеный Гудзон и шпили городских церквей, а чуть подальше, в южной части города, высилась труба завода «Кирпич и черепица Бойлена», где работала сестра Рудольфа, Гретхен. Вдоль реки тянулись рельсы железной дороги Нью-Йорк-Сентрал. Порт-Филип имел весьма непривлекательный вид, хотя когда-то был красивым городком, где большие белые дома в колониальном стиле соседствовали с массивными викторианскими каменными особняками. Однако промышленный бум двадцатых годов вызвал огромный приток рабочего люда в Порт-Филип, и город заполонили узкие темные дома барачного типа. А затем разразившийся экономический кризис оставил без работы почти всех, построенные на скорую руку бараки опустели, и Порт-Филип, как ворчала мать Рудольфа, превратился в сплошные трущобы. Это было не совсем так. В северной части города сохранилось много прекрасных больших домов и широких улиц. И даже в захудалых районах еще были дома, из которых люди отказывались выезжать, – они по-прежнему прилично выглядели, затененные старыми деревьями, с широкими лужайками перед фасадом.
С войной в Порт-Филип вновь пришло процветание. Кирпичный и цементный заводы работали теперь на полную мощность, и даже закрытые до этого кожевенная и обувная фабрики начали выполнять армейские заказы. Но шла война, и люди не обращали внимания на внешний вид города – у них хватало других забот, – и, пожалуй, никогда Порт-Филип не выглядел таким запущенным, как сейчас.
«Найдется ли хоть один человек, готовый отдать жизнь ради того, чтобы защитить или, наоборот, захватить этот город, как отдал свою жизнь брат Генри Фуллера за безвестный городок в Германии?» – думал Рудольф, глядя сверху на залитое холодным солнцем беспорядочное скопление домов и улиц.
Втайне, хотя и без особой надежды, Рудольф рассчитывал, что война продлится еще года два: через год ему исполнится семнадцать, и тогда он сможет записаться в добровольцы. Он представлял себя лейтенантом с серебряными нашивками, приветствующим рядовых и под пулеметным огнем противника ведущим взвод в атаку. Через такое всякому мужчине надо пройти. Жаль, упразднили кавалерию. Как здорово мчаться на коне и на всем скаку разить саблей презренного врага.
Конечно, дома он не осмеливался и заикнуться ни о чем подобном: стоило кому-нибудь в присутствии матери просто предположить, что война затянется и Рудольфа в конце концов заберут в армию, у нее тут же начиналась истерика. Рудольф знал, что были мальчики, набавлявшие себе возраст, чтобы попасть в армию, – ходили рассказы про пятнадцатилетних, четырнадцатилетних ребят, получивших медали за службу на флоте, но Рудольф не мог пойти на такое из-за матери.
Он, как всегда, сделал крюк, чтобы пройти мимо дома мисс Лено. Она преподавала у них в школе французский. Поглядел на ее окно и пошел дальше.
Он шагал по Бродвею, главной улице Порт-Филипа, что тянулась вдоль реки и переходила в автостраду Нью-Йорк – Олбани. Он мечтал завести собственную машину вроде тех, что сейчас проносились по шоссе через город. Как только у него появится машина, он станет каждую неделю ездить на выходные в Нью-Йорк. Пока он еще не очень-то представлял себе, какие у него могут быть дела в Нью-Йорке, но знал, что ездить туда будет.
Бродвей в Порт-Филипе – широкая, ничем не примечательная улица, по обе стороны которой рядом с довольно большими магазинами готового женского платья, дешевых ювелирных изделий и спортивных товаров уживались маленькие мясные лавки и продовольственные магазинчики. Рудольф, как всегда, остановился перед витриной армейского магазина, где были выставлены рабочие ботинки, брюки и рубашки из грубой хлопчатобумажной ткани, карманные фонарики, складные ножи, рыболовные принадлежности, и долго глазел на тонкие, изящные спиннинги с дорогими катушками. Он рыбачил на реке, а когда открывался сезон ловли форели, ходил и на ручьи, но его рыбацкое снаряжение было весьма скромным.
Пройдя короткий переулок, он свернул на Вандерхоф-стрит, где он жил. Улица тянулась параллельно Бродвею и словно пыталась соперничать с ним – с таким же успехом бедняк в поношенном костюме и стоптанных башмаках мог делать вид, будто приехал на «кадиллаке». Магазины здесь были маленькие, товары на витринах – серые от пыли, точно владельцы сами понимали: протирай их не протирай, все равно никому они не нужны. Многие витрины еще с начала тридцатых годов были заколочены досками. Накануне войны на Вандерхоф-стрит меняли канализацию, и, прокладывая траншеи, строители вырубили тенистые деревья, росшие вдоль тротуара, а посадить вместо них новые никто так и не удосужился. Улица была длинной, и чем ближе подходил Рудольф к своему дому, тем более и более убогой становилась она, словно продвижение на юг означало и приближение к упадку.
Мать стояла за прилавком булочной, как всегда, зябко кутаясь в шаль. Их лавка находилась на углу, поэтому в ней были две витрины, и мать постоянно жаловалась на сквозняки. Сейчас она укладывала дюжину пирожков в бумажный пакет для маленькой девочки. В витрине, выходившей на Вандерхоф-стрит, лежали пирожные и торты. Раньше отец сам выпекал их в подвале под булочной, но с началом войны рассудил, что от этого больше хлопот, чем прибыли, и теперь каждое утро их доставляли сюда на грузовике с хлебопекарного завода, а Аксель Джордах ограничивался выпечкой хлеба и булочек. Пироги, пролежавшие на витрине три дня, Аксель забирал домой, и их съедала семья.
Войдя, Рудольф поцеловал мать, а она ласково потрепала его по щеке. Мать всегда выглядела усталой и постоянно щурилась, так как беспрерывно курила и дым попадал ей в глаза.
– Почему ты сегодня так рано? – спросила она.
– Отменили тренировку, – ответил он, но не объяснил почему. – Ты иди домой, я поработаю за тебя.
– Спасибо, Руди, – сказала мать. – Хороший ты мой. – И поцеловала его. С ним она была очень ласкова. Ему хотелось, чтобы хоть изредка мать целовала его брата или сестру, но она никогда этого не делала. И он ни разу не видел, чтобы она целовала отца. – Я пойду приготовлю ужин.
За продуктами ходил отец Рудольфа, считая жену расточительной, к тому же она не могла отличить хорошие продукты от плохих, но готовила все-таки она.
Жили они в этом же доме, прямо над булочной, двумя этажами выше. Мать, склонив седеющую голову и шаркая ногами, как старуха, прошла мимо витрины: лестница, ведущая в их жилье наверху, находилась на улице. Рудольфу порой не верилось, что матери едва перевалило за сорок. Она стала совсем седая и еле таскала ноги.
Рудольф достал книжку и начал читать: еще целый час покупателей будет мало. А это было задание английского преподавателя: речь Бэрка «О примирении с колониями». Его доводы выглядели столь убедительно, что оставалось лишь удивляться, почему парламент не поддержал его, – ведь там сидели вроде бы умные люди. Какой же была бы сейчас Америка, если бы они послушали тогда Бэрка? Оставались бы и по эту пору графы, герцоги и замки? Он бы не возражал. Сэр Рудольф Джордах, полковник гвардии Порт-Филипа.
Зашел рабочий-итальянец и попросил белого хлеба. Рудольф отложил в сторону назидания Бэрка и обслужил его.
Джордахи ели на кухне. Семья собиралась вместе только за ужином: у Акселя из-за работы в пекарне был другой распорядок дня. Сегодня мать приготовила тушеную баранину. Несмотря на карточную систему, у них всегда было вдоволь мяса: отец дружил с мясником, тоже немцем, и тот не спрашивал с него карточек. Рудольфу было как-то неловко есть баранину с черного рынка в день, когда Генри Фуллер получил извещение о гибели брата, но говорить с отцом о таких тонкостях не имело смысла, и Рудольф просто попросил положить ему поменьше мяса и побольше картошки с морковью.
Брат Рудольфа, Томас, единственный блондин в семье – мать уже давно не назовешь блондинкой, – уплетал баранину с завидным аппетитом: судя по всему, на душе у него было вполне спокойно. На год младше Рудольфа, он был таким же рослым, но гораздо шире в плечах. Старшая сестра Рудольфа, Гретхен, как всегда, ела мало – следила за фигурой. Мать вообще едва притрагивалась к еде. Отец же, крупный мужчина, сидевший за столом без пиджака, ел непомерно много, то и дело вытирая тыльной стороной ладони густые черные усы.
Гретхен поднялась из-за стола, не дожидаясь десерта – вишневого пирога трехдневной давности: она спешила в военный госпиталь на окраине города. Пять раз в неделю она добровольно дежурила там вечерами.
– Смотри не позволяй солдатам тебя лапать. У нас мало комнат, и детскую устроить будет негде, – напутствовал ее отец своей незатейливой всегдашней грубой шуткой.
– Па! – укоризненно сказала Гретхен.
– Уж я-то знаю солдат, – не унимался Аксель. – Так что гляди в оба.
«Гретхен такая аккуратная, красивая, порядочная», – подумал Рудольф. Ему было неприятно, что отец подозревает ее в чем-то таком. Уж если на то пошло, она единственная в их семье, которая хоть что-то делает для победы.
После ужина Томас ушел. Каждый вечер где-то пропадал. Он никогда не готовил уроков и в школе получал только плохие отметки, оставаясь в младшем классе, хотя ему уже скоро шестнадцать. Но говорить с ним было бесполезно.
Аксель Джордах прошел в гостиную почитать газету перед тем, как отправиться на ночь в подвал печь хлеб. Рудольф остался помочь матери: она мыла посуду, а он вытирал. «Если я когда-нибудь женюсь, – подумал он, – моей жене не придется мыть посуду».
Позже мать собралась гладить белье, а Рудольф поднялся в их с Томасом комнату и сел за уроки. Он твердо знал одно: только учеба может избавить его от необходимости есть на кухне, выслушивать грубости отца и вытирать посуду, поэтому он готовился к любым экзаменам лучше всех в классе.
II
«Может, стоит положить отраву в одну из булочек? – думал Аксель Джордах, вымешивая тесто. – Просто так, ради смеха. Проучить их. Один разок, сегодня. И посмотреть, кому достанется».
Он отхлебнул дешевого виски прямо из горлышка. К утру бутылка будет почти пустой. Руки его по локти были в муке, лицо тоже запорошила мука, поскольку он поминутно вытирал ладонью потный лоб. «Клоун, да и только, – подумал он, – вот только цирка нет».
Из окна, открытого навстречу мартовской ночи, в подвал лился влажный свежий запах реки – запах Рейна, но воздух был раскален от жара печи. «Я уже в аду, – подумалось ему. – Поддерживаю адский огонь, чтобы заработать себе на хлеб и чтобы испечь свой хлеб. Пеку булочки в геенне огненной».
Он подошел к окну и набрал в легкие воздуха. На широкой груди под мокрой от пота майкой напряглись сильные, разработанные с годами мышцы. Река, находившаяся в двух-трех сотнях ярдов от дома, освободилась ото льда, воды ее несли напоминание о Севере, словно шуршание марширующих солдат, распространяя по берегам звуки последних атак зимних холодов. А до Рейна было четыре тысячи миль. Танки и пушки пересекали реку по наведенным мостам. Какой-то лейтенант успел перебежать по мосту, прежде чем он взорвался. Другого лейтенанта на другой стороне судили и расстреляли за то, что он вовремя не взорвал мост. Армии. Die Wacht am Rhein[1]. Черчилль недавно помочился в легендарную реку, родную реку Акселя Джордаха. Кельнский собор стоит как прежде, а больше почти ничего не осталось. Аксель видел фотографии в газетах. Кельн – родной дом, отчизна… Руины, перепаханные бульдозерами, зловоние мертвецов, погребенных под обвалившимися стенами. Почему это случилось именно с таким прекрасным городом?! Джордаху смутно вспомнилась молодость, потом он плюнул в окно, в ту сторону, где текла эта, другая, река. Где же она, непобедимая германская армия? Сколько народу погибло! Он снова плюнул, облизнув кончики поникших усов. Боже, храни Америку! Чтобы попасть сюда, ему пришлось убить человека. Еще раз глубоко вдохнув речной воздух, Аксель, прихрамывая, отошел от окна.
Его имя значилось на витрине магазина над подвалом: «БУЛОЧНАЯ. А. ДЖОРДАХ».
Кошка, пригревшаяся у печки, смотрела на него. У нее не было имени – об этом никто не позаботился. Ее держали в пекарне, чтобы она ловила мышей и крыс. Когда Акселю нужно было позвать ее, он просто говорил: «Кошка!» И кошка, наверное, думала, что ее так и зовут – Кошка. Ночь за ночью она непрестанно следила за ним. Каждый день кошка получала миску молока, а остальное пропитание должна была добывать сама. Кошка смотрела на Акселя так, что он был уверен: она мечтает стать громадной, как тигр, чтобы однажды броситься на него и хоть раз наесться досыта.
Он открыл нагревшуюся до нужной температуры духовку и, морщась от ударившего в лицо жара, поставил первый за эту ночь противень с булочками.
III
Наверху в узкой комнате Рудольф, разделавшись с уроками, листал англо-французский словарь. Он писал по-французски любовное письмо мисс Лено. Рудольф читал «Волшебную гору»[2], и книга эта по большей части показалась ему скучной, за исключением главы о сексе – он подумал, что недаром любовные сцены написаны по-французски, и с большим трудом перевел их для себя. Любовь на французском языке выглядела так благородно. В одном он не сомневался: в долине Гудзона не было другого шестнадцатилетнего юноши, который этим вечером писал бы по-французски любовное письмо.
Закончив, он перечитал его, потом – первоначальный английский вариант: «…И наконец, должен сказать Вам, дражайшая мадам, что, когда я случайно встречаюсь с Вами в школьном коридоре или вижу, как Вы в одиночестве гуляете по городу в своем голубом пальто, у меня возникает страстное желание отправиться в ту далекую страну, из которой Вы к нам прибыли, а перед моими глазами встает пленительное видение: мы с Вами гуляем под руку по бульварам Парижа, только что освобожденного отважными солдатами Вашего и моего отечества. Ваш покорный слуга Рудольф Джордах».
Он опять с удовлетворением прочел французский перевод. Что и говорить: хочешь выражаться элегантно – пиши по-французски. Ему нравилось, как мисс Лено произносит его фамилию – она звучит так мягко и музыкально, не то что в устах некоторых людей, коверкающих ее.
Затем он не без сожаления порвал оба листка в мелкие клочки. Он знал, что, конечно же, не пошлет мисс Лено никакого письма. До сегодняшнего вечера он уже шесть раз писал ей, но потом рвал письма, потому что она наверняка сочла бы его сумасшедшим и, чего доброго, нажаловалась бы директору школы. Ну и, кроме того, он, естественно, не хотел, чтобы отец, или мать, или Гретхен, или Том нашли в его комнате любовные письма – не важно, на каком языке.
Но все равно чувство удовлетворения оставалось при нем. Сидя в этой убогой комнатушке над булочной, рядом с Гудзоном, он писал письма и как бы давал себе слово в один прекрасный день отправиться в далекое путешествие – он уплывет по реке и будет писать прелестным женщинам на незнакомых пока языках и отправлять им письма.
Рудольф встал из-за стола и взглянул на себя в маленькое кривое зеркало, висевшее над старым дубовым комодом. Он очень следил за своей внешностью и часто смотрелся в зеркало, отыскивая в своем лице черты того, кем ему хотелось бы стать. Его прямые черные волосы всегда были зачесаны идеально гладко; время от времени он выщипывал редкий темный пушок на переносице. Чтобы не было прыщей, не ел сладкого. Приучал себя не хохотать во все горло, а лишь улыбаться, да и то не слишком часто. Был очень консервативен в выборе цвета одежды, упорно работал над походкой, стараясь держаться прямо и ходить не спеша, легким, скользящим шагом. Ногти он подпиливал, а раз в месяц сестра делала ему маникюр. Он избегал драк – ему вовсе не хотелось, чтобы его приятное лицо обезобразил перебитый нос, а длинные тонкие пальцы распухли в суставах. Чтобы держаться в форме, он занимался спортом. Когда хотелось полюбоваться природой и насладиться одиночеством, ходил на рыбалку и ловил на блесну, если кто-нибудь наблюдал за ним, а если вокруг никого не было – просто на червей.
– «Ваш покорный слуга», – сказал он по-французски, глядя на свое отражение в зеркале и стараясь походить на настоящего француза: мисс Лено всегда выглядела истинной француженкой, обращаясь к классу по-французски.
Он сел за шаткий желтый столик, служивший ему письменным столом, придвинул к себе лист бумаги и попытался мысленно представить себе мисс Лено. Она была высокой, с узкими бедрами, тонкими стройными ногами и полной грудью, всегда торчавшей почти под прямым углом. Ходила на высоких каблуках, любила разные ленточки и щедро мазала губы. Вначале он нарисовал ее одетой. Лицо получилось не слишком похожим, и он добавил у висков по локону и заштриховал губы потемнее. Потом попробовал вообразить ее вообще без одежды. Изобразил нагой – мисс Лено сидела на высоком табурете и смотрелась в ручное зеркальце. Рудольф уставился на свое творение. «О Господи, неужели когда-нибудь…» И порвал рисунок. Ему стало стыдно. Такому, как он, только и жить над булочной. Узнай кто-нибудь из родных, о чем он думает и чем занимается у себя наверху…
Он начал раздеваться. Спальня матери была этажом ниже, и, чтобы она не догадалась, что сын еще не лег, он ходил по комнате в носках. Каждое утро ему приходилось вставать в пять часов и развозить на тележке, прицепленной к велосипеду, свежие булочки покупателям. И мать сетовала, что он не высыпается.
Со временем, когда он преуспеет в жизни и разбогатеет, он будет говорить: «Я вставал в пять утра и в дождь, и в хорошую погоду и вез булочки в гостиницу у станции, и в столовую Эйса, и в бар Синовского». Как ему хотелось, чтобы его звали не Рудольф!
IV
На экране кинотеатра «Казино» Эррол Флинн убивал японцев направо и налево. Томас Джордах сидел в последнем ряду и жевал в темноте карамель из пакетика, который он выудил из автомата в фойе, опустив вместо монеты оловянный жетон. По части изготовления таких жетонов он был большой мастер.
– Подкинь-ка одну, старик, – попросил его Клод нарочито грубым голосом, каким гангстеры в кинофильмах просят новую обойму.
Дядя Клода Тинкера был священником, и Клод, чтобы его из-за такого невыгодного родства не считали пай-мальчиком, старался произвести впечатление бывалого парня. Том щелчком подбросил карамель вверх. Клод поймал ее и начал громко чавкать. Ребята сидели, развалившись и положив ноги на спинки передних свободных кресел. Как всегда, они проникли в зал через окошко расположенного в подвале мужского туалета – решетку на окне они сорвали еще в прошлом году. И тот и другой заходили в зал, застегивая на ходу расстегнутые ширинки, будто только что вышли из туалета.
Томасу надоело смотреть фильм. Глядя, как Эррол Флинн с целым арсеналом разного оружия в одиночку уничтожает взвод японцев, он буркнул:
– Фонус болонус.
– На каком это языке вы говорите, профессор? – начал их обычную игру Клод.
– На латыни, – ответил Томас. – В переводе это означает – дерьмо.
– Какое глубокое знание иностранных языков! – покачал головой Клод.
– Глянь-ка вон туда, – сказал Томас. – Это же солдат с девчонкой!
Через несколько рядов от них сидел в обнимку с девушкой какой-то парень. Народу в зале было мало, и места вокруг парочки пустовали. Клод нахмурился.
– Он слишком здоровый. Посмотри, какая у него шея.
– Генерал, мы атакуем на заре, – торжественно произнес Том.
– Загремишь в больницу, – предупредил Клод.
– Хочешь на спор?
Том снял ноги со спинки кресла, встал и двинулся по проходу между рядами. Ноги в кедах бесшумно ступали по ветхому ковру, покрывавшему пол «Казино». Том всегда носил кеды. Необходимо быть наготове, чтобы при случае быстро смыться. Он развернул широкие плечи под свитером, втянул живот, чувствуя, как напрягся брюшной пресс под сильно стянутым ремнем. Том улыбнулся в темноте: вот теперь он готов, начинало нарастать возбуждение, как всегда при изготовке.
Клод, долговязый парень с худыми руками-палками, острой беличьей мордочкой, длинным носом и мягкими влажными губами, неуверенно пошел следом. Он был близорук, и очки отнюдь не украшали его. Хитрый интриган, всегда действовавший исподтишка, он умел выходить сухим из воды, не уступая в изворотливости ловким адвокатам крупных корпораций, и водил за нос учителей, ставивших ему хорошие отметки, хотя он почти не заглядывал в учебники. Он неизменно был одет в темный костюм с темным галстуком. Легкая сутулость придавала ему сходство с литератором, двигался он как-то виновато, неловко ставя ноги, и вообще производил впечатление скромного тихони. Его недюжинная изобретательность в основном проявлялась в хулиганских затеях. Отец Клода работал главным бухгалтером на заводе «Кирпич и черепица Бойлена», а мать, окончившая женский колледж Святой Анны, возглавляла общественную комиссию, призванную содействовать набору в армию. Положение родителей, наличие дяди-священника плюс собственная слегка отталкивающая внешность, которая вызывала жалость, позволяли Клоду безнаказанно осуществлять свои каверзные замыслы.
Ребята прошли по пустому ряду и сели позади солдата и его девушки. Солдат запустил руку девушке под блузку и тискал ее грудь. Он был в берете, надвинутом на лоб. Девица шарила рукой между ног солдата. И он, и девушка безотрывно смотрели на экран, следя за развитием действия. Ни он, ни она не обратили внимания на севших сзади мальчишек.
Том сидел позади девушки – от нее так хорошо пахло. Она вылила на себя, наверное, целый флакон цветочного одеколона, и запах его смешивался с запахом воздушной кукурузы, которую они ели. Клод сидел позади солдата. У солдата была маленькая голова, но при этом он был высоким, широкоплечим, и его берет загораживал Клоду пол-экрана – приходилось вертеть шеей, чтобы хоть как-то следить за фильмом.
– Говорю тебе, он очень здоровый, – прошептал Клод. – Небось фунтов сто семьдесят весит, не меньше.
– Не дрейфь, – тоже шепотом посоветовал Том. – Начинай. – Голос его звучал уверенно, но он чувствовал, как у него подрагивают кончики пальцев и покалывает под мышками. Эти признаки сомнения и страха были ему знакомы и придавали еще большую остроту предвкушению удовольствия от конечной жестокой победы. – Ну, давай. Не сидеть же нам здесь всю ночь, – сердито прошептал он.
– Как скажешь. Ты командир, – ответил Клод и, подавшись вперед, тронул солдата за плечо: – Извините, сержант. Не будете ли вы так любезны снять ваш головной убор? Мне ничего не видно.
– Я не сержант, – не оборачиваясь и игнорируя просьбу Клода, ответил солдат, продолжая тискать свою девчонку.
С минуту ребята сидели молча. Они так давно отработали в деталях свою провокационную тактику, что не было необходимости подавать друг другу какие-либо знаки. Теперь Том, в свою очередь, грубо похлопал солдата по плечу:
– Мой друг вполне вежливо попросил вас снять берет. Вы мешаете ему смотреть фильм. Если вы не снимете его, мы будем вынуждены позвать администратора.
– Вокруг полно свободных мест. Если твой друг хочет смотреть кино, пусть пересядет, – раздраженно, повернувшись в кресле, ответил солдат. И вернулся к своим двум занятиям – сексу и фильму.
– Заводится, – шепнул Том. – Жми дальше.
Клод снова дотронулся до плеча солдата:
– У меня редкая глазная болезнь. Я вижу только отсюда. Если я пересяду, у меня перед глазами все поплывет, и я не отличу Эррола Флинна от Лоретты Янг.
– Сходи к окулисту, – посоветовал солдат.
Девушка расхохоталась. Смех звучал как бульканье воды. Солдат тоже заржал, довольный своим остроумием.
– Нехорошо смеяться над чужим несчастьем, – возмутился Том.
– Особенно сейчас, когда идет война и вокруг столько героев-инвалидов, – подхватил Клод.
– Какой же вы после этого американец? – В голосе Тома зазвенели нотки оголтелого патриота. – Я вас спрашиваю: какой вы после этого американец?
– А ну валите отсюда, ребята, – обернулась к ним девушка.
– Должен вас предупредить, сэр, вы будете лично отвечать за слова вашей приятельницы, – сказал Том.
– Не обращай на них внимания, Анджела, – высоким тенором сказал солдат.
Некоторое время ребята молчали, потом Том пискливо крикнул, подражая японцу:
– Моряк, сегодня вечером твой умирай! Американский собака, сегодня вечером моя отрежет тебе твоя…
– Попридержи свой паршивый язык, – повернул к нему голову солдат.
– Готов поспорить, он храбрее Эррола Флинна, – не унимался Том. – У него дома целый ящик медалей, но он их не носит из скромности.
Солдат разозлился по-настоящему:
– Заткнетесь вы наконец или нет? Мы пришли смотреть кино.
– А мы – потискаться. – И Том нежно потрепал Клода по щеке. – Верно, секс-бомбочка?
– Обними меня покрепче, дорогой, – театрально простонал Клод. – У меня титьки стоят.
– Я – на небесах, – сказал Том. – Кожа у тебя, как попка младенца.
– Ну хватит! – взорвался солдат и вынул наконец руку из-под блузки девушки. – Убирайтесь отсюда!
Несколько человек в зале обернулись и зашикали.
– Мы заплатили деньги за эти места и никуда не уйдем, – заявил Том.
– Это мы еще посмотрим. Я позову билетера. – Солдат встал. Ростом он был около шести футов.
– Сядь, Сидней. Наплюй на этих сопляков, – сказала девушка.
– Я уже говорил тебе, Сидней, ты лично ответишь за слова своей приятельницы. Предупреждаю в последний раз, – сказал Том.
– Билетер! – на весь зал крикнул солдат, повернувшись лицом к последнему ряду, где под светящимся табло «Выход» одиноко дремал человек в потертой униформе с позументами.
– Ш-ш-ш, – послышалось со всех сторон.
– Вот это настоящий воин! – заметил Клод. – Он уже зовет подкрепление.
– Садись же, Сидней. – И девушка дернула солдата за рукав. – Они просто валяют дурака и тебя заводят.
– Застегни блузку, Анджела, – сказал Том. – Титьки торчат. – И встал на случай, если солдат ударит первым.
– Сядь, пожалуйста, – вежливо попросил его Клод, увидев, что билетер идет к ним по проходу, – сейчас в картине самое интересное, и я не хочу пропустить.
– Что здесь происходит? – подойдя к ним, спросил билетер, человек лет сорока с усталым, изможденным лицом. Днем он работал на мебельной фабрике, а вечерами в «Казино».
– Выведите их отсюда, – потребовал солдат. – Они ругаются в присутствии женщины.
– Я только попросил его снять берет, верно ведь, Том? – сказал Клод.
– Совершенно верно, – подтвердил тот. – Обыкновенная вежливая просьба. У него редкая глазная болезнь.
– Чего-чего? – озадаченно переспросил билетер.
– Если вы сейчас же не выведете их отсюда, будут неприятности, – пригрозил солдат.
– А почему бы вам, ребята, не пересесть на другое место? – спросил билетер.
– Он же объяснил, – сказал Клод. – У меня редкая глазная болезнь.
– И у нас свободная страна, – заявил Том. – Платишь деньги и садишься где хочешь. Он думает, он кто? Адольф Гитлер? Тоже мне шишка! Напялил военную форму и задается! Держу пари, ни одного японца и в глаза не видел – сидел в Канзас-Сити, что в Миссури. А теперь приперся сюда и подает плохой пример американской молодежи – у всех на виду тискает девушку. А еще в форме!
– Если вы сейчас же этих типов не выведете, я их измордую, – глухо произнес солдат, сжимая кулаки.
– Ты оскорбил человека, я слышал собственными ушами, – сказал билетер Тому. – В нашем кинотеатре это не пройдет. Убирайся!
Теперь уже возмущался почти весь зал. Билетер нагнулся и схватил Тома за рукав. Почувствовав его сильную руку, Том понял: с этим типом связываться не стоит. Он встал.
– Идем, Клод. – И, обращаясь к билетеру, добавил: – Хорошо, мистер, мы уйдем. Мы не хотим скандала. Но вначале верните нам деньги за билеты.
– И не надейтесь.
– Я знаю свои права, – снова усаживаясь на место, заявил Том и, заглушая пушечную стрельбу на экране, звонко крикнул на весь зал: – Ну давай, бей меня, скотина!
– Ладно-ладно, – вздохнул билетер, – отдам я вам ваши деньги, только катитесь отсюда поскорее.
Ребята поднялись. Том с улыбкой посмотрел на солдата:
– Я тебя предупреждал. Буду ждать на улице.
– Иди скажи своей мамочке, пусть сменит тебе пеленки, – ответил солдат, с маху опускаясь в кресло.
В фойе билетер из собственного кармана выдал каждому по тридцать пять центов и взял с ребят расписки, чтобы потом предъявить их владельцу кинотеатра. Том подписался фамилией учителя алгебры, а Клод – фамилией президента банка, с которым имел дело его отец.
– И чтобы я вас больше здесь не видел! – пригрозил билетер.
– Это общественное место, – сказал Клод. – Только попробуйте не пустить! Будете отвечать перед моим отцом.
– А кто твой отец? – с беспокойством спросил билетер.
– Придет время – узнаете, – угрожающе ответил Клод.
Ребята, торжествуя, вышли из фойе. На улице они хлопнули друг друга по спине и разразились громким хохотом. До конца картины оставалось полчаса. Они зашли в соседнюю закусочную и на деньги, полученные от билетера, заказали по куску пирога и по чашке кофе. Радио за стойкой вещало об успехах американской армии в Германии и о том, что верховное немецкое командование, вероятно, решит отвести войска к Альпам, чтобы стоять там насмерть.
Том слушал, недовольно скривив по-детски круглое лицо. Он ничего не имел против войны как таковой, но его тошнило от всех этих идиотских разглагольствований о самопожертвовании, идеалах и «наших храбрых ребятах». Его в армию им никогда не заманить.
– Эй, красотка, – окликнул он официантку, сидевшую за стойкой и полировавшую ногти, – вы не могли бы завести какую-нибудь музычку? – Он был по горло сыт патриотизмом, которым его пичкали дома Рудольф и Гретхен.
– Разве вас не интересует, кто победит в нашей войне? – томно взглянув на ребят, спросила официантка.
– А у нас белые билеты. Редкая глазная болезнь, – ответил Том, и они с Клодом снова громко захохотали.
* * *
Сеанс окончился, они стояли в ожидании у дверей кинотеатра. Зрители начали выходить. Том сохранял самообладание и стоял совершенно неподвижно, надеясь, что солдат не ушел, не досмотрев фильма. Он отдал Клоду ручные часы – боялся их разбить. Клод с потным и побледневшим от возбуждения лицом нервно расхаживал по тротуару.
– Ты уверен? Ты абсолютно уверен? – то и дело спрашивал он Тома. – Уж слишком этот гад здоровенный. Я хочу, чтобы ты был абсолютно в себе уверен.
– За меня не беспокойся, – сказал Том. – Главное – держи толпу на расстоянии. Мне нужно место, чтобы развернуться. – И, прищурившись, добавил: – А вот и он.
Солдат и девушка вышли на улицу. Солдату на вид было года двадцать два – двадцать три. Лицо рыхлое, угрюмое. Он был полноват для своих лет, и гимнастерка чуть оттопыривалась на преждевременно появившемся брюшке. Тем не менее он производил впечатление крепкого парня. У него не было нашивок на рукаве и не было орденских ленточек. Он по-хозяйски держал девушку за локоть, выводя ее из толпы.
– Пить охота, – сказал он своей подружке. – Выпьем по паре пивка?
Том загородил ему дорогу.
– Это опять ты, – раздраженно буркнул солдат. На секунду он остановился, затем, толкнув Тома грудью, двинулся дальше.
– А ты не толкайся, – хватая его за рукав, сказал Том. – Все равно не уйдешь.
Солдат в изумлении замер и смерил его взглядом. Том был по меньшей мере дюйма на три ниже его, этакий белокурый ангелочек в старом синем свитере и кедах.
– А ты, как я вижу, бойкий малыш, – заметил солдат. – Ладно, не путайся под ногами. – И он отстранил его рукой.
– Кто ты такой, чтобы толкаться, Сидней? – Том резко ткнул его ладонью в грудь.
Вокруг начал собираться народ. Солдат покраснел от злости:
– Убери руки, мальчик, а то я сделаю тебе больно…
– Чего это ты, сосунок? – удивилась девушка. Перед выходом из кинотеатра она успела снова накрасить губы, но на подбородке оставались размазанные поцелуями следы помады. То, что они привлекли внимание стольких людей, было ей неприятно. – Если ты решил пошутить, то это вовсе не смешно.
– Это не шутка, Анджела, – пригрозил Том.
– Прекрати, Анджела, – сказал солдат.
– Я требую, чтобы твой самец извинился, – настаивал Том.
– По крайней мере, – вставил Клод.
– Извинился? За что? – недоуменно спросил солдат, обращаясь к группе любопытствующих вокруг них. – Эти парни, наверное, с приветом.
– Либо ты извинишься за то, как твоя девушка разговаривала с нами в кино, либо пеняй на себя, – твердо сказал Том.
– Пошли, Анджела, мы же хотели выпить пива. – Солдат повернулся, чтобы уйти, но Том вцепился ему в рукав и с силой дернул его на себя. Послышался треск лопнувшей по шву ткани. Солдат поглядел через плечо на дыру. – Эй, маленький мерзавец, ты же порвал мне форму.
– Я сказал, что никуда ты не пойдешь. – И Том как бы отступил, распластав руки и раздвинув пальцы.
– Я никому не позволю рвать мою форму, – сказал солдат. – Никому, кто бы он ни был. – И размахнулся.
Том сделал шаг вперед, и удар пришелся ему в левое плечо.
– О-о, – громко застонал он, схватившись за плечо и согнувшись пополам, как будто от невыносимой боли.
– Вы видели? – повернулся Клод к толпе. – Вы видели, как этот солдат ударил моего друга?
– Послушай, парень, – обратился к солдату седой мужчина в плаще. – Не смей его бить, он же совсем ребенок.
– Да я его просто легонько шлепнул, – начал виновато оправдываться солдат. – Он пристает ко мне уже целую вечность…
Том неожиданно выпрямился и снизу ударил солдата кулаком в челюсть, но не слишком сильно, чтобы не отбить у него охоту к драке. Теперь солдата уже ничто не могло остановить.
– Хорошо, малыш, ты сам напросился.
И он двинулся на Тома. Тот подался назад. Вместе с ним отступила толпа.
– Посторонитесь, – тоном рефери потребовал Клод. – Дайте людям место.
– Сидней, – пронзительно завизжала девушка, – ты убьешь его!
– Не волнуйся. Я его чуть-чуть отшлепаю, – ответил солдат. – Научу уму-разуму.
Том извернулся и левой рукой нанес солдату короткий удар по голове, а правой с силой саданул в живот. Солдат охнул, а Том отскочил назад.
– Возмутительно, – заметила какая-то женщина. – Здоровый мужик, а связался с ребенком. Нужно немедленно прекратить это безобразие.
– Ничего страшного, – сказал ее муж. – Он пообещал, что шлепнет его пару раз, и все.
Солдат медленно замахнулся правой рукой. Но Том поднырнул под нее и кулаками ударил в мягкий живот. От боли солдат согнулся, и Том тотчас обхватил его лицо своими руками. Сплевывая кровь и вяло размахивая руками, солдат попытался выйти из клинча. Том снисходительно разрешил ему обхватить себя, но тут же свободным правым кулаком прицельно ударил по почкам. Солдат пошатнулся, медленно опускаясь на колени, и сквозь заливавшую глаза кровь невидящим взглядом уставился на Тома. Анджела заплакала. Толпа молчала. Том отступил назад. Он даже не запыхался, только на щеках под нежным светлым пушком проступил легкий румянец.
– Боже мой, – прошептала женщина, та самая, что недавно призывала прекратить это безобразие, – а ведь по виду совсем дитя.
– Ну, собираешься вставать? – спросил Том солдата.
Тот посмотрел на него и устало потряс головой, сбрасывая капли крови с ресниц. Анджела опустилась возле него на колени и стала промокать платком раны. Драка заняла не более тридцати секунд.
– Концерт окончен, – объявил Клод, вытирая пот с лица.
Том широкими шагами прошел сквозь расступившуюся перед ним толпу. Люди подавленно молчали, словно пытаясь найти в себе силы забыть противоестественное жестокое зрелище, которое они только что видели.
Клод догнал Тома на углу.
– Здорово! Вот это здорово! – восхищенно выдохнул тот. – Лихо ты сегодня поработал. А комбинации! Ну и комбинации!
– «Сидней, ты убьешь его», – подражая девушке, пропищал Том и фыркнул от удовольствия. Как ему было хорошо. Он прикрыл глаза и вспомнил, как его кулаки прорывали кожу, ударялись о кости и о медные пуговицы гимнастерки. – Все вышло о’кей, – сказал он сам себе. – Жаль, что слишком быстро он скис. Мне следовало подразнить его подольше. А так – просто куча дерьма. В следующий раз давай выберем кого-нибудь, кто по-настоящему умеет драться.
– Лихо, – с восторгом повторил Клод. – До чего же мне понравилось! Вот бы поглядеть на его морду завтра. Когда ты собираешься это повторить?
– Когда будет настроение, – пожал плечами Том. – Ну пока! До завтра.
Тому захотелось побыть одному и мысленно снова пережить каждый свой удар в этой драке. Клод привык к неожиданным сменам настроения друга и относился к ним с уважением: за талант и силу прощается многое.
– Ладно, пока. Завтра увидимся, – сказал он.
Томас помахал ему на прощание и свернул за угол. До дома было далеко. Когда у него появлялось желание подраться, ему приходилось из осторожности ходить в другую часть города: в своем районе его уже все хорошо знали и старались с ним не связываться.
Он стремительно шагал по темным улицам, иногда пускаясь в пляс вокруг редких фонарей. Вот он им и показал! Показал! Он еще не то покажет. Всем!
Выйдя на Вандерхоф-стрит, он вдруг увидел сестру, приближавшуюся к дому с другого конца улицы. Гретхен явно спешила: шла, опустив голову, и не заметила его. Том забежал в подъезд на противоположной стороне улицы и притаился. Ему не хотелось с ней разговаривать. С тех пор как ему исполнилось восемь лет, она ни разу не сказала ему ничего приятного. Гретхен довольно нервно подошла к двери рядом с витриной булочной и достала из сумочки ключ. Пожалуй, стоит разок выследить ее и узнать, чем она на самом деле занимается по вечерам.
Выждав, пока сестра поднимется к себе в комнату, Том перешел улицу и остановился у старого, ветхого от времени здания. Родной дом. Он здесь родился. Неожиданно, раньше времени, поэтому не успели отвезти мать в больницу. Сколько раз он слышал эту историю. Что с того, что он родился дома. Королева ведь тоже не покидает своего дворца. И принц впервые видит свет дня в королевской спальне. А у их дома нежилой вид, словно его вот-вот снесут. Том сплюнул. Вся его веселость тут же пропала. В подвале, как всегда, горел свет: отец работал. Лицо Тома стало жестким. Всю жизнь в подвале. «Что они знают? Ничего!» – пронеслось у него в голове.
Осторожно ступая по старой скрипящей лестнице, Том тихо поднялся на третий этаж, в комнату, которую делил с Рудольфом. Он перестал бы уважать себя, если бы шумом выдал свое возвращение. Когда он уходит и когда приходит – это никого не касается. Особенно в такую ночь, как эта. Рукав его свитера весь пропитался кровью, и ему не хотелось, чтобы кто-нибудь из родных обнаружил это и начал качать права.
Войдя в комнату, он осторожно прикрыл за собой дверь и услышал, как ровно дышит спящий крепким сном брат. Славный, правильный Рудольф, настоящий джентльмен, пахнущий зубной пастой, лучший ученик в классе. Всеобщий любимчик. Он никогда не возвращался домой перепачканный кровью и вовремя ложился, чтобы, хорошо выспавшись, на следующий день вежливо сказать в школе: «Доброе утро, мэм», и не пропустить урока тригонометрии. Не зажигая света, Том разделся, небрежно бросив одежду на спинку стула. Ему не хотелось отвечать на расспросы брата. Рудольф не был его союзником. Они стояли по разные стороны баррикад. Ну и наплевать!
Однако когда он лег в общую двуспальную кровать, Рудольф проснулся.
– Где ты был? – спросил он сонно.
– В кино.
– Ну и как?
– Ерунда.
Братья лежали в темноте и молчали. Рудольф отодвинулся подальше от Тома. Он считал унизительным спать с братом в одной кровати. В комнате было прохладно, дул ветер с реки – Рудольф всегда на ночь открывал окно настежь. Уж кто-кто, а Рудольф обязательно делает все как положено. И спал он как положено – в пижаме. А Том – в трусах. По этому поводу у них раза два в неделю происходили споры.
Рудольф принюхивался:
– Господи, от тебя пахнет, как от лесной зверюги. Что ты делал?
– Ничего, – ответил Том. – Не моя вина, если от меня так пахнет.
«Не будь ты братом, – подумал он, – я бы живого места на тебе не оставил».
Были бы у него деньги, он пошел бы к Элис за железнодорожной станцией. Там за пять долларов он расстался с невинностью и потом несколько раз возвращался туда. Это было летом. Он подрядился работать на реке, на землечерпалке, и сказал отцу, что получает на десятку меньше, чем на самом деле. Эта тучная черномазая баба, Флоренс из Виргинии, позволяла ему приходить дважды за пять долларов, потому что ему всего четырнадцать. Она была бы неплохой концовкой вечера. Он и Рудольфу ничего не говорил про заведение Элис. Рудольф был все еще девственником, это уж точно. То ли занятие сексом было ниже его достоинства, то ли он ждал появления в его жизни звезды, то ли был педиком. Но когда-нибудь он, Том, расскажет все Рудольфу и посмотрит на его лицо. Зверюга?! Ну что ж, раз они так о нем думают, он и будет зверюгой.
Том закрыл глаза и попытался припомнить, как солдат стоит на одном колене, а по лицу его течет кровь. Он видел эту картину совершенно отчетливо, но удовольствия уже не испытывал.
Его начала бить дрожь. В комнате было холодно, но дрожал он вовсе не поэтому.
V
Гретхен сидела перед маленьким зеркалом, которое, прислонив к стене, поставила на туалетный столик. На самом деле это был просто старый кухонный стол, она купила его на распродаже за два доллара и перекрасила в розовый цвет. Баночки с кремом, щетка для волос с серебряной ручкой, подаренная ей в день восемнадцатилетия, три флакончика с духами и маникюрный набор были аккуратно расставлены на чистом полотенце, постеленном вместо салфетки. На Гретхен был старый халат. Хотя фланель уже износилась, она все еще грела кожу и создавала ощущение уюта, какое Гретхен испытывала девочкой, когда возвращалась домой с холода и надевала халат перед тем, как лечь в постель. А сегодня ей так хотелось вернуть это чувство.
Она стерла бумажной салфеткой крем с лица. От матери Гретхен унаследовала очень белую кожу и синие, с сиреневым отливом, глаза, а от отца – черные прямые волосы. Гретхен была красива. «Я в твоем возрасте была тоже красавицей», – часто повторяла мать, убеждая Гретхен следить за собой, чтобы не увянуть раньше времени, как она. Вместе с браком, говорила мать, наступает увядание. Прикосновение мужчины приносит порчу. Мать не читала ей нотаций о том, как вести себя с мужчинами: она верила в ее добродетель (это слово мать тоже любила повторять), но все же, пользуясь своим влиянием, заставляла носить просторные платья, скрывавшие фигуру. «Зачем напрашиваться на неприятности? Они сами не заставят себя ждать. Фигура у тебя пышная, старомодная, а беды будут сегодняшние», – утверждала она.
Однажды мать призналась Гретхен, что в юности хотела стать монахиней. Для этого надо было отказаться от многих чувств, что не нравилось Гретхен. У монахинь ведь не бывает дочерей. А она существует, ей девятнадцать лет, и она сидит перед зеркалом мартовской ночью в середине века благодаря тому, что маме не удалось последовать своей мечте. «После того, что случилось сегодня, я и сама бы, пожалуй, ушла в монастырь, – с горечью подумала Гретхен. – Если бы верила в Бога».
Сегодня, как обычно, сразу после работы, она поехала в госпиталь для солдат, выздоравливающих от ран, полученных в Европе. Там Гретхен добровольно дежурила пять вечеров в неделю: разносила раненым книги и журналы, читала письма тем, у кого повреждены глаза, и писала за тех, у кого ранение в руку. Работала бесплатно, но зато чувствовала, что приносит хоть какую-то пользу. Честно говоря, ей даже нравились эти дежурства. Раненые были послушными и благодарными, совсем как дети. В госпитале она была избавлена от похотливых мужских взглядов и назойливых домогательств, которые ей приходилось терпеть в течение дня на службе. Конечно, многие сестры и сиделки вовсю крутили любовь с докторами и легко раненными офицерами, но Гретхен с самого начала дала всем понять, что она не из таких. А девушек, готовых на все, было столько, что лишь немногие мужчины могли устоять. Гретхен же, чтобы раз и навсегда оградить себя от приставаний, вызвалась дежурить в переполненных палатах для рядовых, где практически невозможно было остаться с кем-либо наедине более чем на несколько секунд. Вообще с мужчинами она была приветливой и разговорчивой, но даже мысли не допускала о какой-то вольности с их стороны. Впрочем, иногда на вечеринках или в машине по дороге домой после танцев она позволяла поцеловать себя, но неловкие ласки парней не вызывали в ней никаких эмоций, более того, казались ей бессмысленными, негигиеничными и даже смешными.
В школе никто из ребят не интересовал ее, и она презирала девчонок, сходивших с ума по футболистам и парням с собственной машиной. Все это представлялось ей глупостью. Единственный мужчина, о котором она иногда думала как о возможном любовнике, был мистер Поллак, учитель английского языка, пожилой человек лет пятидесяти с взъерошенными седыми волосами, читавший в классе Шекспира тихим, проникновенным голосом. Его она еще как-то представляла себе в роли возлюбленного, ласкающего ее нежно и печально. Но он был женат и имел двух дочерей ее возраста, к тому же никогда не помнил, как кого зовут. А мечты… Она забыла о мечтах.
Однако Гретхен не сомневалась: рано или поздно с ней должно произойти что-то необыкновенное и захватывающее – пусть не в этом году и не в этом городе, но обязательно произойдет.
Обходя палату в свободном сером халате, который выдавали в госпитале, Гретхен старалась по-матерински относиться к этим вежливым безгласным страдальцам, не пожалевшим себя ради родины.
В палатах тускло горели ночники. По распорядку раненые уже легли спать. Как всегда, прежде чем уйти, Гретхен попрощалась с Тэлботом Хьюзом. Его ранило в горло, и он не мог говорить. Тэлбот был самым молодым в палате, и Гретхен жалела его больше всех. Ей хотелось верить, что ее прикосновение, ее улыбка и пожелание спокойной ночи скрашивают ему долгие бессонные часы до рассвета. Выйдя из палаты и что-то мурлыча себе под нос, она начала наводить порядок в общей комнате, где обычно раненые читали, писали письма, играли в карты, в шашки и слушали пластинки. Она аккуратно сложила журналы в центре стола, убрала фигуры с шахматной доски и положила их в коробку, бросила две пустые бутылки из-под кока-колы в мусорную корзинку.
Она любила эти последние минуты в конце дежурства, когда сотни молодых людей спали вокруг нее, – молодые люди, избегнувшие смерти, покончившие с войной, выздоравливающие, оставившие позади страх и ужас, с каждым днем приближаясь к миру и к дому.
Прожив всю жизнь в тесноте, здесь, в этой просторной бледно-зеленой комнате с удобными мягкими креслами, Гретхен чувствовала себя хозяйкой элегантного дома, наводящей порядок после успешно прошедшего званого вечера. Закончив уборку, она, напевая, собралась гасить свет и идти переодеваться, как вдруг в комнату, прихрамывая, вошел высокий негр в темно-бордовом халате, надетом поверх пижамы.
– Добрый вечер, мисс Джордах, – сказал он. Его звали Арнольд. Он находился в госпитале уже давно, и Гретхен хорошо его знала. В отделении, где она работала, было всего два негра. Обычно они держались вместе, и сегодня она впервые увидела Арнольда без приятеля. Гретхен относилась к раненым неграм особенно внимательно. Арнольда ранило во Франции. Осколком снаряда, попавшего в грузовик, который он вел, молодому негру раздробило ногу. Арнольд родился в Сент-Луисе, там же окончил среднюю школу. У него было одиннадцать братьев и сестер.
В госпитале в свободное от лечения время он читал, при этом в очках, и читал все, что попадалось под руку. Он выглядел книгочеем, этаким студентом из какой-нибудь африканской страны в очках армейского образца. Иногда Гретхен приносила ему книги свои или брата Рудольфа, а иногда – из городской библиотеки. Арнольд быстро их читал и добросовестно возвращал в хорошем состоянии, но никогда не обсуждал прочитанное. Гретхен считала, что он молчит от стеснительности, не желая изображать из себя интеллектуала перед другими ранеными. Гретхен сама много читала, и последние два года на ее литературные вкусы большое влияние оказало увлечение мистера Поллака католицизмом. Арнольду же на протяжении этих месяцев она приносила такие разные произведения, как «Тэсс из рода д’Эбервиллей», стихи Эдны Сент-Винсент Миллей и Руперта Брука, а также «По эту сторону рая» Скотта Фицджеральда.
– Добрый вечер, Арнольд, – приветливо улыбнулась она. – Что-нибудь нужно?
– Нет, просто не могу заснуть. Увидел здесь свет и решил: пойду-ка поболтаю с нашей хорошенькой крошкой мисс Джордах. – Он улыбнулся, сверкнув прекрасными белыми зубами. В отличие от других Арнольд всегда называл ее по фамилии, а не по имени. Выражался он простецки, по-деревенски, словно его семья все еще несла на себе печать алабамской фермы, хоть и перебралась на север. Он был очень черным и очень худым – халат висел на нем как на вешалке. Гретхен знала, что ему сделали не то две, не то три операции, чтобы спасти ногу, и ей казалось, она видит вокруг его губ страдальческие складки.
– А я как раз собралась выключить свет, – заметила она. Следующий автобус отправлялся в город через пятнадцать минут, и ей хотелось успеть на него.
Оттолкнувшись здоровой ногой, Арнольд подпрыгнул и сел на стол.
– Вы даже не представляете себе, какое удовольствие может испытывать человек, просто опустив глаза вниз и увидев, что у него две ноги. Вы идите, мисс Джордах. Вас, наверное, ждет какой-нибудь симпатичный молодой парень, и я не хочу, чтобы он расстроился, если вы опоздаете.
– Меня никто не ждет, и я не спешу, – ответила Гретхен. Ей стало стыдно, что она хотела поскорее отделаться от него ради того, чтобы успеть на автобус. Ведь будет и другой. – Я не спешу.
Арнольд достал из кармана пачку сигарет и предложил ей. Гретхен отрицательно покачала головой:
– Спасибо, я не курю.
Он закурил, щурясь от дыма. Все его движения были уверенными и неторопливыми. Он рассказывал ей, что до призыва в армию играл в школьной футбольной команде в Сент-Луисе, и даже сейчас в раненом солдате чувствовалась спортивная собранность.
– Почему бы вам не присесть, мисс Джордах, – предложил он, похлопав рукой по столу рядом с собой. – Вы, должно быть, очень устали – весь вечер на ногах.
– Пустяки, – ответила Гретхен. – Я целый день сижу в конторе. – Но все же села рядом с ним, чтобы показать, что она не спешит.
– У вас красивые ноги, – заметил Арнольд.
Гретхен скользнула взглядом по своим ногам и задержалась на скромных коричневых туфлях на низком каблуке.
– Вроде ничего, – согласилась она. Ей самой нравились ее ноги – стройные, не слишком худые, с изящной щиколоткой.
– Армия научила меня разбираться в ногах, – сказал Арнольд таким тоном, каким другой сказал бы: «В армии я научился чинить радиоприемники» или «В армии я узнал, как обращаться с картами». В его голосе не прозвучало и намека на жалость к себе, и Гретхен прониклась еще большим состраданием к этому сдержанному, тихому парню.
– Все будет у вас в порядке, – постаралась она утешить его. – Говорят, врачи сделали с вашей ногой чудеса.
– Еще бы, – хмыкнул он. – Только вряд ли старина Арнольд далеко уковыляет, выйдя отсюда.
– Сколько вам лет, Арнольд?
– Двадцать два. А вам?
– Девятнадцать.
– У нас обоих хороший возраст, – улыбнулся он.
– Да, если бы не война.
– О, я не жалуюсь. – Он затянулся. – Благодаря войне я вырвался из Сент-Луиса, война сделала из меня мужчину. – В его голосе слышалась ирония. – Теперь я уже не глупый юнец, знаю правила взрослой игры. К тому же повидал новые места и познакомился с интересными людьми. Вы когда-нибудь бывали в Корнуолле? Это в Англии.
– Нет, не была.
– Кстати, Джордах – это американская фамилия?
– Нет, немецкая. Мой отец перебрался в Штаты из Германии. Во время Первой мировой войны он служил в немецкой армии и тоже получил ранение в ногу.
– Люди переезжают туда-сюда, верно? – усмехнулся Арнольд. – Ну и что же, ваш отец нынче бегает вовсю?
– Он прихрамывает, но это не очень ему мешает, – осторожно ответила Гретхен.
– Да-а… Корнуолл… – Арнольд задумчиво покачивался, сидя на столе. Похоже, ему надоел разговор о войне и ранениях. – У них там деревья, маленькие старинные городки, Сент-Луис по сравнению с ними кажется построенным только вчера. Большие широкие пляжи. М-да. М-да, Англия. Люди такие славные. Гостеприимные. По воскресеньям приглашают к себе домой на ужин. Это очень меня удивило. Я всегда считал англичан зазнайками. В общем, так все считали, кого я мальчишкой знал в Сент-Луисе.
Гретхен решила, что он над ней слегка издевается, неся такую чепуху почти официальным тоном.
– Людям надо побольше узнавать друг о друге, – сухо произнесла она, огорчаясь, что это прозвучало чересчур нравоучительно, но его мягкий неспешный деревенский говор заставил ее занять оборонительную позицию.
– Конечно, надо, – согласился он. – Наверняка надо. – Он оперся на руки и повернулся к ней лицом. – А что мне надо узнать про вас, мисс Джордах?
– Про меня? – От удивления она даже хихикнула. – Ничего. Я секретарша из маленького городка, которая никогда нигде не была и никогда никуда не поедет.
– Вот с этим я несогласный, мисс Джордах, – вполне серьезно сказал Арнольд. – Совсем несогласный. Если я когда и видел девушку, которую обязательно ждет прекрасное будущее, так это вы. Девушка вы аккуратная, умеете себя держать. Да половина ребят в этом здании тут же предложила бы вам обвенчаться, подай вы только знак.
– Я еще ни за кого не собираюсь выходить замуж, – сказала Гретхен.
– Конечно, нет. – Арнольд с умным видом кивнул. – Такой девушке нет никакого смысла спешить замуж, чтобы запереть себя дома. При том, какой перед вами выбор. – Он затушил сигарету в стоявшей на столе пепельнице, потом машинально вытянул другую из пачки в кармане халата, но не стал ее закуривать. – Я познакомился в Корнуолле с одной молодой женщиной, и мы провели с ней вместе целых три месяца. Симпатичное, веселое и нежное создание, о таком мужчина может только мечтать. Она была замужем, но это ничего не меняло: ее муж с тридцать девятого года находился где-то в Африке, и, по-моему, она даже забыла, как он выглядит. Мы ходили с ней в бары, а когда я по воскресеньям получал увольнительную, она готовила мне дома ужин, а потом мы занимались любовью и были счастливы, как Адам и Ева в раю. – Он задумчиво уставился в белый потолок большой пустой комнаты. – В Корнуолле я впервые почувствовал себя человеком, – сказал он. – О да, армия сделала человека из Арнольда Симмса, жителя Сент-Луиса. Печальный это был день, когда в город пришел приказ ехать сражаться с врагом. – Он замолчал, вероятно, вспомнил старый городок на берегу моря, деревья в кадках и веселую, симпатичную, нежную женщину, забывшую про мужа в Африке.
Гретхен тоже молчала. Она всегда испытывала неловкость, когда в ее присутствии говорили об интимных вещах. Ее смущало то, что она девственница, что она сама так решила, смущала также и собственная стыдливость, неспособность даже в разговорах воспринимать секс как нечто само собой разумеющееся, а именно так воспринимали его знакомые ей девушки. Пытаясь объективно разобраться в себе, она догадывалась, что в ее скованности главным образом повинны отношения между родителями: их спальню отделял от ее комнаты только узкий коридор. Не раз в пять часов утра ее будили шаги отца, возвращавшегося из пекарни, затем слышался его хриплый, пропитой голос и жалобные протесты матери. Потом начиналась борьба, а наутро лицо матери являло собой страдальческую маску мученицы.
А сегодня Гретхен впервые говорила об интимных вещах наедине с мужчиной и тем самым против собственной воли как бы становилась свидетельницей того, что ей хотелось бы изгнать из своих мыслей. Адам и Ева в раю. Два тела – белое и черное. Она старалась не думать об этом, но ничего не могла с собой поделать. И в откровенности парня было что-то многозначительное, намеренное: то были не просто полные тоски воспоминания солдата, вернувшегося с войны на родину, – его вкрадчивый голос скрывал какую-то цель. И почему-то Гретхен знала, что эта цель – она сама. Ей захотелось спрятаться, убежать.
– После ранения, – продолжал Арнольд, – я написал ей письмо, но ответа не получил. Кто знает, может, вернулся домой ее муж. С тех пор я не был близок ни с одной женщиной. Меня ранило в самом начале войны, и с того времени я не выходил из госпиталя. Впервые мне разрешили выйти в город в прошлую субботу. Мы с Билли получили увольнительную на весь день. – Билли был вторым негром в отделении. – Но в здешних местах двум неграм нечего делать. Это, я вам скажу, не Корнуолл. – Он рассмеялся. – Угораздило же меня попасть сюда! Это, наверное, единственный в Штатах госпиталь, размещенный в городе, где нет ни одного цветного. Мы выпили по банке пива на рынке и сели на автобус до речной пристани: кто-то сказал – там, мол, живет какая-то негритянская семья. Оказалось, никакая это не семья, а просто старый негр из Южной Каролины. Живет он совсем один в старом доме на берегу реки. Мы угостили его пивом, наплели про нашу военную доблесть и пообещали в следующее увольнение приехать снова, на рыбалку. Ха, рыбалка!
– Я уверена, – сказала Гретхен, взглянув на часы, – что, когда вас выпишут из госпиталя и вы вернетесь домой, вам обязательно встретится красивая девушка и вы снова будете счастливы. – Ее слова прозвучали натянуто, неискренне и фальшиво, и ей стало стыдно, но она понимала, что ей надо уйти из этой комнаты. – Уже очень поздно, Арнольд, – сказала она. – Я с удовольствием с вами поболтала, но теперь, боюсь… – Она хотела спрыгнуть со стола, но он остановил ее, небольно, но твердо взяв за локоть.
– Еще не так поздно, мисс Джордах. Откровенно говоря, я давно ждал случая побыть с вами наедине.
– Я опаздываю на автобус, Арнольд, я…
– Мы с Уилсоном много говорили о вас, – перебил он, не выпуская ее локтя. – И решили на следующую субботу пригласить вас провести с нами день.
– Это очень мило с вашей стороны, но по субботам я ужасно занята. – Гретхен стоило огромных усилий говорить обычным голосом.
– Мы понимаем, в этом городе девушке не стоит показываться в компании двух цветных парней, – продолжал Арнольд ровным тоном, не угрожая, но и не подлизываясь. – Здесь к этому не привыкли. Тем более мы простые солдаты…
– Дело вовсе не в этом…
– Вы сядете на автобус в двенадцать тридцать и доедете до пристани. Мы приедем туда раньше, дадим старику пять долларов на бутылку и отправим его в кино, а сами приготовим отличный обед для нас троих. С остановки автобуса сворачиваете налево и проходите с четверть мили вдоль реки, там только этот дом и есть, он стоит на самом берегу. Вокруг ни души, никто нос совать не будет. Прекрасно проведем время.
– Ну, мне пора домой, Арнольд, – громко сказала Гретхен. Она знала, что стыд не позволит ей закричать и позвать на помощь, но ей хотелось убедить Арнольда, что она способна на это.
– Вкусный обед, хорошее вино, – с улыбкой нашептывал Арнольд, продолжая держать ее за локоть. – Слишком долго мы постились, мисс Джордах.
– Я сейчас закричу, – с трудом выдавила из себя Гретхен. Как он смеет?! Только что был такой вежливый, дружелюбный, и вдруг… Она презирала себя за то, что так плохо знает людей.
– Мы с Уилсоном очень высокого мнения о вас, мисс Джордах, – продолжал он. – С тех пор как я вас увидел, ни о ком другом уже и думать не могу. То же самое и Уилсон говорит.
– Вы оба сошли с ума. Да если я пожалуюсь полковнику, вас… – Гретхен хотелось выдернуть руку, но она боялась: вдруг кто войдет и увидит, как они возятся. Объяснение будет не из приятных.
– Как я сказал, мы очень высокого мнения о вас, мисс Джордах, – повторил Арнольд, – и готовы заплатить за это. У нас с Уилсоном скопилась приличная сумма: пока мы были на фронте, нам капало армейское жалованье, а кроме того, мне очень везло в игре в кости здесь, в госпитале. Восемьсот долларов! Подумайте, мисс Джордах. Восемьсот долларов за несколько часов, проведенных с нами на берегу реки. – Он отпустил ее руку, лихо соскочил со стола на здоровую ногу и, прихрамывая, двинулся к двери. У порога он остановился, обернулся и вежливо добавил: – Не обязательно давать ответ прямо сейчас, мисс Джордах. Подумайте о нашем предложении. До субботы еще целых два дня. Мы будем на пристани с одиннадцати утра до самого вечера. Можете приезжать в любое время, когда освободитесь. Мы вас ждем. – Расправив плечи и стараясь не держаться за стену, он заковылял к себе в палату.
Несколько минут Гретхен сидела неподвижно. До нее доносилось лишь гудение какой-то машины в подвале – этого звука она прежде никогда не слышала. Она потрогала свой голый локоть, который держала рука Арнольда. Затем слезла со стола, подошла к выключателю и погасила свет на случай, если кто-нибудь вдруг войдет – ей не хотелось, чтобы сейчас видели ее лицо. Немного постояла, прислонившись к стене и прижав ладони ко рту, потом быстро прошла в раздевалку, переоделась и почти бегом понеслась к автобусной остановке.
Она сидела у туалетного столика и снимала остатки крема под глазами, где была нежная светлая кожа с прожилками. На столике перед ней стояли баночки и флакончики косметических фирм, какие продают в «Вулворте» – «Хейзел Бишоп» и «Коти». Мы занимались любовью и были счастливы, как Адам и Ева в раю.
Она не должна об этом думать, не должна. Завтра она позвонит полковнику и попросит, чтобы ее перевели в другой блок. Не может она вернуться туда.
Она поднялась и сбросила халат – с минуту она стояла голая в мягком свете лампы на туалетном столике. В зеркале отражалась ее высокая полная грудь, очень белая, с непокорно торчащими сосками. Внизу темный треугольник коварно выступал меж белых пышных бедер. «Что мне со всем этим делать, что мне делать?»
Она надела ночную рубашку, выключила свет и забралась в холодную постель. Она надеялась, что сегодня ночью отец не станет приставать к матери. Это было бы слишком много для одной ночи – такого ей не вынести.
Автобус отходит каждые полчаса в направлении Олбани. В субботу в нем полно будет солдат, получивших отпускные на конец недели. Целые батальоны молодых людей. Она мысленно увидела, как покупает билет на автобусной станции, как сидит у окошка, глядя на серую реку вдали, как сходит на остановке у пристани и стоит одна перед заправочной станцией, – она ощущала неровную поверхность гравийной дороги под своими туфлями на высоком каблуке, чувствовала запах своих духов, видела ветхий непокрашенный дощатый дом у реки и двух темнокожих мужчин со стаканами в руке, этих уверенных в себе палачей, которые молча ждут, этих вершителей ее судьбы с деньгами позора в кармане, – ждут, зная, что она придет, следят, как она идет, чтобы удовлетворить свое любопытство и похоть, и знают, чем они будут заниматься.
Она вытащила подушку из-под головы, сунула ее между ног и крепко зажала.
VI
Мать стоит у завешенного тюлем окна в спальне и смотрит на покрытый угольной пылью задний двор булочной. К двум тощим деревцам прибита доска, с которой свисает потертый тяжелый кожаный мешок, набитый песком, вроде тех, какими пользуются для тренировки боксеры. В темном замкнутом пространстве мешок кажется висельником. В другие времена на задних дворах этой же самой улицы росли цветы и меж деревьев висели гамаки. Ее муж и сегодня надевает пару перчаток на шерстяной подкладке, выходит на задний двор и двадцать минут сражается с мешком. Он бьет по нему с неуемной яростью, сосредоточенно, словно сражаясь за свою жизнь. Когда ей случается наблюдать за ним, если Руди подменяет ее в лавке, чтобы она отдохнула, ей кажется, что муж сражается не с кожаным мешком, набитым песком, а наказывает ее.
Она стоит в засаленном зеленом атласном халате у окна. Она курит, не замечая, как пепел сыплется ей на грудь. В приюте она была самой аккуратной и педантичной из воспитанниц, чистой и красивой, точно цветок в хрустальной вазе. Монахини знали, как приучать сирот к порядку и аккуратности. Но теперь она превратилась в неряху, растолстела, не следит ни за фигурой, ни за лицом; целыми днями ходит непричесанная, не заботится о том, как одета. Монахини внушили ей любовь к религии и церковным обрядам, но вот уже почти двадцать лет, как она не ходит в церковь. Когда у нее родилась Гретхен, ее первый ребенок, Мэри договорилась со священником о крестинах, но ее муж Аксель категорически отказался даже близко подойти к купели и впредь не разрешил жертвовать на церковь ни цента. А ведь он по рождению католик.
Трое некрещеных и неверующих детей и богохульник муж, ненавидящий церковь. Это ее тяжкий крест.
Она не знала своих родителей. Приют в Буффало заменил ей и мать, и отца. В приюте же ей дали фамилию – Пэйс. Возможно, это была фамилия матери. Мысленно она всегда называла себя Мэри Пэйс, а не Мэри Джордах или миссис Джордах. Когда она уходила из приюта, настоятельница сказала ей, что, возможно, ее мать – ирландка, но наверняка, конечно, никто этого не знает. Настоятельница наказала ей помнить, что в ее жилах течет кровь падшей женщины, и не поддаваться соблазнам. Ей тогда было всего шестнадцать лет – розовощекая худенькая девушка с великолепными золотистыми волосами. Когда у нее родилась дочь, она хотела назвать девочку Колиной – в память о своем ирландском происхождении. Но Аксель не любил ирландцев и сказал, что девочку будут звать Гретхен. Сказал, что знавал в Гамбурге одну шлюху по имени Гретхен. Со времени их женитьбы прошел всего лишь год, но он уже тогда ненавидел ее.
С Джордахом она познакомилась на озере Буффало в ресторане, где работала официанткой. Ее туда направили из приюта. Ресторан принадлежал мистеру и миссис Мюллер, пожилой паре немецкого происхождения. Приют направил ее к Мюллерам, поскольку они были люди добрые и регулярно ходили в церковь. Мюллеры хорошо к ней относились, поселили ее в комнате над своей квартирой и не разрешали никому из посетителей приставать к ней. Три раза в неделю ее отпускали в вечернюю школу. Она ведь не собиралась всю жизнь работать официанткой.
Аксель Джордах, крупный молчаливый молодой человек, слегка прихрамывавший, эмигрировал из Германии в двадцатом году и служил матросом на озерных судах, а в зимнее время, когда озеро замерзало, подрабатывал у Мюллера поваром и пекарем. В ту пору он почти не говорил по-английски и часто захаживал в ресторан Мюллера, чтобы поговорить на родном языке. Он научился готовить и печь в Первую мировую войну, когда после ранения оказался негодным к строевой службе и его оставили работать поваром в госпитале во Франкфурте.
И вот только потому, что в далекую войну какой-то парень, выйдя из госпиталя, почувствовал себя чужим в родной стране и решил искать счастья в Америке, она сейчас стоит у окна в убогой комнатушке над булочной, где день за днем работает по двенадцать часов в день, постепенно расставаясь с молодостью, красотой и надеждами. И конца такой жизни не видно.
Когда они познакомились, Аксель был вежлив с ней, не позволял никаких вольностей и даже не пытался взять ее за руку. В дни между рейсами он провожал ее в вечернюю школу и обратно домой. Как-то он попросил Мэри поучить его языку. Мэри гордилась своим знанием английского. Когда она говорила, люди считали, что она из Бостона, и это было для нее большим комплиментом. Сестра Катерина, которой Мэри восхищалась больше, чем всеми остальными преподавателями в приюте, была из Бостона и произносила слова отчетливо, правильно, пользуясь словарем образованной женщины. «Говорить на неправильном английском все равно что быть калекой, – утверждала она. – Перед девушкой, которая говорит как дама, открыты все дороги». Мэри старалась подражать сестре Катерине, и когда она уходила из приюта, сестра Катерина дала ей книжку про ирландских героев. «Мэри Пэйс, моей ученице, подающей самые большие надежды» – широким, размашистым почерком написала она на титульном листе. Мэри и писать старалась, как сестра Катерина. Слушая уроки сестры Катерины, она почему-то поверила, что ее отец, кто он ни есть, был джентльменом.
Итак, Мэри Пэйс учила Акселя Джордаха произносить слова с присущим сестре Катерине бостонским акцентом, и он очень быстро научился отлично говорить по-английски. Вокруг удивлялись, узнавая, что он родился и вырос в Германии. Бесспорно, Аксель был умным человеком, но свой интеллект он использовал, чтобы мучить ее, себя и окружавших его людей.
До того как сделать Мэри предложение, он ни разу не поцеловал ее. В то время ей уже было девятнадцать – столько же, сколько сейчас Гретхен, и она все еще была девственницей. Аксель всегда был к ней внимателен, всегда чисто вымыт и тщательно побрит. Возвращаясь из рейсов, неизменно приносил ей маленькие подарки – конфеты, цветы.
Целых два года он ухаживал за ней и лишь на третий сделал предложение.
«Я не решался раньше, боясь отказа: все-таки я иностранец, и к тому же хромой», – объяснил он. Как, должно быть, он смеялся в душе, увидев на ее глазах слезы, вызванные его скромностью и неуверенностью в себе. О, это был настоящий сатана с коварными, далеко идущими замыслами!
Она согласилась выйти за него замуж. Может быть, ей даже казалось, что она любит его. Аксель был довольно привлекательным молодым человеком: черные, как у индейца, волосы, серьезное, умное худое лицо, ясные карие глаза, которые при виде ее, казалось, становились мягкими и заботливыми. Поначалу он прикасался к ней с такой осторожностью, словно она была фарфоровой. Когда она сообщила ему, что «родилась вне закона», Аксель сказал, что давно знает об этом от Мюллеров и это не имеет никакого значения – так даже лучше, потому что с ее стороны некому возражать против их женитьбы. Сам он был отрезан от остатков своей семьи. Отец у него в пятнадцатом году погиб на русском фронте, а мать спустя год вторично вышла замуж и переселилась из Кельна в Берлин. Младший брат, которого Аксель терпеть не мог, женился на богатой американке немецкого происхождения, приехавшей после войны в Берлин навестить родственников. Сейчас брат с женой жили в штате Огайо, но Аксель не поддерживал с ними никаких отношений. В общем, он был таким же одиноким, как и она.
Выходя за него замуж, Мэри поставила определенные условия. Во-первых, он должен бросить свою нынешнюю работу: ей не нужен муж, который большую часть года проводит на пароходе, оставляя ее дома одну, и к тому же матрос – это все равно что чернорабочий. Во-вторых, они должны уехать из Буффало: здесь все знают, что она внебрачный ребенок и воспитывалась в сиротском приюте, а людей, посещавших ресторан, где она служила официанткой, встречаешь вообще на каждом шагу. И последнее условие: они должны венчаться в церкви.
Аксель согласился на все. Сатана, сущий сатана в образе человеческом! У него было накоплено немного денег, и с помощью мистера Мюллера он связался с человеком, продававшим в Порт-Филипе булочную с пекарней. Когда он поехал в Порт-Филип заключать сделку, Мэри заставила его купить соломенную шляпу. Нечего ему ходить в кепке, этом напоминании о Европе. Он должен выглядеть как респектабельный американский бизнесмен.
За две недели до свадьбы Джордах привез невесту осмотреть булочную, в которой ей придется провести всю жизнь, и заодно взглянуть на расположенную этажом выше квартиру, где ей будет суждено зачать троих детей. Свежевыкрашенный магазинчик с огромным зеленым навесом, защищавшим от майского солнца витрину с аккуратно разложенными пирожными и домашним печеньем, стоял на чистенькой, светлой улице в ряду других магазинчиков – бакалеи, магазина скобяных товаров и аптеки на углу. Там был даже шляпный магазин, в витрине которого красовались на подставке шляпы с искусственными цветами. Это была торговая улица в тихом районе, протянувшемся до самой реки. Вокруг большие удобные дома с зелеными лужайками. Они с Акселем сидели на скамейке под деревом на берегу реки и глядели, как по голубой глади скользят яхты. С белого экскурсионного пароходика, курсировавшего между Порт-Филипом и Нью-Йорком, доносились звуки вальса. Правда, из-за хромоты Акселя они никогда не танцевали.
О чем она только не мечтала в тот яркий день на реке! Когда они здесь обоснуются, она отремонтирует булочную, повесит на окна занавески, поставит несколько столиков со свечами и будет подавать посетителям горячий шоколад, чай; со временем они купят соседний магазин – пока он пустовал – и откроют там маленький ресторан, но не для рабочих, как у Мюллеров, а для коммивояжеров и более состоятельной публики. Она уже видела, как ее муж в темном костюме и галстуке-бабочке проводит посетителей к столикам, официантки в накрахмаленных муслиновых фартуках спешат из кухни с тяжелыми подносами, а сама она сидит за кассой и, получая деньги, с улыбкой говорит: «Надеюсь, вам у нас понравилось». А вечером после закрытия ресторана они с мужем проводят время в кругу друзей за кофе с пирожными.
Откуда ей было знать, что этот район так обветшает, что люди, с которыми ей хотелось бы завязать приятельские отношения, будут гнушаться ее обществом, а тех, кто с удовольствием водил бы с ней дружбу, она будет считать ниже себя; что магазин, который она мечтала купить под ресторан, снесут и на его месте построят огромный гараж, и оттуда будет доноситься лязганье металла; что шляпный магазин исчезнет; что большие дома с окнами на реку превратятся в жалкие трущобы и будут снесены, а их место займут свалки и скобяные мастерские.
Где они, столики с горячим шоколадом и пирожными, где свечи и занавески, где официантки? Только она из года в год по двенадцать часов будет простаивать за прилавком, продавая буханки грубого хлеба механикам в засаленных спецовках, неряшливо одетым домохозяйкам и грязным ребятишкам, чьи родители, напившись субботними вечерами, дерутся на улице.
Ее мучения начались с первой брачной ночи. Это произошло во второразрядной гостинице на Ниагарском водопаде (что было удобно для обитателя Буффало). Все радужные надежды застенчивой розовощекой хрупкой девушки, которую всего за восемь часов до этого снимали в подвенечном платье рядом с неулыбчивым красивым женихом, превратились в прах под скрип пружин на испачканной кровью гостиничной кровати. Беспомощно распростертая под тяжелым, грубым, не знавшим усталости смуглым телом, она поняла, что вынесла себе пожизненный приговор.
В конце первой недели медового месяца она написала записку, что кончает жизнь самоубийством. Потом порвала ее. Еще много раз она будет писать и рвать такие записки.
Днем Мэри и Аксель вели себя как все прочие новобрачные. Он был безупречно внимателен, поддерживал ее под локоть, когда они переходили улицу, покупал ей безделушки и водил в театр. (Это была последняя неделя, когда он проявил щедрость. Очень скоро Мэри обнаружила, что вышла замуж за фанатичного скрягу.) Он водил ее в кафе-мороженое и заказывал большие порции со сбитыми сливками (она, как ребенок, любила сладкое) и со снисходительной улыбкой любимого дядюшки смотрел на то, как она это поглощает. Он повез ее кататься по реке ниже водопадов и любовно держал за руку, когда они гуляли под солнцем северного лета. Они никогда не говорили о том, что было ночью. Когда он после ужина закрывал за собой дверь их номера, казалось, в телах их поселялись совсем другие души. И у них не было слов для обсуждения комических схваток, которые возникали между ними. Воспитанная монахинями в строгих правилах, Мэри была стыдливой и робкой, мечтала о благородстве и нежности. Аксель же повзрослел, имея дело с проститутками, и, наверное, считал, что все женщины, заслуживающие того, чтобы на них женились, должны лежать в супружеской постели, оцепенев от ужаса. Или, возможно, такими он представлял себе американок.
Спустя несколько месяцев Джордах наконец осознал, что внушает Мэри непреодолимое роковое отвращение. Это лишь разъярило его, и он стал еще агрессивнее. Он никогда не уходил к другим женщинам. Никогда не смотрел на других женщин. Его влекло лишь к той, что спала с ним в постели. В этом была ее беда. И вот уже двадцать лет он осаждал ее, безнадежно и с ненавистью, какую, по-видимому, испытывает полководец великой армии, не сумевший взять приступом жалкий загородный домик.
Как она плакала, когда обнаружила, что забеременела.
* * *
Но ссорились они не поэтому. Скандалы были из-за денег. Мэри обнаружила, что у нее острый, больно жалящий язык. И она научилась утаивать мелочь. Чтобы выпросить у Акселя каких-нибудь десять долларов на новые туфли или, позднее, на приличное школьное платье для Гретхен, ей приходилось долгие месяцы пилить его и устраивать ему сцены. Он вечно попрекал ее куском хлеба. И она не знала, сколько денег у него на счету в банке. Он экономил на всем как одержимый. На его глазах разорилась вся Германия, и он был уверен, что то же самое может случиться с Америкой. Его сформировало поражение родины, и он считал, что ни один континент не застрахован от этого.
Краска не один год осыпалась со стен булочной, прежде чем он купил пять банок белил и покрыл ими стены. К нему приехал брат, преуспевающий владелец гаража в Огайо, и предложил войти в долю и купить на паях агентство по аренде автомобилей – придется вложить несколько тысяч долларов, которые Аксель сможет взять в долг в банке брата; он в ответ вышвырнул брата из дома, обозвав вором и прожектером. А брат был веселым толстяком. Каждое лето он на две недели ездил отдыхать в Саратогу и несколько раз в год ездил в Нью-Йорк в театры со своей толстой сварливой женой. Он носил хорошие шерстяные костюмы, и от него приятно пахло лавровишневой водой. Если бы Аксель согласился занять деньги, как брат, они весь остаток жизни провели бы в совсем других условиях, избавившись от рабской привязанности к пекарне и от необходимости жить в трущобе, в какую превращался их район. Но муж Мэри ни за что не снимет и пенни со своего счета в банке и не поставит подписи ни на одной бумаге. Бедняки его родины, сидевшие на тоннах обесцененных денег, мрачно следили за каждым долларом, проходившим через его руки.
Когда Гретхен окончила среднюю школу, о поступлении в колледж не могло быть и речи, хотя, как и Рудольф, она всегда считалась лучшей ученицей в классе. Ей пришлось сразу пойти на работу и каждую пятницу половину жалованья отдавать отцу. «В колледжах из порядочных девушек делают шлюх», – сказал Аксель. А Мэри знала, что Гретхен выйдет замуж за первого мужчину, который сделает ей предложение, только бы поскорее сбежать от отца, – еще одна загубленная жизнь в этой бесконечной цепи.
Лишь когда дело касалось Рудольфа, Аксель не считался с расходами. Красивый, с хорошими манерами, учтивый и ласковый Рудольф был надеждой семьи. Учителя восхищались им. Он был единственным из семьи, кто целовал Мэри утром, уходя из дома, и вечером, когда возвращался домой. В своем старшем сыне и Мэри, и ее муж видели вознаграждение за все свои неудачи. У Рудольфа были способности к музыке, он играл в школьном оркестре на трубе. В конце прошлого года Аксель купил ему сверкающую, точно золотую, трубу. До этого Аксель никому в семье не делал подарков. Все, что он кому-либо покупал, появлялось в результате отчаянного выпрашивания. Теперь стало странно слышать победные звуки трубы, вырывавшиеся из сырой, пропыленной квартиры, где упражнялся на трубе Рудольф. Он играл в клубе на танцах. Аксель дал ему взаймы тридцать пять долларов на смокинг – неслыханная щедрость с его стороны! – и разрешил оставлять себе все заработанные деньги. «Не трать их. Они пригодятся тебе, когда поступишь в колледж», – сказал он. С самого начала было негласно решено, что Рудольф будет учиться в колледже. Чего бы это ни стоило.
Мэри чувствует себя виноватой. Вся ее любовь сосредоточилась на старшем сыне. Но она так измучена, что у нее не хватает сил любить двух других своих детей. Когда он рядом, она всякий раз старается погладить его; когда он спит, заходит к нему в комнату и целует в лоб; вечерами, падая с ног от усталости, она стирает и гладит его рубашки, чтобы все всегда видели его в наилучшем виде. Она вырезает из школьной газеты заметки о его победах на спортивных состязаниях и аккуратно вклеивает табели с его отметками в альбом, который держит на своем туалетном столике рядом с томиком «Унесенные ветром».
Ее младший сын Томас и дочь просто живут в одном доме с ней. А Рудольф – это ее плоть и кровь. Когда она смотрит на него, ей кажется, она видит своего отца.
На Томаса она не возлагает никаких надежд. Уж больно у него хитрое, озорное лицо. Хулиган, вечно затевает драки, в школе сплошные неприятности, дерзит, над всеми издевается и все делает по-своему, не считается ни с чем, приходит и уходит, когда ему заблагорассудится, и никакие наказания на него не действуют. Где-нибудь, в каком-нибудь календаре день, когда ее сын Томас будет опозорен, уже отмечен кроваво-красной цифрой как некий жуткий праздник. И ничего тут не поделаешь. Не любит она его и не может протянуть ему руку.
Итак, семья спит, а мать стоит на распухших ногах у окна. Измученная бессонницей и изнурительным трудом, расплывшаяся, неряшливая, больная женщина, избегающая смотреть на себя в зеркало, регулярно решающая покончить жизнь самоубийством, седеющая в сорок два года, она курит сигарету за сигаретой, обсыпая пеплом засаленный халат.
Слышится гудок паровоза, солдат везут в грохочущих вагонах в далекие порты навстречу грохоту канонады. Слава Богу, Рудольфу еще нет семнадцати. Она умрет с горя, если его заберут на войну.
Она закуривает последнюю сигарету, снимает халат и ложится в постель. Лежит и курит. На несколько часов она забудется сном. Но она знает, что тотчас проснется, едва на лестнице раздадутся тяжелые шаги мужа, провонявшего потом и виски за ночь работы в пекарне.
Глава 2
Часы показывали без пяти двенадцать, но Гретхен продолжала печатать. Была суббота, и остальные девушки уже закончили работу и прихорашивались, собираясь уходить. Луэлла Девлин и Пэт Хаузер пригласили Гретхен пойти с ними поесть пиццы, но у нее сегодня не то настроение, чтобы слушать их пустую болтовню. В школе у нее были три хорошие подружки – Берта Сорель, Сью Джексон и Фелисити Тэрнер. Они были самыми умными девочками в школе, и у них сложилась этакая высшая, изолированная группа. Хорошо бы все они – или хотя бы одна – были сейчас в городе. Но их состоятельные семьи отправили дочерей в колледжи, а Гретхен так и не нашла им замены.
Гретхен жалела, что нет работы, которая заняла бы ее на весь день, но она допечатывала последний счет за доставку груза, который мистер Хатченс положил ей на стол, и оснований задерживаться не было.
Вот уже два дня Гретхен, сказавшись больной, не появлялась в госпитале. Сразу после работы она возвращалась домой и никуда не выходила. Она была слишком взвинчена, чтобы сидеть с книгой, и поэтому решила разобрать свой гардероб: стирала и без того идеально чистые блузки и в который раз утюжила безукоризненно отглаженные платья. Когда никакой работы уже не оставалось, мыла голову и укладывала волосы, делала маникюр, упорно предлагая и Руди сделать маникюр, хотя всего неделю назад привела его ногти в порядок.
В пятницу она никак не могла уснуть и поздно ночью, когда все уже спали, спустилась в пекарню к отцу. Тот взглянул на нее с удивлением. Но промолчал. И ничего не сказал, даже когда она села на стул и поманила кошку: «Кис-кис». Кошка повернулась к ней спиной и ушла прочь: она знала, что от людей добра ждать нечего.
– Пап, – сказала Гретхен, – мне надо с тобой поговорить.
Джордах выжидающе молчал.
– На этой работе у меня нет никаких перспектив, меня никогда не повысят, и жалованье мне тоже не прибавят. К тому же после войны производство обязательно сократится, и мне еще повезет, если удастся там удержаться.
– Война ведь пока не кончилась, – заметил Аксель, – и еще полно идиотов, ожидающих своей очереди на тот свет.
– Я подумала, может, мне лучше поехать в Нью-Йорк и подыскать там хорошее место. Я неплохой секретарь, а в нью-йоркских газетах полно объявлений с предложениями самой разной секретарской работы, за которую платят в два раза больше, чем я сейчас получаю.
– Ты говорила об этом с матерью? – Джордах быстрыми взмахами руки, точно волшебник, начал разделывать тесто на пирожки.
– Нет, – сказала Гретхен. – Она не очень хорошо себя чувствует, и мне не хотелось ее расстраивать.
– Все в этой семейке такие заботливые, – заметил Джордах. – Прямо сердце радуется.
– Пап, будь хоть сейчас серьезным, – сказала Гретхен.
– Нет, – сказал Аксель.
– Почему?
– Потому что я сказал «нет». Осторожней, не то запачкаешь мукой свое роскошное платье.
– Пап, но ведь я смогу посылать домой гораздо больше денег…
– Нет, – не дослушав, повторил Джордах. – Когда тебе исполнится двадцать один год, можешь уезжать куда угодно, а сейчас тебе только девятнадцать, и придется терпеть тепло родительского дома еще два года. Улыбайся и терпи. – Он вынул пробку из бутылки, сделал большой глоток виски и нарочито грубо вытер губы тыльной стороной ладони, измазав лицо мукой.
– Я должна уехать из этого города, – настаивала Гретхен.
– Есть города и похуже, – сухо ответил Джордах. – Поговорим об этом через два года.
В пять минут первого Гретхен сложила в ящик стола аккуратно отпечатанные бумаги. Все служащие уже ушли. Она закрыла машинку чехлом, прошла в туалет и посмотрела на себя в зеркало. Лицо у нее горело. Она умылась холодной водой, затем достала из сумочки флакон, смочила духами палец и легонько прикоснулась к мочкам ушей.
Она вышла из здания и прошла в главные ворота, над которыми значилось «Кирпич и черепица Бойлена». И сам завод, и эта вывеска, исполненная буквами в завитушках точно реклама чего-то замечательного и забавного, находились здесь с 1890 года.
Гретхен осмотрелась, проверяя, не пришел ли, случайно, Руди встретить ее. Он иногда подходил к заводу, чтобы проводить домой. Он был единственным в семье, с кем она могла поговорить по душам. Будь Руди сейчас здесь, они могли бы пообедать в ресторанчике, а потом, возможно, и отправиться в кино. Но тут она вспомнила, что Руди уехал со своей школьной командой на соревнование по легкой атлетике в соседний городок.
Гретхен внезапно обнаружила, что идет к автобусной станции. Шла она медленно, то и дело останавливаясь перед витринами магазинов. Разумеется, она не собиралась ехать ни на какую пристань. Был день, ярко светило солнце, все ночные фантазии остались позади. А впрочем, почему бы не прокатиться вдоль берега? Потом можно будет где-нибудь сойти и подышать свежим воздухом. Погода переменилась, в воздухе пахло весной. Было тепло, и в вышине по голубому небу плыли маленькие белые облачка.
Утром, прежде чем уйти из дома, Гретхен сказала матери, что весь день пробудет в госпитале, чтобы нагнать потерянное время. Она сама не знала, почему придумала подобное. Гретхен редко лгала родителям. В этом не было необходимости. Но сказав, что будет работать в госпитале, она избавила себя от необходимости помогать матери справляться с субботним наплывом покупателей. Утро было такое солнечное, и Гретхен вовсе не хотелось торчать в душной булочной.
За квартал до автобусной станции Гретхен увидела Томаса. Он стоял возле аптеки, окруженный ребятами довольно хулиганского вида. Они играли в расшибалочку, бросая об стену монеты. Одна девушка, работавшая вместе с Гретхен, была в среду в кинотеатре «Казино» и видела драку Тома с солдатом. «Твой брат – просто жуть, – говорила она потом Гретхен. – Такой маленький и такой злой. Прямо змея какая-то. Не хотела бы я иметь такого братца».
Гретхен сказала Тому, что знает про драку. Вообще-то она не раз слышала о нем подобные истории. «Ты мерзкий тип», – сказала она ему, но он только самодовольно ухмыльнулся.
Если бы Том заметил ее, она повернула бы обратно. Она не посмела бы у него на глазах зайти на станцию. Но он был слишком увлечен игрой.
Гретхен вошла в автовокзал и взглянула на часы. Без двадцати пяти час. Автобус наверняка ушел пять минут назад, и она, разумеется, не будет торчать здесь еще целых двадцать пять минут, дожидаясь следующего. Но оказалось, что автобус опаздывал и все еще стоял на остановке. Гретхен подошла к кассе.
– Один билет до пристани.
Войдя в автобус, она села поближе к шоферу. В автобусе было много солдат, но они пока не успели напиться и не встретили ее свистом.
Автобус тронулся. Он ехал покачиваясь, и Гретхен задремала, чуть смежив веки. За окном мелькали деревья в молодой листве; проносились дома, поблескивала лента реки. Все казалось чисто вымытым, прекрасным и нереальным. Сидевшие позади солдаты затянули молодыми голосами «Душа и тело». Среди них был явно виргинец, и его мягкий акцент южанина смягчал жалобную песню. Ничего плохого с ней не случится. Просто одно событие сменится другим без всякого выбора с ее стороны.
Автобус остановился.
– Пристань, мисс, – объявил шофер.
– Спасибо, – сказала Гретхен и сошла на обочину.
Автобус поехал дальше. Солдаты из окон автобуса посылали ей воздушные поцелуи. Она в ответ улыбнулась, поцеловала кончики пальцев и послала им воздушный поцелуй. Она никогда больше их не увидит. Они ее не знают, как и она их, и они понятия не имеют, зачем она тут сошла. Голоса поющих, замирая, удалялись на север.
Она стояла на обочине пустой дороги в тишине солнечного субботнего дня. Рядом находились бензоколонка и мелочная лавка. Она зашла в лавку и купила бутылочку кока-колы у седого старика в чистой выцветшей голубой рубашке. «Какой приятный цвет, – подумала она. – Надо будет купить себе для летних вечеров платье такого цвета из хорошего светлого хлопка».
Выйдя из лавки, она присела на скамейку перед дверью выпить кока-колу. Напиток был ледяной, сладкий и пощипывал гортань. Гретхен пила медленно. Она никуда не торопилась, рассматривая гравийную дорогу, ответвлявшуюся от шоссе к реке. По воде неслась тень маленького облачка, будто бежал зверек. На обоих берегах царила тишина. Дерево скамейки, на которой она сидела, нагрело солнцем. Ни единой машины не проехало мимо. Она прикончила кока-колу и поставила бутылку под скамью. Услышала, как тикают часы на руке. И откинулась на спинку скамьи, подставив лицо солнцу.
Конечно же, она не пойдет в тот дом на берегу реки. Пускай стынет обед, а бутылки с виски так и стоят неоткупоренными. Пускай ее поклонники в ожидании бесцельно слоняются по берегу – откуда им знать, что предмет их желаний уже здесь, рядом? Откуда им знать, что она затеяла эту рискованную игру, чтобы подразнить их! Ей хотелось рассмеяться, но она боялась нарушить мертвую тишину.
Было бы восхитительно зайти в этой игре еще дальше! Пройти полпути по гравийной дороге через березовую рощицу и, смеясь про себя, вернуться обратно. А еще лучше, сняв туфли и в одних чулках, неслышно ступая по траве и прошлогодним листьям, пробраться этакой ирокезкой через лес к реке и, спрятавшись за деревьями, посмотреть, как двое мужчин поджидают ту, что должна утолить их похоть. И затем, побывав на краю пропасти, спастись бегством, отряхивая платье от налипших кусочков коры и молодых почек, неслышно улизнуть обратно, чувствуя свое превосходство.
Гретхен поднялась со скамьи, перешла шоссе и уже собралась ступить на темную гравийную дорогу, как вдруг послышался шум приближающейся машины. Она остановилась, делая вид, будто ждет автобуса в Порт-Филип: ей не хотелось, чтобы кто-нибудь видел, как она входит в лес, – тайна прежде всего!
Машина сбавила скорость и затормозила. Гретхен даже не взглянула на нее. Она стояла, устремив взгляд в ту сторону, откуда должен был прийти автобус, хотя прекрасно знала, что его не будет еще целый час.
– Добрый день, мисс Джордах, – окликнул ее мужчина.
Гретхен почувствовала, как лицо заливает краска. «Чего это я краснею как идиотка?» – промелькнуло у нее в голове. В конце концов, она имела полное право приехать сюда. Ведь никто не знает про тех двух черных парней, про обед, выпивку и обещанные восемьсот долларов. Она не сразу узнала владельца завода «Кирпич и черепица» мистера Бойлена. Он сидел в «бьюике» с откидным верхом, свесив вдоль дверцы руку в перчатке для автомобильной езды, и улыбался Гретхен. До этого она видела его раз или два на заводе. Стройный блондин, загорелый, чисто выбритый, с пушистыми светлыми бровями, в начищенных до блеска ботинках.
– Добрый день, мистер Бойлен, – ответила Гретхен, не двигаясь с места. Она не хотела подходить ближе, боясь, что он заметит, как она покраснела.
– Как вас сюда занесло? – В его голосе звучали уверенность и превосходство. И в то же время он сказал это таким тоном, словно его позабавил вид хорошенькой молодой девушки, которая стояла одна у самого леса в туфлях на высоких каблуках.
– Сегодня такой чудесный день, – чуть не заикаясь, сказала Гретхен. – Я часто позволяю себе небольшие прогулки, когда рано освобождаюсь.
– Вы гуляете одна? – недоверчиво спросил он.
– Я люблю природу, – неуклюже ответила Гретхен и, увидев, как он с улыбкой взглянул на ее туфли, безнадежно соврала: – Вот и сегодня неожиданно для себя села в автобус и приехала сюда. Теперь жду автобуса обратно в город. – В этот момент за ее спиной раздался шум, и она с ужасом обернулась, уверенная, что солдатам надоело ждать и они решили встретить ее на остановке. Но это просто белка перебегала через дорогу.
– Что с вами? – спросил Бойлен, не понимая причины ее нервозности.
– Мне показалось, змея ползет, – сказала Гретхен и с отчаянием подумала: «О Боже, все пропало!»
– Для любительницы природы вы что-то слишком пугливы, – заметил Бойлен.
– Я боюсь только змей, – поспешно ответила Гретхен. Трудно было себе представить более глупый разговор.
– А вы знаете, автобуса еще долго не будет, – взглянув на часы, сказал Бойлен.
– Это не важно, – широко улыбнулась Гретхен, точно ждать автобус у черта на куличках было ее излюбленным занятием в субботний день. – Здесь так хорошо, тихо.
– Разрешите задать вам один серьезный вопрос.
«Начинается, – подумала она. – Сейчас он спросит, кого я здесь жду». И стала судорожно обдумывать, кого бы ей назвать. Брата? Подругу? Медсестру из госпиталя?.. Углубившись в свои мысли, она не расслышала его следующего вопроса.
– Простите, вы что-то сказали?
– Я спросил, вы уже обедали, мисс Джордах?
– Вообще-то я не голодна. Я…
– Тогда садитесь, – махнув рукой, пригласил Бойлен. – Я вас угощаю. Ненавижу обедать один. – Он перегнулся через сиденье и открыл ей дверцу.
Послушно, точно ребенок, который волей-неволей подчиняется взрослым, Гретхен перешла дорогу и села в машину. Единственным человеком, от которого она слышала слово «ненавижу» в обычном разговоре, была ее мать. Это у нее осталось от старой учительницы, сестры Катерины.
– Вы очень любезны, мистер Бойлен, – сказала Гретхен.
– Суббота для меня счастливый день, – сказал он, запуская мотор.
Гретхен понятия не имела, что он имел в виду. Не будь он ее боссом, и к тому же таким старым – ему было лет сорок – сорок пять, – она сумела бы как-нибудь отказаться. Теперь она жалела о несостоявшейся рискованной прогулке через лес, об утраченной возможности продолжить эту почти непристойную игру: быть может, солдаты увидели бы ее и бросились преследовать… Прихрамывая, скакали бы эти храбрецы за своей дичью. Эта игра обошлась бы им в восемьсот долларов.
– Вы знаете такое местечко – «Постоялый двор»? – спросил Бойлен, включая зажигание.
– Я слышала о нем, – ответила Гретхен. Это был очень дорогой ресторан при маленькой гостинице на обрыве над рекой.
– Неплохой ресторанчик, – заметил Бойлен. – Там подают приличное вино.
Всю дорогу они ехали молча: он вел машину быстро, и сильный ветер мешал вести разговор – Гретхен сидела зажмурившись. В военное время скорость была ограничена тридцатью пятью милями для экономии бензина, но такой человек, как мистер Бойлен, мог не беспокоиться о расходах.
Временами Бойлен поглядывал на нее, иронически улыбаясь. Он явно не поверил ни одному ее слову. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: и впрямь, как она могла оказаться за тридевять земель от города, бессмысленно ожидать автобуса, который придет не ранее чем через час. Он перегнулся через нее, открыл бардачок и, достав очки летчика с темными стеклами, протянул ей.
– Для ваших хорошеньких голубых глазок, – крикнул он, перекрывая шум машины.
Она надела очки и почувствовала себя кинозвездой.
В давние времена, когда из Нью-Йорка в северные штаты ездили на дилижансах, гостиница «Постоялый двор» служила почтовой станцией. На лужайке перед красным, с белой отделкой, зданием стояло на подпорках огромное колесо старинного фургона. Это была затея хозяина, который считал, что американцы любят все старинное. Гостиница словно бы находилась в сотне миль или на расстоянии сотни лет от Порт-Филипа.
Гретхен наскоро причесалась, глядя в зеркальце заднего вида. Она стеснялась, чувствуя на себе взгляд Бойлена.
– Самое прекрасное зрелище, какое может увидеть в жизни мужчина, – это девушка, которая причесывается. Недаром многие художники выбирали именно такой сюжет, – заметил он.
Гретхен не привыкла к подобным речам. Никто из ребят в школе и никто из молодых людей, увивавшихся за ней на работе, не говорил так. И она даже не могла понять, нравится ей это или нет. Ей почему-то показалось, что Бойлен таким образом вторгается в ее личную жизнь. Она надеялась, что не станет больше краснеть. Достав помаду, она собралась подкрасить губы, но Бойлен остановил ее.
– Не надо, – властно заявил он. – И этого хватит. Более чем достаточно. Пошли.
С поразительным для своего возраста проворством он выскочил из машины, обошел ее и открыл Гретхен дверцу.
«Вот это воспитание!» – машинально отметила Гретхен. И последовала за ним к входу в гостиницу мимо пяти или шести стоявших под деревьями машин. На нем были коричневые, хорошо начищенные, как всегда, ботинки (позже она узнает, что это сапоги для верховой езды), пиджак из твида в едва заметную мелкую клеточку, серые брюки из тонкой шерстяной ткани, мягкая кашемировая рубашка, а вместо галстука шейный платок. «Он ненастоящий, точно из какого-то журнала, – подумала Гретхен. – Что я делаю рядом с ним?»
Ей казалось, что по сравнению с ним она одета безвкусно и ее темно-синее платье с короткими рукавами, которое сегодня утром она так долго выбирала, никуда не годится. Гретхен не сомневалась, что Бойлен уже жалеет о своем приглашении. Но он открыл перед ней дверь и, слегка поддерживая под локоть, повел в бар, отделанный в стиле таверн восемнадцатого века: мореный дуб, а на стенах оловянные кружки и тарелки.
В баре сидели всего две пары. Женщины были довольно молодые, в замшевых юбках и обтягивающих свитерах. Обе держались самоуверенно и говорили пронзительными голосами. Глядя на их плоские фигуры, Гретхен застеснялась своего пышного бюста и съежилась, чтобы грудь не так выступала. Эти две пары сидели за низким столиком в другом конце комнаты, Бойлен же повел Гретхен к стойке и помог взобраться на высокий деревянный табурет.
– Сядем здесь, – тихо произнес он. – Подальше от этих дам. А то они завели такую музыку, без которой я вполне могу обойтись.
К ним тут же подошел негр-бармен в белоснежной накрахмаленной куртке.
– Добрый день, мистер Бойлен. Что будет угодно, сэр?
– Ах, Бернард, – произнес Бойлен, – ты задаешь вопрос, который испокон веков озадачивал философов.
«Как выпендривается», – подумала Гретхен. И тут же поразилась тому, что могла так подумать о самом мистере Бойлене.
Негр угодливо улыбнулся. Он был безупречно чистый, словно хирург перед операцией. Гретхен искоса взглянула на него. «Я знаю двух твоих дружков, – подумала она, – которые сидят тут неподалеку и не получают никакого удовольствия».
– Дорогая, что вы будете пить? – повернулся к ней Бойлен.
– Все равно, – ответила Гретхен. Откуда ей было знать, что надо пить, если крепче кока-колы она никогда ничего не пила. Она с ужасом ждала, когда принесут меню – оно наверняка на французском, а в школе она учила испанский и латынь. Латынь!
– Кстати, надеюсь, вам уже есть восемнадцать?
– Конечно, – ответила Гретхен, зардевшись. Ну почему она всегда так некстати краснеет? Слава Богу, в баре было темно.
– Я не хочу, чтобы меня привлекли к суду за развращение несовершеннолетних, – улыбнулся Бойлен. У него были красивые здоровые зубы. Непонятно, как такой мужчина, элегантный, с такими красивыми зубами и такой богатый, не нашел никого, кроме нее, чтобы пообедать вместе.
– Бернард, – обратился Бойлен к бармену, – приготовь для дамы что-нибудь сладкое. Пожалуй, лучше всего твой ни с чем не сравнимый, бесподобный «Дайкири».
– Благодарю вас, сэр, – сказал Бернард.
«Ни с чем не сравнимый, бесподобный, – повторяла про себя Гретхен. – Слова-то какие». Кто сейчас так говорит? И возраст у нее не тот, и одета она не так, и накрашена вульгарно – все это вызывало у нее злость.
Наблюдая, как Бернард выжал лимон, а затем, смешав сок со льдом, начал ловко трясти шейкер в больших черных руках с розоватыми ладонями, она почему-то вспомнила слова Арнольда: Адам и Ева в раю. Если бы мистер Бойлен хоть чуть-чуть кое о чем догадывался… Он не стал бы снисходительно шутить о развращении несовершеннолетних.
Напиток с пышной шапкой пены был удивительно вкусным, и Гретхен выпила его залпом, как лимонад. Бойлен посмотрел на нее, выразительно приподняв бровь.
– Бернард, повтори, пожалуйста, – сказал он.
Сидевшие за столиком пары прошли в обеденный зал, когда Бернард стал готовить вторую порцию, и теперь бар был в полном распоряжении Бойлена и Гретхен. Она почувствовала себя более раскованно. День начинал кое-что предвещать. Гретхен сама не знала, почему ей пришло в голову именно это слово – «предвещать». Она будет переходить из одного сумеречного бара в другой, и много добрых, пожилых, хорошо одетых мужчин будут угощать ее чудесными напитками.
Бармен поставил перед ней второй «Дайкири».
– Могу я дать вам совет, детка? – сказал Бойлен. – На вашем месте второй коктейль я бы пил помедленнее. Все-таки в нем ром.
– Я знаю, – с достоинством ответила она. – Просто мне очень хотелось пить. Я долго стояла на солнце.
– Понимаю, детка.
«Детка». Никто никогда не называл ее так. Ей понравились это слово и манера Бойлена произносить его – спокойно, неназойливо. Она, как настоящая леди, стала пить холодный напиток маленькими глоточками. Он был такой же вкусный, как первый. Возможно, даже лучше. Гретхен начало казаться, что она в этот день уже больше не будет краснеть.
Бойлен попросил принести меню. Они сделают заказ здесь, в баре, приканчивая напитки. Явился метрдотель с двумя большими картами и с легким поклоном сказал:
– Рад вас видеть, мистер Бойлен.
Все были рады видеть мистера Бойлена в его до блеска начищенных ботинках.
– Мне заказать и для вас? – спросил он.
Гретхен не раз видела в кино, что мужчины в ресторанах заказывают за своих дам. Но одно дело видеть это на экране и совсем другое – когда такое же случается с тобой в жизни.
– Да, пожалуйста, – ответила она и восторженно подумала: «Ну прямо как в романе».
Бойлен и метрдотель коротко, но с очень серьезными лицами обсудили меню, вина. Затем метрдотель ушел, сказав, что пригласит их в зал, когда стол будет накрыт. Бойлен достал золотой портсигар и предложил ей сигарету. Гретхен отрицательно покачала головой.
– Вы не курите?
– Нет. – Она почувствовала, что не отвечает стандартам этого ресторана и то, что она не курит, идет вразрез со всей ситуацией. Несколько раз она пробовала курить, но у нее тотчас начинался кашель и краснели глаза. Кроме того, ее мать курила сигарету за сигаретой, а Гретхен не желала ни в чем походить на мать.
– Вот и отлично, – сказал Бойлен, прикуривая от золотой зажигалки; он достал ее из кармана и положил рядом с портсигаром, на котором красовалась его монограмма. – Мне не нравится, когда девушки курят. Сигареты убивают аромат юности.
«Опять выпендривается», – подумала Гретхен, но без раздражения: он явно старался произвести на нее впечатление, и это льстило ей. Неожиданно она ощутила запах своих духов и забеспокоилась, не покажется ли ему этот запах дешевым.
– Признаться, меня очень удивило, что вам известна моя фамилия.
– Почему?
– Ну, по-моему, я видела вас на заводе раз или два, и вы никогда не заходили в наш отдел.
– А я вас сразу заметил и никак не мог взять в толк, что может делать девушка с вашей внешностью в таком паршивом заведении, как «Кирпич и черепица».
– Ну, не так уж там и плохо, – возразила Гретхен.
– Вот как? Рад слышать. А у меня сложилось впечатление, что все мои служащие ненавидят завод. И я взял за правило появляться там не чаще раза в месяц, и то не дольше чем на пятнадцать минут. Этот завод давит мне на психику.
Появился метрдотель.
– Все готово, сэр, – сказал он.
– Оставь свой коктейль, детка, – сказал Бойлен, помогая ей слезть с табурета. – Бернард принесет его.
Они пошли за метрдотелем через зал ресторана. Занято было всего восемь – десять столиков. Полковник в компании молодых офицеров, несколько мужчин в твидовых костюмах. На полированных, в лжеколониальном стиле, столиках стояли цветы, сверкающие рюмки и бокалы. «Здесь нет ни одного человека, который зарабатывал бы меньше десяти тысяч в год», – подумала вдруг Гретхен.
Пока они шли за метрдотелем к своему столику у окна, которое выходило на текущую далеко внизу реку, все разговоры смолкли. Она почувствовала взгляды молодых офицеров и поправила ладошкой прическу. Она знала, о чем они думали. Жаль, что Бойлен такой старый.
Метрдотель отодвинул для нее стул, она села и положила большую кремовую салфетку себе на колени. Явился Бернард, неся на подносе ее недопитый «Дайкири», и поставил перед ней на столик.
Метрдотель принес бутылку красного французского вина, а немедленно появившийся официант поставил на стол первое блюдо. В «Постоялом дворе» явно не испытывали недостатка в рабочих руках.
Метрдотель торжественно налил немного вина в большой пробный бокал. Бойлен понюхал, пригубил, посмотрел, прищурясь, вино на свет, секунду подержал во рту, прежде чем проглотить. Затем кивнул.
– Отличное вино, Лоуренс, – сказал он.
– Благодарю вас, сэр, – сказал метрдотель.
А Гретхен подумала: «Со всеми этими «благодарю вас» счет будет ужас какой».
Метрдотель налил вина в ее бокал, затем Бойлену. Бойлен предложил тост за ее здоровье, и они сделали по глотку. Вино было теплое и, как показалось Гретхен, отдавало пылью. Но она была уверена, что со временем ей понравится этот привкус.
– Надеюсь, вы любите суфле из пальм? – спросил Бойлен. – Я привык к этому блюду, живя на Ямайке. Это было давно, еще до войны, конечно.
– Очень вкусно, – ответила Гретхен, хотя сочла блюдо совершенно безвкусным. Зато приятна была сама мысль, что ради того, чтобы подать ей маленькую порцию этого деликатеса, потребовалось срубить целую пальму.
– После войны, – продолжал Бойлен, ковыряя вилкой в тарелке, – я собираюсь обосноваться на Ямайке. Буду круглый год загорать на белом песке. Когда наши парни вернутся с победой домой, жизнь в Штатах станет невыносимой. Мир для героев – не место для Теодора Бойлена. Непременно приезжайте навестить меня.
– Обязательно, – сказала Гретхен. – При моем жалованье на заводе Бойлена мне в самый раз прокатиться на Ямайку.
Он засмеялся:
– Наша семья больше всего гордится именно тем, что мы с тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года недоплачиваем нашим служащим.
– Семья? – переспросила Гретхен. Насколько ей было известно, он был единственным Бойленом в Порт-Филипе. Все в городе знали, что он живет совершенно один (не считая слуг, конечно) в особняке за каменной оградой огромного поместья за городом.
– Мы – целая империя, – сказал Бойлен. – Наши владения простираются от Атлантики до Тихого океана, от поросшего соснами штата Мэн до пропахшей апельсинами Калифорнии. Кроме цементного и кирпично-черепичного заводов в Порт-Филипе, существуют еще судостроительные верфи Бойлена, нефтяные компании Бойлена, заводы тяжелого машиностроения Бойлена. Они разбросаны по всей этой великой стране, и во главе каждого такого предприятия стоит Бойлен. Мои братья, дяди, кузены поставляют военные материалы любимой отчизне с прибылью для себя. Есть даже один генерал-майор Бойлен, который во имя нации наносит ловкие удары по службе снабжения в Вашингтоне. Стоит в воздухе запахнуть долларом, как первым в очереди будет стоять какой-нибудь Бойлен.
Гретхен не привыкла, чтобы кто-нибудь так пренебрежительно отзывался о своих родственниках, и неодобрение, по-видимому, отразилось на ее лице.
– Я вас шокировал, – усмехнулся Бойлен. И снова видно было, что он забавляется, посмеивается…
– Да нет, – сказала Гретхен. Она подумала о своей семье. – Только члены семьи знают, заслуживают ли они любви.
– О, я вовсе не такой уж плохой. У нашей семьи есть одно достоинство, и я ценю его безоговорочно.
– Какое же?
– Мы богаты. О-очень, о-очень богаты, – рассмеялся он.
– И все же, – сказала Гретхен, надеясь, что он не такой циничный, каким хочет казаться, и просто устроил театральное представление, чтобы поразить пустенькую девчонку, – и все же вы работаете. Бойлены много сделали для нашего города…
– О, это уж точно. Они из него всю кровь выпили. Не спорю, они питают к этому городу сентиментальные чувства. Порт-Филип – самое незначительное владение в нашей империи. Оно не стоит того, чтобы на него тратил время истинный, стопроцентный, энергичный отпрыск семейства Бойленов. Тем не менее Бойлены держат Порт-Филип при себе. Ваш покорный слуга, последний по значению в семье, уполномочен жить в захудалом провинциальном родовом доме, чтобы два раза в месяц, являясь перед служащими завода, демонстрировать величие и могущество Бойленов. И я выполняю этот ритуал с должным уважением, а сам не дождусь, когда замолчат пушки, чтобы отбыть на Ямайку.
«Он не только родных, он и себя ненавидит!» – подумала Гретхен.
Его зоркие светлые глаза мгновенно заметили перемену в ее лице.
– Я вам не нравлюсь, – сказал он.
– Да нет, – сказала она. – Просто вы не похожи ни на кого из моих знакомых.
– Лучше или хуже их?
– Не знаю…
Бойлен снисходительно кивнул.
– В таком случае вопрос не снимается с повестки дня, – сказал он. – Допивайте же. Сейчас явится новая бутылка.
Они уже выпили одну бутылку, а до конца обеда было еще далеко. Метрдотель поставил перед ними вторую бутылку и чистые бокалы. Вино обожгло Гретхен горло, кровь бросилась в лицо. Разговоры в зале доносились до нее ритмичным, успокаивающим гулом, как отдаленный прибой. Она вдруг почувствовала себя в ресторане как дома и громко рассмеялась.
– Чему вы смеетесь? – подозрительно спросил Бойлен.
– Потому что я здесь, а могла бы быть совсем в другом месте.
– Вы должны чаще пить, – заметил Бойлен, похлопав ее по руке своей твердой сухой ладонью. – Вам это идет. Вы такая красивая, детка, красивая, красивая.
– Мне тоже так кажется, – сказала Гретхен, и теперь уже рассмеялся Бойлен. – Но только сегодня, – смущенно поправилась она.
Когда официант подал кофе, Гретхен была совсем пьяна. Поскольку с ней никогда раньше такого не случалось, она не понимала, в чем дело, и сознавала лишь, что все краски стали ярче, река внизу окрасилась кобальтом, а заходившее над далекими утесами солнце отливало ослепительным золотом. Все, что попадало ей в рот, отдавало летом, а мужчина, сидевший напротив, из незнакомца и ее хозяина превратился в самого лучшего, близкого друга. Его симпатичное загорелое лицо было добрым и светилось искренним вниманием, прикосновения его рук несли доброжелательность, его смех был заслуженной наградой ее остроумию. И она могла поделиться с ним всеми своими секретами, рассказать о самом сокровенном.
Она рассказывала ему разные забавные истории из жизни госпиталя: про солдата, которому восторженная француженка, приветствуя войска союзников, вступавшие в Париж, попала в глаз бутылкой, и его наградили «Багряным сердцем» за то, что у него появилось двойное видение при исполнении служебных обязанностей; и про медсестру и молодого солдатика, которые каждую ночь занимались любовью в машине «скорой помощи», пока однажды ночью машину не вызвали к больному и их увезли совсем голыми в Поукипси.
Рассказывая об этом, она все больше преисполнялась сознания своей уникальности – такая интересная особа, которая ведет такую разнообразную, полноценную жизнь. Она рассказала о том, с какими столкнулась проблемами, когда в последнем классе школы играла Розалинду в «Как вам это понравится». Мистер Поллак, режиссер, ставивший спектакль и видевший с десяток Розалинд на Бродвее, сказал, что она будет преступницей, если загубит свой талант. А за год до этого она играла Порцию и какое-то время думала, не получится ли из нее блестящего адвоката. Она считала, что женщины в наше время должны заниматься чем-то серьезным, а не выходить замуж и сидеть дома с детьми.
Она была намерена посвятить Тедди (когда принесли десерт, мистер Бойлен был для нее уже просто Тедди) в свою величайшую тайну, не известную ни одной живой душе: как только кончится война, она уедет в Нью-Йорк и станет актрисой. Она прочитала ему монолог из «Как вам это понравится». Язык у нее слегка заплетался от двух бокалов «Дайкири», вина и двух рюмочек «Бенедиктина». Тедди почтительно поцеловал ей руку, и она приняла это как должное, радуясь изяществу игривой цитаты.
Согретая неослабевающим вниманием своего кавалера, она чувствовала себя блистательной, яркой, неотразимой. Она расстегнула две верхние пуговицы платья. Пусть видят, как она прекрасна. Впрочем, в ресторане действительно было безумно жарко. Она говорила о вещах, о которых не принято говорить, произносила вслух слова, которые до этого видела только написанными на заборах. Она достигла полной раскованности – привилегии аристократов.
– Я вообще не обращаю на них внимания, – ответила она на вопрос Бойлена о мужчинах, работающих с ней в конторе. – Суетятся, как щенки. Провинциальные донжуаны. Сводят тебя в кино, угостят мороженым, а потом в машине лезут целоваться, лапают, сопят, как подыхающий олень, пытаются просунуть язык тебе в рот. Нет, это не для меня. У меня другие планы, я не спешу! – Она резко поднялась из-за стола. – Спасибо за восхитительный обед. – И после паузы добавила: – Мне нужно в туалет. – Никогда раньше она не осмелилась бы сказать такое ни одному мужчине. Хотя иной раз в кино или на вечеринках у нее чуть не лопался пузырь.
Тедди тоже встал.
– В холле первая дверь налево, – подсказал он. О, Тедди всегда все знает, он везде как дома.
Она пошла через зал, удивляясь тому, что он, оказывается, опустел. Она ощущала на себе взгляд светлых умных глаз Бойлена и шла намеренно медленно. У нее хорошая осанка – она знала это. У нее длинная белая шея и пышные волосы. И она знала это. У нее тонкая талия, округлые бедра и красивые ноги. Она все это знала и потому шла медленно – пусть Тедди все видит и запоминает.
В туалете, взглянув на себя в зеркало, она стерла с губ остатки помады. «У меня большой красивый рот, – сказала она своему отражению. – Почему же я, дура, крашусь, как старая галоша?!»
Когда она вышла, Бойлен уже расплатился и стоял у входа в бар, дожидаясь ее. Натягивая перчатку на левую руку, он меланхолично смотрел на Гретхен.
– Я куплю тебе красное платье, – неожиданно сказал он. – Пронзительно-красное. Чтобы подчеркнуть поразительный цвет твоего лица и смоль твоих волос. Когда ты будешь входить в ресторан, все мужчины будут падать перед тобой на колени.
Она рассмеялась: красное – ее цвет. Именно так должен вести себя с женщиной настоящий мужчина!
Она взяла его под руку, и они пошли к машине.
На улице похолодало, и Бойлен поднял верх машины. Внутри было тепло и уютно. Они ехали медленно, с открытыми окнами, рука Бойлена, с которой он предусмотрительно снял перчатку, лежала на ее руке на сиденье машины. К сладковатому аромату выпитого ими примешивался запах кожи.
– А теперь скажи правду: что ты делала на автобусной остановке у пристани? – спросил он.
Гретхен хихикнула.
– Ты как-то нехорошо смеешься.
– А я была там с нехорошей целью, – игриво ответила она.
Какое-то время они ехали молча. На дороге никого не было, и они ехали меж окаймлявших дорогу деревьев, попадая то в длинную полосу тени, то в полосу бледной луны.
– Я жду, – сказал Тедди.
«А почему бы и нет?» – подумала Гретхен. В этот замечательный день можно говорить обо всем. Они с Тедди выше банальной ханжеской стыдливости. И она начала рассказывать о том, что случилось в госпитале. Сначала неуверенно, запинаясь, затем все свободнее.
Она описала двух негров, одиноких, увечных, единственных цветных во всем отделении, и как скромно, по-джентльменски держался Арнольд – он никогда не называл ее по имени, как другие солдаты, читал книжки, которые она ему приносила, выглядел таким неглупым, печальным: он ведь был ранен, и девушка, которую он оставил в Корнуолле, ни разу не написала ему. Потом Гретхен рассказала про ту ночь, когда он застал ее одну, в то время как все больные уже спали, и как сделал ей предложение от имени двух мужчин и пообещал восемьсот долларов.
– Будь они белыми, я пожаловалась бы полковнику. Но тут… – Тедди понимающе кивнул, но промолчал и только чуть прибавил скорости. – С того дня я ни разу не была в госпитале, – продолжала Гретхен. – Просто не могла. Я умоляла отца отпустить меня в Нью-Йорк. Мне было невыносимо оставаться в одном городе с человеком, который предлагал мне такие вещи. Но отец… С ним невозможно спорить. К тому же я не могла объяснить ему истинную причину: он поехал бы в госпиталь и задушил бы этих ребят голыми руками. А сегодня… Я вовсе не хотела идти на автостанцию. Ноги сами понесли меня туда помимо воли. Я, конечно, и не думала заходить в тот дом. Наверное, мне просто хотелось выяснить, там ли они и действительно ли есть мужчины, которые способны на такое. В общем, вышла я из автобуса и остановилась на дороге. Купила кока-колы в лавке, сидела и загорала… Конечно, может, я и прошла бы немного через лес. Возможно, даже дошла бы до самого дома. Просто так, из любопытства. Я ведь ничем не рисковала. Если бы они и заметили меня, мне ничего не стоило убежать от них. Они на своих искалеченных ногах едва ходят… – Увлеченная своим рассказом, Гретхен сидела, тупо глядя на свои туфли, и, только когда машина затормозила, с удивлением увидела, что они находятся возле автобусной остановки. Бензоколонка. Мелочная лавка. И ни души.
Машина остановилась возле той самой гравийной дорожки, что вела к реке.
– Это была просто игра, глупая женская игра, – закончила она.
– Ты лжешь, – сказал Бойлен.
– Что? – ошеломленно переспросила она. В машине было ужасно душно.
– Ты меня слышала, детка. Ты лжешь, – повторил Бойлен. – Это не было игрой. Ты хотела пойти туда и лечь с ними в постель.
– Тедди, – задыхаясь, прошептала Гретхен, – пожалуйста, откройте окно. Мне нечем дышать.
Бойлен перегнулся через нее и открыл ей дверь.
– Иди, – сказал он. – Иди, детка. Они еще там. Я уверен, тебе понравится и ты запомнишь это на всю жизнь.
– Тедди, прошу вас. – Все поплыло у нее перед глазами, а его голос то удалялся, то приближался.
– Насчет того, как потом добраться домой, не волнуйся. Я подожду тебя здесь. Мне все равно нечего делать: по субботам все мои друзья уезжают из города. Ну, иди. Потом все расскажешь. Это будет очень интересно.
– Мне надо выйти, – выдохнула Гретхен. Ей казалось, она вот-вот задохнется. Голова была тяжелой и словно распухла. С трудом выйдя из машины, она отошла к обочине и согнулась, сотрясаясь в приступе рвоты.
Бойлен неподвижно сидел в машине, глядя прямо перед собой. Когда она наконец выпрямилась, он отрывисто сказал:
– Ладно, садись обратно.
Изнуренная и подавленная, Гретхен влезла в машину и прикрыла рот рукой, чтобы не было запаха. На лбу у нее выступил холодный пот.
– На, возьми, детка, – уже без враждебности сказал Бойлен, протягивая ей пестрый шелковый носовой платок из верхнего кармана своего пиджака.
– Спасибо, – прошептала она, вытирая лицо и рот.
– Что все-таки ты хочешь, детка?
– Хочу домой, – захныкала она.
– В таком состоянии тебе едва ли можно домой, – сказал он и включил зажигание.
– Куда же вы меня везете?
– К себе, – сказал он.
Гретхен была так измучена, что не стала спорить. Она откинулась на сиденье, закрыла глаза. Они быстро помчались по шоссе.
У него дома она долго полоскала рот зубным эликсиром, и они предались любви, после чего она два часа проспала как убитая на его кровати. Затем он без звука отвез ее к дому.
В понедельник утром, придя на работу, она увидела на своем столе длинный белый конверт. Ее имя и фамилия были отпечатаны на машинке, а в углу было написано от руки: «Лично». В конверте лежало восемь стодолларовых банкнот.
Должно быть, он встал на заре, чтобы приехать в город и пройти на завод, пока никто еще не вышел на работу.
Глава 3
В классе стояла тишина. Слышалось только поскрипывание перьев. Мисс Лено сидела за столом и читала, изредка поднимая глаза и прощупывая взглядом ряды парт. Она дала ученикам полчаса на сочинение «Франко-американская дружба». Склонившись над партой в глубине класса, Рудольф подумал, что мисс Лено, возможно, и красивая, и француженка, но воображения у нее ни на грош.
Полбалла будет снято за ошибку в написании и целый балл за погрешность в грамматике. Сочинение надо было написать на три странички.
Рудольф быстро написал эти три страницы. Он единственный во всем классе за сочинения и диктанты на французском получал отличные оценки. Он так хорошо владел языком, что мисс Лено заподозрила, не говорят ли его родители по-французски.
– Джордах – это же не американская фамилия, – сказала она.
Намек чувствительно задел Рудольфа. Он хотел выделяться среди окружающих, но не тем, что он – неамериканец. Его отец – немец, сказал он мисс Лено, но дома они говорят по-английски, разве что иногда проскакивает какое-нибудь немецкое слово.
– Ты уверен, что твой отец не из Эльзас-Лотарингии? – не отступалась мисс Лено.
– Он из Кельна, – возразил Рудольф, – а вот дедушка был из Эльзас-Лотарингии.
– Я так и подозревала, – сказала мисс Лено.
Рудольфа огорчало, что мисс Лено, олицетворение женской красоты и очарования, предмет его лихорадочного поклонения, может хоть на миг поверить, что он лжет ей или втихую обманывает. Ему хотелось признаться ей в своих чувствах, и он представлял себе, как через несколько лет после окончания школы, учась в колледже и став уже вполне светским молодым человеком, он дождется ее у школы и с легким смешком расскажет по-французски – а к тому времени он уже будет совсем свободно владеть языком, – как он, застенчивый мальчик, обожал ее в старших классах. Кто знает, что после этого может произойти? В литературе полно рассказов о зрелых женщинах и талантливых мальчиках, об учительницах и не по летам развитых учениках…
Хмуря брови – тема казалась ему слишком банальной, – он проверил, нет ли ошибок, поменял два-три слова, затем взглянул на часы. Оставалось еще целых пятнадцать минут.
Он уставился на мисс Лено. Сегодня она особенно хороша, подумалось ему. У нее были длинные серьги, блестящее коричневое платье плотно облегало бедра, а глубокий вырез щедро открывал выпирающую из лифчика грудь. На губах рдела кровью яркая помада. Она подкрашивала губы перед каждым уроком. Ее родные содержали небольшой французский ресторан в театральном районе Нью-Йорка, и в мисс Лено было гораздо больше от бродвейской дивы, чем от парижанки, но, к счастью, Рудольф не разбирался в таких тонкостях.
От нечего делать он начал рисовать. На листке бумаги появилось лицо мисс Лено. Сходство было несомненным: локоны, обрамляющие с обеих сторон щеки, густые волнистые волосы, разделенные посредине пробором. Рудольф продолжал рисовать. Серьги, крепкая жилистая шея. На мгновение Рудольф заколебался. Дальше начиналась опасная территория. Он снова взглянул на мисс Лено. Она продолжала читать. На уроках мисс Лено не существовало проблемы дисциплины. Она безжалостно наказывала за малейшее нарушение. Поэтому могла спокойно сидеть и читать, лишь изредка посматривая на класс, чтобы удостовериться, что ученики не списывают и не подсказывают друг другу.
Рудольф дал себе волю и предался эротическим фантазиям на листке бумаги. Два полукружия очертили обнаженные груди мисс Лено. Пропорции вполне удовлетворили Рудольфа. На рисунке мисс Лено стояла у доски, на три четверти повернувшись к зрителю. В вытянутой руке – мел. Рудольф работал над портретом мисс Лено с увлечением, и каждый новый «опус» доказывал его растущее мастерство. Бедра дались ему без труда. Венерин холм он набросал по памяти, каким видел его в книжках по искусству, поэтому у него получилось не очень четко. А вот ноги получились неплохо. Ему хотелось нарисовать ее босиком, но ступни у него никогда как следует не выходили, и он обул мисс Лено в туфли на высоком каблуке с ремешками на щиколотках – она обычно носила именно такие. Поскольку он нарисовал ее стоящей у доски, надо было на доске что-нибудь написать. «Je suis folle d’amour»[3], – вывел он, тщательно копируя почерк мисс Лено. Рудольф стал заштриховывать груди мисс Лено, накладывая тени. Он решил, что рисунок выиграет, если слева на фигуру будет падать яркий свет. Он заштриховал внутреннюю сторону бедра мисс Лено. Жаль, он не знал в школе никого, кому мог бы показать рисунок и кто мог бы оценить его. Он не был уверен, что его лучшие друзья, мальчики из легкоатлетической команды, смогут бесстрастно это оценить.
Рудольф кончал заштриховывать ремешки туфель мисс Лено, когда почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной. Он медленно поднял голову. Мисс Лено пристально смотрела на рисунок. Она, должно быть, словно кошка прокралась по проходу, несмотря на высокие каблуки.
Рудольф застыл. Предпринимать что-либо в этой ситуации было бесполезно. Ее темные глаза с накрашенными ресницами горели яростью. Кусая напомаженные губы, она молча протянула руку. Рудольф так же молча отдал ей листок. Свернув его в трубочку, чтобы никто из ребят не увидел, мисс Лено повернулась и направилась к своему столу. За минуту до звонка она громко позвала:
– Джордах!
– Да, мадам, – отозвался Рудольф. Он был горд, что голос его не дрогнул.
– После урока подойдете ко мне.
– Да, мадам, – отозвался он.
Прозвенел звонок. Начался обычный гвалт. Ученики бросились из класса в коридор. Рудольф не спеша сложил книги в портфель, а когда все ученики вышли, подошел к столу мисс Лено.
– Месье художник, – ледяным тоном судьи произнесла она, – в вашем шедевре отсутствует одна очень важная деталь. – Она открыла ящик стола и, вынув листок с рисунком, разложила его на бюваре. – Здесь нет подписи. Общеизвестно, что произведения искусства ценятся больше, если на них стоит подлинная подпись художника. Было бы жаль, если бы возникли сомнения по поводу авторства. – И она пододвинула листок к Рудольфу. – Я буду вам премного обязана, месье, – сказала она, – если вы любезно поставите свою фамилию. Отчетливо.
Рудольф достал авторучку и в нижнем правом углу листа нарочито медленно вывел свою фамилию, делая при этом вид, будто внимательно изучает рисунок. Он не собирался вести себя перед ней как перепуганный ребенок. У любви свои законы. Если он осмелился нарисовать ее нагой, он должен иметь мужество выдержать ее гнев. Подпись он украсил затейливой виньеткой.
Тяжело дыша, мисс Лено схватила рисунок.
– Месье, сегодня же вы приведете ко мне вашего отца или вашу мать после конец занятий, и быстро, – срываясь на визг, крикнула она. В минуты волнения мисс Лено не очень правильно выражалась по-английски. – Я должна сообщить им важные вещи про сына, которого они воспитали в своем доме. Я буду в школе до четырех часов. Если к этому времени вы не придете, последствия будут самые серьезные. Вы меня поняли?
– Да, мадам. Всего хорошего, – ответил Рудольф и, не торопясь, с высоко поднятой головой своей скользящей походкой вышел из класса.
Мисс Лено произнесла свою тираду так, будто только что бегом поднялась на верхний этаж.
После занятий Рудольф не зашел, как обычно, в булочную, чтобы не встречаться с матерью, а сразу же поднялся в квартиру, надеясь застать там отца. Как бы там ни было, нельзя, чтобы мать увидела этот рисунок. Отец может избить его, но это лучше, чем потом всю жизнь читать застывшее в глазах матери осуждение.
Отца дома не оказалось. Гретхен была на работе, а Том являлся домой за пять минут до ужина. Рудольф умылся и причесался – он собирался встретить свою участь, как подобает джентльмену.
Потом он спустился в булочную. Мать складывала в пакет дюжину булочек, купленных какой-то старухой, от которой пахло мокрой псиной. Когда старуха ушла, он поцеловал мать.
– Как было сегодня в школе? – спросила она, погладив его по голове.
– Нормально. А где папа?
– Наверное, на реке, – ответила Мэри и тут же настороженно спросила: – А зачем он тебе?
В семье без надобности никто никогда не интересовался, где ее муж.
– Просто так, – небрежно бросил Рудольф.
В магазин вошли двое покупателей, и, воспользовавшись этим, он помахал матери рукой, вышел из булочной и быстро зашагал к реке.
Отойдя от булочной на такое расстояние, чтобы его не было видно, Рудольф зашагал быстрее. Отец держал свою байдарку в углу старого склада на берегу и обычно два-три дня в неделю работал там, латая лодку. Рудольф молил Бога, чтобы это был один из таких дней.
Когда он подошел к складу, отец стоял на берегу возле одноместной байдарки. Лодка лежала перед ним вверх дном на козлах, и отец наждачной бумагой полировал ее. Он работал, закатав рукава, бережно колдуя над деревом. Рудольф, подходя, видел, как ритмично набухают и опадают мускулы на предплечье отца. День был теплый, и, несмотря на ветер с реки, отец вспотел.
– Привет, пап, – сказал Рудольф.
Отец поднял на него глаза, что-то буркнул и снова принялся за работу. Эту лодку, в память своей юности на Рейне, Джордах приобрел по случаю за гроши у какой-то обанкротившейся мужской школы. Она была в очень плохом состоянии, и он все время ремонтировал и смолил ее снова и снова. Сейчас она была безукоризненно чистой, а механизм, передвигавший сиденье, блестел от смазки. В Германии, выйдя из госпиталя с почти не действующей ногой, изможденный и слабый, Аксель начал с упорством фанатика заниматься гимнастикой в надежде вернуть былую силу. Позже тяжелая работа на озерных судах, а также изнурительные тренировки, которые он сам себе устраивал, проходя на гребной лодке большие расстояния, помогли ему обрести недюжинную силу. Он по-прежнему хромал и, конечно, не мог бы догнать обидчика, но, похоже, ему ничего не стоило раздавить любого своими огромными волосатыми ручищами.
– Пап… – начал Рудольф, стараясь говорить спокойно. Отец ни разу в жизни пальцем его не тронул, но он видел, как в прошлом году от одного его удара Томас упал без сознания.
– Что тебе? – спросил Аксель, проверяя широкой ладонью, насколько гладким стало днище лодки. Его руки и пальцы заросли черными волосами.
– Я насчет школы, – сказал Рудольф.
– У тебя неприятности? У тебя? – Джордах взглянул на сына с искренним удивлением.
– Неприятности, пожалуй, слишком сильно сказано, – произнес Рудольф. – Просто возникла ситуация…
– Какая еще ситуация?
– Ну, понимаешь, наша француженка… Одним словом, она хочет тебя видеть сегодня. Сейчас.
– Меня?
– Ну, она сказала: одного из родителей.
– А почему бы не мать? – спросил Джордах. – Ты ей сказал об этом?
– Лучше, чтоб она об этом не знала, – сказал Рудольф.
Джордах снова внимательно поглядел на него поверх лодки.
– Мне казалось, французский – один из твоих любимых предметов.
– Так оно и есть, – подтвердил Рудольф. – Пап, нет смысла терять время. Ты должен пойти с ней поговорить.
Джордах продолжал оглаживать дерево. Затем вытер пот со лба и опустил рукава. Натянул на голову кепку, накинул на плечи, как мастеровой, кожаную куртку и зашагал. Рудольф двинулся за ним, не осмеливаясь намекнуть, что, прежде чем идти в школу, ему следовало бы зайти домой и переодеться.
Мисс Лено сидела за столом, проверяя работы. В школе было пусто, но в окно доносились крики со спортивной площадки. За то время, пока Рудольф ходил домой, она успела по крайней мере раза три подкрасить губы. Рудольф впервые заметил, что они у нее тонкие и кажутся пухлыми только благодаря толстому слою помады. Она подняла глаза, когда отец с сыном вошли, и поджала губы. Джордах, прежде чем войти в помещение, надел куртку и снял кепку, но все равно выглядел как мастеровой.
Мисс Лено встала из-за стола.
– Это мой отец, мисс Лено, – сказал Рудольф.
– Здравствуйте, сэр, – сухо поздоровалась мисс Лено.
Джордах промолчал. Он стоял перед ее столом, покусывая усы, держа в руках кепку, – этакий покорный пролетарий.
– Ваш сын, по-видимому, сообщил, зачем я вас вызвала?
– Нет, – ответил Джордах. – Что-то не припомню, чтобы он мне что-либо сказал. – В его голосе слышалась какая-то особая, нехарактерная для него кротость, и у Рудольфа мелькнула мысль, а не боится ли отец этой женщины.
– Мне даже неудобно рассказывать. – И мисс Лено снова сорвалась на крик: – Безобразие!.. И кто бы мог подумать?! Лучший ученик!.. Значит, он не сказал вам?
– Нет. – Джордах терпеливо ждал с таким видом, точно он весь день и всю ночь раздумывал над случившимся, пытаясь понять.
– Eh, bien[4]. Бремя ложится на мои плечи, – сказала мисс Лено. Она нагнулась, открыла ящик и достала рисунок. Даже не взглянув на него, она положила лист от себя подальше. – Посреди урока, когда все писали сочинение, вы знаете, чем он занимался?
– Нет, – сказал Джордах.
– Вот, полюбуйтесь!.. – И жестом трагической героини она сунула ему под нос рисунок сына.
Джордах взял его и повернул к свету, падавшему из окон, чтобы получше разглядеть. Рудольф с тревогой всматривался в лицо отца, пытаясь угадать его реакцию. Он почти не сомневался, что тот сейчас развернется и даст ему затрещину, и думал, хватит ли у него мужества вынести удар, не дрогнув и не вскрикнув от боли. Однако по лицу Акселя невозможно было ничего прочитать. Казалось, рисунок заинтересовал его, но в то же время озадачил. Наконец он ткнул толстым пальцем в слова: «Je suis folle d’amour».
– Дело в том, что я не знаю французского, – наконец произнес он.
– Не в этом суть, – волнуясь, произнесла мисс Лено.
– Но здесь что-то написано по-французски.
– «Я сгораю от любви, я сгораю от любви!» – перевела мисс Лено. Она уже поднялась со стула и нервно расхаживала позади стола.
– Что это вы? – Джордах наморщил лоб, словно пытаясь понять то, что было выше его разумения.
– Вот что здесь написано! – пронзительно выкрикнула она, показывая пальцем на рисунок. – Я перевела то, что ваш талантливый сын здесь написал: «Я сгораю от любви, я сгораю от любви», – выкрикнула она.
– Понимаю, – словно только сейчас его осенило, сказал Джордах. – А что, по-французски это неприлично?
– Мистер Джордах, – с усилием сдерживаясь и обкусывая помаду с губ, произнесла мисс Лено, – вы когда-нибудь учились в школе?
– В другой стране, – сказал Джордах.
– В какой бы стране вы ни учились, вы считаете возможным, чтобы молодой человек во время урока рисовал свою учительницу обнаженной?
– О-о! – удивленно протянул Джордах. – Так это вы?
– Да, я, – отрезала мисс Лено, скорбно глядя на Рудольфа.