Читать онлайн 1993 бесплатно
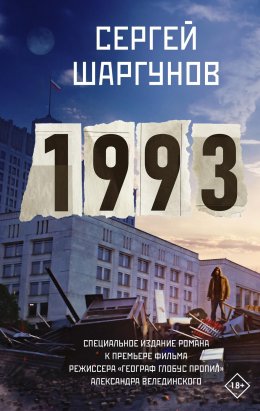
© Шаргунов С.А.
© ООО “Издательство АСТ”
Глава 1
Всю ночь с 23 на 24 июня 1993 года над Москвой шел сильный дождь, моросило всё утро, и сейчас, в полдень, еще накрапывало.
На Дмитровском шоссе в ряд вытянулась четверка троллейбусов. Их держал красный светофор.
Валентина Алексеевна сидела у окна, лбом прижимаясь к стеклу. Она ехала на собрание Белого Братства. В голове без конца играла давняя песенка: “За малинкой в сад пойдем, в сад пойдем, в сад пойдем, плясовую заведем, заведем, заведем!” В тоскливые или зябкие минуты, стараясь согреться или забыться, Валентина Алексеевна вспоминала песни детства. И даже на молитвенных собраниях, когда все пели гимны Марии Дэви, она, растворив голос в общем хоре, тайком пела свое любимое.
Позади бранились сырые пассажиры.
– Лето называется! – вздохнул кто-то.
– И что, я в этом виновата? – откликнулся женский голос.
– Да я вас вообще не трогаю!
– Ну и не трогайте тогда!
– Размечталась!
– О ком? О тебе, что ли?
– Чтоб ты сдохла!
– Только после тебя!
Валентина Алексеевна поежилась: “Злой народ стал” Машины ловчили, стягиваясь поближе к светофору. Проползла цистерна, желтая, круглая и чумазая, в темных блестящих подтеках. Следом задорно рванул грузовик с синим кузовом. Загудели одновременно два клаксона.
Гулкий удар.
Валентина Алексеевна всматривалась сквозь стекло.
Снаружи хлынуло. Она не могла отвести взгляд. Дзынь-дзынь-дзынь – мелодично и упрямо зазвенела струя в стекло.
Она смотрела и не понимала: светлая влага била, текла, расплывалась, но это не был дождь, нет, это был не дождь.
Укололо сердце, она вскочила. Люди, разом зашумев, толкали ее обратно на сиденье.
Только что грузовик протаранил заднюю стенку цистерны, и это бензин орошал все четыре троллейбуса, беспомощно вытянувшихся друг за дружкой. Струя, сильная и звонкая, хлестала в срединный троллейбус. Прямо в окно, за которым сидела Валентина Алексеевна.
Скользнула пугливая искра. За окнами ослепительно вспыхнуло. Всем стало жарко, и всех объединил крик ужаса – троллейбусы накрыла волна огня.
Валентина Алексеевна умерла от разрыва сердца за миг до того, как пламя охватило ее.
Водитель, молодой парень, вышиб монтировкой лобовое стекло и, выпрыгнув, побежал куда-то. Рога троллейбуса опалило, двери заклинило. Люди выбивали окна.
Бензин залил половину шоссе, и заполыхала огненная лужа. Кто-то, поскользнувшись, горел и уже не мог выбраться. Горящие фигуры бежали в разные стороны, раскачиваясь и танцуя. По шоссе, мимо машин. По тротуарам, мимо торговых палаток. Прохожие шарахались, или пытались сбить с них пламя, или просто остолбенело смотрели.
Усилился дождь. Поодаль накапливалась толпа.
И словно специально для толпы случилась драка двух факелов – всё пронеслось с такой скоростью, что не разобрать. Может, это влюбленные хотели отчаянными ударами спасти друг друга. Они обнялись, упали и слились в сияющий ком.
Четыре троллейбуса за минуту смешались в одно багрово-дымное целое. Рядом пылали грузовик и бензовоз.
Женщина в высоких сапогах заторможенно, широкими шагами, окутанная дымом и паром, шла по адовой луже, не выпуская из вытянутой руки длинный зонт. Сапоги ее золотисто разгорались.
Из дождя кричали:
– Беги!
– Бросай зонт!
– Падай и катись!
Внезапно, уже на пороге дождя, она раскрыла зонт над головой, и в ту же секунду грохнуло – взорвалась цистерна. Женщина упала. Следом за взрывом толпа шарахнулась, и даже самые дальние бросились врассыпную. Потом они медленно, крадучись, помаленьку опять скопились на прежних наблюдательных территориях. Зонт остался чудесно невредимым. Большой и упругий, он почти целиком прикрыл хозяйку.
Двое стояли на безопасном берегу, по виду старшеклассники. Руки их были сцеплены.
– Как на казнь любуемся! – сказал мальчишка. – Не стыдно?
– А чем мы им поможем? – спросила девочка.
– Молись!
Она послушно зашевелила губами.
– Смотри, лужи сохнут, – показал он.
Влага испарялась с суетливым шипением.
– Ой, Митя, а мы не загоримся?
Дождь, точно устыдившись своей нелепой ненужности, перестал. В небе проступила радуга, призрачная и переливчатая, как бензиновый поцелуй.
Съезжались пожарные, скорые, милиция, спасатели, репортеры. Огонь гасили пеной. Санитары тащили носилки.
– А ну брысь! – отгонял щекастый полковник камеры и фотоаппараты. – Я тебе пленку засвечу! Не вынимай ты душу! – подул он горячо на журналистку в элегантных солнечных очках.
– Как ваша фамилия? – протянул диктофон щуплый журналист с дымчатой шевелюрой.
Полковник выждал и сказал сентиментально:
– Иванов.
– А зовут Иван, да? – подхватили солнечные очки.
– Сколько погибших? – выпалил дымчатый.
– Сколько надо! – полковник отвернулся и пошел.
По вспученному асфальту волочили черные мешки. Пожарные вытаскивали из троллейбусов тела – одно за другим, одно за другим – и передавали по цепочке.
Подъехала аварийка – грузовик, где в кузове рядом с товарищами – слесарем Кувалдой и сварщиком Клещом – сидел Виктор Брянцев, электрик. Он вышел и огляделся.
– Дела-а… Как же их угораздило… – растерянно бормотал могучий Кувалда. – Чем провинились люди?
– Вот так: катаешься себе, и бабах, – тонким голоском поддержал низкорослый Клещ. – Был пассажир, и здрасьте вам: кучка пепла. И все равны: что безбилетный, что контролер…
– Хватит философствовать, – оборвал Виктор. Он был растерян больше остальных и от этого зол.
Провода свисали к земле. Возле троллейбусных остовов низко поникли фонари, как увядшие железные растения. Виктор глянул выше – на маленькую радугу в промытом светлом небе.
– Видал, а? – Кувалда сел на корточки, и, разогнувшись, показал на ладони большой значок, красным по желтому: “Хочешь похудеть? Спроси меня как!”
– Символичненько, – заметил Клещ.
– Да выбрось ты, – дернул плечом Виктор.
Кувалда швырнул значок, он покатился по асфальту. Сиротливо щелкнул и замер.
– И на кой нас вызвали? – пробурчал Кувалда. – Электричество чинить? Это вообще не наш участок.
– Да видишь, авария какая, всех и созвали, – сказал Виктор.
– Обедать пора! – крикнул из кабины Валерка Белорус, усатый водитель.
– Поехали… – согласился Виктор. – Толку от нас…
Забрались в кузов, покатили обратно в аварийку.
Ехали молча.
Аварийка находилась в центре Москвы, на первом этаже двухэтажного здания за гостиницей “Минск”. Кувалда с Клещом отправились в соседний магазин взять бутылку и еду. Виктор толкнул дверь.
– Ну что там? – подняла голову сидевшая за телефоном женщина, похожая на галчонка.
– Жуть, – сказал Виктор с нажимом. – По телевизору еще не говорили? – ткнул пальцем в сторону экрана; звук был приглушен: Богдан Титомир извивался и ответно показывал пальцем. – Пойду умоюсь.
Завернул в узкий туалет, накинул крючок на дверь. Щедро намылил руки, смыл, намылил снова, обхватил щеки. В мутном зеркале на него таращился голубоглазый мужик. Рыжеватые кудряшки. Косматые рыжие брови. Широкое мясистое лицо в молочной пене. Нагнулся. Фыркая, отмылся. Закрутил краны до упора. “Всем всё чиним, а у самих вечно вода холодная… Но сейчас даже хорошо, что холодная…”
В комнате – под клекот радио – сослуживцы уже расселись за столом. Кувалда, Клещ, Валерка Белорус, Зякин, Мальцев, Дроздов.
Окликнули:
– Иди, пожрем!
– Вить, наливаем!
Он неопределенно махнул мокрыми руками:
– Щас, щас…
Шагнул в предбанник.
– Есть будешь? – Жена всё так же сидела за телефоном. – Суп в термосе. Бутерброды.
– Да погоди, Лен. Тошно. – Сел на диван. Спросил, как бы нехотя: – А ты?
– Поела уже.
– Одна?
– Я ж на телефоне.
Он сидел неподвижно, с лицом в каплях воды. Закрыл глаза.
– Смотри, смотри! Тебя показывают!
Дернулся. Лена сделала телевизор громче.
Репортер говорил наступательным речитативом – красивый молодой человек со светлыми волосами до плеч. Черный микрофон подрагивал возле рта, фоном чернели троллейбусы.
– Предварительная картина произошедшего такова: тяжелый камаз врезался в бензовоз, в цистерне которого было около двадцати тонн бензина. Водитель камаза торопился: кузов его был забит дорогой мебелью, которую, видимо, с нетерпением ждали заказчики…
– А я где?
– Да был только что. Погоди, может, еще покажут…
– Теперь о жертвах. Сейчас ведется их подсчет. Но известно уже, что четырнадцать трупов обнаружено только в каркасе одного из троллейбусов. Борта сложились, в районе средней площадки крыша легла на основание…
Дали общий план: черные остовы, мигалки пожарных и скорых, мельтешащие фигуры с носилками и мешками.
На экране возникла студия. Дикторша, приветливая, с лукавинкой, в расстегнутой блузке.
– Мы следим за информацией с места ЧП. К другим новостям. Сегодня в Верховном Совете России первый заместитель генерального прокурора Николай Макаров выступил с докладом о ходе расследования материалов, связанных с коррупцией должностных лиц…
– Перед глазами стоит, – сказал Виктор.
– А? – Лена убавила звук.
– Перед глазами, говорю. Людей выносят. Не пойми чего. Трудно поверить, что это люди были.
– Ой, Вить, лучше не рассказывай.
– Это нам знак всем – вот что я думаю.
– Знак?
– Помнишь, Валентина книжку тебе давала… ну, брошюру… секты своей. Хренотень, понятно. Но мне там выражение одно понравилось. “Репетиция конца света”. То есть пока мир не сдох – перед этим репетиции. Вот я смотрел сегодня на троллейбусы обгорелые и вспомнил Первое мая. Недавно же было. Проспект перегородили, пожарники, неотложки, на асфальте кровь, и автобус горит. Горел, пока весь не выгорел. По ящику показывали. Может, тогда первый был… как его… знак. Сегодня второй… А впереди чего? Какие огни?
– Ты о чем? – Лена смотрела на мужа с подозрением.
– Совсем глупая?
– Сам дурак. Первое мая, Первое мая… Ты про своих любимых, что ли? – У нее замелькали ресницы. Она часто смаргивала, когда начинала волноваться. – Так они это сами устроили. Плохо ты, видать, телевизор смотрел. Им сказали: стойте и митингуйте, а они? Поперли куда не звали, вот и столкновение. Да что я тебе говорю? Всё знаешь! Еще и милиционера грузовиком задавили. И никто не виноват… – она даже присвистнула. – Коммунисты, вперед…
– Демокра-аты… – Виктор пошарил руками по дивану, словно в поисках поддержки. – Дайте людям демонстрацию провести. Они ж не на Кремль… На Ленинские горы шли… Кому мешали? И кто шел? Старики, ветераны. Их дубасить начали. ОМОН на них кинули. Черепа пробивали. Кости ломали. Ордена срывали.
– Что ты на меня ополчился? – Лена нервно засмеялась. – Я-то тут при чем?
– Ну и не спорь. Скажешь, случайное оно, сегодняшнее? – Виктор дико глянул на пальцы с налипшей пылью и снова принялся водить руками по дивану. – Разболталось всё, никакого контроля, народ на машинах лихачит. Довели страну до белого каления. Вот и горим!
– А раньше такого не было? – в тон ему резко спросила Лена. – Просто скрывали. Это сейчас свобода слова – всё быстро передают.
– Передают… – он зло усмехнулся.
Зазвонил телефон.
Лена сняла трубку и долго молчала.
– Да, да, – подтвердила наконец.
Открыла толстую тетрадь, быстро записала что-то, послушала, снова записала.
– Нет у нас никого, – сказала раздраженно. – Как это: где рабочие? На пожар всех погнали. Там все службы сейчас. Слышали, небось, чего приключилось. И как я вам помогу? Вы до утра потерпите? Подумаешь, нет воды. А у нас рабочих нет!
– Тили-тили-тесто! – в комнату ввалился Кувалда. Покачиваясь, стоял и улыбался. – Пойдем за вас накатим!
Лена прикрыла трубку ладонью:
– Утром новая смена будет, и сразу к вам отправлю. Женщина… Вы меня плохо слышите? А зачем кричите? – Кувалда выпал обратно. Лена подождала еще полминуты, что-то начертила в тетради. – Ждите до утра! – Звучно повесила трубку.
Это было тайное правило любого диспетчера – стараться не нагружать свою бригаду. Завтра Лену сменит Варя Лескова, и – вперед. Лена не только затягивала простые вызовы, передвигая их на время следующего дежурства, но иногда оберегала бригаду от срочных и важных. Прошлой зимой, когда поздно ночью прорвало трубу под кинотеатром “Пушкинский” и телефон не смолкал, что-то подсказало ей поберечь ребят. Перекинули рабочих с соседнего участка, а вторая труба за их спинами вдруг возьми и лопни, двое сварились в кипятке. “Ленка, милая! Ты нам жизнь спасла. Не послала на убой”, – говорили ее подопечные. И сразу скинулись на банку кофе и коробку конфет, потом еще Кувалда привез ей домой четыре стула, которые они вынесли в свое время аж из генеральной прокуратуры (аварийка была складом инструментов, фанерных листов, швейных машинок и прочей всякой всячины, найденной по подвалам).
Лена пробежала глазами свежую запись, закрыла тетрадь. “Надо же, воду отключили, – неприязненно вспомнила панический голос из трубки. – Что, первый день на свете живет? Перебьются!» В соседней комнате хрипло смеялись и весело бранились. “Пускай идиотничают”. Когда шумели, орали, пели, даже дрались, она чувствовала себя спокойно. Бывало, вернутся с вызова, потные, грязные, толкаются и ругаются, и она блаженно засыпает. А когда в аварийке безлюдно, все на выезде, вот тут не заснешь – тишина сверлит мозг, страшно за ребят, как они там, среди труб и проводов, под землей…
Она подперла голову рукой и вдруг вслух вспомнила о дочери:
– И что там Танюшка без нас делает?
Муж молчал. Он спал, запрокинув голову на спинку дивана.
“Одно достоинство – никогда не храпит”. У других мужики храпят, у нее – нет. Просто чудо природы. Большой, сильный, мордастый, казалось бы, должен трубить и рычать, а спит как младенец.
Они с мужем работали в разные смены: сутки через трое. Кто-то должен приглядывать за дочерью, да и отдыхать надо друг от друга (всё равно выпадало три дня общих выходных), но сегодня дежурная Лида Слепухина попросила ее заменить – свадьба сына, вот Лена с Виктором и оказались вместе. Дочка одна дома. Шестнадцатый год, боязно за нее.
…Виктор вскочил.
Кто-то тряс его за плечо, багровый и зубастый.
Виктор смотрел, не узнавая.
– Вставай, вставай! Соня какой, – Кувалда осклабился участливо. – На вызов пошли!
Виктор сел на диване.
Он был без куртки, накрыт легким шерстяным одеялом, оказывается, спал на подушке. Понятно, Лена подложила.
– Рядом тут, Михалыч, – говорил Кувалда. – Одному неохота. Сам знаешь, сколько там бомжей. С кем еще пойду? Наши упились, валяются. Я-то не пьянею, а они влежку. Работа минутная. Чоп поставлю, и дело с концом.
– Чоп?
– Ну да, чоп. Там дырка. Не варить же. У нас и народу нет – варить.
– Зачем столько трескаете? А если вызов серьезный, кого посылать? – Лена оторвалась от телефона. – Вить, сходи с ним, проветришься. Близко это, на Петровке. Под банком каким-то. Кувалда знает. Вернешься, и спи дальше. Вся ночь твоя!
Виктор вслепую сунул ноги в рабочие сапоги, которыми жена предусмотрительно заменила ботинки. Глянул на квадратный циферблат на стене: без пятнадцати десять. Долго спал.
– Чаю, может? Бутерброд вот с колбаской… – Лена зашуршала бумажным свертком.
– Не.
– Не ест он, – пояснила она как бы в пустоту. – Увидал сгоревших и есть не может. Всю жизнь теперь, что ли, будешь голодать? Пока спал, тебя опять по телевизору показывали. И Кувалду. Всю вашу троицу. Скажи?
– Показали. Вроде похожи. Ты ешь давай. – Кувалда толкнул его плечом. – На поминках тоже едят.
– Вернусь, похаваю, – бросил Виктор безразлично.
– Давай налью на дорожку, – Кувалда пихнулся снова, заглянув в лицо.
– Не могу я.
– Чудно2 поминаешь…
– Да не поминаю я никого, отстань! – Виктор прошелся по предбаннику, подергал ногами, закинул руки за затылок. – Башка трещит. Вот не пил с вами, красавцами, а весь как с похмелья.
– Надо было выпить. Или своей боишься?
– Ага, боится он. Ничего он не боится, – сказала Лена сварливо, но и с некоторым довольством.
– Я три бутылки выпить могу и трезвый буду, – сказал Кувалда. – Вы представьте, до чего допился сегодня: “Рояль” водкой запил. Спирту, значит, хлебнул. Из другого стакана – хлоп, думал, вода, а там водка. Фу-ты ну-ты… Клещ, как увидел такое дело, его стошнило.
– Вы чего там, наблевали? – спросила Лена строго.
– Да нет, он в окно…
– Точно не в комнате?
– Да нет…
– Смотри, кому-нибудь на голову наблюет.
– Да нет, там козырек железный. Он на него. Я звук слышал, гремело. А вы это… – Кувалда посмотрел на Брянцевых вопросительно и деликатно. – Я слышал про это самое… базарили… Как ненормальные. Вы чего?
– Про что? – недовольно насторожилась Лена.
– Про коммунистов, демократов, хрен вас разберет… Чтоб я со своей так…
“Слышал он… – подумал Виктор. – Как он услышал? Они же пили в другой комнате”.
– А ты ему скажи! – оживилась Лена и стала нервно пролистывать туда-обратно тетрадь. – В жизни его политика не интересовала. Перестройка мимо нас пролетела. И тут вдруг начал… По телевизору одно скажут, я смотрю, он вроде как ревнует и наоборот вякает. Я возражу, он взбесится, давай опровергать. Ну и мне обидно! Выходит, это он меня нарочно унижает. И начали мы в политике разбираться. Кому рассказать – не поверят. С какого это времени у тебя, Вить? С весны? Или раньше? Зимой еще? Когда съезд показывали? Помнишь, болели мы, кашляли, смотрели от нечего делать… Стал вдруг Хасбулатова хвалить! Лишь бы мне насолить… – Она осеклась.
Виктор, подойдя вплотную к Кувалде, положил ему руку на плечо.
– Друг. Эй, друг! Ты если в чем не понимаешь, в то не лезь.
Он говорил с такой негромкой яростью, что Лена ощутила горячую волну опасности.
– Совсем сдурели? Идите уже отсюда!
– Я? Я ничего… – Кувалда стоял прямой и недоуменный, погасив улыбку. – Спросить уже нельзя? Не кипятись ты, Михалыч. Вам жить…
– Распелась… – сказал Виктор. – Придумала и поет… – Он снял зеленую куртку со спинки стула, резко поднял молнию. – За Россию я переживаю. Чего вам непонятно?
Глава 2
Виктор родился зимой пятьдесят четвертого в Нововятске Кировской области, в большом двухэтажном бараке. В комнате была печь, которую он лет с пяти помогал топить дровами. Мама Вера, медсестра, работала сменами, по двенадцать часов. Бабушка Антонина Андриановна жила неподалеку – в деревне Шельпяки, за железной дорогой и леском, работала в колхозном саду и вдобавок возделывала свой участок. Ягоды носила на рынок в Киров – пешком восемь километров по тропинке вдоль железной дороги (поезда в Нововятске не останавливались), маленький Витя частенько следовал за ней.
Мать была им беременна, когда отец, работник лыжного комбината Михаил Бабин, попал под паровоз. Она говорила: перед этим поссорились, но не хотела рассказывать из-за чего, рассказом человека не вернешь. Сказала только однажды с какой-то обидой: “Чудной он был! Нервный”. Люди видели: он выеживался, шел по рельсе перед сигналившим поездом и наверняка хотел спрыгнуть, но не успел – его скосило, свалился по насыпи и сразу умер.
Можно было, наверно, вытравить ребенка (хоть аборты были под запретом, но все-таки она работала в больнице), однако брат, живший в Шельпяках и тогда еще бездетный, пообещал сурово: “Вера, я его возьму, если он тебе будет не нужен”.
Однажды мать получила деньги в кассе взаимопомощи на покупку мебели. Маленький Витя нашел пачку и удивился: “Зачем нам так много?”, отщипнул половину – только красных, оставив синие и зеленые, вынес во двор и раздал ребятам, которые немедленно накупили пряников и всякой всячины. “Ты что? – спросила мама холодно. – Где я теперь возьму красные деньги, а? – У нее сделался такой голос, что лучше бы отшлепала. – Они же самые дорогие!” Переживая, Витя не спал ночами и всё думал: “Что я наделал! Где мама возьмет себе новые красные бумажки?”
Мама была красивая, крепкая и звонкая – рыжина ему передалась от нее. Решительная, он побаивался ее всю жизнь.
Когда ему было четыре, она вышла за строителя Николая Брянцева. Брянцев был каменщиком по кличке Коля-руль, – всё разруливал, – напористый, лысый, с мощными кистями, дико развитыми от укладывания кирпичей. “Ни над кем не смейся! – повторял отчим. – Я дом, бывало, строю, вижу кого-нибудь лысого и кричу сверху: «Эй, лысый!». Вот и облысел быстро”. Вите было пять, когда мама родила дочку, названную Изольдой, – Изку. Им сразу дали трехкомнатную квартиру.
Витя ревновал к сестре. Приходила чужая, Изкина, баба Дуня, пеленала грудную, а он из-под кровати изо всей силы царапал старухе ноги. Она терпела, не жаловалась, пеленала… Сказала в первый же день, как пришла: “Коля, Витьку никогда не бей!” Отчим только в угол ставил.
В садике Витю за фамилию Бабин дразнили Бабой, но в школу он пошел уже Брянцевым. В детском саду он часто засиживался допоздна и оставался со сторожем Русланом Муратовичем, пожилым татарином, который приносил ему большую кастрюлю с кухни, где были разбухшие остатки компота – чернослив, курага, слива, изюм. Руслан Муратович ласково смотрел серо-каре-голубыми пестрыми глазами, как Витя, наклоняясь, скребет ложкой, выплевывает косточки на клеенку.
– Это компот волшебный, – говорил сторож, возможно, ставя какой-то эксперимент. – Всю гущу ешь, всю. Вот так, молодец. Ты никогда не умрешь. Это компот для бессмертия. Кто в свою смерть не верит, тот никогда не умрет. Ты бессмертный, запомни это, потому что ешь этот компот. Понял?
– Понял.
– Вкусно тебе?
– Да.
– Волшебный компот, – довольно кивал сторож.
– А другие днем тоже его пьют… – как-то заикнулся Витя.
– Они долго проживут, – мгновенно нашелся сказочник.
С этих пор Витя всю жизнь любил компот.
Изка заболела воспалением уха, стала тоненько надрывно плакать, и Витя вдруг начал ее жалеть. Он стоял часами у ее кроватки, заглядывал, поправлял одеяло, чи-чи-чикал языком о нёбо, убаюкивая, и у него самого в какой-то момент застреляло в ухе. Пришла баба Дуня: “Молодец, Витя, это твоя сестричка!” – он заплакал, бросился навстречу, упал на колени, обнимая толстые ноги чужой бабушки. “Да что ты, обалдел?!” – она подняла его грубым рывком…
В Нововятске городские дома перемежались с сельскими. Как-то летом вместе с приятелями Витя перелез через забор и стал в сумерках шарить в подвернувшемся огороде. Ребята что-то выдергивали из земли и бросали, объели один куст крыжовника, другой обсикали. Зато Витя, аккуратно вытянув с ботвой морковку, принес матери по пять штук в каждой пятерне.
Утром, вернувшись со смены и увидев на подоконнике оранжевые гостинцы, она спросила:
– Ты где взял?
– Нашел.
– Ты зачем их принес?
– Мам, я слышал, что от моркови люди веселеют. А ты устаешь, ты бываешь грустная.
– Пошли.
Она заставила привести ее к дому, который он нашел с тоской. К ним вышла бабуся в сарафане, заохавшая и замахавшая руками, но мама была упряма: Витя прошел на огород и воткнул в грядку всю морковь. Он плакал и сажал. С тех пор чужое он не брал.
Ему было девять, когда в леске с ним случилось страшное. Он уже дошел до насыпи, как, вовремя не услышанный из-за проходившего поезда, кто-то хлопнул его по плечу, сгреб в охапку, оттащил обратно в заросли и бросил на траву. Витя оцепенел, будто всё это ему снилось. “Только пикни – убью!” – мужик с бугристой рожей, в соломенной шляпе стоял над ним. “Я бессмертный”, – смутно вспомнил Витя и просить о пощаде не стал. Мужик ловко и быстро связал его толстой бечевой, словно бы проделывал это часто, и, оставив лежать на животе, ушел, напоследок опять сказав: “Только пикни”.
Неизвестно, ушел ли он насовсем или отошел, чтобы вернуться, – Витя напряг всё тело, ослабил узел, освободил правую руку и развязался за пять минут. Он побежал без оглядки в сторону бабушкиного дома – взлетел по насыпи и чуть не угодил под поезд. Обернулся: нет ли преследования? Соломенная шляпа мерещилась за каждой елкой.
Никому о случившемся он не рассказал, но ночами его мучили кошмары. Он узнал того мужика осенью возле их школы, без шляпы, с седым хохолком, и по тому, как затрепетал один мальчик – невысокий Вася Нилов, – понял, что был не единственным. И еще он понял: надо стать смелым.
И он стал приучать себя к смелости. Он заходил в лесок с перочинным ножом наготове, однажды забрел в самую середину, простоял, зажмурившись и досчитав до ста, а после, сохраняя достоинство перед невидимым наблюдателем, медленно удалился: сердце ухало так, что казалось, оторвется.
Вода манила Витю как главная опасность. Весной ребята собирались на окраине у реки Вятки, вдоль которой стоял город. Льдины то ползли, то припускали, сверкая и с треском ударяясь одна о другую. Витя прыгнул, поскользнулся, упал, но остался на льдине, встал и перескочил на следующую. Он не раз повторял эти прыжки. Однажды свалился в реку, но легко выбрался, наполовину мокрый, с сапогом, полным воды. Дома мать ударила его по губам ладонью, сразу всё поняв.
Она, когда сердилась, била по губам: было больно, но больше – обидно.
Летом по Вятке сплавляли лес, это дело называлось “затором”, и Витя решился пробежать по бревнам. Компанию ему составил Лешка Шмелев, друг из класса, с пушистой русой головой. Им повезло – перескочили от берега до берега и назад, несколько раз едва не угодив между мокрых жерновов.
Бабушка Анна, мать отца, из деревни Леваши, недалекой от Шельпяков, наставляла: “Витенька, если будешь ругаться – зубы сгниют, язык пожелтеет. У меня зубы хорошие, никогда по врачам не ходила. А язык во-он какой розовый! Даже если больно или обидел кто – кричать можешь, а матных слов не говори. От них все болячки”. Витя пропускал бабушкины советы мимо ушей. Особо не ругался, но и не так, чтоб ни-ни, – как вся детвора, по случаю.
У них в школе была такая забава: в классе или спортзале перебрасывать друг другу матерное словцо. Девочки в этом не участвовали, краснели, фыркали, стучали учителям. Словцо на букву “б” или на букву “х” Витя пасовал бездумно и беззаботно, но однажды, ему уже было десять, почему-то не захотел или, точнее, не смог. Как закоротило. Стало почему-то противно. В первый раз на это не обратили внимания, и во второй вроде не заметили, а в третий шпаненок Мишка Зыков, чей пароль оборвался на Вите, подойдя на перемене, громко спросил: “Может, ты девка?” – и сразу схлопотал в зубы. Мишка для видимости тоже пихнулся кулаком, но завял.
– Ты где себя изгадил? К доске прислонился? – зашумела дома мать. – Снимай немедленно…
Витя недоуменно расстегнул серебристые пуговицы и стянул серый пиджак. Сзади бледнел полустертый крест. Вспомнился гаденький шепот: “Святой”. “Что, я так весь день проходил? Святой?” – он испугался: теперь прицепится кличка. На следующий день для верности немного накостылял Зыкову, и кличка не прицепилась.
С ребятами мастерили самопалы – поджиги – и палили по елкам в леске. Были и такие компании, которые мучили кошек и собак. Сосед по лестничной клетке Сашка Моисеев, на год старше, выкинул щенков через форточку с пятого этажа, привязывал кошек к дереву колючей проволокой и на глазах малышни метал в них камни. Витя усилием воли не общался с Сашкой, хотя тот был мастер на все руки, отлично разбирался в моторных велосипедах и самокатах и это к нему притягивало.
Витя хорошо учился, лучше всего по физике, много читал – про приключения, особенно морские. Любил читать газеты отчима, которого звал папой, и на уличных стендах. Во дворе из запчастей собирал и разбирал с дружком Лехой моторный велосипед, сидел над чертежами снегохода и мечтал соорудить космический корабль. Он занимался в секциях футбола и хоккея, а мама записала в музыкальную школу на класс баяна. Витя не только отменно играл на этом инструменте, но и неплохо пел, умело подражая голосам эстрадных знаменитостей.
Как-то осенью в леске на поваленном дереве глотали портвейн вчетвером, среди них был мелкорослый Вася Нилов. Прямо перед ними раздвинулись заросли, возникла пожухлая соломенная шляпа… Витя с Васей мгновенно переглянулись, и Витя увидел в Васиных глазах жуткое знание о том, что делает с пойманными этот мужик, как будто Васю уже вешали или топили.
– Ребя, это он… – тихо сказал Витя.
Потрясенный Вася молчал.
– Кто? – спросили остальные.
Мужик вышел на поляну, презрительно глядя сквозь них. Витя взял лежавшую на земле поджигу, которую как раз собирался пристрелять, выхватил из кармана коробок, чиркнул приделанной спичкой. Железная дребедень полетела ввысь, ударила над головой мужика, осыпая еловые иголки. Леха поднял свою поджигу, и мужик побежал, потеряв шляпу.
– Стоять! – Витя бросился следом.
Друзья – за ним.
Они бежали через весь лесок, и на опушке, когда преследуемый выдохся и, обернувшись, оскалился, Витя с разбегу ударил его головой в живот, тот упал, навалились другие, и, сидя на нем, вколачивая ему в щеки свой страх, вбивая в глазницы свои кошмары, Витя услышал, как Леха спросил: “Да кто он хоть?” – а Вася ответил: “Кто-кто, бандит”…
Классе в шестом он стал заглядываться на брюнетку Олю Рукавишникову, миниатюрную отличницу, звеньевую, торопыжку, с сухими и быстрыми конечностями, как у кузнечика. Несколько раз провожал до дома, пока она, честно задрав личико, не сказала ему заученными, бесчувственными, оскорбившими словами, которые показались ему всё равно прекрасными: “Виктор, я с тобой не хочу водиться. Ты сначала в армии отслужи – раз, в институт поступи – два, и специальность хорошую освой – это три. Ты совсем не собранный!” Никем-то она потом не стала, инженер в заводском отделе, развелась, осталась с двумя…
Он поцеловался в последнем классе с Таней Кривошеиной, чьи следы теряются – улетела к отцу в Приморский край, в город Артем. Эта Таня ему не была мила, просто в поцелуях была доступна. Она была плотная, с черными жесткими волосами, с хриплым смехом…
Как он и мечтал, его призвали на флот.
Он был отправлен в Североморск, на большой корабль “Достойный”.
Ходили по Атлантике – в Анголу, в Луанду, где вставали на боевое дежурство, и тогда соседняя ЮАР остерегалась выпускать свои бомбардировщики. Ходили по Средиземному морю – в Тартус, в Сирию. Были в Тунисе с официальным визитом, спустились в город на четыре часа, бродили по восточному базару, разбившись на пятерки. В их группе на троих купили две бутылки кока-колы на ту мелочь, которую им выдали.
Чаще всего швартовались к рейдовой бочке и вставали на якорь в одной точке метров восемьдесят глубиной, и так стояли по нескольку недель посреди воды. Ночью прожектор светил в воду, по левому и правому борту дежурил матрос в каске и с автоматом. На свет с тихим плеском всплывали рыбы или бесшумно поднимались кальмары, в первый миг похожие на диверсантов своими фиолетовыми внимательными огоньками глаз.
Тяжело было на вахте зимой на верхней палубе, когда стояли в Баренцевом море: дубак, полярная ночь, а ему, вернувшемуся из теплого странствия, приходилось убирать снег и скалывать лед.
Как-то они на три месяца бросили якорь возле острова Кильдин в Баренцевом. Пустой пологий остров. Гранитные берега. Пара столбов. Виктор до одури смотрел на берег и думал: “Мертвая земля… Зачем она?” Ему уже казалось, что он обречен навечно остаться здесь, в полутора милях от проклятого острова. Клокотала стылая свинцовая вода. Над морем и над островом то и дело поднималась пурга. Снежный заряд проходил, и вновь открывался остров. И тогда он стал думать, что бессмертный. Если бы он никогда не умирал, вытерпел бы он – стоять вечность на корабле рядом с этим островом Кильдин? Конечно! И ему стало не так грустно.
Виктор был незаменим. Он был отличным радистом. Каждый день по четыре часа сидел в тесном помещении боевого поста и принимал радиограммы. Он усовершенствовал работу – изобрел передаточное устройство на базе кинопроектора “Украина”.
Он гадал, куда идти после дембеля, но замполит Крябин, костистый человек с обветренным, как бы сырым лицом, придирчиво воспринимавший все его изобретательства в радиорубке, сказал:
– Старший матрос Брянцев, в Москве есть такой институт, куда ты никогда не поступишь!
– Как называется?
– Физтех!
– Спорим, поступлю, товарищ капитан-лейтенант!
Зачем Крябин посоветовал, где учиться, если он Виктора недолюбливал?
Виктор получил на корабле сухую положительную характеристику (“Делу партии и правительства предан, военную тайну хранить умеет”) и выслал документы в Москву. За несколько дней до дембеля замполит отдал ему письмо-вызов из института (“Небось, провалялось у него в каюте”, – подумал Виктор) – оказывается, до экзаменов оставалось меньше месяца, а за эти годы он все учебники позабыл…
В Москве на экзамены ходил в форменке и бескозырке, никакой другой одежды не было. Получил одну четверку, остальные пятерки, хотя моряка могли принять и с тройками.
Поступив на физтех, он вдруг понял: костистый замполит желал ему добра, иначе бы не подтолкнул учиться в Москве, и Виктор даже хотел написать ему благодарную открытку, но так и не собрался.
Он подрабатывал на Савеловском вокзале грузчиком. Выучился печатать на машинке – пригодились навыки радиста, – причем на немецкой. Взял академотпуск на год и устроился работать в ФИАН, в лабораторию спектроскопии.
В семьдесят седьмом он познакомился с Леной.
Глава 3
Вышли в вечерний город. Водитель Валерка упился до отключки. Связываться с ним не любили. Не в том дело, что пьяный за рулем – добыча для ментов (кому надо тормозить их машину). Просто идти близко, да и чудил по пьяни Валера. Однажды, вильнув, заехал на тротуар и врезался в подножие памятника Долгорукому. “Чо творишь?” – орал Виктор, выскочив из грузовика. “Хотел познакомиться! – объяснял Белорус счастливо. – С князем!” Такое панибратство возмутило больше всего. А если бы они взорвались? Сколько раз Виктор ловил себя на этой мысли. Взорвешься, и не успеешь заметить. Кузов машины всегда был забит множеством баллонов. Белые баллоны – с ацетиленом. Синие – с кислородом. Частенько баллонов было столько, что вылезать приходилось через боковое окно. А впереди за рулем лихачил Валерка.
…Виктор с Кувалдой затопали вниз по Тверской.
– Руки распускаешь, – сказал Кувалда.
– А? – рассеянно отозвался Виктор.
– Ты меня это… за плечо больше не бери… Если бы не твоя, я б тебя мигом успокоил… Не веришь? Хочешь, успокою?
– Да кончай ты. Извини, Кувалда. Я же не притворялся.
Кувалда был хоть и груб, но добродушен и кличку свою принимал как должное.
В сумраке всё словно разбухло и подернулось нежным жирком. Горели гирлянды, вывески, рекламные щиты, стеклянные витрины зарешеченных киосков. Поблескивал и хрустел мусор под ногами. Возле киосков разливали водку и жевали, о чем-то спорили, хохотали. Некоторые сидели на деревянных ящиках.
Людей на улице было много. В основном молодых. Виктору казалось, что прохожие хрустели мусором со значением. В каждом хрусте, стуке, хлопке слышался восклицательный знак.
Навстречу шатнуло компанию в кожаных пиджаках, человек семь.
– Атас! – закричал один, и в бликах огня вынырнула смуглая мордашка, рот до ушей. – Москва сосет! Казань решает!
Другой засвистел от души.
– Зеленые! – заорал третий. – Зеленые человечки! – Видимо, его впечатлили куртки рабочих.
– Я тебе покажу человечка, – заворчал Кувалда, но компания уже пронеслась – мгновенная и громкая, как будто в мусоропровод высыпали ведро.
У метро “Пушкинская” на ступеньках перехода возле кафельных стен стояли девицы. Две по левой стороне, одна по правой. Курили и ворчливо трепались.
– Наташи! – позвал Кувалда.
Девицы ни на кого не обращали внимания, как будто специально для этого здесь и встали – показать, что им ни до кого нет дела. У девицы с распущенными черными волосами верх прикрывала черная тряпица, но золотилась, как фольга, короткая юбка. Блондинка была целиком в черном, зато с жирными красными губами и нарумяненными щеками. У третьей, тоже в черном, курчавились рыжие волосы и блестела алая кожаная сумочка. Смешанный запах сигаретного дыма и резких духов поднимался вверх и зависал в воздухе.
Кувалда качнулся и едва не полетел вниз по ступеням. Виктор удержал его за локоть.
– Я тебя не агитирую, – заговорил он с досадой. – Но, послушай, разве тебе всё равно, как ты живешь?
– Ты про что?
– Это от власти зависит, как человек живет.
– Опять про свое!
– А политика – это что? Это жизнь! Твоя и моя! Это их, если хочешь, жизни! – он кивком головы показал на проституток.
– Ау, родная! А я Дед Мороз! – вдруг крикнул Кувалда и в легком плясе прошел между девицами. Те, на секунду замолчав, продолжали свой треп.
Виктор шел за Кувалдой следом, жмурясь, как пленный. Он брел сквозь бряцание гитары, крики зазывалы-лотерейщика, гомон идущих с работы. Зеленая великолепная спина Кувалды плыла впереди, и ничто не могло ее заслонить. Миновав переход, вышли на бульвар и возле метро “Чеховская” свернули в арку. Кувалда остановился – в стене серебрилась дверь – дернул ручку, вошли. Спустились по каменным ступеням на бетонный пол, мокрый.
Виктор зажег фонарь. Так положено: освещает путь тот, кто сзади. Он старался попасть лучом через плечо Кувалды, хотя сомневался, что сильно этим помогает.
Тесный коридор постепенно ширился.
Обычно идущий впереди держал горизонтально лом. Успеет его подставить, если полетит в колодец. Но Кувалда знал дорогу наизусть и просто предупреждал зычно:
– Колодец!
Открытые колодцы – кабельно-вентиляционные шахты – были глубоки. Наверняка в них падали и бросались. Иногда Виктор думал о том, что они хранят на дне черепа и кости. По бокам из железных сеток светили крупные тускло-белые лампы, но ламп попадалось мало, большая часть была разбита или перегорела, в осколках плафонов зеленела застоявшаяся вода. Несколько раз встретились обычные лампочки, голые, на проводах. По стенам извивались толстые и тонкие трубы и тянулись провода, толстые и тонкие. Некоторые провода торчали опасно, голые и острые.
Пошли рядом.
– Не пойму, – сказал Кувалда, – как здесь живут?
– Куда денешься.
– Уж лучше не жить, чем так париться.
– Человеку жить охота.
– Здесь раньше армяне жили, – сказал Кувалда. – Знаешь, нет?
– Ну, – согласился Виктор. – Слышал.
– С детьми, с чемоданами! Я вот думаю: чего их свои не забрали? Армяне ж сильный народ! Наверно, забрали потом. Забрали, а? Они мало здесь жили. Полгода.
Виктор глянул налево.
Он любил эту таинственную дверь.
Большущая, черная, намертво заваренная и никому не доступная, она, видимо, по причине своей недоступности была исписана матом и лозунгами. “Боря, мы не рабы!” – тянулась свежая, красными буквами надпись; под ней розовой тенью корчилась другая, засохшая и устаревшая, двухгодичной давности, которая уже не читалась, но он ее помнил: “Пусть живет КПСС на Чернобыльской АЭС!” Он полагал, что это дверь в особый, ведущий к Кремлю тоннель, проложенный в былое время.
Они вошли в зал, где за пеленой табачного дыма мелькали силуэты, кто-то чавкал, говорили несколько голосов. Кисло и пряно смердело, и рвался лающий кашель такой гулкой силы, что перекрывал другие звуки.
– Кто идет? – вырос наперерез подросток, но, увидев зеленые куртки, исчез в дыму.
Кашель оборвался.
– Не бойтесь, не съедим! – прозвучал скрипучий сказочный голос, раздался общий смех, и Кувалда ускорил шаг.
Виктор нервничал. Пытаясь разминуться с каким-то бородачом, чей костыль торчал, как штык, он взял левее, и тогда по щеке его погладила мокрая простыня.
Он рванул бельевую веревку, кинулся вперед и налетел на крепкую спину Кувалды. Тот свернул в коридор, не сбавляя хода, и Виктор подумал, что сам искал бы трубу гораздо дольше.
Кувалда замер, точно бы принюхиваясь:
– Близко…
Под сапогами захлюпало. Клубился, редея, пар, мутно горела, треща, запотевшая лампа, воды было по щиколотку, но оба шагнули в нее спокойно, понимая, что это уже не кипяток.
Кувалда громко выругался и быстро подошел к трубе, покрытой слоем лоснящейся ржавчины.
Дырка в трубе, вывороченная наружу, была как кричащий прожорливый роток с острыми клычками. Кувалда сунул палец и принялся внимательно – удрученно, но и словно насмешливо – ощупывать острые края.
Наверное, он так бы и водил пальцем, если бы Виктор не окликнул:
– Ну, ты долго там?
Кувалда пошарил в кармане. Извлек чоп. Чопом называлась щепка.
– Сосна? – спросил Виктор.
Кувалда, не отвечая, мягко и уверенно вкручивал. Из другого кармана достал молоток.
– Посвети.
Виктор поднес фонарь ближе. Несколько ударов, и щепка скрылась в дыре.
Это была простейшая операция. Если разрыв трубы больше, приходилось туго. Спускались в подземелье по пять человек. Тащили сварочный аппарат. Весом – двести сорок кило. Его нужно подключить к электричеству – тянули сварочный кабель. Находили в подземных закоулках электрощит. Или же катили два баллона на тележке. Белый баллон – сто двадцать кило, синий баллон – восемьдесят. Подключали горелку – и либо режь резаком, либо сваркой сваривай.
– А это мы под банком? – задумчиво спросил Виктор.
– Ну.
– Банк… – Виктор хрустнул словом, как леденцом.
– Грабануть надо, – полувопросительно сказал Кувалда.
– Да ты наш человек!
– Ваш, ваш…
– Сидят там, наши денежки мусолят. А мы им под землей трубы чиним. Каждый день на подвиги идем. В говне по горло. Помнишь, Хромов как отличился. Вот кто герой Советского Союза!
– Нет уже того Союза…
– Еще вернем!
– Опять ты за старое.
– Старое – вот… Вот – старое! – Виктор показал на трубу. Она тянулась вдоль стены, ржавая, толстая и умиротворенная, с первого взгляда и не поймешь, что заделана щепкой. – Знаешь, Ленин говорил: всё сгнило, толкни и развалится. Не веришь? Дай молоток! Дай!
– Не дам!
– Я разок вдарю, и труба упадет… Не веришь?
– Верю.
– Дай!
– Дурак, что ли? На хрена мы сюда ходили? Твоей же Лене вызов снова принимать.
– А мы больше не примем. Дай!
– Слушай, кто из нас бухал? Оставайся здесь тогда. Кулаками ломай. Геро-ой… – Кувалда решительно пошел в коридор. – Лучше с Хромова пример бери.
Со слесарем Игорем Хромовым на прошлой неделе была особенная история. Затопило ЦТП – центральный тепловой пункт, для него родной, как пять своих пальцев. Вода хлещет – горячая и холодная, жесткая, для промывки бойлерных труб. Откачали перегретый пар – не дай бог вдохнуть: и ноздри, и легкие склеятся. Потом дождались, когда горячая разбавится холодной, горячую смогли перекрыть, а холодную нет. Хромов разделся до трусов. Вошел с улицы по ступенькам. Поплыл. В темноте. Сто метров плыл. Нырнул. Знал, где нырять. Два метра в глубину. Под водой повернул задвижку, остановил воду. Вынырнул, поплыл обратно. Всё в темноте. Потом уж подключили насос – стали воду откачивать. А Хромов обтерся курткой, оделся. И сиял, как именинник. Над ним шутили, он еще больше сиял. Валерка нос двумя пальцами зажал: “Ой, мышами воняет!”, а Хромов – сияет, как будто оглох.
Шли обратно. Впереди опять послышался кашель. Виктор говорил громко, так, чтобы вместе со светом фонаря слова перелетали через плечо Кувалды, вставали на пути, заставляли задуматься:
– Сейчас другие времена. Я бы не поплыл! Не! Я тебе больше скажу: раньше я не мусорил. Если кто бумажку кидал, мог ему замечание сделать. Теперь мусорю! Бумаги кидаю, бутылки. Пускай. И хоть бы все трубы погибли. У меня мысль такая бывает: взять лом или молоток и по подземелью ходить. И трубы курочить. Зимой желательно. А? Вот когда без воды и тепла народ окажется – может, призадумается о жизни. Опомнятся, но поздно будет. Их будить нужно. Как в колокол – бам, бам, бабах. Одну трубу, другую… Все эти старые трубы наши разбить к чертям. Демократы-то новых не поставят. Я бы так и делал, но сам знаешь: прорвет трубу, и сварюсь заживо. Игра, как говорится, не стоит свеч. Да и жалко людей. Жалко людей, – повторил Виктор. – Ничего с собой не поделаю. Сегодня люди в троллейбусах сгорели. Жалко. Как родственники прямо. А нас-то не жалеют. Кто в Кремле засел, ты знаешь, я уже говорил…
Кувалда шел по коридору, не оборачиваясь.
Под ногой что-то упруго подпрыгнуло и отскочило мячиком.
– Крыса! – крикнул Виктор хрипло.
Кувалда притормозил и бросил через плечо:
– Не митингуй.
Вышли в зал. Толстяк непонятного возраста сидел на корточках у стены. Круглое лицо, длинные черные волосы, слежавшиеся.
– Работали? – спросил подозрительно, с очевидным усилием сдержал кашель и наморщил лоб, образовав глубокую борозду.
– Ты чего кашляешь? – спросил Виктор.
– Идем, – сказал Кувалда.
– Эмфизема, – сообщил толстяк название диковинного цветка, живущего в легких.
– А остальные где? Вас же вроде больше было.
– Ночью жизнь только начинается! – сказал толстяк наставительно. – Ночью – все дела…
Он кашлял с наслаждением, увлеченно, как будто расчесывал какие-то внутренние коросты. Поднялся было, но новый виток кашля искривил его лицо, поехавшее вбок, он сгорбился, обвис, протянул ладонь и выдавил:
– Помоги!
– У меня с собой денег нет, – сказал Виктор неуклюжую фразу и бросился догонять товарища.
– Хорошо сходили, – заметил Кувалда, когда они по ступенькам поднялись в город.
– Хорошо? – спросил Виктор, выходя следом.
– Без висяков.
– А… Правда.
Бывало, рабочие натыкались на висяков. Почему-то под землей люди вешались. Бродяги или забулдыги, а может, и порядочные граждане. Зайдет такой в тепло, спасаясь от доконавшей жизни, разопьет бутылку, потом и петлю смастерит: из брюк или лучше из ремня. Удобно – всюду трубы. Зацепился, и труба.
Наверное, подполье давило на психику. Видно, выпив и разомлев, человек уже смирялся с судьбой и думал: когда еще я буду так готов, чтобы оказаться под землей? Лучше, чем на проклятой поверхности. Помру, перенесут в могилу, считай, вернут под землю. Так Виктор расшифровывал мысли решивших себя повесить. Рабочие не сообщали о них в милицию: всё равно менты раз в сутки шныряют здесь и собирают урожай.
Некоторые вешались очень неудобно – в середине прохода. Движется ремонтный отряд – несет тяжесть, задыхается, а этот, словно в издевку, висит себе, отмучился, и ведь нагло так висит, не разминуться. Приходится гуськом, ближе к стене, чтоб только труп обогнуть. Однажды баллоны на тележке катили, Мальцев задел мертвую ногу – Зякину ботинком врезало по кумполу. Ботинок от удара соскочил. Шваркнулся на пол гулко. Прошли, встали – и обернулись все вместе: раскачивалось тело с одним ботинком…
Виктор и Кувалда вышли из арки, спустились в подземный переход. Людей стало меньше. Лотерейщик исчез. Только гитара всё бренчала, и паренек в косухе и с белой челкой затянул какую-то песню, которую они не знали.
На улице у фонаря стояла одна из трех проституток. Курчаво-рыжая, она курила, подогнув ножку и упершись каблуком в фонарный столб. Кувалда окинул ее жадным взглядом.
– Может, в “Макдоналдс”? – показал на темневшую толпу.
– Ага, час стоять… – Виктор хмыкнул. – Смотри, смотри! – Он махнул рукой в небо, как будто увидел чудо, которое вот-вот пройдет.
– Где? Чего?
В небе низко висела белая луна.
Глава 4
Таня ужасно обрадовалась, что уехали и отец, и мать. Такое выпадало редко. Пригласила подруг.
Таня была рыжеватой и светлоглазой в отца и смуглой в мать. Тоненькая, длинные ноги и руки. Робкие, едва оформившиеся груди. Одета была как всегда просто: голубая футболка, черная юбка.
Она протерла стол в гостиной мокрой тряпкой. Нарезала салат, колбасу, поставила бутылку кагора, купленную в палатке. Пришла Рита – соседка по улице Железнодорожной, тоже пятнадцати лет, в кофточке с люрексом – и помогла: открыла бутылку, расставила тарелки и бокалы. Потом пришли сестры с Центральной – Вике шестнадцать, Ксюше тринадцать. Обе блондинки и в джинсовых костюмах.
Таня попивала кагор маленькими глотками, скрестив ноги, и то и дело покусывала заусенец на левом мизинце. Она посматривала на подруг и ногой помахивала в такт песне, гулко бухавшей из магнитофона:
Рамамба Хару Мамбуру.
Рамамба Хару Мамбуру.
– Клевая песня, – сказала с сомнением и как бы извиняясь. – Только ребята русские, а непонятно, про что поют.
– Это-то и клево, что ничего не понятно! – ответила грубым гусиным голосом Вика, ширококостная, с красноватым лицом.
– А мне группа “Пепси” нравится, – пискнула Ксюша, прозрачная неженка.
– Она здесь тоже будет, – Таня говорила, по-прежнему словно извиняясь. – Это кассета всех хитов последних.
– Да выруби ты свою мамбу. Так посидим, потрепемся. – Рита вся лоснилась, довольная.
– Прикольная же песня, – сказала Таня упрямо.
– Выруби, тебе говорят.
Рита была круглая и лукавая. Ей недавно мелировали волосы, но неудачно – предательски темнели корни. Она была припухшей той милой мякотью, что добавляет юным созданиям порочной привлекательности, и должны миновать годы, прежде чем обнаружится негодная толстуха. Она единственная уже встречалась с парнями. Торжество по этому поводу то вяло плыло, то нагло прыгало в ее глазах. Она была похожа на отца, разбившегося два года назад дальнобойщика, такая же невысокая, с выдающейся, чуть неандертальской нижней челюстью и толстыми губами.
Рита и Таня общались, сколько себя помнили, и учились в одном классе. А сестры с Центральной были дачницами. Они жили в трехэтажном кирпичном островерхом замке большую часть лета, иногда наведывались и зимой. Их отец, ювелир, в прошлом году покрыл стальную крышу дома золотом. На самом деле – медью, которая, поблестев, стала меркнуть, и этой весной золотой цвет бесповоротно стал темным.
Танин дом был скромным, из тех, что называли финскими: деревянный, в два этажа, темно-вишневый – точь-в-точь Ритин, только у той желтовато-белый.
Ксюша принесла с собой чипсы, которые с хрустом пожирала Вика, зачерпывая из большого пакета. Пакет Ксюша прозрачными пальчиками держала перед собой.
Ритины резкие духи пахли особенно сильно в душноватой комнате. Ксюшины маленькие ноздри трепетали, пакет в руках дрожал и шелестел.
- Рамамба Хару Мамбуру.
- Рамамба Хару Мамбуру,
– звучало, как из бочки.
Рита встала, подошла к окну:
– Покурю?
– Ты погоди… В окно не надо, – Таня смотрела в нерешительности.
– Почему?
– Да люди ходят. Уроды. Мало ли. Заметят. Родичам стуканут.
– Ой, боюсь, боюсь, боюсь… – передразнила Рита, кривя губы. – Танюх, ну уважай ты меня! Не хочу я всякую хрень слушать! – Она наклонилась к магнитофону и выключила.
– Ты лучше сядь. За столом кури. Я проветрю потом.
– Куда стряхивать? На пол? – Рита чиркнула зажигалкой, выпустила сизый клок “Кэмела”.
Таня сбегала на кухню, принесла блюдце:
– На! Сюда! Потом помою…
– А вы до сентября здесь будете? – спросила Рита у сестер.
– Мы на Кипр уедем скоро, – пискнула Ксюша.
– И вернемся, – добавила Вика. – Дней через десять.
– А вы где уже были? – спросила Таня.
– Везде! – хвастливо сказала Ксюша.
– А я только в Крыму была, – сказала Таня негромко. – Но теперь это тоже заграница. Говорят, может, нас отправят в Париж. Наш класс в обмен на французов.
– Жди, – раздраженно возразила Рита. – Это, может, москвичей отправляют. Нас-то с какого перепугу?
– Мы были во Франции, – заметила Ксюша. – Там у них поезд такой быстрый, что за окном плохо видно, как будто дождь… или душ, – она чихнула.
Девочки засмеялись и потянулись к бокалам.
Рита влила бокал в себя:
– Сладко, блин, – затянулась сигаретой. – Прямо компот.
– А можно, я просто попью… не вино, – попросила Ксюша.
Таня сбегала на кухню, принесла чашку холодной воды из-под крана.
– Ржавая, – Ксюша с подозрением заглянула в чашку.
– Блин, мы кагор пьем, как эти… Как попы, – сказала Рита.
– Попы? Почему попы? – не поняла Таня.
– Ты чо? В церкви никогда не была?
– Мы и есть попы, – Вика выхватила у сестры пакет чипсов, вскочила и замахала им. Она чуть усилила свой густой грудной голос, упирая на “о”:
– Помолимся!
Ксюша захихикала.
– Эй! Ты чо, блин! – Рита взлетела, вырвала у Вики пакет, который спланировал на пол, потянула за руку на стул.
Вика подчинилась. Она была, наверное, покрепче, но что-то делало Риту главной – атаманшей.
– Над божественным нельзя смеяться! Чего вы ржете? – Рита обвела девочек сузившимися глазами. – Мне бабушка рассказывала: раньше здесь церковь стояла. В лесу, рядом со станцией. Там до сих пор камни навалены. Видели, небось, да? Церковь закрыли, попа арестовали и расстреляли. Один парень напился, забрался внутрь и одежды попа надел. А вылезти не может. И снять с себя одежды эти не может. Бился, бился он, короче, до утра. Утром пришли церковь взрывать. Обложили взрывчаткой и взорвали. И никто не слышал, как он внутри кричал.
– Может, и не кричал – раз никто не слышал, – заметила Вика. – Откуда ты знаешь, как всё было, если он один там был?
Рита призадумалась, повела кошачьим цепким взглядом и вдруг рассмеялась:
– А ты слушай, а потом возбухай! Его невеста в толпе стояла и плакала тихо. Не пришел он в ту ночь к ней ночевать. И говорит она: “Слышите, кричит!” К матери его подходит, к брату. А они: “Неа, иди проспись! Не слышим ни фига!” Она к командиру: “Слышите, там в церкви – кричат!” А он: “Это ветер”. Короче, взорвали церковь, а на развалинах нашли того парня, в одежде попа. Бабушка моя сама видела.
– Она, что ли, невестой была? – спросила Таня.
– Иди ты! – Рита замахнулась открытой ладонью. – Невеста его сразу в Бога поверила, стала бегать по поселку и молитвы петь, ее арестовали и расстреляли.
– Рита, а ты чья невеста? – спросила Ксюша.
Все засмеялись.
Рита подняла свой бокал ко рту, чуть наклонила и втянула, стремительно и целиком. Повернулась к Ксюше, растянула лиловый от кагора рот в недоброй улыбке:
– Мне Корнев нравится.
– Старший? – прыснула Вика.
– Егор, – Рита сжала губы и покрутила головой.
– Егор… – повторила Таня, как эхо. Заскрипела стулом, в глазах потемнело.
Семья Корневых жила в доме впритык к Ритиному. Это был голубой дом, зловеще закопченный временем. Старший Корнев, Василий, долго сидел, жена его недавно умерла, и он в одиночку воспитывал Егора – грозу поселка, упыря и наглеца двадцати лет. Губастый, с бритой головой, Егор весной вернулся из армии, обзаведясь шрамом вполщеки.
– Хочешь за него? – спросила Таня с тонкой дрожью в голосе. – Думаешь, он тебе подходит?
– А за кого? – выпалила Рита. – Может, за Юрика?
Все опять засмеялись.
– Это Ксюшин кавалер, – сказала Вика.
– Заткнись! – прошипела Ксюша.
Несколько лет назад, будучи помладше, девчонки ладили с Юриком, слабоумным нервным дачником с улицы Лермонтова возле рощи. Длинноносое, бледное, зеленоватое лицо. На голове постоянно красовалась шерстяная шапка с помпоном – чтоб не продуло – или большая панамка – чтоб не напекло. Его мать и бабушка всё время устраивали праздники и угощением приманивали гостей, да и Юрик как кукла был для девочек хорош. Но со временем они Юрика оставили. Рита как-то даже толкнула его в пруд. Он шел по пыльной дороге домой и плакал. Панамка осталась на дне, а с руки по колено свисала длинная тина, окончательно превращая Юрика в Буратино. Теперь только Ксюша проведывала его иногда, от скуки: они играли в прятки у него на участке.
– Не надо, Ксюша у нас большая, – с покровительственным смешком сказала Вика, – Ксюша у нас уже целовалась. Ее в Москве один мальчик из школы провожает, потом в подъезде торчат… Как твой Дима? Умеет целоваться?
У Ксюши гранатово налились щечки:
– Завидно, да?
– Мне? – звякнул смешок старшей сестры. – Да меня б вырвало от него. Он же прыщавый весь.
– А ты! А ты! – заверещала младшая. – У самой два прыща выросли. Месяц их давила. Забыла, что ли? На лбу. И на носу. Вон! До сих пор следы! – Она потянула ручонку к лицу Вики, и та резко, одним махом сбила ее своей тяжелой рукой.
– Блин, а у меня брательник тебя старше, его, кажется, ваще девочки не волнуют… – Рита вздохнула. – А Корнев, сука, в пионерлагерь ездит – с шалавами мутит.
– Егор? – голос Тани опять дрогнул.
– Ну.
Пионерлагерь доживал свой век на окраине поселка. Теперь это был просто лагерь отдыха для школьников. Пионерию отменили, уже не играл горн, и несколько веселых железяк растащили по поселку. У магазина стояла красная карусель, на ней кружила ребятня, но чаще квасили мужики, раскачивались, кто-нибудь падал и засыпал на земле.
– А ты что, уже с Корневым встречаешься? – спросила Вика.
– Подкатывает, – сказала Рита с деланой хмуростью.
– Ты ж с Харитошкой гуляла, – отозвалась Таня спокойно.
Она пытливо посмотрела на подругу. Хороша подруга. Такая должна нравиться.
– Иди ты! Козел он. А я с козлами не гуляю. Еще раз скажешь такое – я тебя знать больше не буду.
– Конечно, козел, – поддержала Таня. – Я тебе всегда это говорила.
– Говорила. Ну и чо? – Рита опять закурила. – Он кто мне? Хахаль или кто? Мать его моей рассказывала: его в детстве током шибануло, мимо грибник шел, палкой провод оттащил, но он с тех пор такой и остался – шибанутый.
– Придурок, – подтвердила Вика. – Гоняет целый день. Хоть бы он о столб долбанулся.
Харитонов жил у магазина, в котором работала продавщицей его мать. Верткий, с белесым коком, он гонял на мотоцикле. Был отчаянно заносчив, тянулся к девчонкам, но разговаривал по-хамски. Так он маскировал горячий и дикий интерес. Как-то катал Риту целый вечер, она обнимала сзади, и руки его плясали на руле. С каждым новым кругом их поездки сумерки делались гуще. В темноте остановились в роще возле поля. Харитон полез целоваться неумело, и Рита по-хозяйски ответила разок. Вскоре она закрутила с Арсланом, парнем на джипе, и Харитошка, увидев их вместе, вознегодовал. Он пролетал мимо нее на мотоцикле, близко, точно сейчас сшибет, оборачивал искаженное, бешеное лицо и высоко поднимал средний палец. Больше того – он стал всё время караулить ее под окнами. Выйдешь, а он тут как тут, на мотоцикле, и кричит:
– Ритка-давалка! Ритка-давалка!
И мелюзга из соседних домов уже начала за ним повторять.
Ритин меньшой брат, Федя, выскочил – так Харитон на него мотоцикл направил. Федя отпрянул и угодил в канаву.
Рита хотела пожаловаться Арслану, но тот уехал, и тогда она кокетливо позвала через забор:
– Егор, а Егор… Меня этот козел уже достал… Я один раз прокатилась на его драндулете, а он теперь преследует меня, оскорбляет… Поговори с ним!
У забора опять зарычал мотор. Корнев вышел, подскочил, с размаху вмазал по физиономии, под белый кок. Харитошка рухнул вместе с мотоциклом. Егор поднял его за шиворот, что-то наставительно сообщил и дал большого пендаля. Харитошка, отлетев далеко и волшебно, упал лицом в кучу песка, Корнев постоял, руки в боки, харкнул на поверженный мотоцикл, захлопнул калитку. Харитошка медленно встал, крадучись подошел к мотоциклу, поднял его и покатил бегом.
– Нет нормальных. У нас в школе все плюются, – сказала Вика. – У нас школа крутая, половину на тачках привозят. А на уроках бумажками стреляют. За шиворот попадают.
– На переменах дерутся, – поддержала Ксюша. – Шприцами воду в туалете наберут, и давай брызгать.
– Это у вас Москва! Вы у нас в школе не были! – возразила Рита.
– У нас в школе один урод прямо с крыльца ссыт, – подхватила Таня.
– Зарубин, что ли? – Рита оживилась. – Да он не один такой. У нас ноги ломают, руки. Директор стал возмущаться, ему стекла в кабинете разбили и на дверях написали “чмо”. На перемене бухают. Слушайте, девчонки, а вы водку пробовали?
– Это ты у нас всё пробовала, – сказала Таня.
– Лучше раньше попробовать. Будет опыт. – Рита завертела перед собой бутылку кагора. – Пустое не держат! – Спрятала под стол. – Я водку пила. С соком томатным. В ресторане “Сказка”.
– С Арсланчиком? – спросила Таня.
– Ну.
Арслан прошлой весной познакомился с Ритой возле школы. Несколько раз он ее возил на своем джипе в “Сказку” – ресторан, стоявший при выезде на Ярославское шоссе. Арслан был уверенный и беззаботный, весь насыщенный жизнью, как налитой плод. Глядя на него, казалось, что с ним никогда ничего плохого не может случиться. Он контролировал торговлю в нескольких палатках. Подарил Рите настоящие французские духи. Однажды отправились на выходные под Софрино, на базу отдыха, и там Рита рассталась с невинностью. Дальше Арслан купил Рите косметику. Он заезжал за ней и увозил, познакомился с ее мамой Галиной, которой подарил коробку конфет, другой раз большой арбуз завез. И с Таней тоже познакомился: “Поехали с нами. Не обижу. У меня друг есть. Потом спасибо скажешь!” Но Таня побоялась родителей. А Ритина мать после гибели мужа была ко всему безучастна. Потом Арслан уехал домой, на Кавказ. Но у Риты до сих пор на полке стояли его духи: она их расходовала экономно, больше прыскалась теми, что дешевле, которые купила сама.
– Слушай, а это не больно… первый раз? – вдруг спросила Вика почтительно.
– Нормалек, – процедила Рита.
– А одна девочка, я слышала, чуть кровью не истекла. Пацан, кто с ней лежал, как увидел кровищу, от страха смотался. А ее на скорой увезли.
– Херня это, поболит и перестанет, – Рита раз за разом чиркала зажигалкой.
Прошел поезд, дом затрепетал и затрещал. Иногда ночью Таня просыпалась от того, что ее голову подкидывает на подушке, как будто сама в поезде ехала.
– А вообще… это… – Таня собралась со словами, – приятно?
– Нормалек, – повторила Рита и выпустила в нее дым. – Никто не хочет?
– Хочу! – Таня приняла недокуренную сигарету, закашлялась.
– Ты разве куришь? – спросила Вика.
– Балуюсь, – ответила Таня, кашляя, и загасила сигарету.
– Меня жизнь курить научила, – сказала Рита. – Ты, главное, глубже втягивай: а-ав – и выдыхай:…тобус, а-апп – и выдыхай:…тека…
Из сумочки, висевшей на стуле, она извлекла косметичку, распахнула, осмотрела себя и начала кисточкой румянить щеки. Протянула кисточку Тане:
– Хочешь?
– А-а…
– Прикиньте, – сказала Рита, – ей отец краситься запрещает. Считает: маленькая еще.
– Ничего он мне не запрещает! – Таня укусила себя за ноготь.
– Даже я крашусь, – сказала Ксюша. – С десяти лет.
– Красится она, – иронично вмешалась Вика. – Детской косметикой.
– Хорошая косметика, дорогая. Мне ее из Америки привозят.
– Если замуж выходить, – перевела разговор Вика, – то уж лучше за иностранца. Папа говорит: надо валить отсюда, пока не поздно. Мы на Кипре дом покупаем.
– Везет вам, – сказала Рита с расстановкой.
– В “Сказке” много иностранцев, – сообщила Таня. – Из Сергиева Посада едут и останавливаются обедать. Туристы.
– Да кто их туда пустит, – Рита захлопнула косметичку. – Там все свои, в “Сказке”. Это раньше, при совке, было. Для туристов ресторан и построили. Теперь там бандиты одни.
– У них там главный в “Сказке” Валера. С ним наш папа дружит, – вывела Ксюша нежным голоском.
– Он пушкинский, – сказала Вика. – У него и в Пушкине еще есть ресторан.
– “Здесь Валера Динамит вас шикарно угостит”, – процитировала Таня нараспев лозунг с таблички, торчавшей возле ресторана.
Все засмеялись.
– Говорят, этот Валера, – сказала Рита, – проституток держит.
– Кто о чем… Давай, Ритусь, вперед… – сказала Вика.
– Ща как дам тебе, дошутишься! – Рита зажевала колбасу. Перекинулась на салат. Все, повинуясь магии ее примера, тоже начали жевать.
Зазвонил телефон. Таня подошла.
– Да, мамуль… У меня? Всё хорошо! Скоро спать ложусь… Козу? Кормила, ага. Днем ей насыпала. Да. Из мешка. Доить? Мам, ну я сейчас не буду. Мы завтра с тобой подоим. Ну, правда. Я одна не смогу. Ага. Как папа? Телик? Не, я не смотрела. Папу показали? Нет. А что такое? Троллейбусы? Сгорели? Я посмотрю, ага. Ну, давай, мам.
Телефон был Таниной гордостью – он был не во всех домах. Его провели год назад. Виктор настоял – влетело в копеечку, но зато получили связь с миром. Правда, теперь к ним что ни день заявлялся кто-нибудь позвонить.
– Мать говорит: троллейбусы горели. Народу много погибло.
– Пойду бабу поищу, – Рита встала, вышла из гостиной. Хлопнула дверь туалета.
Таня включила телевизор. Пощелкала по каналам. Отца не показывали нигде. По питерскому – мутная съемка, пальба, бородатые мужики в телогрейках бегут по холмам, оперная музыка, гортанная взволнованная ария Невзорова: “Прозревшие… Преданные… Брошенные солдаты когда-то великой державы… И сегодня, проклиная…”
Выключила телевизор. Включила магнитофон.
- Посмотри в глаза, я хочу сказать,
- Я забуду тебя, я не буду рыдать,
- Я хочу узнать, на кого ты меня променял,
– запел на кассете мученический голосок Ветлицкой.
– Говорят, она с Титомиром жениться собралась, – сказала Вика.
– А Пугачиха их разбила, – добавила Ксюша.
– Убери ты музон, попросили же! – командно прикрикнула Рита, входя в комнату.
Таня пугливо дернулась к магнитофону, нажала стоп, обидчиво пожала плечами:
– Да пожалуйста…
– А смешно твой папаня сам себя нарисовал, – сказала Рита. – Прям художник. В сортире. Не видели? – обратилась она к сестрам.
“У тебя-то отца нет”, – мысленно ответила Таня. Действительно, в туалете прямо над унитазом на беленой стене Виктор как-то спьяну красной губной помадой жены изобразил свою голову с затылка. Очень похоже. Большая, в кудряшках голова. Так она и красовалась.
– Нам домой пора уже, – сказала Вика рассеянно.
– А точно, почапали, – согласилась Рита. – Танюш, ну ты что, обижаешься на меня, что ли? Ты моя лучшая подруга, ты же знаешь. Пойдем пошляемся, ха-ха!
Девочки со смехом спустились по крыльцу в вечерний сад. Последней была Таня. Она открыла окно настежь, и тотчас в задымленную комнату с яростным гудом ворвался шершень. Заметался от стены к стене, сел на стол, в Ритину тарелку с недоеденным салатом. Таня хотела его сцапать, накрыть какой-нибудь тряпкой, выкинуть, но смех девочек удалялся. Она помедлила, одним мстительным рывком метнулась к магнитофону, утопила кнопку, погасила свет и выбежала в сумерки.
Пахло жуками, травами, серебристо свиристели цикады. Большинство фонарей бездействовало, но вдалеке, в конце темной улицы светила палатка. Девочки стояли у ворот, переминались, а из черного окна опустевшего дома неслась песня: “Посмотри в глаза, я хочу сказать…”
У Тани и Риты – разница месяц. Таня родилась в июле, Рита в августе. Маленькими они постоянно дрались. Таня любила кусаться, а Рита царапала ей лицо. Первой вцеплялась Таня, но побеждала Рита. Она подминала Таню, садилась верхом, кричала “Н-но!” – и долбила кулачками по спине. Их мирили матери, но скоро опять поднималась ссора. Таня в гостях у Риты уронила ее фарфорового пуделя и отбила ему лапку. Рита затаила обиду и через неделю в гостях у Тани схватила ее толстую книгу со стихами Агнии Барто и красивыми картинками, выбежала из дома на дорогу и стала танцевать вприпрыжку: “До-го-ни! До-го-ни!”, вырывая одну страницу за другой.
За год до школы родители повезли Таню на Тишковское водохранилище и взяли с собой Риту. Девочки радовались купанию, Танина мать обтирала их одним махровым полотенцем, широким и белым, с изображением олимпийского мишки. В воздухе шныряли блестящие слепни. Девочки вертелись, шлепали себя и друг дружку – в первый раз не ради драки.
– Давай считать, кто больше убьет, – предложила Рита.
Начали увлеченно лупить слепней. Каждая выкладывала на расстеленном полотенце кучку пришибленных или полудохлых тварей. Тане так важно было показать, что у нее всё получится, так хотелось обыграть! И она обыграла – ее кучка вышла больше.
– А давай сделаем кладбище, – предложила Рита.
В горстях отнесли трупики подальше от одеяла и зарыли в братской пляжной ямке. Некоторые слепни ворочались сквозь песок. Но над ними быстро выросла крепость, которую девочки для прочности обхлопали расторопными пятернями. Таня принесла кривую веточку и воткнула сверху.
– Молодец, – одобрила Рита. – Давай поклянемся на этой могиле: мы будем дружить всю жизнь!
Странно: на этом они и подружились. В школе сидели за одной партой. На школьных праздниках выступали на пару – так сообразил растроганный их дружбой директор.
– Как повяжешь галстук – береги его! – задорно восклицала Рита.
– Он ведь с красным знаменем цвета одного… – горько и хрупко итожила Таня.
Во втором классе Рита влюбилась в плотного сварливого цыганенка, а Таня в самого драчливого – двоечника с оловянными глазами. Девочки поверяли эти злые любови друг другу и без конца обсуждали: кто что сказал, кто как посмотрел, а кто ему нравится, а как его заставить заревновать… В следующих классах возникли другие увлечения – например, обе втюрились в молодого физрука, но это нисколько их не рассорило, может, потому что их больше объединяла неприязнь к учительнице английского, проворной смуглой тетке, с которой у физрука явно что-то было. Таня училась лучше и писала за Риту сочинения, Рита была храбрее – она защищала Таню. Вместе начали ходить на школьные дискотеки, вместе сматывались от пьяных пацанов.
Таня пользовалась у пацанов меньшим вниманием, чем Рита, хотя, пожалуй, была красивее. Но Танина сдержанность, даже бесплотность не привлекали. Таня скользила неверным лучом бледного северного солнца – и не волновала грубых одноклассников, жадных до яркого и жаркого. Разбитная, наглая и веселая Рита не знала отбоя от поклонников.
– Заколебали! Лезут и лезут. Чо я им, повидлом намазанная?
– Слушай, а почему… а почему ко мне не лезут?
– Потому что ты доска, два соска. Шевелиться надо!
Вместе первый раз напились – пивом. В роще. Морщились и глотали. Пиво было баночное, горькое и отвратительно пенистое. От него шла кругом голова.
– Ри-ит…
– Аюшки…
– А ведь все умрут…
– Забей…
Тем летом у Риты разбился отец. Хоронили в Могильцах, в пяти километрах от поселка, на кладбище, которое отвоевывало свои пяди у соснового леса. Неудержимо рыдала Ритина мать Галина, тер глаза меньшой брат Федя, изящный мальчик, похожий на мать, Рита стояла с распухшим от слез лицом и будто ослепшая. Покойник лежал в гробу цел и невредим, при этом сам на себя не похожий – величественный и надменный. Вылитый артист. Встанет и запоет – длинно и басом. Таня впервые видела его в костюме. Она не плакала, смотрела на всё отстраненно, словно превратилась в душу покойного и присутствовала здесь невидимо.
Она с самого детства бесконечно обдумывала смерть, а смерть совсем не вязалась с дядей Жорой, бодрым балагуром. Смерть этого человека настолько ее удивила, что она не могла ее осознать и, попав на кладбище, растерялась. Таня озиралась и всё больше бледнела. Она смотрела на гроб, на цветы, на яму, на сосны и ощущала, что всё это – она, она сама и есть. Она впитывала краски и к концу прощания была бледна как смерть.
Заколотили гроб, застучала земля, Рита обняла Таню, прижалась лбом к ее лбу. Обычно их общение было таким глумливо-доверительным и легким, что Таня не смогла найти, что сказать, и неожиданно, уже выговаривая слова и понимая, что говорит ужасное, сказала лоб в лоб:
– А помнишь, мы слепней хоронили?
– Что? – Ритины размытые глаза мгновенно наполнились ужасом. – Что? – Она отпрянула.
– Ничего.
– Нет, что ты сказала?
– Слепней. Хоронили. Помнишь? – Таня шатнулась и потеряла сознание.
Они не возвращались к тому случаю никогда, но общались уже более отчужденно. На следующий год Рита познакомилась с Арсланом. У нее началась своя – скрытая – жизнь. С Таней Рита говорила насмешливо и повелительно, и чем чаще она повторяла, что они подруги, тем яснее было Тане: кладбище слепней разорено. Черные комочки неприязни оживают, наливаются силами, выпутываются из песка, заполняют воздух прожорливым жужжанием…
Вика и Ксюша отправились домой, Рита и Таня – в другую сторону. Брели по улице вразвалочку. Здесь еще сто лет всё будет так же. А может, и больше. Справа – двухэтажные дома, слева – узкая аллейка, лиственницы в два ряда, насыпь, железная дорога, а за ней – густой лес.
Сияла большая луна.
– Чо ты с ними водишься? – спросила Рита голосом из давнего детства.
– Брось. Нормальные они.
– Говно. – Рита выдохнула табачный дым, неожиданно пушистый и щекочуще-терпкий, причудливо поплывший впереди между темных стволов.
– Почему говно?
– Воображалы. Ты сама не видишь? Зажрались. – Рита говорила отрывисто и вполголоса. – Их отец камни драгоценные катает. Ты прикинь, какие это деньги! Украсть бы эту мелкую козу Ксюху и денег с него стрясти… Блин, хоть бы раз камешек какой подарили. А то приходят со своими чипсами и хвастают… Где за границей бывали да куда поедут. Ну и езжали бы насовсем! Крышу хотели золотую! У матери знакомый им крышу крыл. Говорит: нарочно так подгадал, чтоб она потом потемнела. А не фиг заделываться! Чего захотели – крышу золотую…
– Они же не виноваты, что у них папа богатый!
– Любишь их? Иди к ним прислугой.
Они подошли к палатке – железному ящику с прилавком и решеткой на окне. Во лбу ящика горел прожектор. Торговал в палатке Димка-цыган, старший брат того самого одноклассника, в которого когда-то влюбилась пионерка Рита. Оба брата, как говорили, воровали велосипеды.
– Девчата! – из-за палатки вышел человек, сделал шаг навстречу.
– Ой, привет, Егор! – с радостным испугом отозвалась Рита.
Это был Корнев, в трениках и матроске. Хоть и было темновато, Таня сразу отметила огорченное, усталое лицо и настороженный взгляд.
Он сделал еще шаг.
– А ты кто? – пригнул бритую голову, всматриваясь.
Шрам во всю широкую щеку делал его лицо похожим на надкусанный пирожок. “Пирожок с мясом”, – мелькнула мысль. Таня ощутила тревогу и одновременно сладкую слабость. Предложи он сейчас водки, она бы выпила не задумываясь. Ей было неловко от того, что она глаз не могла отвести от его лица.
– Это Таня, Таня Брянцева. Из шестого дома. – Рита погладила его по наклоненной голове, туда-сюда, туда-сюда.
– Танька. Помню. Какая ты стала… Тебя и не узнать. Бегала какая-то малявка. А сейчас ты… Ты… как вербочка…
Таня провалилась в полуявь, застыла. Рита что-то верещала, снова гладила бритую голову, суетливо покупала джин-тоник, пила из горла, облилась…
Потом всё потонуло в грохоте проходившего товарняка, и Егор положил Тане руки на плечи.
Он зачем-то развернул ее – спиной к железной дороге, вероятно, проверяя, насколько легко может двигать ее телом.
– Пусти! Не трогай, тебе говорят! – кричала Рита.
Тот только покачивался, ухмылялся и сжимал Танины плечи.
Перед его глазами, за спиной у Тани – она не видела, но слышала – стеной сквозь тьму, застилая лес, шел с железным стоном товарняк. Бесконечный, как в фильме ужасов. И было понятно: лязг железа не закончится никогда.
– Отвали от нее!
Егор сжал злее. Крепкие ногти впились Тане в кожу. Товарняк прощально громыхнул. Егор разжал хватку.
– А ты смешная! – сказал он, по-прежнему смеясь одним ртом.
Глава 5
Вернувшись в аварийку, Виктор развалился на диване. Принялся за бутерброды.
– Чо-то жор напал, – прошамкал он набитым ртом. – Лен, дашь чего еще?
– Чего еще? Всё сожрали! Хромов вставал, тоже голодный, я ему чаю налила и бутерброд с колбасой твой отдала. Пожевал и дальше завалился.
Она смотрела на Виктора довольно и сердито. О том, как там было в подземелье, не спрашивала. Захочет, сам расскажет, если есть о чем.
– Выпей! – предложил Кувалда.
– Можно маленько…
Кувалда разлил по полстакана. Принес графин холодной воды. Разбавил спирт. Лицо Виктора перекривилось:
– Не пошла…
– Хватит идиотничать! – окрикнула Лена. – Накидаетесь и куда вас девать?
– По новенькой? – Кувалда высился, из-под потолка разглядывая товарища смеющимися глазами.
– Хорош, – сказал Виктор. – Сегодня не буду. Хавчик есть?
– Яйца вареные. Будешь?
– Буду.
Кувалда принес пакетик с яйцами, которые Виктор торопливо облупил и проглотил – одно за другим.
– Как удав, – сказала Лена. Глядя на мужа, она подперла щеку рукой. – Даже соли не попросил.
– Ну, за вас, за нас! – Кувалда опрокинул. Дернулся кадык. – Покемарю…
– Иди, иди! – проводила его спину Лена. – И ты, Вить, тоже… Спи давай.
– Нарушил я сон. Неохота спать. Лучше это… поразгадываю…
Он скинул ботинки и вытянул ноги. Лена извлекла из срединного ящика стола стопку газет. Передала их вместе с огрызком карандаша.
– Гадай, гадай… Только молча, ладно?
– А ты чего? Что делать будешь? Сидеть и молчать?
– Представь себе. Тебе-то какое дело!
Виктор листал газеты, изучая последние страницы, бормотал, причмокивал губами. Несколько раз запускал пятерню в волосы, их сжимая и вороша. Хлопал себя по лбу и быстро вписывал буквы. Один раз так размашисто нажал карандашом, что бумага прорвалась.
– Извини… Десять тысяч в древнерусском счете, а также отсутствие света. Четыре буквы. – Посмотрел на жену. – Ле-ен!
Она сидела в глубоком забытьи (мечтала? задумалась? спала с открытыми глазами?) – подбородок сросся с кулаком.
– Лен! – с испугом повторил он.
Зазвонил телефон.
Лена сорвала трубку и сказала чужим голосом:
– У аппарата.
Подождала.
– У аппарата. Да. Я поняла. Какой адрес? Пятая Ямская? Комбинат? Воду перекрыли? Принято. Будут у них до десяти.
Опустила трубку. Открыла тетрадь, внесла пометку, закрыла.
– Ты про что спрашивал?
Глаза их столкнулись, и оба, на миг смутившись, отвели взгляды, как юные влюбленные. Бессонница возвращает растерянность юности.
– Тьма! – сказал Виктор. – Ответ: тьма! Устала, бедненькая? Ляг, полежи. Я за тебя подежурю.
– Обойдусь.
Он уснул лишь на рассвете. Сон накрыл его стремительно. Виктор успел выплюнуть карандаш на пол, кинул туда же газеты – и пропал.
Ему показалось, что спал он несколько минут. Разбудил его поцелуй в губы. Он подскочил и столкнулся с женой лоб в лоб.
– Идиот! Идиот! – Она потирала ушиб. – Чуть не прибил! Ты почему такой дерганый?
В метро было людно, как всегда ранним утром. Виктор разгадывал людей: каждого, как неизвестное слово.
Вон тот смуглый красноглазый старичок в коричневой шляпе, наверно, часовщик – Виктор даже усмехнулся. А вон тот, в засаленной белой футболке с пестрой картинкой и в наушниках, – это студент. Едет на сессию. Небось, на пересдачу.
Пахло потом, одеколоном, жарой, тревогой и почему-то яичницей. Брянцевы стояли, сжатые.
Посреди тоннеля поезд замер. Отовсюду в вагоне послышалась музыка, вылетавшая из наушников и не слышная, пока грохотали колеса. Где-то рядом бил пустой там-там, а исполнитель бесперебойно ойкал. Из дальнего угла пронзительный, как комар, пел Цой про звезду по имени солнце.
“А если пожар?” – подумал Виктор, посмотрел сквозь стекло в темноту, увидел свое лицо, светлое пятно в рыжем кружеве волос. За лицом протянулись кабели тоннеля, серые и толстые.
– Ой, мамочка, мускулом пахнет, – раздался звонкий и жалобный детский голос.
– Тише, Ваня.
– Мускулом пахнет!
Кто-то растроганно по-тихому засмеялся, и тотчас кто-то вздохнул измученно.
– Может, случилось что? – беспокойно сказала Лена.
– Ельцин лег на рельсы, – сказал Виктор громко, так, чтобы слышали вокруг.
Поезд дернулся и покатил, разгоняясь и оглашая тоннель гудками. Гудя, выскочил на станцию к чернеющей толпе. Двери с резиновым чмоком разомкнулись.
На Ярославском вокзале как будто показывали два фильма – убыстренный и замедленный. В одном люди торопливо перемещались в разные стороны, сталкивались, огрызались, спешили дальше. В другом не спешили никуда. Баба с большим и багровым лицом высилась среди суеты, таращилась в пустоту, равнодушная к окрикам и тычкам. По стенам вокзала лепились бомжи: лежали, скрюченные, сидели, головой на грудь, стояли, разминая ноги и бросая трусливые взгляды.
Когда Виктор шел по вокзалу один, он останавливался возле бомжей, нашаривал в карманах мелочь, виновато подавал, сочувственно расспрашивал. Но сейчас он только повернулся к ним на ходу и замедлил шаг.
– Ты чего? – удивилась Лена.
Он ускорил шаг, последний раз покосился и вдруг остановился и выбросил руку:
– Смотри, смотри! Вон тот! Умер!
Он показывал на человека, который лежал отдельно от всех в позе эмбриона. Темная одежда вроде робы, колени подтянуты к серой бороде, под головой застывшая и уже подсохшая малиновая лужа, возле откляченного зада расплылась лужа побольше, коричнево-зеленого цвета. Вокруг кружили мухи.
– Воняет как! Я не могу. Пойдем!
– Подожди. Эй, ребят, – окликнул Виктор стоявших бомжей. – А он живой?
Те начали ворочать языками, отвечая разом и непонятно. Виктор подался к ним ближе.
– А хер его знает… – загундосил один из них, благообразный, из чьих глаз тонкими линиями тянулся желтоватый гной и, как воск, остывал на волосатых щеках. – Давеча Мишка помер… – И уточнил с нажимом: – Мишка Малой. Из Ангарска.
– Ты рехнулся! Идем! – крикнула Лена, отступая от мужа в сторону электрички. – Оставайся здесь тогда!
Виктор потерянно махнул рукой и бросился за женой.
– Ты куда? Чего такое? Я бы скорую вызвал, и всё… – затараторил он ей в самое ухо. – Это же человек все-таки!
– Да какой он человек, – сказала Лена убежденно.
Виктор обернулся на вокзал, увидел серебристый, сияющий утренней свежестью купол под серебристой пятиконечной звездой, каждый луч которой сверкал на солнце отточенно, как бритва. И вдруг ниже на перроне среди быстрых фигур, движущихся к электричке, на уровне их колен… Голова… борода… тело…
– Смотри! – дернул Лену за рукав.
Она обернулась, тоже поначалу ослепил купол, опустила взгляд и не сдержалась:
– Ну, еб твою…
Люди шагали к электричке, обтекая бомжа, как будто опасную собаку. Он полз между ними. Он полз к Виктору, к Брянцевым он полз, конечно, к ним. Он полз на коленях – рывок за рывком. Он хотел им служить. Его позвали, пока он лежал без сил, и он почуял хозяев.
Кровь коричневой лепешкой запеклась на седой шевелюре и лбу. Он полз очень проворно и всё слышнее мычал.
– Это он? Тот самый? – спросил Виктор с детским восторгом. – Хорошо, что он жив!
Лена вскочила в электричку.
– Эй! Эй! Куда ты? – нервно смеясь, Виктор гнался за женой, та летела по вагонам, хлопая дверями в тамбурах.
В середине она выдохлась, села и приклеилась к окну. Виктор сел напротив. Легонько похлопал ее по колену:
– Ой, Лен, он сюда приполз!
Она на миг встрепенулась, стрельнула глазами.
– Не смешно, – приклеилась обратно к пыльному окну.
Машинист сквозь треск провозгласил натужный безалкогольный тост, поезд зашипел, как бутылка газировки, и потек себе от Москвы.
Виктора теснили на скамье две пухлые судачащие между собой бабуси, а возле Лены вольно расселся рослый парень в короткой майке, открывавшей розовую грудь атлета. У парня были нагло расставлены ноги.
– Лен! – позвал Виктор снова, подтверждая свое право на жену.
– Я не пойму, – спросила она вполголоса, наклоняясь к нему, – тебе, что, нравятся уроды? Ты еще домой к нам такого посели. А что? Они ж для тебя жертвы власти, да? Давай! Или лучше знаешь что – ты сам с ними живи. Тебя уже знают на вокзале, правильно я поняла? Во вторник поедешь с работы, домой не надо, с новыми приятелями отдохни.
Виктор покрутил головой:
– Раньше их лечили. Раньше всем был труд. А теперь квартиру за бутылку выманят, и иди куда хочешь. Что, не так я говорю? – Он бросил взгляд на атлета, тот спал. – Правильно ты выразилась: жертвы.
Лена ядовито поглядела на мужа:
– Смотри, не подхвати туберкулез. Или, может, чуму какую. Дома девчонка растет, а он с бомжами вась-васькается.
– Елена, у нас разговор слепого с глухим, – Виктор с хрустом зевнул, настал его черед отвернуться в окно.
Он сонно смотрел сквозь прищур и видел явь как сны: красноватые, оттенка его век, просвечиваемых солнцем, и в то же время зеленые, цвета зелени за окном. Он неожиданно вспомнил бомжа и две его лужи: красную – крови и зеленоватую – дерьма, встряхнул головой, точно сбрасывая брызги, и кулаком стал тереть глаза, старательно и брезгливо. Почему-то в окно уже не смотрелось, смотрел перед собой. Лена сопела, привалившись на голое плечо бесшумно спящего атлета.
Каждую минуту в вагон заходили торговцы и предлагали порножурналы, церковные календари, фонарики, стельки от потливости ног. Пока один нахваливал товар, следующий ждал и начинал свою арию, едва замолкал предыдущий.
– Свежий выпуск газеты “Молния”! Покупайте газету пролетарской борьбы!
Виктор заерзал, приподнялся, вглядываясь. Между рядами приплясывала старушка с маленьким печеным радостным лицом. Подмышкой зажата пачка газет.
– Правда о жизни простого человека! Свежий выпуск “Молнии”!
– Спасибо, мать! – Виктор ссыпал ей мелочь в ладонь. – А прошлого номера нет? Где стихи Гунько Бориса…
– Нет. К музею Ленина приходи! – зашлепала старушка. – Там все номера есть. Лучше в воскресенье. В десять утра линейка. Там все наши: и Виктор Иваныч, и Гунько со стихами, и дьякон Пичушкин…
– Ага! Видели, знаем, топай! – громыхнула сидевшая возле Виктора бабуся. – Вчера показывали. Это же новый Гитлер, Ампилов ваш!
– Не говори, Тома. Охота нам всякое барахло читать, – согласилась ее спутница, до этого купившая “Очень страшную газету”.
– Больше верьте Тель-Авизору, гражданочки! – азартно отозвалась старушка с газетами.
Немедленно в спор втянулись другие пассажиры. Зашумели голоса. Кто-то материл коммунистку и обещал выкинуть в окно, та отвечала, капризно и плаксиво. Кто-то материл матерящего. В проходе стояли продавцы, которых никто не слушал.
Лена застонала, вздрогнула и пробудилась. Непонимающе смотрела на мужа.
– “Сорок третий километр” платформа, – бравой скороговоркой объявил машинист.
– Выходим! – крикнула Лена.
– А? – он уставился на нее в невероятном прозрении. – Наша?
Они выбежали из электрички.
Родной поселок встречал запахом леса, пением птиц, безлюдьем и железным ящиком палатки в начале улицы.
Виктор почувствовал сильную усталость. Это всегда с ним бывало после работы – стоило сойти на землю Сорок третьего: глаза сами закрывались, ноги еле шли, и ему почему-то всегда представлялась вата в молоке. Он передвигался, ощущая себя ватой… белой и вялой… ватой, которую намочили в молоке…
Лена нежно обняла мужа за талию и беззвучно помирилась с ним. Брянцевы добрели до дома, вошли за калитку.
– Кто это свинячит? – отрешенно спросил Виктор и носком ботинка подвинул окурок с дорожки в траву.
– Кот из дома – мыши в пляс, – ответила Лена столь же отрешенно и позвонила в дверь.
Ждали долго. Лена утопила кнопку еще раз, долго держала. Заскреблись, отпирая.
Таня, бледная и растрепанная, тени в подглазьях, стояла на пороге и щурилась поверх родителей в утренний сад, влажный и яркий. Она была босая, до ляжек спускалась длинная безразмерная оранжевая майка.
– Чего не открывала? Встать не можешь? – при виде дочери Лена оживилась.
– Сковороду сожгла? – Виктор замер в прихожей, как бы бдительно прислушиваясь. – Чо-то горелым тянет…
– Да не горелым, Вить. Это ж табачина! – Лена оживилась еще больше.
– Табачина? – переспросил он, мрачнея. – Курила? В доме?
– Рита заходила, сигаретку в окно… Я не могла ей запретить… Я всё проветрила…
– А ну-ка дыхни! – приблизилась мать.
Таня сделала шаг назад.
– Одно огорчение… Значит, одну ее оставлять нельзя! – заурчал Виктор. Склонился, чтобы снять ботинки, и сообщил в пол: – А Ритка твоя – шлюха. – Разогнулся. – Такой же хочешь быть?
– Козу хоть кормила или нет? – спросила Лена.
– Кормила.
– Не врешь? Еще раз покорми. День на дворе.
Супруги отправились на второй этаж – отсыпаться каждый в своей комнате.
Таня поставила чайник, подергала руками, поприседала. В комнате летал шершень. Хорошо, что ночью не цапнул. Она поохотилась за ним, загнала и на деревянном столе раздавила темно-синим корешком русско-немецкого словаря. Раздался мерзейший хруст. Села пить кофе перед телевизором, убавив звук.
…Около полудня она взлетела по лестнице к матери, наклонилась, затормошила. Лена долго не поддавалась, наконец резко очнулась:
– Чего ты?
– Баба! Валя! Баба Валя! Сгорела! – выкрикнула Таня, остро всматриваясь в материнское лицо. – Баба Валя сгорела!
– Как?
– Вчера. В Москве. В троллейбусе. Тетя Света звонила. Вчера сгорела она – баба Валя!
Лена нашарила ногами тапки.
– Что же ты меня к телефону не позвала?
– А ты говорила: если спите – вас не будить.
– Да здесь же другое…
Переместились в комнату к Виктору.
– Чего шумим? – Он лежал с открытыми глазами, закинув руки за голову.
– Баба Валя сгорела! – выпалила дочь.
– Сердце чуяло, скажи? – спросила жена.
– Выйдите. – Он поднял колени под одеялом. – Сейчас оденусь.
Лена перезвонила Свете, своей сестре по отцу. Всплакнула в трубку. Дала трубку Виктору – тот промямлил что-то и несколько раз внушительно кашлянул.
Принес сверху бутыль “Рояля”, извлеченную из железного шкафа; на кухне выпили по рюмашке с водой. Таня просто помолчала рядом у кухонного окна, за которым висела картонная кормушка – яркий пакет из-под сока с вырезанным арочным отверстием. В кормушке, покачивая ее, бойко, как заводные, клевали хлебные крошки два воробья.
– К Асе пойдем. Оденься, – сказала Лена, вытирая полотенцем лицо, по которому текли слезы. – Дай ей корма. И на крыльцо веди.
Таня вышла на веранду, натянула выцветшие огородные штаны, зачерпнула комбикорм в красное пластмассовое ведерко. Коза замекала из сарая в глубине огорода. Когда Таня приблизилась, Ася заорала так радостно и жутко, что девочка испугалась: надорвется.
– Что ты как резаная… Не зарезали еще… – открыла дверь в сарай, поставила ведро.
Ася чавкала, то и дело вскидывая потусторонние янтарные глаза.
– А вода? Блин, новую наливать?
Таня заперла козу, вылила из железного ведра мутноватую воду, пошла в дом под возобновившийся ор; в ванной наполнила ведро заново, вернулась, открыла сарай, легонько саданула ведром по вывороченным розово-черным ноздрям.
Коза не пила, если в воду попадет трава, или сухарь, или щепоть корма. Чистюля, она признавала только безупречную воду. А при дойке строптивую кто-то должен был держать сверху, зажав ее бока ногами. Больше того – коза не давалась, если сверху не было брюк или штанов. Юбку почитала за оскорбление. Покладистее всего Ася была на веранде, где жила первый год, поэтому, как всегда, Таня отвела ее из сарая на веранду. Там уже ждала мать.
Молочные струи с перезвоном побежали в эмалированный таз.
– Дурында, зачем паясничаешь? Тебе добро делают! Сколько накопилось, а? Не хами, стой, как полагается, – уговаривала Лена, сидя на корточках, и привыкшими пальцами ловко тянула и мяла вымя, розовато-серое, в седых волосках.
Таня напрягала мускулы ног, приседала козе на хребтину, в кулаках сжимала рога, нагибая ей голову. Коза пахла бунтом – тепло, сладковато и чужеродно.
– Ах, Валентина ты Алексеевна! За что тебе смерть такая страшная? – Молоко звучало сначала резко, ударяя по голому дну, потом, когда его прибавилось, – мягче и с бульканьем. – Целую жизнь прожила, никому плохого слова не сказала. Не мачеха мне была, а мама вторая! Живьем сгореть… Боже ты мой!
У Брянцевых не было животных, кроме Аси. Белая, с оранжевыми пятнами костлявая кошечка Чача пропала прошлой зимой. Кошки в поселке куда-то девались постоянно. Многие грешили на пацана Харитошку – мол, тайный палач кошачьих. Ася обитала у Брянцевых третий год; она желала быть домашней, неудержимо лезла в жилище, как кошка, и встречала всех приходящих, норовя боднуть, со злобным рвением сторожевого пса.
По странному совпадению Ася родилась там же, где и сгоревшая вчера Валентина, – в Хотьково.
Валя девчонкой (золотая коса по пояс) поступила в Москве на машинописные курсы имени Крупской. Она и подружка-москвичка кареглазая Катя устроились в НКВД, на Лубянку – машинистками.
После войны Катя выскочила замуж за своего начальника – майора Олега Майстренко, харьковчанина очередного чекистского призыва. В Сочи в санатории, куда муж отпустил одну, она влюбилась в летчика Полонского с романтическим профилем, случился роман, но летчик уехал к жене и двум сыновьям в Минск. Катя вернулась в Москву к мужу и через несколько лет родила Лену. Лене был всего годик, когда Катя, в воскресный день идя из ГУМа по Красной площади, встретила вдруг Полонского с подростками-сыновьями и женой. И он при дородной жене и разинувших рты детях бросился, обнял, прижался: “Я искал… Я знал… Я мечтал тебя найти!” Катя развелась с Майстренко и вместе с маленькой Леной и Полонским уехала в Минск.
Майстренко тотчас в отместку предложил Вале выйти за него. Та согласилась. И у них родилась дочь Света.
А у Кати с Полонским не сложилось – оказался бабником, да и Минск встретил ее осуждающе и недобро. Через полгода с Леной на руках она уехала в Армавир, к родне. Устроилась директором магазина и была арестована по обвинению в растрате, когда Лене было семь. Подключился Майстренко, уцелевший в антибериевских чистках, Катю выпустили на поруки артистов местного театра драмы и комедии и понизили до продавщицы, но из Армавира не отпускали, пока не выплатит задолженность.
Катя была кубанских кровей, статная, искристая, порывистая, властная, круглый год переполненная летом. Любовная неудача надломила ее, арест сделал обиженной и мнительной.
Лену в Москву взял отец. Он был мягкий, немного сентиментальный хохол, похожий на пеликана, очень любил обеих дочек.
Лена пришлась мачехе по душе. Три года подряд она прожила в одной комнате со сводной сестрой. Все вместе ездили отдыхать на море. Но Катя отказывалась общаться с Валей до самой смерти: не хотела, и всё тут.
– Что ты с ней дружишь? – говорила мама про мачеху. – Думаешь, она с тобой искренняя? Нужна ты ей… Думаешь, хорошенькое тебе желает? Одно плохое!
– Прям! – отвечала Лена. Она вырастала резкой, насмешливой. – Ты папу бросила, а теперь жалеешь.
– Я-то бросила, а эта объедки сразу подхватила. Я нового себе нашла…
– А замуж так и не вышла.
– Ой, замуж! – У матери прорывался праздничный говор казачки. – Так больно мне оно надобно. Замуж… Главное, чтоб любовь!
Мама Катя умерла внезапно в сорок два года. Кстати, на морском отдыхе – с возлюбленным, молодым рабочим завода “Серп и молот” – от теплового удара.
После седьмого класса Лена пошла в строительный техникум и выучилась на теплотехника. Работала в домоуправлении. Потом устроилась в Минобороны – в службу тыла.
Она никогда не называла мачеху мамой, но всегда по имени – Валя. Валентина была ей задушевной подругой. После Лубянки она работала машинисткой в разных учреждениях, а ближе к пенсии, овдовев, – секретаршей в архитектурно-планировочном управлении. Там Валентина Алексеевна познакомила Лену с Виктором. Электронщик, он заходил согласовывать проект уличного экрана, которым занимался от ФИАНа.
О личном Валентина говорила пословицами – то ли народными, то ли выдуманными ею самой:
– Девичьи годочки вянут, как цветочки. Кавалеров много, муж один. Замуж не возьмут, считай, не жила.
Она всю жизнь писала в тетрадках: истории своей жизни, об увлечениях и ухажерах и стихи.
- Когда-то я была красива,
- Неотразим был мой портрет,
- На шпильках туфельки носила,
- В поклонниках отбоя нет.
Однажды на день рождения Лены она преподнесла ей длинную поэму, где была вся жизнь падчерицы – рождение, учеба в школе и техникуме, работа, встреча с Брянцевым, рождение Тани, переезд на Сорок третий километр, и даже козу она не забыла.
Состарившись, Валя заинтересовалась сектой, куда ее подбила ходить соседка латышка Августа. На собраниях распевали гимны, а потом угощались творогом и кашей.
И вот – Валентины нет. Нелепо не стало. Сгорела. Сгорели люди в троллейбусах…
Нервные волны ходили под белой шерстью козы. Она нетерпеливо била копытом.
– Сейчас уже! Закончу с тобой! Не борзей… – приговаривала Лена, доцеживая второй сосок.
Тонкая долгая струя цыкала в таз с молоком.
Это Валентина посоветовала Брянцевым дом на Сорок третьем, куда они перебрались из Москвы, с Щукинской. И на козу Валентина их навела. Ее старинные знакомые из Хотькова пожаловались: некуда пристроить маленькую козочку.
Виктор поутру в выходной отправился электричкой в Хотьково, где заплатил какие-то смешные деньги, и вышел с беленьким существом на руках. Он договорился: когда козочка вырастет и даст приплод, привезти сюда козленка. В электричке на них смотрели. Козочка тянула безрогую, с двумя шишечками, головенку к весеннему окну и нежно мекала. Виктор держал ее одновременно невесомо и цепко, как будто она из снега, и либо растает, либо развалится. Она принялась обнюхивать ему лицо, ткнулась в кадык и вдруг зажевала ворот его рубахи. Виктор принес козочку домой, и ее поселили в вольере, который он соорудил на веранде. В вольере постелили стеганое одеяло и кинули старую думку, разве что игрушек недоставало. Козочка, почуяв доброту, всё время только и делала, что звала пронзительно: “А-аа-ась, а-аа-ась!”
– Чего тебе, Ася? – Лена выходила на веранду и вела с козой пространный душевный разговор.
Особенно обрадовалась козочке Таня. На участке у Брянцевых росла небольшая рощица банановых деревьев, оставшихся от прежнего хозяина, дипломата, – тугие и вытянутые стебли с широкими листьями, напоминающими слоновьи уши. Быть может, эти бесплодные в северных краях заросли символизировали мечту советского человека об изобилии бананов. Таня приметила: вкуснее любой травки-муравки для Аси были банановые листья. Девочка мельчила их и совала козе в жадный роток.
Коза подрастала, надо было переселять ее в сарай, но Брянцевы всё тянули, в то время как Ася всё сильнее обвыкала на веранде, вблизи людского тепла. Теперь она легко преодолевала вольер и пользовалась любой возможностью навестить дом – следом за входящим или навстречу выходящему. Наконец она изловчилась входить самостоятельно. Поднявшись на дыбы, ударяла передними копытцами, щелкал замок, дверь продавливалась вперед и со скрипом ползла назад. Первым делом коза вбегала на кухню, воровато шарила по столу, могла схрумкать что-нибудь, затем неслась в гостиную, где прыгала в старое кресло под пыльной накидкой. Если дома был Виктор – козу гнали. Если Лена и Таня – коза могла торчать в кресле часами, смотрела телевизор, поводила ушами, слушала разговоры, изредка мекала. Лена ставила возле кресла таз, и, когда приспичит, коза, соскочив, туда мочилась. И заскакивала обратно в кресло.
Окрепнув, она набиралась наглости и ярости. Всё чаще при приближении гостя вставала в боевую стойку, нагнув голову и круто выпятив рога. Но заключила пакт с кошкой Чачей. Как-то коза нацелила рога на кошку, сидевшую на крыльце, и испытующе зыркнула – кошка бросила умываться и посмотрела внимательно. Протекла трудная минута смешения козьих и кошачьих глаз. С тех пор коза и кошка не обращали друг на друга никакого внимания.
Таня любила Асины молодые рога, гладила и чесала, они напоминали ей изящные древности: сосуды, оружие, музыкальные инструменты. Надо было угомонить животное – Таня без страха хваталась за рога, но коза, напружинившись, всё равно перла вперед или дико мотала головой, пока ее возбуждение не спадало.
Ни с кем так охотно коза не гуляла, как с Таней. Они бегали наперегонки, перекрикивались, Таня представляла козу своим знакомым и ею пугала. Если сказать тревожно: “Чужой!”, коза склоняла голову и выставляла рога.
Случалось, паслись рядом с домом на заброшенной стройке. Когда-то здесь была обычная лужайка, просвет между домами, но к концу Советского Союза на лужайке затеяли строить дом отдыха. Возвели фундамент, свезли бетонные плиты и гору кирпичей, и на этом стройку забросили. Несколько лет плиты и кирпичи валялись неприкаянно, постепенно растаскиваемые, и, по слухам, земля была уже продана начальнице с софринского свечного завода. Ася резво прыгала по развалинам так и не начавшейся стройки. Когда родители тревожились: “Она у тебя ноги не переломает?” – Таня отвечала им убежденно: “Это горная козочка!”
Временами козу отводили на поле возле дальнего леса. По слухам, это огромное поле тоже уже обрекли на продажу и застройку, но в такое как-то никому не верилось. Там Асе надлежало полдня пастись одной, привязанной к столбику. Однако тащить ее туда приходилось волоком. Она нарочно подгибала ноги и, казалось, пускала корни в землю. Обычно тащил ее Виктор. Привязанная, она падала на колени, билась об землю и плакала безутешно. Она плакала полдня и ничего не ела, даже когда жившая у поля старуха Мария Никитична подсовывала ей ворох сена. Как будто ребенок, ненавидящий детский сад и силой туда приведенный.
– В диспансер тебя надоть, вот что. Для психбольных животных, – говорила красноносая Мария Никитична, чьи две коровы безмятежно кормились на том же поле без присмотра и привязи.
Зато когда Таня забирала Асю, коза скакала домой во весь опор – обгоняя велосипед, на котором катила девочка.
Наконец козу переселили с веранды в сарай на огороде. Отделение от дома коза восприняла болезненно. Если она понимала, что дом пуст, в ужасе начинала вопить не переставая. Это был таинственный гортанный вопль оставленности. Соседи грозились ее убить. Со временем коза научилась рогом поднимать щеколду, покидала сарай, взбегала на крыльцо, ломилась в дом.
И вот – у нее началась течка. По скользким россыпям желтой листвы Лена повела Асю в рощу, где жил лесник Сева, имевший обширное хозяйство, включая породистого козла. Козел бегал в загоне, за железной сеткой, чудовищно разросшийся и густо-черный, распаляя себя, как боксер перед турниром. Звали его Сократ. Сева властно потянул Асю за рог и впихнул в загон.
– Он же ее порвет! – заволновалась Лена.
Сева подмигнул и приложил шершавый палец к воспаленным губам:
– Тс-с-с…
Сократ и Ася поладили беззлобно и даже плавно. Когда Лена уводила козу, та рванулась обратно и заголосила, как будто отведала чего-то необычайно вкусного.
У нее родился темный и большеглазый очаровашка-козленок. Отчего-то один. Назвали Гаврилой. Виктор отвез его в Хотьково, как договаривался.
Как-то Ася заболела. Съела большой кусок целлофанового парника, хотя Лена сначала на соседей подумала: отравили. Есть коза не могла – рвота, и стоять не могла – ложилась на живот. Ее перенесли в гостиную в кресло, подставили таз. Из Пушкино прибыл ветеринар Дмитрий Яковлевич с желтовато-седой бородой и прокуренными раскатами голоса. Сел на корточки, наклонился:
– Ну что, кормилица, хвораем? Водка есть? – спросил, не отрываясь от козы. – Неси!
Лена принесла бутылку “Зверя” – была такая водка.
– Огурцы солили? Неси огурец!
Встал с корточек, открутил железную пробку и влил себе в бороду – глоток за глотком – четверть бутылки. Громко захрустел огурцом, танцуя головой и смежив веки, как будто целуется.
– Это водой разбавь, доверху, – протянул бутылку с остатками водки. Облизнулся в бороде толстым языком. – Мужик есть?
– Есть.
– Зови!
– Вить! – закричала Лена наверх.
– Помогай, друг, – приказал ветеринар. – Держи ей пасть.
Виктор раздвинул козьи челюсти, и доктор влил между ними одним потоком водку с водой – всю бутылку.
– Сожми ей. Чтоб не выплюнула.
Коза вращала глазами, но была слишком слаба протестовать.
– Будьте здоровы, господа хорошие! – рокотал врач на прощание. – Ни о чем плохом не думайте. Завтра встанет кормилица! Вы ее только хорошенько прогуляйте, чтоб растряслась как следует.
Так и получилось: назавтра Ася снова ела и мекала. А послезавтра резвилась беззаботно.
Ася давала три литра в день – обильно. Правда, Брянцевы не очень-то жаловали козье молоко. Козу взяли ради здоровья, в первую очередь – дочери. Таню приучили: стакан утром, стакан перед сном. Лена могла подлить молока себе в кофе, а Виктор, едва унюхав козий дух, от отвращения корчился.
– Чем оно тебе так не угодило? Ты зачем ребенка пугаешь? – говорила Лена.
– Мочой пахнет. Не могу я! Может, и мочу пить полезно. Но не для меня это!
– Неправда! – подслушав их разговор, на кухню вбежала Таня. – Земляникой оно пахнет!
Молоко давали пить Рите и ее брату (тех принуждала мать) и всем желающим наливали.
– Не дом, а богадельня, – усмехался Виктор. – Приходи – по телефону звони, еще и молочка за так поднесут…
– Не торговать же нам, – как-то сказала ему Лена.
– Ну, – согласился он.
– А почему не торговать? – вмешалась Таня.
– Зачем срамиться? – ответил Виктор и этим ответом всех убедил.
Когда к Брянцевым приезжала Валентина, молоко она пила с удовольствием, могла выдуть подряд три чашки.
– Лен, а зачем ты ее слушаешься? – поразилась она, когда коза в очередной раз, покинув сарай, вбежала в открытый настежь дом и прыгнула в кресло. – Иди! А ну пошла! Ведьма чертова! – И заехала сложенной в трубу газетой козе по морде.
Коза спрыгнула на пол и без всяких промедлений саданула рогами старуху под колено.
Закричала Лена, Валентина забегала вокруг стола:
– Кыш, проклятая!
Коза настигала. Валентина обернулась и страстно плюнула. Коза остановилась, мотнула головой. Старуха зажурчала ртом, накапливая слюну, и плюнула еще. Коза покачнулась и выбежала из гостиной через прихожую в огород. Обидчиво процокали копытца.
– Вот! – торжествующе сообщила Валентина, растирая под коленом. – Я человек простой. В моем детстве их всегда так гоняли! Плюнь погуще – она в кусты. Они ж больно брезгливые, козы-то!
Асю с той поры Валентина опасалась. Но и коза платила ей тем же.
Глава 6
Валентину Алексеевну хоронили в закрытом гробу.
С закрытым гробом долго не напрощаешься, поэтому в морг никого не звали – сразу на кладбище, где и отпели в церкви. День был ветрен и бесцветен. Священник в белом облачении, рослый, в грязных сапогах, отслужил литию над могилой. Сам возглашал, сам себе подпевал – без запинки, подгоняемый каким-то внутренним наступательным ритмом. Слова молитвы то резко выскакивали, то тонули в мурлыканье. Он позвякивал кадилом, и напевный голос проносился над всеми и сквозь всех, как дым ладана на ветерке – то густея, то рассеиваясь.
Лена тихо плакала, Виктор изредка кряхтел, Таня смотрела по сторонам, превращаясь во всё, что видит.
Валентинина дочь Света была влажная от слез, мягколицая, с завитыми светлыми волосами. Округлые руки торчали из черного платья и зябли, покрытые мелкими пупырышками. Ее муж Игорь – низкий лоб, покатые плечи – выглядел сурово, взявшим обет молчания. Плакали и шептались, словно бы слипшись, несколько подружек и соседок покойной.
Поодаль от всех торчала девица в белой куртке с накинутым на голову капюшоном (“Из секты”, – шепнул кто-то). Она читала брошюру в разноцветной обложке, близко поднеся к лицу и шевеля губами.
Таня была на похоронах второй раз в жизни. Закрытость гроба смягчала для нее смерть бабы Вали, как будто в гробу пусто.
Поехали на поминки в старинный дом в Чистый переулок. Валентина жила в отдельной двухкомнатной, но решили поминать где просторнее, по соседству, на большой коммунальной кухне. Перед поминками зашли в Валентинину квартиру: трюмо, шкаф, этажерка, фарфоровые статуэтки, настенный ковер – Виктору казалось, что всё должно было померкнуть, измениться, столько тепла и внимания старуха вкладывала в окружавшие ее вещи, но эти вещи-предатели выглядели как ни в чем не бывало.
На коммунальной кухне были сдвинуты три стола, на подоконнике стояли молодой красивый фотопортрет и рюмка под черным хлебом. Здесь были жильцы всех комнат, и даже женщина в халате и с мокрыми волосами слонялась из коридора на кухню и обратно, прижимая к себе спящего грудничка.
– А с кем малышню оставили? – спросила Лена.
– С подругой Светиной, – ответил Игорь.
У них были мальчик и девочка пяти и семи лет.
– Бабушку любят… – всхлипнула Света. – Как я им объясню теперь, куда бабушка делась?! – Слезы прокатились по ее щекам.
Приехал Валентинин друг детства – старик из Хотькова: сел рядом с Таней и ухватил ее пальцами выше локтя. Слегка, но цепко. Щипок означал страх и близость смерти – Таня почувствовала это, и ее точно сковало. Старик шевелил проволочными бровями, спрашивал у Брянцевых про козу, не слышал, спрашивал опять, сказал, что козленка Гаврилу разорвали собаки, “трудно везде поспеть, жена всё лежит, да и я уже не тот”, и продолжал держать в щепоти кусочек Тани, кажется, сам о том позабыв. Таня отдернулась, принимая миску с салатом, и пересела.
Наконец стали поминать.
Света встала первой.
– Мама всегда говорила: доживу до ста лет. И я думаю: она бы дожила до ста, если б не катастрофа. Сколько она опасностей видела! В войну на работе ночью сидит, на машинке стучит. За окном сирена воет. А она думает: нет, надо допечатать дело. Дело! Во времена были. Допечатала, бежит по улице к метро, а кругом всё гудит, гремит… Потом бомба рядом в дом попала, и камень в спину отлетел. С такой силой, что она лицом упала на мостовую. Говорила: ударил бы в висок – точно бы убил. И еще один случай. Она уж немолодой была, за пятьдесят. К нам в гости приехала, на мой день рождения, шла обратно через парк, ну, у нас, возле “Речного вокзала”. И там на нее в темноте какой-то маньяк напал. Повалил в снег, это весна ранняя, так мать, даром что добрая, его зубами – хвать…
– И куда она его?.. – задорно спросил Виктор, по дороге с кладбища успевший хлебнуть.
– Помолчи, – одернула его Лена, – не в цирке.
– А чего? – растерянно и нагло отозвался он. – Не, а чего? Я ж про что? Молодцом была.
– За нос его, гада, тяпнула, – разъяснила Света.
– У Валентины зубы были хорошие, – поддержала одна из подруг. – Не то что мои гнилушки…
– Ну и ладно, давайте помянем, – сказал Игорь.
– Погоди, – одернула Света, – к чему всё это говорю… А к тому, что не знаем мы своего часа. Такую мама жизнь протянула, и всё для чего… для чего?.. – Голос ее поплыл. – Чтоб сгореть, да? – Она со свистом втянула воздух.
– Чтоб нас вырастить! – подхватила Лена. – И людям радость дарить!
– Как я обо всем узнала… – Света выпила рюмку, но по-прежнему стояла над столом. – Поздно было, ближе к ночи Августа звонит. – Она показала на старуху с массивной челюстью и седыми буклями. – Ты звонила?
Та сдержанно кивнула.
– Вот… – Света перевела дух. – Августа звонит. Не приехала, говорит, мать твоя на наше богомолье. Ждали, но не приехала. И дома нет ее. И вот я, как была, в ночной рубахе, стала в милицию звонить, из милиции в скорую, из скорой в морг. Игорь, – она похлопала мужа по шее, – выходит в трусах, извиняюсь, и спать зовет. А я ему: “Одевайся, в морг поедем!” Ох, и ноченька это была! – Голос Светы дрогнул. – Когда опознание проводили, я до последнего поверить не могла. Не мама, нет и всё. Паспорт ее, пускай обгорел, а саму не узнаю! Часы показывают, плащ, цепочку с рыбкой. Вижу как в тумане и думаю: чужие это вещи. А Игорь говорит: “Да, узнаем” – и скорей меня на выход повел. И говорит: “Цепочки такие они все там носят, у них, там… в секте”.
Света села и сразу вся как-то расползлась.
– Сектой нас называют те, кому Бог не открылся, – возразила старуха с достоинством, – Мы – церковь, – и, переждав мгновение, добавила: – Белое Братство.
– Была от вас одна на кладбище, – сказала Лена. – Книжечку всё читала.
– Сестра Ольга, – старуха напряженно и прямо держала голову, как воин, приготовившийся к обороне.
– А я помню, как мы втроем отдыхали! – подала Лена жизнеутверждающий голос. – Помнишь, Свет? Рядом с пляжем – железная дорога. Лежим, загораем и вдруг слышим: гудки поезда и крики дикие. Это грузины нашу Валю увидели. Кричат ей, машут и пальцами показывают… А она молодая еще, стройная, белая, волосы золотые. Лучше нас, скажи, Свет!
– А почему вы… это… Белое Братство? – повернулся Виктор к Августе. – Откуда такое название?
Та в ответ повернулась к нему:
– Это цвет чистоты.
– Я… Я… – Света опять встала, школьной тетрадкой обмахивая краснеющее лицо. – Ее стихи нашла… Последние. Она всем нам обычно стихи дарила. По праздникам. А здесь как будто мы ей пишем. Сама себе писала от нас!
– А от меня? – спросил Виктор.
– А ты обойдешься! – Света заулыбалась сквозь слезы и замахнулась на него тетрадкой. – Она тут пишет, что мы ее любим, всегда в гости ждем. Она… Она и от внучков написала…
– Тетя Свет, а мое прочтите, – вырвалось у Тани.
– Твое? Сейчас… – Света перевернула несколько страниц. – Ага. Вот! “Бабушке от Тани”.
- Бабушка Валечка, как я скучаю,
- Опять приезжай к нам на Сорок третий,
- Там угощу я вареньем и чаем,
- Перед этим на станции встретив.
- Помню, как ты меня в детстве хвалила,
- Когда ты раньше гостила в тот раз,
- И я вареньем тебя угостила,
- Которое мама сварила для нас!
– Помнишь? – сказала Лена дочери. – Тебе лет пять было, мы недавно переехали. Бабушка чай пила в гостиной, а ты вдруг с кухни несешь банку варенья. Из терновника я делала. Протягиваешь ей: “На!” Забыла?
– Забыла она, естественно, – ответил за дочку Виктор и, перегнувшись через стол, спросил: – Ну, так чего ваши докладывают: скоро конец света?
– Осенью, – глаза у Августы засветились поощрительным интересом. – Осенью кончится эра Рыб. Старый мир погибнет в языках огня. – Она немного коверкала каждое слово и одновременно произносила с дикторской самовлюбленной четкостью.
– Осенью? – уважительно переспросил Виктор.
– Осень, лет через восемь, – Игорь ухмыльнулся. – А ведь получается, это секта бабушку сгубила. Сидела бы дома – мы здесь бы сейчас не сидели.
– Она ж ни во что такое не верила, мамулечка моя! – заголосила Света. – Она за вами туда пошла. За вами, да, Августа Густавовна. Вдвоем, мол, веселей. У вас же там поют! Любопытная ко всему новому была!
– Она верила, – гордо сказала Августа.
– Да ну, конечно! Верила она! – возмутились старухи.
– Может, вы верили, – затараторила Лена. – Главный активист квартиры двадцать восемь. Старшая по подъезду. Строгая вы были. Заставляли на “вы” называть вас. Большого о себе мнения! Как Ленин, висит еще? Портрет над кроватью… Или кто другой теперь?
– Другая, – протянула одна из старух.
– Да, точно! – оживился Виктор. – Как вашу главную звать? Всё забываю…
– Мария Дэви Христос Юсмалос, – отчеканила Августа, вероятно, решив пропустить остальное мимо ушей.
– Весь район обклеила! – заквохтала старуха в зеленой косынке, делавшей ее похожей на лягушку. – И Валю принуждала. Клеить листовки ихние. Валя не ходила, отнекивалась. А я сказала: “Идтить еще, ноги топтать!”
– Это не листовки, а христовочки, – быстро сказала Августа.
– Да что район… Город залепили! – вдруг взвился Игорь. – Деваться некуда – повсюду баба в чалме! Недавно иду возле Министерства обороны, а там на ворота она присобачена. Рядом с красной звездой. Баба в чалме, и руку держит, как поп. Солдат у ворот караулит. Я ему показываю на нее, ну, на листовку и на бабу эту: “Сорви ты на хрен!” Он в ответ: “А мне какое дело?” А у самого глаза сектантские.
– Зачем человека заели? – сказал Виктор. – Вот я вам, Августа, завидую, если честно. Всем надо во что-нибудь верить. Без веры как?
– Надо было! – парировал Игорь, нажимая на второе слово. – Надо было верить. Маразм! – выплюнул он. – Не могут без собраний! Найдут, чей портрет нести, о ком песни петь… Страна!..
– А ты что, не страна? – спросил Виктор тихо.
– Игорек у нас умница, – заговорила Света, словно бы находя утешение. – В Японию ездил, машины взял. Время такое: только богатеть…
– Ты нас, мать, не рекламируй! – Игорь притворно сморщился поверх довольной улыбки. – Я просто не зеваю. Денег-то везде навалом! Там купи, тут продай. Сплошной бартер! Чего проще? Вот мужик, деньги у него под боком – нет, он будет синячить. Завод закрылся – синячат, на жизнь жалуются. Да переедь ты в другой город, сними хату, вкалывай. Хоть за баранку сядь и бомби – тоже хлеб. Нет, ноют, а на бухло всегда найдут. Я понимаю: старым трудно, но у нас-то возможностей полно. Сколько пацанов на мерсах гоняют, а вчера гоняли мяч во дворе. Главное, чтоб своя голова на плечах. А совки всему верят. Стадом идут… В разные, – он погрозил Августе, – секты.
– Кто не примет нас или зло нам причинит… – у той внутренним смешком затряслись губы и щеки.
– Что?
– То…
– Раз начала, договаривай… Напугала ежа голой жопой. Ну? Ну чего ты, а?
Он смотрел дерзко и зорко, словно готовясь к прыжку. У Августы плескались молочно-карие глаза, сразу насмешливые и встревоженные.
– Думаешь, если старая, тебе всё можно? В гляделки играем? Зырь, зырь, сектантка херова!
– Игорь! – вскрикнула Света.
– Прости его, космос. – Августа, спрятав взгляд и бормоча, встала из-за стола. – Прости его… космос… – Она шла медленно, ни на кого не глядя. Скрылась в коридоре.
– Вы чего творите? – Виктор налил новую рюмку.
– Так ей и надо! – зашумели старухи.
– Хулиганка, – сказал старик из Хотькова.
– Нехорошо получилось, – сказала Лена. – Всё же она нашей Вале подругой была. Надо Валю поминать, а мы о чем!
– Да и жить с ней рядом, – сказала Света. – Мы, наверно, с Речного сюда переедем, а там сдадим. – Она выдержала паузу. – Ой, и правда нехорошо. Зачем, Игорь, так грубишь?
– А чего она стращает?
– У нас с квартирой плохая история, – раздался шелестящий голос женщины с младенцем на руках, всё это время стоявшей у плиты. – Приходили уже. Говорят: расселять будут.
– Кто приходил-то? – спросил Игорь резко.
– К Новому году выселим, говорят. – Женщина прошла за стол и, ловко прижимая спящего, заняла место Августы. – Весной дело было. Я еще с животом. Утром в дверь звонок. Открываю скорей, врача ждала. Двое. “Расселять вас будем!” Я чуть рожать не начала. “Куда расселять? И с какой стати?” – “Есть решение. Коммуналки все расселяют. Нашей фирме вас поручили”. Смотрю: нерусские оба, спрашиваю: “Вы откуда?” Один: “Я армянин”, другой: “А я азербайджанец” – и зубы скалят. Тут другие наши к дверям подошли. Эти двое на площадке топчутся, как будто неуютно им. Один говорит: “Всё понятно?” Другой повторил: “Готовьтесь. До Нового года всех расселим”. И вниз побежали, как мальчишки. Стоим у открытых дверей и не знаем: что это было? Май прошел, в мае я рожала, вот июнь, пока ни слуху ни духу. Я потом вспомнила: это ж первое апреля было! Может, розыгрыш?
– Бред какой-то, – сказал Виктор. – Армянин с азербайджанцем.
– Ради денег всё бывает, – сказал Игорь наставительно.
– Никакой жизни не стало, – вздохнул старик из Хотькова.
– Может, и заживем! – сказал Игорь. – Если волю дадут. Много болтунов и бездельников. Отсюда всякая нечисть и берется. Депутаты вон тоже аферисты те еще, паскудники. Пятый микрофон, третий, сто восьмой, а толку от их болтовни… Даже закон о земле не принимают.
– Они вопросы задают. – Виктор махнул рюмку. – Они за народ спрашивают.
– Ты закусывай! – сказала Лена беспокойно.
– За народ только и знают что трещат, – Игорь раздраженно захрустел квашеной капустой. – А надо вперед идти. Чтоб по-человечески жилось. Да? – Дожевал, громко проглотил. – Да или нет?
– Да, да, нет, да, – передразнил Виктор.
– Ты что? – Игорь неприветливо поднял бровь.
– Так ведь голосовал?
– Да мы разве помним? – вмешалась Света. – Вроде мы и не ходили… Мы ж в этот день…
– Ходили, – перебил муж. – Голосовали. Да, да, нет, да. За Ельцина. За новую Россию. Без красной сволочи. Я сам свой ствол достану, если что.
– А я тебе раньше топором башку срублю, – сказал Виктор внушительно, налил и выпил.
Все притихли.
Ребенок на руках женщины тревожно заскулил.
– Во! – Старик из Хотькова показал Тане большой палец. – Лихой у тебя папаня!
– Не слушайте его! – зачастила Лена. – Свихнулся он! Всё время съезды смотрит!
– Помяните мое слово! – Виктор налил еще и обвел всех загоревшимся взглядом, точно произносит тост за победу. – Желаю вам… Всем вам желаю, на шкуре своей… Всем вам… Тошно с вами! Один человек живой, и ту прогнали! Старуху! А все сидят, мол, так и надо… – Еще выпил.
– Ты чего хамишь? – спросил Игорь сипло.
– Прекратите вы! – испуганно вскрикнула Света. – Мы зачем собрались? Мы мамулечку мою поминаем… И так тяжело, а вы…
Младенец зарыдал. Державшая его женщина встала и закачала свертком из стороны в сторону, издавая шипящие звуки.
Виктор волком смотрел на Игоря. Вскочил:
– Пора!
Он вытаращился на дочку, перевел бешеные глаза на жену. Развернулся, пошел по коридору.
– Бескультурье, – проскрипел старик из Хотькова.
– Опасно… Вдруг чего… – Лена глотала звуки. – Нажрался, скотина! Я ему завтра устрою!
Было слышно: Виктор, чертыхаясь, возился с замком.
Лена поцеловала Свету, потрепала по стриженой макушке Игоря.
– Простите! Стой ты!
Побежала.
– До свидания! – звонко сказала Таня и тенью метнулась за матерью.
Виктор недолго был во власти алкоголя, а всего верней – просто выделывался.
От выпитого он не столько даже раскраснелся, сколько порыжел, весь превратившись в одну яркую веснушку. Он пританцовывал, раскачиваясь и подлетая тучным телом, пристукивал башмаками и тоненько блаженно повизгивал, как младенец на материнских руках. В узком и длинном небе над переулком давились облака.
Лена твердила ему главное, что ее мучило и жгло:
– Витя, ты дальше не пей! Ты дальше только не пей, ладно? Витя! Пойдем вон в тот дворик! Посидим! Таня водички купит. И поедем потихоньку…
Переулок был практически пустынен, и это окрыляло Виктора счастливым чувством беспредела.
Напротив старинного дома, который только что покинули Брянцевы, стоял особняк. На внушительной деревянной двери под козырьком тусклым золотом переливалась табличка с черными крупными буквами “Московская Патриархия”. Поодаль меж двумя окнами, укрытыми белоснежными занавесками, на выпуклом квадрате стены была наклеена листовка, желто-лимонная, вероятно, от солнца, длительного висения и клея. Сверху в половину листовки была черно-белая фотография: молодое, стыдливо-блудное лицо, туника вроде простыни и головной убор вроде полотенца, как некоторые женщины накручивают на волосы, выйдя из ванной. В левой руке богиня держала жезл, а правой благословляла.
Виктор коснулся ладонью губ, чмокнул, сделал размашистое движение рукой и всей пятерней хлопнул по листовке:
– Мадам, пойдемте танцевать!
– Тебя милиция заберет! – Лена воровато оглядела переулок.
– Ты чего нос воротишь? Не ревнуй меня к ней! Это же кар-тин-ка. Ее ж твоя мачеха и клеила. Нет Валентины, а бумажка висит!
Дверь особняка открылась, на порог выкатился плотный мужичок в костюме и закурил, буровя их пытливым взглядом.
– Пап, пойдем! – жалобно позвала Таня.
– Дочери бы постыдился! – сказала Лена.
Виктор запрокинул голову к облакам, как будто высылая в небо невидимые стрелы безумия. Вернув голову, сказал с безоружной зевотой:
– Да чо вы прилипли, как репей. Идем!
Он пошел быстро и увлеченно, точно бы к какой-то цели. Лене и Тане ничего не оставалось, как следовать за ним в дурманном запахе водки.
– Папа, не беги так! – говорила Таня, заглядывая отцу в его решительное, неожиданно монументально затвердевшее лицо.
– Пускай проветрится! – возражала Лена. – Чего теперь Кузяевы скажут? Я им хвасталась: “Молодцом Витечка, пить умеет, а уж если пьет, то не пьянеет”. Вот тебе и Витечка! – Она начинала пилить мужа, улавливая, как он теряет хмель. – И время нашел: маму мою вторую хороним… А он… Всех нас разом загнать в гроб решил…
Виктор, не отвечая, свернул на Пречистенку и пошел в сторону метро “Кропоткинская”.
– Мы домой поедем, да, пап? – спросила Таня.
– Попробуй мне бутылку взять! – сказала Лена. – Сама в милицию сдам.
Перешли по зебре, остановились у метро.
– Если что не нравится – не смею задерживать! – щедрым волнообразным жестом Виктор указал влево. – До вокзала по прямой! Дорогу знаете!
– Пап, я с тобой! – сказала Таня. – А ты долго еще хочешь гулять, а, пап?
– Танечка, а ты Красную площадь видела? – спросил он с чувством.
– Маленькой.
– И я давно… Ну что вы как неродные? Когда еще всей семьей по Москве пройдемся! И не скандалил я ни с кем. У них свое мнение – у меня свое. Ну тошно мне с их мнением рядом сидеть!
– А со мной тоже тошно? – спросила Лена требовательно.
– Мне тебя одной с твоим мнением хватает. Одна – ладно. А больше – уже тошнит! – Виктор подался к жене, ласково и сурово ухмыляясь, и протянул руки, обнимая воздух вокруг нее.
– Пап, я мороженого возьму? – спросила Таня.
Через минуту пошли дальше. Таня лизала из оранжевой обертки химически-свекольный лед и думала: “Как это, был человек и нет? Куда люди деваются? Неужели все умрут?” – и уже знакомый холодок щекотал ее сердце. Лена, замолчавшая, с чем-то внутренне согласившаяся, шла нахальной походкой курортницы, выдвигая вперед плечи. Виктор продолжал идти целеустремленно, но более спокойно, всё еще похожий на большую, но уже побледневшую веснушку.
– Это Пушкинский музей, помнишь, Таня? – кивнула Лена. – А справа бассейн был. Здесь снова храм обещают построить. Его коммунисты взорвали.
– А построят?
– Мамаша ждет, – добродушно заметил Виктор. – Обещать они могут что угодно!
Миновав библиотеку Ленина и старое здание университета, оказались у гостиницы “Националь”. Подземным переходом Виктор вывел семью на Манежную площадь.
Дул ветер, сильный и упругий, точно с моря. Краснел мрачноватым куличом Ленинский музей. Возле музея кучковался народ и слышалось возбужденное гудение голосов. То и дело, отлепляясь от одной группы, кто-нибудь перемещался в другую.
– Ах, вот куда ты нас вел! – протянула Лена.
– Пап, это не Красная площадь, – сказала Таня.
– Щас, щас, щас… Щас на площадь пройдем… – отвечал Виктор сомнамбулически. – Щас…
В два скачка он преодолел расстояние до народа и слился с его гудением.
Первый людской круг был средних размеров – голов сорок.
Здесь громко рапортовал невысокий мужчина в желтой рубахе и серой безрукавке, с седыми волосами, рассыпанными по плечам, и седой бородой совком. Он, как регент, в такт голосу рассекал воздух ребром ладони.
– На Пасху трех монахов в Оптиной пустыни зарезали. Они в колокол звонили, их сатанист резал, а они звонили. Прямо на колокольне резал. На ноже у него были три шестерки. Один монах кровью истекал и всё равно звонил.
– Зарезал, и чего теперь? У нас в Братеево каждый день людей режут, – недовольно сказал кто-то.
– Идею дай! – потребовал другой.
– Боже, очисти нас, грешных! – выдохнула женщина в прозрачном платке и с бумажной иконкой.
– А идея моя простая, братцы и сестренки! Нынче время бесов! В Дивееве матушка Магдалина, ей девяносто четыре, впала в летаргический сон тогда же, на Пасху. Недавно очнулась, всего два слова сказала: “Сентябрь, октябрь” – и дальше заснула. Время бесов… Вот ты, жрец, кому поклоняешься? Не бесу разве?
Вопрос был обращен к крепышу, тоже невысокому. Тот был бритый наголо, в белой рубахе навыпуск, расшитой васильками и маками, но при этом в трениках и кедах. Подбородок его, крепенький и напряженный, как отдельный мускул, украшали несколько жестких и длинных черных волосков.
Крепыш заговорил туго и веско:
– Настоящие русские чтут веру предков. Солнце встало – вот мой бог. Ветер сегодня – тоже бог. В лесу, на реке, в поле – везде духи родные. И я никому не раб. А вы только и знаете, что каетесь без конца. В монастырь всех закрыть хотите. Осенью, двадцать первого сентября, приглашаю на день Сварога. Праздник перелома. Светлые боги ослабнут. Солнечного Даждьбога встретит Марена. Она – богиня смерти. День тяжелый и жестокий. Но язычество не для робких людей. Вся природа – это школа мужества!
– Не пойдем на совет нечестивых! – бородач в безрукавке широко перекрестил язычника. – Мы рабы Божии, но не человеков. Кто на Руси первыми на битву выезжали? Монахи!
– Батюшка, – не удержавшись, спросила его Лена, одновременно смущенно и напористо, – а правда, что яблоки и сливы нельзя сейчас есть?
– Я не батюшка. А ты потерпи, – он повернулся к ней, ласково оглядывая. – До Преображения.
– День плодов, – язычник лязгнул зубами. – Все ваши праздники – наши! Был день Перуна – стал Ильин.
– Да чего ж вам делить тогда? – выкрикнул Виктор.
– Папа, идем! – Таня тянула его прочь.
Ветер внезапным порывом пришел ей на подмогу.
Брянцевы оказались среди другой толпы – самой большой, голов семьдесят. Здесь говорили яростно и ненасытно. Тон задавали бабульки в пестрых нарядах, преобладал красный цвет. Они держались все вместе, точно как сегодняшние старухи на поминках, но в отличие от тех, каких-то серо-волглых, были бойцовыми и яркими.
Грудастая юная девица в зеленой футболке с красной звездой, очевидно, их опора, покачивала двумя темными косицами и излагала звонко:
– А третьего выйдем всем миром! “Трудовая Россия” зовет на народное вече! Заранее решили, за четыре месяца, чтобы каждый мог добраться. Захотим – миллион соберем.
– Третьего? Чего третьего? – пронеслось по толпе.
И обратной волной:
– Чего-чего? Октября! Октября третьего!
– Мы девятого мая сто тысяч вывели. Нам от страха Красную площадь открыли. А осенью, третьего, миллион соберем и власть себе заберем. Из капли наше море зародилось! Эту каплю Анпиловым зовут. Он сам ходил с рюкзаком, газету свою раздавал, и потек за ним народ. Сколько нас молотили! В прошлом году мы к Останкину ходили, просили эфира. Палатки поставили. И дальше всё, как в песне: двадцать второго июня ровно в четыре часа… Помните? Помните, что было?
– Таисия Степановна после этого померла, – зазвучало из толпы, – Сорокина!
Заголосили бабули, похожие одновременно на цыганок и матрешек:
– Костей наломали, что хворосту!
– Схватят, раскачают, и о бордюр…
– Всю площадь у Останкина кровь залила, – девица качнула бедрами.
– Даешь Останкино! – выкрикнул Виктор не своим голосом и похолодел, как будто слова вырвались помимо его воли.
– Ты чего, пап? – зашипела ему в ухо Таня.
– Правильно, гражданин. Приходите третьего! Мы в этом году бой дадим. – Звезда на майке у девицы блестела липко и заманчиво, как разрезанная помидорина.
– Жди, пойдет он, – недовольно забормотала Лена. – Пускай в палатке тогда и живет.
– А перед девятым мая украли нашего Анпилова, – продолжала девица. – Рот заклеили, пальцы сломали, двое суток держали за городом. Без него демонстрация шла. Был бы с нами Анпилов – пошли бы на Кремль! Ничего, готовьтесь к осени. А мы и сейчас уже многого добились.
– Чего-о? – вызывающе спросила Лена.
– Чего? А мы, например, тетя, Мавзолей отстояли.
В толпе кто-то засвистел.
– Всё не так! Ленин ваш империю разрушил, – вступил в разговор тонкокостный юноша в черной рубашке. Лоб ему закрывала пшеничная челка. – Ленин народ швырнул в котел революции и сварил, как кусок мяса! Кто царя расстрелял?
– В царе, молодой человек, не было ни капли русской крови, – раздельно произнесла девица.
– У вас… – юноша быстро покосился на нее. – У вас звезда пятиконечная. И над Кремлем звезды. Под этим знаком русских косили!
– А у вас-то знак какой? – возмутилась одна из бабулек. – Как у фашистов! Тьфу!
– Это звезда Богородицы!
– А Богородица русская была? – дал петуха какой-то дедок.
– Сегодня в Кремле – новые большевики, – говорил юноша упрямо. – Их внуки родные. Взять Гайдара…
– Гайдар деда предал! За варенье и за печенье, – ответила девица. – Он – Мальчиш-Плохиш.
Бабули поддержали ее радостным смехом и захлопали в ладоши.
– Вам Россия нужна как донор, – выводил юноша. – У вас гимн “Интернационал”! Ваш Анпилов журналистом в Африке работал. Дикарей кормили за счет русского народа.
– Не в Африке, а на Кубе. А твой Баркашов кто? – спросила девица. – Слесарь!
– Пролетарий, ага, – юноша тряхнул челкой. – Мы людей на классы не делим. Главное, чтоб единство было. В Калининском районе на Кубани черные девчонку изнасиловали, менты под ними, бездействуют. Наш соратник Сергей Слепцов собрал сход, всех черных из станицы прогнали.
В толпе захлопали.
– Осенью у нас сборы. Приедет тысяча здоровых мужиков. Сюда, в Москву. Пройдем маршем и победим. России – русский порядок! Есть вопросы? – Юнец мотнул головой, и личико его, забагровевшее, пролетело, как ягода рябины, выплюнутая из трубочки. – Слава России!
Сильно рванул ветер.
Люди перед музеем замерли и стихли. Все словно бы пригнулись.
– Ну, Лен, ты за кого? – умиленно обернулся Виктор.
Жена смотрела на него округлившимися от злости глазами:
– Хватит идиотничать!
Таня согласно хихикнула.
– Обывательницы… Ну, еще минуточка. Последний раз! Последний-препоследний… – Взяв за руки жену и дочку, он перетягивал их к соседней толпе, самой малой, голов двадцать.
Оттуда звучало:
– Я за конституцию Румянцева.
– Пошел он, Румянцев твой! Я свою подпись уже поставил. Еще спрашиваешь! Я за конституцию Слободкина!
– Вы не кадет?
– Нет, а вы?
– Я христианский демократ. А вы?
– А мы анархо-синдикалисты!
– За Эдичку?
– Зачем? За Исаева Андрюху!
– Вот вы не верите, что они могли прозреть, – говорил бледный крючконосый мужчина в коричневой фетровой шляпе и очках. – Но и я прозрел! – Он покрутил шляпу вокруг головы. – Я в девяносто первом Белый дом защищал.
– Дурак! – сказал кто-то.
– Может, и дурак. Но ведь не одного Ельцина я там стерег. И Руцкого, и Хасбулатова, и депутатов… А они… И они прозрели!
– Как же, прозрели… – Смуглый поджарый мужчина обнажил парочку золотых коронок. – Все они сговорятся! Помяни мое слово! Не верь ты этим гадинам! Импичмент весной провалили. Осенью опять побратаются: одна шайка. Подстилки они все, твои депутаты.
Бледный хлопнул себя по шляпе, примял ее:
– Погодите! Слышали, что Ельцин заявил: пока артподготовка, а осенью – бабахнет…
– А как со Слободкиным… Слободкина как… – заговорили кругом.
– А что случилось со Слободкиным? – спросил Виктор.
– Не знаешь, чудак? Пропустил? – удивился смуглый. – Учи матчасть! Слободкин с Ельциным поспорил. На совещании. В Кремле. Ельцин махнул, охрана подскочила, и вынесли Слободкина, как мешок картошки. И бросили у дверей. Он даже туфель потерял.
– Милые мои, если я верно понял, вас ужасно обидел чем-то Борис Николаич, – заговорил розовый круглый мужчина, у которого на макушке вился одинокий пенный клок. – Извините, милые мои, а вы полагаете, что власть бывает идеальной? А Хасбулатов не хам? Руцкой не солдафон?
– Правильно! – кивнула Лена. – Хорошо говорите!
– Заткнись! Гони его! – зашумели вокруг. – Провокатор!
В небе громыхнуло.
– Отстаньте от него! – вплелась в общий шум Лена.
– Давай смелее, грудью его закрой! Всё у вас получится! – посоветовал Виктор и добавил: – Лучше молчи. Накостыляют.
– И ты что ж, не защитишь жену свою? – спросила Лена громко.
– Хоть здесь не начинайте! – взмолилась Таня.
– Я хочу у вас узнать… – розовый обращался к бледному в шляпе. – Да, да, у вас! Вы, похоже, человек интеллигентный. Прозрели, говорите? Или снова глаза разуете? Поглядите вокруг! Вокруг, да, вокруг нас с вами… Кто это? Подсказать? Мне не трудно и не боязно, пожалуйста…
– Улица всегда такая, – бледный нервно и поощрительно гладил себя по шляпе. – Парламент и улица – это вещи разные. Обычный человек по доброй воле флагом махать не захочет. Думаете, ваши сборища лучше? Как-то шел я мимо, поспорил, меня окружили… Потом всю одежду в химчистку снес… Погодите, вот поломает ваш Ельцин депутатов, и ни вы, ни мы уже не станем нужны. Глядишь, лет через двадцать вместе начнем митинговать.
Упали первые капли дождя.
Розовый прыснул в округлый кулак, украшенный еще одним пенным клоком:
– Да вы, милый мой, фантазер!
– Он фантазер, а ты козел! – зашумели вокруг с новой силой. – Крути педали!
Забарабанил дождь. Розовый выскользнул из толпы, как мыло.
Народ не расходился, в пару, в брызгах, булькая, фыркая и еще отчаяннее гомоня.
Брянцевы вышли на Красную площадь.
Под дождем она становилась похожа на огромный черный зрачок.
…Ночью Тане приснилась баба Валя:
– Смотри! – и включила телевизор.
Толпились люди, они шумели, чего-то требовали, напирая на серого каменного истукана вроде того, что на острове Пасхи. Полукругом его огораживало стальное кольцо – щиты, сдвинутые и блестящие.
Люди выражали мольбу и возмущение, слов Таня не слышала, но поняла, что это простые и бедные.
Вдруг, как по команде, загремели выстрелы.
Люди начали падать.
Это было так невероятно, что она зарыдала и тут же проснулась.
Глава 7
Они познакомились в то время, когда Виктор до зачарованности увлекся одним проектом.
Его заприметила Валентина Алексеевна на работе, где сидела секретаршей в приемной.
Статный, высокий, светлоглазый парняга, шапка светло-рыжих волос, широкое свежее лицо. Он вошел в кабинет ее начальника, бледный и быстрый, держа в вытянутой руке толстую бумажную трубу скатанного чертежа. Вышел медленный, с гримасой неловкого удовольствия, труба подмышкой.
– Послушай-ка, милый!
Он увидел голубые, по-детски безмятежные и доверчивые глаза на немолодом плакатно-советском лице с правильными классическими чертами. От нее как будто шла волна одобрения.
– Как тебя?
– Виктор.
– Хорошее имя. А я Валентина Алексеевна. Подойди, что скажу…
Приблизился. Серый костюм, черный галстук в белый горошек, сквозь белую рубаху нежно пахнуло потом.
– Ты откуда у нас такой? Архитектор или художник? Не похож.
– Я экран проектирую. Экран. Ну, как телевизор. Будет висеть на роддоме.
– Рожает у тебя кто? – спросила Валентина участливо.
– Да при чем здесь это?
– Женат?
Помотал головой:
– Говорю вам, экран строю. Внешний вид утверждать пришел. На стену роддома повесят. На улице, понимаете? И будет всегда показывать.
– Что показывать? – подозрительно спросила она.
– Чего захотят – то и будет.
– Дай чайку налью. А конфету хочешь? Знаешь, какие у меня вкусные. Специально берегу. Для дорогих гостей. Не конфеты, а сказка. Умный человек, значит? Я и вижу, что серьезный. А то ходят художники патлатые, ни здрасьте, ни до свидания. А неизвестно, какие они художники. У тебя-то вот есть что предъявить. – Она заборматывала его, оплетала мелодичным доброжелательным голосом, и он улыбнулся, почувствовав себя уютно. – А у меня для тебя не только конфета. Еще и невеста есть. Всех отвергает, разборчивая… Темненькая она. Она тебе понравится – она всем нравится.
– Познакомьте! – бодро сказал Виктор из вежливости, подумав: “Хорошего никогда не предлагают. Что-то здесь не то”. Он уже давно пришел к сокровенной формуле: “Свою любовь я и сам отыщу”.
Глянул на часы:
– Ладно, всего вам доброго.
Стремительно вышел.
– Сразу видно, что не москвич, – вечером докладывала Валентина по телефону. – Как хочешь, Лен, но вот такие пироги.
– И не надо меня ни с кем знакомить, Валя! Я сто раз говорила: не унижай меня. Ты зачем сводничаешь?
– И кто ж о тебе позаботится, если не я?
– Судьба.
Мачеха рассыпала обидный смешок:
– Судьба-а-а… Судьбу еще заслужить надо. Ну, сама решай.
– Да я и решила всё давно. Не надо меня позорить! Хорошо, допустим, сведешь ты нас. И что я ему скажу? Приветик, пойдемте в загс… Ничего себе, весело: незнакомому парню навязалась. Нет уж… У меня и так всё устроится.
Между тем Валентина не отступалась:
– Мой глаз наметан: вы прям парочка, он – рыжий, ты – черненькая. Парень – первый сорт! Хоть посмотрите друг на друга. А то так никто тебя и не увидит! Не на улице же знакомиться! А он – ученый. И богатырь. Всё в нем. Смотри, Ленусик, так и будешь ворон считать. Или с гусем каким загуляешь – у которого ветер в голове. Поиграет и бросит.
– Да ты за кого меня принимаешь, Валь… Я что, гулящая? Какой еще гусь? Нужен мне гусь!..
– А Костька твой разве не гусь был?
– Мы же договаривались! Не надо о нем! И не было у нас ничего…
– А этот, не поверишь, лицом вылитый Ломоносов, – продолжала Валентина протяжно, словно любуясь. – Голова у него золотая. Вся чертежами забита, планами… Особо и досаждать тебе не будет. Не то что некоторые. Видно, нормальный человек, с пониманием. Небось, сибиряк. А это значит, хозяин. С таким не пропадешь. Сибиряки, они народ основательный, надежные ребята. Такой в Москве всегда закрепится. Я давно живу – сразу людей вижу. По этому парню два дела видно. Первое – сибиряк, а второе – поспел. Поспел, понимаешь ты меня?
– Куда поспел?
– Жениться готов. Такого быстро подхватят. А ты дуреха…
– Почему это я дуреха?
– Ты-то? Ой, не переживай. Нет у меня времени с тобой болтать, пирог подгорает.
– Погоди! Как его звать?
– Витей. Я и фамилию посмотрела в списке посетителей. Брянцев. Виктор Брянцев. Красиво, правда?
И вдруг – при этом сочетании звуков – что-то сжалось у Лены в солнечном сплетении. И разжалось.
– Ты говоришь, когда он придет?
– А я знаю? Будь на стреме!
Лена в ответ засмеялась.
Виктор появился через три дня, держа наперевес две бумажные трубы. Радушно поздоровался с Валентиной Алексеевной и исчез в кабинете начальника. Она тотчас набрала Лену.
Дел у Лены было тоскливейше мало – день убивался под шелест бумаг и гудение радио, – потому она смогла запросто отлучиться. Нырнула в метро и через двадцать минут вынырнула возле мачехиной работы.
Тем временем Виктор вышел в предбанник.
– Отвоевал?
– Через неделю приступаем, – расплылся в улыбке, руки спрятаны за спину, в каждой – бумажная труба.
– Куда-а? – Валентина оставила стол, заскочила вперед и закрыла собой дверь в коридор. – А чай, конфеты?
– А невеста? Вы ж мне невесту обещали, – весело пробасил, глядя исподлобья.
– Памятливый какой… Невеста будет!
И тут же, как в деревенской простодушной постановке, где на старых досках узкой сцены задорно аукаются репликами, из коридора прозвучало:
– Здрасьте!
Валентина, оглянувшись, посторонилась – это входила запыхавшаяся Лена.
Перешагнула порог – и потерялась. Темные глаза сверкали остро и решительно (еще на бегу), ресницы наивно и кокетливо хлопали (так и заготовила), но на скулах выступила краска стыда.
Виктор смутился. В ее лице было что-то, что он давно себе намечтал, что-то от героинь итальянских фильмов.
Валентина захлопотала, наполняя воздух мягкими взмахами рук и негромкими возгласами, отчего молодые люди ощутили себя свободнее:
– Что стоите? Давайте чай пить. Ай-ай, а так хорошо улыбался. Видишь, это моя доченька. Садитесь скорее.
– Елена? – Виктор трудно растянул губы и несмело протянул руку, как будто она пудовая.
Он был потрясен, что так легко познакомился с этим необыкновенным существом.
Девушка сделала шаг навстречу и пожала кончики его пальцев:
– Я на минутку забежала, – она повернулась к Валентине, – тебя проведать…
Сели. Лена помешивала чай ложечкой, извлекая слабый настороженный звяк. Виктор бухнул в чашку три ложки сахара, отпил, развернул конфету, откусил, снова отпил. В глаза друг другу они не смотрели.
– Ты из Сибири, как я поняла, – сказала Валентина.
– Нет.
– Ты же Брянцев! Из Брянска, что ли?
– Кировский я.
Валентина не умолкала.
– Как с работой? Платят ничего? Жить можно? Один в Москве?
– Ну.
– Где поселился?
– В общаге пока.
– А родные твои где?
– Мать в Нововятске.
– Да не краснейте вы, большие же ребята. Один ученый, молодец. Другая – тоже умница. В технике хорошо понимает. А работает не хухры-мухры – в Министерстве обороны.
Виктор вскинулся на Лену, которая инстинктивно дернула головой, рассыпая темные волосы. Она была розово-смуглая и пухлоротая, с пушистыми узкими бровями и прямым носиком. Под голубой кофтой круглились крепкие груди.
Зазвонил телефон.
– Да, Петр Евгеньевич? Поняла. Позвонить Ермакову, чтоб был у вас в шесть. – Валентина повесила трубку, покосилась на дверь начальника. – Дела, дела… Некогда с вами. Значит, Виктор, одобрили твой проект? Что ты там, говорил, строишь?
– Так я ж это… экран… на роддом. Где это… где чертежи-то мои? – он заозирался.
Лена хихикнула. Чертежи были найдены на шкафу (сунул их туда и забыл). Виктор развернул лист:
– Вот это больница. Роддом то есть. Это большой план. Так всё будет выглядеть.
– Интересно, – прощебетала Лена.
Он ответил польщенной усмешкой, аккуратно свернул чертеж в трубу.
– И вы всё сами придумали? – спросила она.
– Работа такая, – он за секунды вошел в роль славного мирового парня и почувствовал, что у него есть шанс. – Можно вам позвонить?
– А зачем? – Она наклонила голову набок.
– Чтобы сказать вам что-нибудь приятное.
Валентина, что-то записав карандашом, протянула Виктору листок. Он подошел, пританцовывая, заглянул в бумажку:
– Это ваш или Ленин?
– Стара я для тебя, – сказала Валентина.
– А у меня телефон в общаге. Провожу вас, Лена?
– Вы идите. Мы еще здесь посидим.
– Я вам позвоню… Я позвоню! – Последнее он выкрикнул и пропал в коридоре.
– Медведь из тайги, – сказала Лена.
Виктор позвонил тем же вечером. Говорил сдавленным голосом, побеждая застенчивость. Позвал в кино назавтра же на вечерний сеанс. Лена отказалась: завал работы, не может завтра.
– Послезавтра давай! – предложил Виктор.
Честно было бы ответить: “Да, конечно, когда угодно”, но она считала умным потянуть и чувствовала в этом что-то необычайно приятное.
– И послезавтра не могу.
– А тогда когда? – спросил Виктор скорбно.
Ее ощущения стали почти приторными, мысли пропали, и теперь не терпелось ответить навстречу наслаждению: “Никогда” или “В следующей жизни” – но всё же она предпочла неопределенное:
– Ну, когда-нибудь…
– На выходных?
– Может быть…
– Я позвоню!
Назавтра он не звонил. Лена пила холодный чай, сидела, подперев голову, а сумерки сгущались не только за окнами, но и внутри нее. В темноте она нехотя встала, зажгла свет, и тут зазвонил телефон. Лена дернулась, пропустила один звонок, другой, прежнее сладкое ощущение зашевелилось… Третий звонок… На оконном стекле рассеянно мерцало отражение кухни.
– Слушаю, – сказала холодно.
Это была мачеха.
– Не звонил он мне, не звонил, оставь в покое Бога ради! – Лена швырнула трубку.
Мачеха перезвонила, заметался тревожный голосок. Лена подумала, что, пока Валя на линии, Виктор не может дозвониться, и наигранно-вежливым напряженным голосом попросила: “Извини меня… Я сейчас не могу”. Повесила трубку и подержала на ней руку, пока та не обрела человечье тепло. Погасила свет. Впотьмах влила в себя последний глоток холодного чая. Отправилась в ванную, оставила дверь открытой. Лежала в воде, то и дело заслоняла струю ногой, приподнимала голову, прислушивалась к телефону.
Виктор набрал ее на следующий вечер.
– Алло! Алло! Лена, привет! Я из автомата! У нас телефон поломался. Ты слышишь меня? – Гулкий удар. Удар. Еще. – Черт! Теперь таксофон барахлит!
– Я слышу!
– Мы идем? Завтра суббота!
– Идем! – в тон ему крикнула Лена.
– Зайти за тобой?
– Нет, я сама!
– Кинотеатр “Горизонт”. В пять вечера. Где встретимся? В метро? Это “Фрунзенская”!
– Ладно.
– В четыре в центре зала!
– Всё. Пока.
Лена корила себя за то, что сорвалась на птичий крик, а еще за то, что приехала раньше на двадцать минут. В отместку она встала не в центре зала, а в конце, у белой головы Фрунзе, благо на станции было пустынно.
Вскоре появился Виктор. Он судорожно крутил головой, потом заметил и, недоверчиво щурясь, подошел. Он был всё в том же костюме, но без галстука, ворот распахнут.
– Ты что, плохо видишь? – спросила она, делано рассмеявшись.
– Да не… Зрение сто процентов. А ты плохо? – участливо заглянул в глаза.
Она опять засмеялась и сморгнула:
– Не жалуюсь!
– Значит, нам всё равно, какой ряд. У нас восьмой. – Помахал билетами. – Утром ездил специально, покупал. Так, на всякий случай. Фильм называется… это… – он прочитал залпом: – “Девочка, хочешь сниматься в кино?” Не слышала? И я. До шестнадцати лет нельзя. А веселый там только “Усатый нянь”. Небось, смотрела?
– Куда ж я денусь!
Пришли рано и отправились в буфет. Лена колупала белый шарик мороженого – в светло-сиреневом платье, пахнущая терпко арабскими духами, волосы угольно блестят, собраны в пучок и перевязаны голубой ленточкой, в ушах серебряные сережки. Виктор смотрел на ее длинную сережку с молочно-голубой бирюзой и понимал, что влюблен. Он испытывал нежность к сережке. Это маленькое нежное ухо с розовеющей оттянутой мочкой было предназначено именно для этой сережки. И она, Лена, начиная с левой сережки, и далее вся, с ее смехом, блеском глаз, смуглостью, духами, голым, каким-то неожиданно грубым коленом, выбившимся из-под платья, и заканчивая правой сережкой, приводила его в полный восторг. Так бы и сидеть с ней, и не идти никуда, можно и без кино обойтись… Он отпил кофе, выдохнул, расстегнул пиджак:
– Работа у тебя тяжелая?
Лена посерьезнела:
– Вроде простое дело следить за теплом, а всё равно важно: если где не досмотришь – караул. Я сначала в домоуправлении работала. Гагаринским районом занималась. Мне любая котельная – родная. Иду мимо, о своем думаю, а сама смотрю, открыта ли форточка.
– Должна быть открыта?
– Еще бы! Иначе перегрев – и котлы лопнут. Т ьфу-тьфу-тьфу, пока всё в порядке.
– А что в Министерстве обороны делаешь?
– Служба тыла. Да те же котельные – только в воинских частях. Я с инспекциями езжу, уже пол-Союза повидала. Осматриваю, гляжу, хватает ли угля. В Иркутске была, в Чите. В Кяхте у пограничников. А твои какие достижения?
– Да я уже докладывал. Вчера к роддому ездили, сверяли чертеж, пришлось малость подправить… – начал Виктор, но осекся и длинным глотком допил кофе. Он знал, что может страстно и назойливо рассказывать о любимом деле, и решил вовремя остановиться, чтобы не выглядеть полоумным.
– Часто ходишь в кино? – спросила Лена.
– Неа.
– А я без фильмов не могу. Всё детство проходила… И в театр, и на балет…
– И что больше любишь?
– Балет. А ты?
– Цирк, – сознался и покраснел.
– Почему?
– Там все-таки живое, звери там… И человек жизнью рискует – то ли с каната сорвется, то ли зверь на него нападет. Прихожу иногда и жду: вдруг кто взбесится. Обезьяна, или лошадь, или тигр… Сижу и жду. Наверное, такого зверя сразу подстрелят. Мне один циркач объяснил: у них за кулисами ружья с сонными пулями. А тебя-то, небось, только и развлекают…
– Что-о?
– Небось, вокруг так и вьются…
Они прошли в зал, где начался фильм про девочку-третьеклассницу, у которой мама, врач скорой помощи, разбилась в аварии при столкновении с грузовиком. Печальная девочка, горестный, ставший одиноким ее папа… Виктор зашмыгал носом. Лена украдкой посмотрела на него. Его лицо в отблесках киноленты странно кривилось, выпятилась нижняя губа. Он снова шмыгнул, вжался в кресло. Раздражение поднялось в ней, она смотрела на него пристально, но он этого не замечал. “Эй!” – шепнула. Он на мгновение повернулся, тяжелой рукой сгреб ее ручку. Лена выдернулась.
– Ты что? – спросил он вполголоса.
– Ты что – плачешь?
– Ерунда. Я поэтому кино и не люблю. Я не люблю, если грустное. – С каждой фразой он повышал голос.
– Тише ты, – прошептала Лена.
Он поискал глазами и снова схватил ее ручку. Лена пыталась освободиться, но он держал твердо, по-мужицки, и при этом как бы утешительно поглаживал пальцем.
– Пусти, – сказала она сердито.
– Тебе не нравится?
– Нет, мне не нравится.
– Замолчите, сейчас администрацию позову! – возмутилась женщина слева от Виктора.
Он разжал хватку, продолжили смотреть фильм, но оба уже не смотрели.
Виктор думал: “Во сглупил я, хрен его пойми, как надо… Теперь решила, что я ненормальный”.
Лена думала: “Ага, очередной типчик. Был уже один. Сначала руку ему дай, потом целовать полезет, потом лапаться, и дальше чего? А ничего. Надо их учить. Обиделся… Да ну его, психованный какой-то, слюнтяй. Наверно, больше никуда меня не позовет. Ну и пожалуйста”, – и тотчас ей стало грустно.
С полгода назад она рассталась с Костей.
…Всё началось накануне седьмого ноября. Лена возвращалась с работы, заглянула в магазин и с тяжелой сумкой подходила к дому, когда наперерез из мрака бросился кто-то, в свете фонаря отбрасывая хищную тень. Раньше она изредка сталкивалась – в лифте и на улице – с ним, жившим этажом выше, но они никогда не разговаривали. Обычно он был при овчарке, поджарой и серой. Сейчас он без слов выхватил у Лены сумку и прямо в лицо выдохнул облако пара, в котором смешались запахи животного здоровья и жестокой осени. Над губой темнела жирная полоса щетинистых усов. Черноплодные, навыкате глаза разглядывали озорно и цепко.
– Пошли помогу, – сказал, как приказал, и они поднялись к ней.
– Спасибо, – сказала Лена.
– Спасибо не красиво. Зачем ты всё дома киснешь? Работа – дом, работа – дом, я давно за тобой наблюдаю… – У него была бодрая скороговорка. – Пойдем подышим. С Радаром, что ли, погуляем.
Она почему-то легко подчинилась, уговаривая себя: а почему нет, интересный человек, да и гулять действительно полезно. Среди туманов и мрака, по скользкой листве, по грязным дорожкам она битый час выгуливала с ним его собаку. Этот Костя коротко отрапортовал о себе: был ее старше на десять лет, не женат, спортсмен, альпинист, по совместительству учитель физкультуры. Собака лаяла и оглядывалась, и Лене делалось не по себе.
– На! – он протянул поводок. – Боишься ее?
– Боюсь!
– Не бойся, кому говорят!
Теперь Лена бежала, поспевая за зверем, который рвался в стороны, больно вытягивая ей руку. Костя трусил рядом и разговаривал снисходительно и резко, как с ученицей:
– Парень у тебя есть, нет?
– Я на этот вопрос отвечать не хочу!
– Нету! – уверенно сказал он, присвистнул – собака оглянулась, поводок ослаб.
Вернулись к подъезду; он привязал собаку к облетающему тополю, сели на лавочку, где кем-то заботливо в несколько слоев была постелена газета.
– Замерзла? – обнял, сжал, потряс. – Чего дрожишь? Надо больше гулять и привыкнешь. Будешь со мной гулять?
– Буду, – сказала одеревенело.
Собака заухала густым раскатистым басом, дернулась раз, другой, отвязалась, подскочила, тяжело дыша.
– Привяжи ее, пожалуйста…
– Не бойся ты, – Костя нежно погладил Лену по скуле, шершавым пальцем провел по губам. – Надо тебя погреть. – Взял за затылок правой рукой, левой сильнее смял плечо и вдруг поцеловал, мокро и горячо.
Он как будто бы вгрызался. Его усы щекотались и кололись. Лена хотела вырваться – собака гавкнула. Девичьи и собачьи глаза на мгновенье столкнулись.
– Тоже… Тоже целуй… – придушенно сипел Костя. Дверь подъезда заскрипела, показался старик с клюкой. Костя оторвался. – Ну вот и погрелись! – сказал он жизнерадостно. – Еще подышим?
– Нет, я домой…
– Как хочешь. Тогда и мы домой. Да, Радар?
Дома Лена помазала кремом над губой: усы отпечатались зудящим розовым следом. Назавтра был выходной, праздник. Она проснулась с болью в горле, смотрела по телевизору парад и думала, что до этого поцеловалась коротко и вскользь в пионерлагере с мальчиком из Еревана Арамом, потому что в карты проиграла поцелуй, и еще на вечеринке в техникуме, напившись портвейна: Дима Зоммер, худой блондин, ей очень нравился, но погиб под электричкой.
Набрала подружку Олю с работы, затем мачеху. Обеим сказала одинаково и хвастливо: “Тут у меня ухажер появился. Забавный такой. Представляешь, я на седьмом этаже, а он на восьмом!” Оля сказала: “Смотри, чтоб не изнасиловал, а вообще удобно, будете пешком друг к другу ходить”. Валентина принялась за советы: “В жизни что главное? Терпение. Ты его только не отваживай. Сразу покажи, какая ты добрая, нешумная. Скажет что поперек – ты терпи. Может, путное у вас и выйдет”.
Ближе к вечеру Костя позвонил в дверь:
– Идем гулять?
– Неохота. Простыла что-то.
– Лечиться надо! Сегодня же праздник! Собери на стол, отметим.
Он убежал к себе и вернулся с бутылкой каберне, уже початой. Лена впустила, торопливо выложила шпроты, нарезала сыр и колбасу, сели, выпили. Закашлялась. У вина был гадкий вкус, как будто его разбавили водкой. По телевизору передавали концерт, и большой детский хор горланил звонко, до ряби на экране, песню “Старый домик”. Пятым во втором ряду разевал рот смуглый и курчавый, в белой рубашке и с красным галстуком, – вылитый Арам, за всё это время так и не выросший:
- Кирпичный старый домик на дальнем берегу,
- Тот домик, братцы, в плаванье забыть я не могу…
- Сосна стоит над берегом, шумит внизу прибой,
- Далекий домик, родимый домик мой…
– Его зовут Арам, – сказала она мечтательно.
– Правда? – Костя притянул к себе и поцеловал.
– Подожди… Колючие!
– Привыкай!
Он говорил ей что-то восхищенное, гладил по голове, наполнял ее бокал вином: “Рот открой и зажмурься, так надо”. Она пила большими глотками, целовалась (какой злой вкус!), отвечала губами губам, бессвязно словами словам… Зазвонил телефон, встала и шатнулась, Костя толкнул за стол: “Успеешь, посиди”… Заснула, пробудилась от холода на диване, без кофты, лифчик подтянут под горло, Костя мокро и безостановочно елозит усами по груди. Лене показалось, что всё это не с ней, она слабо застонала, запустила пятерню ему в волосы и снова закрыла глаза, чувствуя, как он порывисто и зло возится с юбкой. “Расслабься… Я всё сам… Так надо. Я всё сам”.
– Сам так сам, – сказала смешливо и горько, как бы с дальнего расстояния.
Вспышка боли, обварившая нутро кипятком. Забытье… Она с неохотой пробудилась от сильной и быстрой тряски, отозвавшейся тошнотой. Костя подкидывал ее и раскачивал, как будто выполнял гимнастическое упражнение. Она окончательно проснулась, всё поняла, заплакала и, подавив тошноту, жертвенно и жадно ловила губы и усы и гладила потную крепкую спину, слегка пронзая ногтями.
Костя приходил с восьмого этажа на седьмой. Сначала с бутылкой и даже цветами, потом просто с бутылкой. Правда, сводил пару раз в ресторан. “Я хочу, чтоб мы были вместе всегда, – повторял он, и в его глазах скользило что-то заискивающее. – Я от тебя балдею!” Проведя с ней время, он шел в ночь гулять с собакой. Лена, лежа, слышала всё: звон ключей, собачий лай, гудение лифта – и не могла уснуть, пока всё не начинало звучать обратно: лифт, лай, ключи – и с отрадной благодарностью неизвестно к кому и за что проваливалась в сон.
Как-то его застала у нее Валентина Алексеевна – старалась разговорить, рассказала, что много путешествовала и бывала в горах. Он вел себя любезно, но несколько настороженно и быстро распрощался.
– Это хорошо, что у тебя поклонник есть, – сказала Валентина. – Смазливый… Ты с ним осторожнее. Может, какой алиментщик? Видно, бывалый. Прямо Мопассан. Имей в виду: если мужчина по-настоящему любит, он обязательно хочет жениться… Приставал?
– Было. Да я отшила.
Близость с Костей не давала Лене ожидаемого, но он ей нравился. Ее смущала неопределенность их отношений, она хотела от него решительного объяснения. Иногда одна перед зеркалом, глядя на свою грудь, она думала: “Надо же, у меня есть любовник” – и чувствовала себя героиней романа.
И она решила незатейливо его проверить.
– Мне надо с тобой поговорить…
Они полулежали на диване.
– О чем?
– Я забеременела.
Лицо Кости залила мгновенная бледность с синеватым отливом.
– Ты уверена? Задержка? Мочу сдавала? – опытно оттарабанил он.
– Угу…
– Я против, – сказал, как отрезал.
– Почему?
– Это не входит в мои планы, – он глядел не моргая.
– А я всё равно буду рожать!
– Пожалуйста, не делай глупостей! У меня есть хороший врач, профессор…
– Тебе не нужен наш ребенок?
– Знаешь, мне школы хватает. Так орут, бесятся. Страшно представить, что домой приду, а там то же самое.
– Может, и жениться не надо? – не выдержала она.
– Может быть, может быть… – он дергал себя за усики.
– Пошел отсюда вон! – закричала Лена.
– Тише, тише, тише… – Костя стремительно собрался и ушел.
После этого он несколько раз пытался зайти – не пускала, на улице отворачивалась. “Послушай”, – сбежал он сверху, когда открывала квартиру. “Я всё придумала, успокойся”. И он успокоился, отлип. Но вечером и утром Лена слышала, как он выходит с собакой, и затаивала дыхание.
Теперь, когда Валентина Алексеевна спрашивала: “Что там твой ухажер?” – Лена отвечала: “Ничего, надоел” – и сворачивала тему.
После киносеанса Лена шла с Виктором к метро. Оба молчали.
Она думала: “Разве я не дура? Парень добрый, сострадающий. Даже людей из фильмов жалеет. Наверное, тоже ищет настоящей любви. Взял за руку, а я… Чего ради выдернула? Может, я нетронутая какая, никогда меня за руку мужик не держал? Ах, цаца. Дала бы подержать… От меня не убудет. Нет же. Взрослая уже, почти тетка. А всё чего-то воображаю. Наверное, он удивился, подумал: идиотка. А я и есть – идиотка. И хамка”.
Подошли к метро.
– Лен, – позвал Виктор.
– Чего?
– Ну не отворачивайся, Лен… Ты меня не простишь?
– Как? – изумленно спросила она.
Весь следующий месяц они отдавались “культурной программе”, как называла их занятия Валентина Алексеевна.
– Ты его культурной программой маленько подави. Чтоб на серьезность настроился. А если в ресторан потащит или, того хуже, в гости придет – быстро распустится. Ты с ним построже, ты же слишком мягкая, а мужик это чует, вот и наглеет. Ты помучай, ревность вызови. Скажи: меня в Большой театр известный писатель звал. Но и надежду подари: отказала, мол.
Пошли в “Ударник” на “Афоню”. Еще не погасили свет, когда он потянулся рукой, но Лена так выразительно спросила: “Куда?”, что тотчас отдернулся и с минуту озадаченно осматривал свои пальцы, словно хотел и не решался на них подуть.
Они смеялись весь фильм. Смех сближал, и Лена думала, что герой чем-то похож на Виктора.
Выйдя из “Ударника”, серого и насупленного, слитого со всем непогожим днем, пошли по мосту; вода от ветра дробилась чешуей, незажженные кремлевские звезды были тусклыми, и, сама не зная почему, она сказала:
– Какой Леня симпатичный!
– Что еще за Леня?
– А ты не знаешь? Куравлев, естественно! Замечательно играет. У нас один военный на работе так же говорит…
– Как?
– С прибаутками.
– Пустой хохмач, – нашелся Виктор.
– А мне очень нравится!
– Как хочешь. Можно тебя до дома проводить?
– До моей станции. До дома не надо.
– Почему?
– Потому.
В метро их пальцы были рядом на захватанном металлическом поручне. Вагон трясло, руки съехались, Лена, будто не замечая, не убирала руку, и Виктор неотрывно смотрел на этот союз плоти. Освободилось место, села, Виктор высился над ней наклонившейся стеной. Прибыли на “Щукинскую”. Спросила на прощание: “Как твои успехи?”, начал старательно и сбивчиво излагать, осадила: “Всё с тобой ясно”. Замолк и резко помрачнел, точно подавился.
Позвонил в тот же вечер по общажному телефону (починенному) и разговаривал неразборчиво, вероятно, с мечтательным придыханием, и она закричала: “Я ничего не слышу! Пока!” Он перезвонил – голос его стал четким, но каким-то ободранным. Он звонил каждый день: “Что делаешь? Совсем ничего? Понятно. Может, повидаемся? Когда будешь знать?” Несколько раз молчали в трубку. “Не слышу! А?” – звонко поддевала она хохотком, угадывая, что за рыбина задыхается на том конце. И ощущала мстительную отраду: терзать Виктора – значило мстить Косте. Но тем чаще она думала о соседе и как-то среди ночи поняла, что снова вслушивается в звуки на лестничной площадке. Женская изобретательность подтолкнула ее спросить у молчания: “Зайка, ты?”, трубку повесили, и перезвонил Виктор, гаркнувший: “Кто это зайка?” – “Кто надо” – “Нет… – заканючил он. – Это… Кого ты так назвала?” – “Зину, подругу, отстань”.
Не отстал, а повел в Музей революции – на этот раз шли под руку. “Почему вы такой нескладный? Как вы ходите?” – спросила нарочно на “вы”. Он тотчас сделался и впрямь нескладен, вжал голову в плечи и ослеп, увлекая ее за собой прямиком на манекен дюжего матроса. Лена в последнюю секунду рывком в сторону успела предотвратить столкновение, так что кудреватая голова Виктора прошла в миллиметре от героической бескозырки.
– Интересно, кем бы мы были в семнадцатом году? – спросил, ведя ее по бульвару. – Я вот – матросом.
– А я…
– Буржуйкой?
– Что-о?
– Ну, ты такая чистюля, и славная такая, и ухоженная. Меня бы ранил какой-нибудь буржуй, а ты бы меня перевязала и спрятала. Нет? А потом ты пошла бы медсестрой на фронт. Нет? И я бы научил тебя стрелять, и мы бы вместе воевали против белых.
– Размечтался…
– Скажи, ты когда-нибудь влюблялась? – спросил торопливо, как будто боясь спросить.
– В детстве. А ты?
– Я? Я – никогда. Раньше. Никогда раньше я…
Шли по бульвару между тяжелыми сальными тополями дорожкой, открытой синему отрезку раскаленного неба. Пух под ногами кипел, как манная каша, и Лене казалось, неслышно клокотал. Виктор, замолчав, то и дело с силой бил ногой в эту пену.
А еще через несколько дней достал билеты на “Черных птиц” – балет, завезенный из ГДР. Встретил на “Пушкинской” с ярким букетом роз, и отправились в музыкальный театр. “Как неудобно таскать твои цветы! – говорила Лена. – Подарил бы после! Возьми, подержи!”
На сцене в широкой черной канатной клетке под электронную музыку приседала пленница в белых и желтых перьях. “А он ведь вряд ли богат. Где он деньги берет? Получил гонорар за свой экран? А может, голодает, тратит на меня всё до копейки. Ну, тронь меня, тронь!” Она покосилась: Виктор замком сцепил пальцы поверх букета, словно заранее отрекшись от поползновений. Танцор в красном трико простер объятия, и пленница через канат прыгнула к нему. Он заламывал, гнул, подбрасывал ее, увлекал в сторону зеленого лесного фона, а тем временем, извиваясь, к ним подкрадывались четверо в черном со стальными когтями. В Лене заиграла тревога. Так и будут ходить до скончания века по киношкам и балетам. Или походят и перестанут. Влюбился? Да, видно, что влюбился. Она пошарила в себе и, не найдя взаимности, всей женской природой поняла, что еще немного – и Виктор начнет отдаляться. Похоже, он уже сживался с бесплотностью увлечения. Лена так чувствовала. Его тревожный трепет – это озноб страсти, способный перейти в охлаждение, когда хватит случайного окрика, порыва ветра и ухажер отпадет, как сухой лист. Тогда (допустим, поспешно женившись на какой-то другой, нелюбимой) он, может быть, станет лелеять имя Лены сквозь жизнь, но во сне, втайне даже от себя, уже не готовый к любви наяву. Ритмичная музыка, в которой слышались трески и трели, засасывала головокружением. Но теперь четверо танцоров в красном, тоже с когтями, теснили четверку черных. Те и другие подкидывали ноги высоко и часто, как будто махали крыльями. Наступая, красные мимолетными движениями развалили клетку, которая сделалась грудой тряпья. “Ничего страшного, – думала Лена, – больно нужен мне такой муж. Надо его помучить и первой отойти”.
– Ты мне снилась… – сказал он в ухо, когда с толпой покидали зал.
– Надеюсь, не в кошмаре! – она забрала у него цветы.
– Это был сказочный сон! Как сегодняшний балет! Только лучше! Жалко, что мы не смотрели мой сон вместе!
Стояли на эскалаторе, она заслонялась розами, и он поделился, жалобно и со смутным упреком:
– Запуск экрана перенесли. Мне тут выговор был. Напутал я. Сидел, чертил, а думал о другом… Этой ночью всё исправил. Странное дело: то, что раньше мне давалось, как орешки, теперь я начина…
– А я в командировку лечу.
– Когда? Куда? – сразу переключился.
– В четверг. В Грузию. Говорят, рай на земле: море, фрукты, вино и люди горячие. В смысле, солнечные.
– Надолго?
– Это что, допрос? – засмеялась.
Она смеялась и не могла остановиться, видя, как под ее смех в его светлых глазах приплясывает ужас.
– Эскалатор кончается! – засмеялась громче.
Виктор нелепо подпрыгнул и чуть не рухнул, ей стало еще смешнее.
– За мной тут сосед приударил, – зачем-то сказала она на платформе.
– Что делает?
Загрохотал поезд, и Лена специально стала говорить неясно.
– Что делает? – снова закричал Виктор уже в вагоне, плюхнувшись рядом.
– Ждет меня! У подъезда!
– Гадости говорит?
– Комплименты!
– Я тебя провожу!
– Нет!
– Я всё равно твой адрес узнаю!
На них смотрели пассажиры, Виктор что-то выспрашивал, Лена не отвечала: она состроила таинственную рожицу сидевшему напротив мужчине в шляпе и с чемоданчиком. Тот поймал ее взгляд, смутился, снял шляпу. “Если честно, мне всё надоело!” – Виктор вскочил, бросился в раскрывшиеся двери, но через несколько мгновений успел прыгнуть в другие, уже закрывавшиеся. Сел к Лене снова.
Вышли на “Щукинской”.
– Спасибо за цветы! – поклонилась шутейно.
– Позволь мне… вместе… – он вцепился в ворот своей рубахи, пуговица отскочила, как плевок. – Я только провожу… Чтоб никто… не приставал…
– О чем ты? Всё, мне некогда! – она вышла на улицу, чувствуя, что будет продолжение.
Возле метро погляделась в блестящее серебряными буквами “телефон-автомат” стекло и, поправляя волосы, заметила серую фигуру Виктора, болтавшуюся среди пешеходов.
Внезапно Лене захотелось куда-нибудь позвонить, пообщаться пусть даже с пустой трубкой. Всей женской природой она ощутила, что так сейчас будет правильно: встать с трубкой в автомате. Зачем? Причины были путаными, но тем путанее станут ревнивые домыслы Виктора.
Положила букет поверх аппарата, бросила монетку, набрала мачеху.
– Привет! На балет ходили. Да, красотища. Немцы так танцуют! Цвета у них такие насыщенные! Музыка, правда, не совсем в моем вкусе. Понимаешь, что-то мне этот Ломоносов надоел. Какой-то он скучный. Надоел, и всё. Ладно, я тебе перезвоню.
Она взяла букет, невзначай стрельнула глазами по сторонам, – преследователя не видно, – опять поправила волосы, отражаясь в стекле.
Досадливо тряхнув головой и розами, Лена заспешила к дому. Вокруг простирались нерешительные сумерки весеннего вечера, когда все звуки обострены: скрип качелей, звон посуды из окон, отголоски песен и плачей. С душераздирающим визгом где-то неподалеку пронеслась скорая, подгоняя темноту и сближая тени. Лена подошла к подъезду. Прислонившись к двери, стоял сухой и желтый немолодой сосед с третьего этажа.
– С цветами… И сама цветок. А меня моя выставила и не пускает.
– Наверно, пьете много.
– Пью. Но и работаю. Я работяга самый настоящий! – Троекратно ударил себя в грудь, отбивая маршевый ритм. – Заходи, родной, не стой над душой! – сказал кому-то у Лены за спиной.
Оглянулась – это был Виктор. Он ринулся на мужичка, схватил за уши и с вежливой яростью отпечатал:
– Сука, твою мать, это моя девушка, мразота, еще раз заговоришь, глаза натяну на…
Подтянутое за уши лицо мужичка исказилось: глаза сузились, углы рта приподнялись в дьявольской усмешке. Он был похож на презирающего палачей запытанного китайца.
– Дурак, пусти его!
Через полчаса она делилась с мачехой не без удовольствия:
– Перед соседом опозорил. А если он Костю встретит и что-нибудь пронюхает – ты представляешь, какая драка будет! Надо рвать. Достал он меня, сил нет. Он не просто скучный, он ревнивец ужасный. Хоть бы сначала замуж позвал, а потом ревновал. И влюбился он как-то не по-людски. Я даже думала: притворщик. Всё, я с ним порву. С таким радости не будет. Тяжелый характер.
– То, что характер есть, – это дело. Я тебе сразу сказала: человек серьезный. Перспективный. Вот и ты к нему посерьезней, Лен.
– Как посерьезней? Всё ты воду льешь со своими советами. Не хочу я с ним ходить и не буду. И потом… Он всегда в одном и том же, в костюме этом. Что, у него другой одежды нет?
– Может, и нет. Он же паренек общажный. Ты за богатыми-то не гонись, которые в разное наряжаются.
– И пахнет от него. То потом несет, то он так наодеколонится, что дышать противно.
– Это терпеть надо. От тебя, думаешь, всегда приятно пахнет? Если хочешь замуж, ко всякому готовься. Отец твой какой был храпун! И ничего – привыкла. Без храпа потом долго заснуть не могла. А я чем лучше? А если в животе несварение? Бывает, так забурчит, что тушите свет. И ты такая же, не святая.
Ближе к ночи позвонил Виктор и спросил раненым голосом, растягивая гласные.
– Прости-и-ишь?
– Прощу, прощу, – сказала, чтоб отделаться.
– Когда мы снова встретимся?
– Не знаю. Ближайшее время занято. У меня командировка.
– К грузинам?
Лена поняла: напился. Он бормотал: “Кто я? И такая девушка… Да как я смел… Как обнагле-е-ел…” – и запел Ободзинского, бархатисто и подвывая:
- Эти глаза напротив,
- Калейдоскоп огней,
- Эти глаза напротив,
- Ярче и всё теплей…
Отсоединилась, перезвонил и запел сначала.
– Алкаш, больше ты меня не увидишь, – она отключила телефон.
За окном загорланили: “Леопольд, выходи!” – и как будто узнала Виктора. А что если он напился с соседом, которому оттянул уши, и теперь они проводят ночь во дворе? Потом она услышала басовитый лай на лестнице. “Костя, я ее не удержу!” – донесся писклявый девичий голосок. Лена уткнулась лицом в подушку. Слез не было, одна усталость. Перед глазами извивались, сужая круг, черные птицы с когтями, а танцор в красном трико подкидывал балерину в светлых перьях…
Лену направили не в Грузию, а всего лишь в Дзержинск под Нижним Новгородом, и на одни сутки. В Дзержинске была танковая часть с зелеными фасадами. Выкрав время после осмотра котельной, Лена села в красном уголке. Ей попалась книга Бориса Рявкина “Очерки смелого времени”. Во время расстрела большевистской демонстрации летом 1917-го матрос был ранен в ногу навылет, вбежал, хромая, в богатый дом и попал в комнату к девушке, которая не испугалась, перевязала его и спрятала в шкафу. Он отлеживался там неделю тайком от остальных домочадцев. Осенью большевики победили, семья девушки уехала из Петрограда, а она осталась, нашла того матроса и вместе с ним прошла всю Гражданскую. История была фантастичной, но тем более пьянящей. Как только Лена прочитала несколько первых абзацев, что-то сжалось у нее в груди, а наткнувшись на “медный вихор моряка”, она отложила книгу и какое-то время сидела в молчании.
В Москве с порога квартиры ее ждал телефонный звонок.
– Ты уже вернулась? Повидаемся? Куда ты хочешь?
– А давай в цирк! – сказала Лена, вновь женской неосознанной природой ощутив, что сейчас самое оно – дать влюбленному шанс и пойти с ним туда, где ему так нравится.
Она не сразу узнала его. Поняла, что это он, лишь когда подошел вплотную. Он переоделся, был в малиновом свитере, который ему очень шел, в черных брюках и вдобавок постригся – волосы уменьшились вдвое. Сделал руку калачиком, Лена зацепилась и, едва тронулись, начала возбужденно трещать. Он держал руку неподвижно, а Лена, не переставая трещать, терлась о его твердый мускул. Она рассказывала о всякой всячине: старинных зданиях, фонтанах, шашлыке, полковнике, якобы пристававшем в тбилисской котельной (“Я его усмирила за пять минут! У меня где сядешь – там и слезешь!”). Мускул кавалера ходил волнами: то ревниво каменел, то расслаблялся до резинового умиления.
– Ну и как в целом там?
– Подумаешь… Ничего особенного. У нас в Москве лучше!
– Честно? – Он остановился и заглянул ей в лицо. – Хорошая ты девчонка, Лена! – выдохнул с завистливой интонацией, как о чужой невесте.
В цирке им достались места у самой арены. Представление еще не началось, а Виктор уже подался вперед. Он потирал руки и посмеивался, словно в предвкушении застолья.
Человек во фраке, с алым шариком на носу вышел на арену и выпустил из рукава петуха с мясистым гребнем. Петух пропел хрипло и злобно, одним махом перелетел в зал и вонзился сидевшей там женщине в каштановую халу. Женщина завизжала, взвизгнула и Лена.
– Страшно? – спросил Виктор залихватски.
– Неа! Давно не была!
– Она подученная.
Клоун вывел женщину на арену, отцепил петуха, накинул на нее серое манто, которое тотчас рассыпалось и разбежалось стаей.
“Мыши!” – Лена повернулась на веселый крик: это вопил, подскакивая, худой мальчик. Он был окружен детьми со всех сторон, и они начали шуметь и ерзать.
И тут объявили номер с тигром. Крупный, терракотовый, с чернильными полосами, зверь проворно бежал по кругу, а в центре стоял юноша, скрестив руки, и широко улыбался напряженной улыбкой. Мальчик из зала сложил ладони рупором и заорал. Юноша на арене скомкал улыбку, тигр остановился, повернув морду.
– Подученный? – Лена дернула Виктора за локоть.
– Кто?
– Мальчик!
– Вроде нет.
“Что он кричит?” – Лена вслушивалась. “Адис-абеба!” – кричал мальчик капризное и спелое слово, чем-то впечатлившее его. “Аддис-Абеба!” – разобрала, наконец. Юноша хлопнул в ладоши. Тигр громко ударил хвостом. Дети галдели. Кто-то в зале свистнул.
– Ой! – Лена, не думая о приличиях, схватила обе руки Виктора и сжала.
– Боишься?
– Боюсь!
Тигр понесся по кругу дальше, но теперь одной лапой попадал за край арены.
Руки Виктора накрыли Ленины. Лежали сверху и поглаживали – непринужденно, тепло, уверенно. Ее пальцы трепыхались благодарно.
На арене поднялась и выросла раскидистая пальма. Из-за кулисы показалась черная шимпанзе в синих рубашке и шортах, которая вела за собой блондинку в розовом платье. Заиграл оркестр, и обезьяна закружила барышню, то прижимая к себе, то отодвигая.
– Адисабеба! – снова крикнул мальчик.
– Почему его не уведут? – спросила Лена гневно.
Обезьяна оставила подругу, схватила пальму одной правой, подняла и закрутила в воздухе.
– Господи! – простонала Лена.
– Не бойся!
Они посмотрели друг на друга одновременно, и губы их слились.
Лена, зажмурившись, целовала Виктора и не видела, как мальчика быстро тащит вон классная руководительница, а обезьяна возвращает пальму на место и продолжает танец с блондинкой. Лена взасос искала у Виктора защиты, руками оплетя ему шею.
– Ого! – сказал он губами в губы и показал глазами куда-то.
Она отстранилась.
Виктор всматривался вверх: там под круглым куполом рисовал своим телом нули, восьмерки и прочие знаки оранжевый человечек, похожий на палочку в краске.
“А как же я?” – подумала оскорбленно и спросила:
– Хочешь остаться или погулять?
– Погуляем! – он мгновенно и безошибочно отрекся от цирка, и они, наступая зрителям на ноги, выбежали из зала.
Они бродили среди вечерней Москвы, не разжимая рук, – по-простому, как дети.
– Ну страсти! Натерпелась! Ты не подумай, я смелая! Это я с непривычки! И мальчишка так кричал, чуть зверей с ума не свел.
– Запомни: когда ты со мной, тебе ничего не грозит.
– Даже тигр?
– Конечно! – Виктор кивнул убежденно. – Спеть тебе что-нибудь?
– Спеть?
– У меня такое настроение. Не знаю, как у тебя. Песенное такое. Я все лучшие песни знаю. Могу петь за всех певцов. За Ободзинского могу, за Кобзона, Магомаева, Антонова. Не веришь? А ты проверь. Вот слушай. И он замурлыкал в нос, мягко, но с душой: “Главное, ребята, сердцем не стареть…”
Ладонь его увлажнилась, на строчках припева он сжимал руку Лены сильнее. Они шли и не решались опять поцеловаться. Исполнив песню, Виктор чмокал губами, целуя воздух, и принимался за следующую.
– Здорово! Ну ты даешь! Так похоже! И все слова выучил! – Лена была искренне удивлена.
Он негромко и точно подражал голосам и интонациям, может быть, исполнял каждую песню чуть вкрадчивее, чем она была в оригинале, и как бы присыпал сахарной пудрой.
– А Пугачеву можешь? “Арлекино”?
– Могу, но мне под женщину неохота.
Они совсем не чувствовали усталости. Дошли до улицы Кирова, миновав ее, вышли к площади Дзержинского, где машины текли по часовой стрелке вокруг бронзового памятника, спустились в переход, прошли мимо здания с золотыми буквами ЦК КПСС и свернули к Кремлю.
“Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас!” – браво напевал Виктор.
Шагнули на Красную площадь. Просвеченный насквозь прожектором, в черном небе струился флаг, полный молодого ликования. Подслеповато поблескивал Мавзолей – сутулый старец, сосредоточенно берегущий крупицы сил. От башни завороженно, словно лунатики, шагали трое караульных со штыками.
Виктор и Лена поднялись на мост.
– Значит, ты читал книгу Рявкина?
– Пиявкина?
– Прекрати! Там про матроса и девушку… То, что ты мне рассказывал…
– Какой еще пиявки? Извини, можно тебя поцеловать?
– Так и быть…
Железно загремели куранты. Кремль сверкал среди тьмы храмами и куполами, как лакированный лебедь в яблоках, нарисованный на черном железном блюде. Красные звезды горели густым светом.
– Совсем не умеешь! – Лена фыркнула.
– И что делать?
– Учись, пока я жива.
– А можно еще раз?
Потом поехали на “Щукинскую”. Возле своего подъезда Лена потянула Виктора на скамью.
– Ты такая… – зашептал, опять припадая.
– Какая?
– Варенье… Вареньевая…
– И какое я варенье?
– Не знаю. Может быть, вишневое?
Открылся подъезд, Костя, насвистывая, прошел с Радаром на поводке, их не замечая. Овчарка мазнула опытным глазом, но ухом не повела и с гавканьем повлекла хозяина вдаль.
– Уже лучше? – спросил Виктор, на миг вынырнув из поцелуя.
– Чего?
– Я уже лучше?
До Лены он целовался мало. В Нововятске несколько раз с испорченной одноклассницей Кривошеиной. В общаге с захмелевшей бабой-сторожем: впилась в него на минуту в коридоре, и разошлись. Воображая Лену, он даже пытался отрепетировать поцелуй, подносил к губам кулак и мусолил долго и насколько мог страстно, но ощущал себя медведем, сосущим лапу.
– Странный ты человек, Витя. И зачем я с тобой связалась? Но ты не подумай, я не какая-нибудь легкомысленная!
– Можно к тебе в гости?
– Не можно! Будешь меня злить – больше не увидимся. Засиделась я с тобой, спать хочу. – Лена взметнулась, подбежала к подъезду, крикнула: – Чао какао! – и хлопнула дверью.
Виктор не мог встать, придавленный блаженным безволием. Он еще час сидел в темноте и ни о чем не думал. Несколько раз сжимал кулак, подносил к губам, лизал, и вспоминались лакомые поцелуи с этой чудесной девушкой.
Он продолжал звонить ей каждый вечер и вскоре приподнято сообщил:
– А у меня проект открылся. Сходим – посмотришь? Я на такси!
Заехал за ней субботним утром. Он был вновь одет в серый костюм, но с ослепительным изумрудным галстуком.
– Останови, – сказал таксисту на мосту.
Вылезли над рекой, слева в окружении заборчиков торчало геометрически странное, словно поставленное инопланетянами, бетонное возвышение. Вокруг были башенные краны и уложенные высокими стопками плиты мрамора и гранита.
– Строят Дом Советов! – сказал Виктор торжественно. – Поняла? Большой будет дом. Белый дворец будет.
Он подал ей руку. Молча повел ее мимо серой книжки здания СЭВ. Перешли на другую сторону Калининского.
В боковую стену старинного лепного здания был вмонтирован огромный стеклянный экран, по которому шел киножурнал “Новости дня”: изображение терялось на солнечном свете, звук был плохо слышен в шуме проезжавших машин.
– Видишь?
– Вижу!
– Не очень видно?
– А что это?
– Не очень видно, зато ночью отлично! Мой ребенок!
– Что?
– Я родил. – Видимо, шутка была заготовлена, потому что он вопросительно засмеялся, приглашая к смеху. – Это ж мой экран!
– Какой ты молодец! А как его сюда приделали?
– Приделали? Сначала дюбеля, потом кронштейны. Отметим чуть-чуть?
В ресторане “Прага” Виктор взял бутылку шампанского, салат с крабами и плошку с черной икрой.
– За твой успех, – сказала Лена.
– Спасибо. В общем, такой разговор… Как бы тебе объяснить… Да и нужен ли разговор? Вроде всё понятно. У меня такое уже было. В пятнадцать лет в Нововятске моем, над рекой. Вышка была ржавая, храбрецы прыгали. Пока забирался, думал, сорвусь. Я до этого никогда не прыгал, а сзади другие залезли, мужики здоровые, и толкают: давай, мол, салага. А высота десять метров. К счастью, знал я, как надо. И прыгнул. Головой вниз, руками вперед, да еще спину прогнул. И в воду – столбиком. А сейчас не знаю, как надо. Вдруг прыгну и разобьюсь. – Он разбойно подмигнул, круговым движением помял лицо, косматые брови торчали теперь, как рожки. Поднял бокал. – За нас?
Чокнулись.
– Короче, Елена… Как тебя по батюшке?
– Олеговна.
– Олеговна. Вот. Выходи ты за меня! – Залпом опорожнил бокал, забрызгался и склонился над мокрым галстуком, вытирая и бубня: – Ты это… Главное, не подумай, что пьющий.
“Я не думаю – я вижу”, – хотела съязвить, но промолчала, глубоко вздохнула, сделала глоточек.
– Мы так мало знакомы, – опустила глаза.
– Чего знать-то? – спросил Виктор возмущенно. – Лучше мне не найти. Мне, кроме поцелуев, до свадьбы ничего от тебя не надо, нет. Я же вижу, какая ты чистая! И ты не смотри, что не москвич. Я тебе подхожу, у своей бабульки спроси, которая нас знакомила. Она мне сразу сказала: невеста есть. Я не поверил, а теперь спасибо ей. Леночка, я развернусь! Я на работе на особом счету! Что захочешь – всё тебе. Пылинки буду сдувать и с ложечки кормить мороженым, и в балет водить, сколько ты сама того пожелаешь. Хочешь, всю еду готовить буду. Ты ешь икру, ешь, я не хочу! Лен, пойми, мне просто ты нужна. Чтоб рядом быть с тобой всю жизнь. Потому что… я… я люблю тебя, веришь, нет?