Читать онлайн Крик журавлей в тумане бесплатно
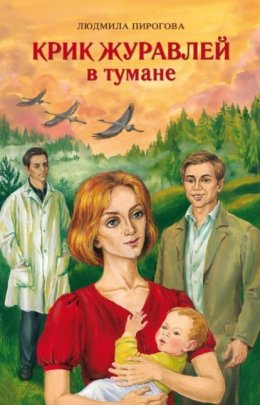
© Пирогова Л.И., текст, 2013
© Издательство Сибирская Благозвонница, оформление, 2013
Билал ЛайпановКарачаевский поэт1988 г.
- Не считай уходящие дни —
- Все свершится в положенный срок.
- Ты и смерть, как сестру, полюби,
- Ведь она твоей жизни итог.
- И устав от мирской суеты
- Тихо день догорит за спиною…
- На пороге оставив цветы,
- Молча дверь затвори за собою.
Памяти Оленьки,
любимой моей сестры,
безвременно покинувшей
этот мир,
посвящаю…
Часть I
Дети
1964 год
Глава 1
Озорной солнечный луч пробился сквозь узорную занавеску к лицу спящей девочки. Татьяна открыла глаза и первым делом подумала о том, что бабушка уже наверняка вытащила из печки крынки с топленым молоком. А это значит, что сейчас молоко остывает золотистыми корочками пенок. Татьяна посмотрела наверх, туда, где на лежанке возле печи спал Мишка. Судя по сладкому похрапыванию, брат, который был главным конкурентом в борьбе за общие пенки, досматривал свои сны.
«Ага, – обрадовалась Таня, – опять я первая, опять все пенки мои».
У печки, гремя ухватами и чугунками, суетилась бабушка Настя. На столе, возле самого окна, в крынках остывало топленое молоко. Соскользнув с высокой деревянной кровати, босиком, в длинной ночной сорочке и с распущенными волосами, Таня тихонько прокралась, скрываясь за спиной бабушки, пальчиком ловко сняла с молока румяную сливочную пенку.
– Баушк, – обиженно забасил проснувшийся вдруг Мишка, – Танька опять пенки ворует!
– Вот озорница, – посетовала та. – Оставь Мишке немножко.
– Меньше спать надо, соня-засоня, – крикнула Танька, увидев, что бабушка потянулась к полотенцу.
– Да ты хоть переоденься, да причешися, не то люди смеяться будут, – попыталась остановить ее бабушка, но Танька уже выбежала из горницы, громко хлопнув дверью.
Она торопилась к зарослям малины, буйно разросшейся вперемежку с крапивой прямо под окном.
Накануне вечером, перед тем как заснуть, Таня долго смотрела в темное небо, ожидая Финиста – Ясного сокола. Если он прилетал к Марьюшке, то почему бы ему не прилететь и к ней, Тане? Она давно уже разложила на подоконнике мягкий бабушкин полушалок, чтобы Финист – Ясный сокол знал: никаких сестер-злодеек у нее нет и ножами его здесь не поранят. И сейчас она спешила посмотреть, не проспала ли она своего героя и не оставил ли он для нее на малиновом кусте золотое перо? Увы, никакого пера, ни золотого, ни куриного, девочка не обнаружила. Одна лишь крапива хищно напряглась в ожидании жертв. Первой стала Танька, потому что подлый Мишка, подкравшись сзади, безжалостно толкнул ее прямо в середину зарослей. От Танькиного рева зашелся лаем пес Шарик, а Мишка громко расхохотался. Свою радость он демонстрировал до тех пор, пока не увидел, что на помощь Таньке бежит ее «ухажер» Андрюшка. Высокий, плечистый, он был на год младше Мишки, но физически превосходил его. В деревне они были первыми друзьями, но если дело касалось Таньки, то Андрей мог и в морду дать. Мишка решил не рисковать и быстренько определился в помощники к бабушке. Тем временем Андрей вытащил ревущую Таньку из кустарника и начал сдирать с нее колючки. Танька, вспомнив наконец, что на ней всего лишь одна ночная сорочка, почему-то назвала его нахалом.
– Это я нахал? Ты орешь по утрам, как резаная, я тебя спасаю, я же еще и виноват? – опешил Андрей.
– А я, между прочим, тебя об этом не просила. Тоже мне спасатель нашелся. И вообще, иди отсюда, это мой огород!
– Ну ладно, Тань, ну чего ты, – начал уговаривать вздорную девчушку Андрюшка, готовый стерпеть от нее любую несправедливость, – ну хочешь, Мишке в морду дам, это ведь он тебя в крапиву толкнул.
– Только попробуй тронь моего брата, получишь у меня знаешь что! – упрямо встряхнув головой, она откинула назад золотистые волосы, подняв свой миниатюрный кулачок, стукнула Андрея по плечу. Выше, даже встав на мысочки, дотянуться не могла, и, развернувшись, гордо направилась к дому.
– Ну и дура, – крикнул вслед Андрюха.
– Сам такой, – не промолчала Танька.
В свои десять лет она твердо знала, что с мужчинами надо вести себя именно так, даже если они старше тебя на целых пять лет.
Глава 2
Лето подходило к концу. После Ильина дня зарядили дожди. Таня сидела у окна, смотрела на улицу и отчаянно тосковала, переживая скорую разлуку с любимой деревней.
Отец привозил их с Мишкой сюда, к бабушке в Соцкое, каждое лето. Мама закупала подарки, собирала чемодан, а когда все было готово, отец подгонял к дому милицейский газик, усаживал в него детей, укладывал многочисленные пакеты, и Таня отправлялась в путешествие. Длилось оно всего три часа, но Тана измеряла его не временем, а количеством впечатлений от увиденного за окном. А их было великое множество, потому что дорога в деревню сначала проходила через городок, состоявший из покосившихся двухэтажных домишек и деревянных магазинов с аляповатыми вывесками. На выезде из города дымилась огромная свалка, над которой кружили галдящие птицы, наводящие ужас на впечатлительную Таню. За свалкой высокой стеной поднимался лес, в глубине которого, как подозревала Таня, стояла избушка Бабы-яги.
Лес прерывался ровно распаханными полями, где набирали силу рожь и пшеница. Но страна чудес для Танюшки начиналась только тогда, когда они после Графского пруда въезжали под волшебный свод березовой аллеи. Ответ на вопрос о том, как здесь появилась аллея, Тане не смог дать никто. Тогда она сочинила собственную версию, по которой березы посадил прекрасный юноша в память о своей погибшей любимой девушке. Брат Мишка эту версию не одобрял, утверждая, что березы остались от леса, который рос здесь раньше. Все деревья вырубили, а березы остались, потому что дерево это для дела бесполезное, годное только на дрова. Каждый раз, проезжая по аллее, они начинали спорить и, не находя точек взаимопонимания, вконец разругавшись, молча въезжали в деревню Паскино, где на въезде их встречала полуразрушенная церковь. От нее до развесистого дуба, с которого начиналось Соцкое, можно было дойти пешком. В Паскине кроме церкви были магазин и больничка. В магазин они с бабушкой ходили за хлебом и за пузатой карамелью «подушечка».
В больничке Таня не была ни разу, но со слов бабушки знала, что там «фелшер Сидор Тимофеич ставит на ноги мертвых». Как ему это удавалось, Танька не понимала. На вид Сидор Тимофеевич был безобидным, почти слепым стариком, не способным проводить манипуляции не только с мертвыми, но и с живыми. Таня придумала, что по ночам на помощь к нему прилетает Марья-волшебница и вдвоем они колдуют над мертвыми. А Соловей-разбойник им мешает. По Таниному глубокому убеждению, этот самый Соловей жил в огромном дупле дуба. Иногда она даже слышала его разбойничий свист. Несколько раз Таня подговаривала Андрюху устроить возле дуба ночную засаду и взять ее с собой. Андрей засаду устраивал, но ее никогда не брал, а потом говорил, что ничего не видел, советуя Таньке чаще голову проветривать.
Дуб первым встречал Танюшку, когда она приезжала, и последним провожал в обратную дорогу.
Сейчас, глядя в окно на покорно мокнущие под дождем резные листья, Таня думала о том, что совсем скоро они пожелтеют и опадут, но она этого не увидит, потому что завтра приедет папа и увезет их с Мишкой в город.
Грустные размышления прервала бабушка Настя. Она неслышно подошла сзади и погладила внучку по голове. Рука у бабушки была шершавой, и сама бабушка, казалось, вся состояла из мозолей, превративших ее раньше времени в сухую и поджарую старуху.
По характеру своему она была строгой, но не злой. Внуков особенно не баловала, но лучший кусок всегда отдавала им. Она любила их той любовью, с которой переплеталась вся ее тяжелая жизнь, состоящая из черной крестьянской работы, вечных забот о хлебе насущном и чувства долга солдатской вдовы перед землей, детьми и родным домом. Летом Мишка ей помогал. Носил воду из колодца, готовил корм для кур, рубил дрова и иногда даже доил корову Чернушку. Танька тоже хотела помогать, но у нее ничего не получалось. Когда она подходила к курам, на нее начинал охотиться петух. Пытаясь наладить с ним отношения, она подкидывала ему крошки хлеба, но петух, будучи существом на редкость неблагодарным, склевав подаяние, набрасывался на свою кормилицу с удвоенной энергией.
Не складывались у Тани отношения и с Чернушкой. Завидев девочку, корова начинала угрожающе размахивать хвостом, будто предупреждала, что к ней лучше не подходить.
Но однажды Танька изловчилась и пробралась к Чернушке поближе. Подражая бабушке, она уселась на низенькую скамеечку, подставила под наполненное вымя ведро и стала жать на соски. Пока корова терпела, Танька старалась изо всех сил. Она пыхтела, сопела, и почти повисла на сосках, пытаясь выжать молочную струю. Потом коровье терпение закончилось, и Чернушка, не выдержав издевательства над собственной персоной, задним копытом выбила ведро, к тому же обрушив на голову юной доярки струю отходов своей жизнедеятельности. Чтобы отмыть любимую внучку, бабушке пришлось топить баню, после чего она категорически запретила Тане подходить к Чернушке.
– Ну, что загрустила, внучка? – бабушка ласково погладила Татьянину головку. – Завтра отец за вами приедет, а сегодня тебя жених в гости звал. Рожденье у него, вечерок справлять будете.
Он за день-то раз пять прибегал, все спрашивал, придешь ты аль нет? Егозит, инно журка на одной ноге прыгает!
– Ой, бабушка, как ты сказала – журка! Прямо как про собаку!
– Вы, городские, думаете, что больно грамотные, а на самом деле – тьма дремучая! Жур-кой у нас спокон века журавлей молодых кличут.
– А разве журавли бываю старыми?
– Бывают. Они же до двадцати лет живут, а при хорошей жизни, люди говорят, что и долголетно – до восьмидесяти дотянуть могут.
– А где они живут?
– Экая ты, Танька, заноза! То одно ей расскажи, то другое! Книжки читай, там все написано!
– А ты лучше книжки, – лукаво улыбнулась Таня, – ты вон как интересно рассказываешь!
– Ох, подлиза, – бабушка обняла внучку, – ладно, пока пастух коров не пригнал, посижу с тобой минутку.
– Посиди, посиди, – Таня, обрадовавшись бабушкиной сговорчивости, потянула ее на скамейку, застеленную самотканым покрывалом, – я тебе помягче постелю. Садись. Так, где журавли живут?
– Так-то они, наверное, по всему Божьему миру живут. Их же много разных. А у нас за Берниковой излучиной, наши, местные, серые журавли гнездятся. Там болота с высокой осокой, осинники да березняки, любят они такие места. Каждую весну прилетают. Найдет себе пара место и начинает глухо так клокотать, своим сигналить: с прилетом вас, но занятая кочка, пролетайте дальше.
– А почему пара?
– Любовь у них, у журавлей, верная очень. Как сойдутся, так и живут до гробового дня: птенцов высиживают, корм добывают, гнезда охраняют – все напополам делают. А еще танцуют они. Вон, как на наш Мокрый луг по весне прилетают, так и начинают выкаблучивать!
– У них что, ноги с каблуками?
– Да это я так, к слову. Больно танцы у них интересные. То шагать примутся, ноги выше, чем солдаты на марше подымают, а то вверх подпрыгивают, крыльями машут, крутятся. Или бегать начнут, да все зигзагами, зигзагами, а потом раз – и встанут, и кланяются, вроде как поклон делают. И замирают. Крыльями встряхнут и стоят. Прямо будто мумии какие.
– Они танцуют от радости, что еду нашли?
– Может, от этой радости, а может, от другой какой. Вот когда под вечер крик раздается, звучный такой, чистый, значит, журавль журавушку подзывает. И все у них по любезному согласию утакивается; если кто кому не подходит, ни в жизнь не сойдутся. А коли по согласию сходятся, начинают на пару петь, в лад. У нас так и говорят: журавли запели – на гнездовье сели. Сидят они там, один птенцов высиживает, другой сторожит. Как опасность заслышит, так кричит, прямо трубит даже: «круууу… крууу…», предупреждает, на беду жалуется. У них для каждого разговора свой звук есть:
то расшумятся, словно новости на базаре обсуждают, а то крыкнут резко: «Кррр», беги, мол, спасайся! Ежели время пришло на зимовку лететь, то у них другой сигнал есть, четкий такой, спокойный: «кру… кру».
– А когда они на зимовку улетают?
– Ты уедешь, и они следом за тобой полетят.
– Прямо за папиной машиной?
– Экая ты придумщица! Журавлям до машин ваших дела нет. У них свой срок… Они с начала августа гнездовья покидают, на перестойку собираются в тех местах, где корм для них есть. Вот как много их наберется, корм на лугах закончится, так тут и жди – полетят… Бывает, иной день прямо по нескольку стай взлетают. Кружат, кружат, чтобы повыше подняться. Любят они высоко летать… Пока подымаются, местами меняются, вперед кто посильнее выходит, а кто послабже – за ними встают, чтобы попутный ветер им был. Так клин и выстраивается, а потом отправляется в путь-дорогу, в теплые края… Как услышишь курлыкают – посмотри в небо, это журавушки наши летят, перекличку делают, своих окликают. Посмотришь на них, и на душе светлее станет – чтут птицы благочестивый порядок…
– Ты про них, как про людей, рассказываешь! – восхитилась Таня.
– Они и есть люди, только с крыльями. А может, и лучше еще. Потому что в беде друг друга не бросают, слабым, которые отстают, крыло подставляют. Друг о друге заботятся, об опасности предупреждают, а еще вот что бывает. Журавли, когда возвращаются, случается, что в тумане болото свое теряют. Так тогда те, кто уже на земле, протяженно клекотать начинают, будто сигнал подают: летите сюда, здесь ваш дом. И заблудшие возвращаются. И все у них идет своим чередом. Вот такая она птица, журавль наш серый… Засиделась я тут с тобой, девка, идти мне надо. Как меня свекровь учила: «Не та хозяйка, которая складно говорит, а та, котора щи хорошо варит!»
– Я щи не люблю, – настырничала Таня, – ты мне еще не сказала, куда журавли летят.
– Слушать надо было лучше. А то получается опять по присловию: жил-был журавль с журавлихой, поставили они стожок сенца – не сказать ли опять с конца?.. Говорила ужотко – в теплые края. На юг, значит!
– Почему все на юг летят, а на север – никто?
– Ты это у мамки своей спроси, она про северные края лучше всех все знает.
– Разве? – удивилась Таня. – Она мне про это никогда не рассказывала.
– Вот и пусть расскажет, а я все, что знала, сказала.
– Настасья, – постучала в окошко бабушкина соседка, – ты корову-то будешь загонять, или ненужная она тебе стала? Полчаса ужо у ворот мычит.
– Ой, это ж надоть, как я оплошала, – бабушка спохватилась и побежала во двор, на ходу хватая корку хлеба для Чернушки.
Глава 3
На день рождения Таня решила надеть новую белую кофточку с ажурным жабо и кружевными манжетами на рукавах.
К Андрею она испытывала особые, непонятные для нее самой чувства. Он считался самым видным парнем в деревне, а может, и в Ленинграде, из которого приезжал каждое лето. Все знали, что по нему сохнет вредная Валька с выселок. А еще знали, что из всех деревенских девчонок он выделяет только «малолетку» Таньку. И Таня это знала, но что надо делать с этим знанием – не понимала, хотя оно ей льстило и давало повод воображать перед подругами.
Определив Чернушку к месту и напоив ее, баба Настя вернулась в дом. Посмотрев на то, как внучка прихорашивается, она сказала:
– Наряжалася барыня – веселилася, нагулялася – прослезилася.
– Ой, бабуль, что-то ты не то сказала.
– Куда уж нам, деревенским, это вы с матерью барских кровей, не нам чета, – махнула рукой баба Настя. – Дай-ка мне, барыня, бадью с водой. Пить дам Чернушке.
Бабушка ушла, а Таня уставилась на свои руки, пытаясь разглядеть в них барскую кровь.
– Танюха, – толкнул ее в плечо вбежавший в дом Мишка, – ты пойдешь или нет, меня Андрюха за тобой прислал. Все уже собрались, одна ты копаешься. Если бы не он, я бы за тобою сроду не побежал. Не барыня, чтоб ждать тебя по часу. Где книжка, которую мы надумали Андрюхе подарить?
– А вот и барыня, – огрызнулась Танька и, подражая бабушке, добавила: – Не видишь, что ли, ослеп? На столе лежит.
– Про чего она? – поинтересовался Мишка, беря книгу в руки.
– Какой же ты необразованный! – вздохнула Таня. – Не про чего, а про кого. Про Чапаева. Фурманов сочинил.
– Ладно, умная, поторопись. Андрюха тоже дурак, что в тебя уперся. Жених и невеста, тили-тили, тесто, – дразня Таньку, Мишка взял книгу и выскочил из дома.
Она побежала следом за ним, накинув сверху бабушкину брезентушку, потому что противный дождь все еще продолжал моросить.
Андрей поджидал гостей, укрывшись от дождя на покосившемся крылечке.
– Тань, ты чего так долго, я уже испугался, что ты совсем не придешь, – Андрей взял ее за руку.
– Надо так, – капризно вывернула руку Таня.
Андрей снял с нее брезентушку и начал стряхивать. Мишка, глядя на такие телячьи нежности, презрительно хмыкнул.
Войдя в дом, Таня немного оробела, увидев среди гостей одних только взрослых ребят и девчонок. Дни рожденья в деревне не отмечались, и никто из них явно не знал, чем же надо заниматься в такой диковинный праздник.
– Поздравляем, – первой сообразила Таня, протягивая Андрею книгу, – желаем счастья и здоровья.
– И мы, и мы тоже, – загалдели ребята, обрадовавшись долгожданной подсказке.
Андрею подарили три книги о Чапаеве – в сельпо более подходящей книги не продавалось, корзину под грибы и большую чашку с блюдцем. Рыжая Валька, окончательно покраснев, протянула ему носовой платок, размером со скатерку, с вышитыми на нем инициалами: А. Т. – Андрюша Тимофеев.
Потом ребята пили чай из огромного медного самовара. В расписном деревянном блюде лежали маковые баранки, а в стеклянной вазочке белели огромные куски колотого сахара. Мальчишки, демонстрируя свою ловкость, наперегонки раскусывали их металлическими щипчиками и угощали девчонок. В соответствии с деревенским этикетом, девчонки переливали чай из чашек в блюдца и, удерживая их дно на кончиках пальцев, неспешно запивали сладость. Когда все напились чаю, Валька, не сводя глаз с Андрея, предложила:
– Давайте в ручеек поиграем.
– Давайте, – поддержали ее ребята.
– Ой, течет, течет вода, открывайте ворота, – подпевая, она подбежала к Андрюшке и, схватив его за руку, потянула в первый ряд, – руче-руче-ручеек, своих рук не уберег.
Андрей, извернувшись, избавился от Валюхи и потянул за собой Татьяну.
«Интересно, а у нас с Андрюшкой есть такое любезное согласие, чтобы в лад петь, как журавли?» – думала она, вставая с ним в конец цепочки.
От раздумий Таню отвлек Мишка.
– Сеструха, хорош мечтать, слетай домой за пластинкой Утесова, мы патефон в шкафу нашли.
– Никуда я не пойду, – отказалась Таня, – для ручейка Утесов не нужен.
– Правильно, – откликнулся кто-то из парней, – и ручеек ваш детский не нужен, и Утесов тоже. Надо деда Федю с гармошкой позвать. Он так наяривает, что ноги сами в пляс идут. А вы: ручеек, ручеек.
– Фи, ну ты сказанул, – присвистнул Мишка, – дед ходить не может, не то что на гармошке играть.
– Давайте я вам на балалайке сыграю, – предложил Андрюшка.
– А ты умеешь? – недоверчиво, почти хором спросили его ребята.
– Умею, – Андрей смущенно улыбнулся и из комода, стоявшего в углу передней, вытащил кожаный футляр.
Достав из него балалайку, казавшуюся в его сильных руках детской игрушкой, он, как бывалый музыкант, проверил струны, что-то там сбоку подкрутил и запел, подыгрывая себе: «Светит месяц, светит ясный». Танька смотрела на него как завороженная. Музыка звучала все громче и громче. Она вдруг заметила, что Андрюшка особенный, не такой, как другие ребята. Статный, смуглый, черноволосый, он обладал такой притягательной силой, что все вокруг начали в такт ему подпевать. А он, не выпуская из рук балалайку, пустился вприсядку вокруг Татьяны, подмигивая ей чуть раскосыми карими глазами и приглашая ее принять участие в веселой пляске.
Растерявшаяся Таня стояла неподвижно, переполненная новым для нее ощущением. Ей стало вдруг очень жарко, показалось, что еще мгновение – и она упадет в обморок, не выдержав всеобщего внимания и удалого натиска музыканта. Но балалайка смолкла, танец закончился, и ребята начали громко хлопать в ладоши, приводя в порядок Танины чувства.
– Здорово! – закричали ребята.
– А по нотам можешь?
– Могу без нот, по памяти. И настоящего композитора могу… – гордо сказал он и объявил, сражая публику наповал своими знаниями: – Чайковский. Песня. Неаполитанская.
– Какая-какая? – переспросил Мишка.
– Город такой есть – Неаполь. Про него Чайковский песню написал, – пояснил Андрей.
Он снова заиграл, да так, что Валька от обожания даже рот открыла.
– Ой, Андрюша, – чуть дыша, произнесла она, когда песня закончилась, – ой, как ты играешь! И где ты так хорошо научился?
– В школе музыкальной, где еще. Хотел на гитаре, но не нашел инструмента. Баян с пианино – дорогие инструменты. А балалайки в музыкалке у нас бесплатно дают, только играй. Ну, вот я и играю. Даже на концертах выступал. Хотел бросить, но учительница не дала, способности у меня обнаружились. Предки тоже приставать начали, чтоб я доучился. Но я уже решил, что буду переучиваться на гитару, – сказал он, укладывая балалайку в футляр. – Айда на улицу, кажется, дождь кончился.
Дождь и в самом деле прекратился, оставив после себя лужи и умытую до самых корней траву. Воздух был свеж и прохладен. Ребята гурьбой высыпали на улицу и долго еще гуляли по деревне, дурачась и веселясь.
Андрюшка ни на шаг не отходил от Татьяны, которая снова вспомнила про журавлей.
– Андрюш, а ты журавлей видел?
– Тыщу раз. Они на одной ноге спят. Голову набок положат и дрыхнут. Умора!
– Какой-то ты, Андрюшка, неинтересный, – вздохнула Таня.
– Это почему? – обиделся тот.
– Потому что у журавлей, у них любезное согласие, верность, курлыканье. А ты – дрыхнут на одной ноге!
– Что видел, то и говорю. А чего ты к ним привязалась, к журавлям этим?
– Потому что эти птицы – как люди в перьях, мне бабушка рассказала. Я, когда вырасту, буду жить по-журавлиному, мне так нравится.
– Глупая ты еще и еще пацанка, – Андрей, остановившись, взял ее за руку и повернул к себе лицом, – но ты мне очень нравишься.
– Я умная, – возмутилась Танька, – и вообще мне про тебя неинтересно, мне про бабку твою Лукерью и про цыган интересно.
– Далась тебе эта Лукерья! Обыкновенная бабка была, навроде твоей. Ничего особенного. Лучше дай мне твой адрес, а то, Мишка сказал, уезжаете вы завтра.
– Зачем?
– Я переписываться с тобой хочу.
– Ну и хоти себе, – заважничала Таня.
Когда они подошли к дому бабушки Насти, Андрей, переминаясь с ноги на ногу, тихо спросил:
– А можно я тебя в щечку поцелую? – и, не дожидаясь ответа, прикоснулся к ее щеке губами.
Его прикосновение было таким же мягким и атласным, как прикосновение маминого кружевного платочка, вытирающего слезки с ее щек.
– Андрюх, смотри, звезда падает, – раздался из темноты Мишкин голос.
– Брешешь? – не поверил ему Андрюшка.
– Не веришь, сам гляди. Ой, скорее, она прямо над твоим домом летит! – закричал Мишка.
Андрюшка рванулся к нему, оставив на мгновенье Татьяну одну, и тут же чьи-то сильные руки толкнули ее прямо в лужу. Упершись голыми коленками в липкую грязь, она заревела.
– Ой, а что это здесь за сопли в луже валяются? – рыжая Валька довольно улыбалась, наблюдая за барахтаньем ревущей во весь голос девчонки.
– Ну, Валька, была б ты парнем, я б тебе сейчас в морду дал, – сказал подбежавший Андрей, поднимая Таньку.
– Еще бы и от меня получила. Корова рыжая, – поддержал друга Мишка. – А ну иди отсюда, пока я тебе не двинул.
– Па-а-думаешь, – протянула Валька недовольно, – падают тут в лужи недотроги всякие, а я виновата. Сами и на ногах держаться еще не научились, а туда же, с парнями гулять норовят, да еще целуются.
– Валька! – угрожающе произнес Андрюшка. – Предупреждаю!
– Да ладно, возитесь тут со своим детсадом сами, сопли вытирайте. Пошла я. Улица не купленная, где хочу, там и гуляю, может, и вернусь еще. Пока, Мишенька. Андрюшенька, до встречи.
Отряхивая ревущую сестру, Мишка сказал:
– Надоели мне, Андрюха, твои девки. Все лето под ногами крутятся.
– А вот и не крутимся, – Таня, разъяренная обидным обобщением брата, топнула ногой и, попав в лужу, еще раз окатила себя грязью.
– А ты-то здесь при чем? – удивился брат.
– При том! – Таня развернулась и пошла в дом, громко стукнув дверью.
– Вот и адрес у нее взять не успел, а она завтра уедет, – расстроился Андрей, глядя на закрытую дверь.
– Определенно, все влюбленные чокнутые. Ты что, совсем того? – Мишка покрутил пальцем у виска. – Ты мне скажи, я тебе свой адрес дал?
– Дал, и что? – Андрей недоуменно посмотрел на друга.
– А то, что сестра она мне, понимаешь? Родная, – Мишка посмотрел на Андрея, как на больного.
Глава 4
С утра баба Настя напекла пирогов. Отец приехал рано. Таньку разбудил его бас, доносившийся с кухни.
«Может, и мама с ним приехала?» – подумала она и, соскочив с кровати, уж собралась бежать на кухню.
– Ну, как там барыня твоя поживает? Не прогнала еще тебя, дурака крестьянского? – резкий голос бабушки остановил Таню.
Она замерла на пороге, не решаясь раздвинуть холщовые занавески.
– Мам, ну я же просил тебя не обижать ее, – недовольно ответил отец. – Надя – хорошая жена и мать. Живем мы дружно, отношения у нас в семье хорошие.
– Да чего плохого в таких-то отношениях. Тобою, дураком деревенским, грех свой дворянский прикрыла. Повесила на тебя Мишку, сынка свого приблудного, и ходит, пальчики растопырив. Слова в простоте не скажет, все на «вы», да «пожал-ста», да тихим голосом. Смотреть тошно. Тьфу! – бабушка сердито загремела ухватом.
– Ты, мать, как молоток. Долбишь и долбишь в одну точку. И ведь сколько раз просил тебя – отвяжись ты от нас… Нет, знай свое гнет.
– Как мне отвязаться-то? Ну как? Думаешь, легко мне здесь с хозяйством управляться? Все жилы себе вытянула. Думала, на старости лет, сын женится, меня к себе заберет, хозяйкой буду. Ан нет. Хозяйка у нас таперя барыня. А мне что? До гробовой доски в навозе здесь топнуть?
– Мама, я тебе всегда говорил и сейчас повторяю: продавай дом и приезжай. В этом году должна наша очередь на квартиру подойти, обещают трехкомнатную дать. Одна комната твоя будет. Будешь в ней хозяйкой. Зимой у батареи грейся, летом, как и полагается бабкам, на лавочке во дворе сиди, отдыхай. Имеешь право. Наработалась.
– Спасибо, сын, что расщедрился, хозяйкой комнаты назначил на старости лет. Сиди, как в скворешнике, и делай, что барыня прикажет… Мать квартиранткой стала.
– Ну, вот опять. Мыло-мочало, начинай сначала. Ну не нравится тебе Надя, поезжай, живи у Ленки, – в голосе отца послышались нотки раздражения, – у тебя ведь не только сын, но и дочь еще есть.
– Дочь не хозяйка, – перебила его бабушка, – в семье мужику положено хозяином быть.
– Не знаю, что там и кому положено, а наша Ленка сама себе и своей семье хозяйка… Материально я тебе всегда помогать буду.
– Только и суешь деньги! Что мне твои деньги, если мне на старость лет уважение нужно и покой. А какое тут уважение, если невестка – барыня, а сын матери слова ласкового не скажет! – бабушка всхлипнула.
– Никак тебе не угодишь. Ни с одной стороны, ни с другой. Сил нету с тобой разговаривать. Собирай детей, уезжаю я. И не приеду больше до тех пор, пока ты не поумнеешь. Лопнуло мое терпенье.
Таня услышала, что отец встал и направился к занавеске, за которой она стояла. Сзади бодро подошел Мишка.
– Где мама? – тихо чужим голосом спросила Таня. «Только бы не слышал»…
– Как где? Дома. Нас ждет. Правда, пап? – Мишка обернулся к отцу.
– Конечно, очень ждет. Она без вас все лето скучала. К школе вам все уже приготовила. Тетради купила, карандаши, учебники новые, – принялся объяснять отец, – только форму еще не купила. Без примерки, говорит, нельзя… «Вдруг они за лето на деревенских харчах раздобрели». А вы и впрямь подросли, загорели. Сил набрались для школы.
Таня слушала невнимательно. Она переводила взгляд с отца на бабушку и видела их непривычно смущенные лица. Из услышанного она поняла не все, но догадалась, что в их семье существует какая-то тайна. Самые родные и близкие для нее люди – мама, папа, брат в одно мгновение превратились в незнакомцев: мама – барыня, Мишка – приблудный сын, папа – дурак деревенский. Раньше Тане не доводилось слышать таких слов, и теперь она не знала, как должна их понимать.
– Пора за дело приниматься. Некогда нам сегодня прохлаждаться. Пошли, Лексей, по дому кой-чего поможешь, а то скоро ехать надо, чтоб засветло обернуться, – подвела итог баба Настя.
Часть II
Родители
1935–1954 годы
Глава 5
Свое детство Надя делила на две части, как в двухсерийном фильме. Первая серия отражала первые шесть лет ее жизни. В этом отражении существовали отдельные события раннего возраста. Она помнила их в основном благодаря маминым рассказам, придававшим реальность проблескам младенческой памяти. В той серии существовал большой и светлый дом, согревавший ее своей любовью. В нем всегда было шумно и весело. Высокий, красивый мужчина подбрасывал ее к потолку, и ей было совсем не страшно, потому что его сильные руки никогда не давали ей упасть. Она любила путешествовать по дому на его плечах. Вместе с ним они разглядывали висящие на стенах картины. Их было много, и о каждой он рассказывал маленькой Наде интересную историю.
Отец строил мосты по всей стране. Он часто уезжал из дома и всегда возвращался из тех мест, где шли стройки, со своими новыми пейзажами.
Мама говорила, что по его картинам Надя изучила географию всего СССР. Еще отец любил, когда друзья-художники дарили ему свои картины. Он этим очень гордился.
– Вот видишь, – говорил он Наде, – уважают.
Надя тоже гордилась тем, что отца уважают.
Последние воспоминания, сохранившиеся у Нади из первой серии, были полны запахов и звуков.
В тот день у мамы были именины. Бабушка с утра колдовала на кухне, наполняя квартиру ароматом мясной кулебяки. Мама благоухала сиренью и в новом платье была необыкновенно хороша. Отец вместе с друзьями приехал вечером, после работы. Наде разрешили немного посидеть с взрослыми за одним столом. Девочка была счастлива. Ее окружали молодые красивые люди. Они поднимали за маму тосты, танцевали, а потом попросили маму вместе с папой спеть их любимый романс. Мама села за пианино, папа встал рядом с ней, и они запели: «Утро туманное, утро седое…»
Потом они играли на пианино в четыре руки. Незаметно для себя Надя заснула.
Проснулась оттого, что кто-то включил в ее комнате свет, показавшийся ей после сладкого сна чересчур ярким. С трудом открыв заслезившиеся от вспышки глаза, она увидела, что по ее комнате ходит здоровый незнакомый дядька в военной форме. Он проверил все шкафы, потом вытащил из угла ящик с игрушками, перевернул его и, усевшись на корточки, начал внимательно разглядывать Надины сокровища.
Онемевшая от ужаса Надя, лежа на кровати, молча наблюдала за ним до тех пор, пока не дошла очередь до плюшевого мишки. Взяв в руки ее любимую игрушку, дядька долго разглядывал ее со всех сторон, мял мишкин живот, выкручивал ему лапы, а потом вытащил из кармана ножик и вспорол медведю живот. Надя не выдержала и бросилась на дядьку.
– Отдай! Не трогай Мишулю! – закричала она, колотя потрошителя своими маленькими кулачками.
Дядька отшвырнул ее в сторону.
– Не смейте трогать мою дочь, – услышала Надя дрожащий голос отца и, обернувшись, увидела, что он направляется к ней.
– Ишь, разговорился, – усмехнулся дядька и что-то прорычал в глубь коридора.
Двое незнакомых мужиков, появившихся оттуда, взяли отца за руки и потащили его вон из комнаты. Надя побежала за ними, но дядька-потрошитель схватил ее и, как котенка, швырнул в угол детской.
– Стоять! – гаркнул он так громко, что Надя задрожала, прижавшись плотнее к стене.
Он заглянул под кровать, перетряхнул одеяло вместе с матрасом и, ничего не обнаружив, пошел к выходу – и вышел, плотно закрыв за собою двери.
Надя подошла к дверям и прислушалась. Ей показалось, что она слышит рыдания бабушки и скрип тяжелых чужих шагов. Затем, одновременно с маминым криком, стукнула входная дверь – и все смолкло. Надя подошла к окну. Их квартира находилась на втором этаже, и окна выходили прямо во двор, в котором было очень темно и тихо. Но вот скрипнули двери подъезда, и раздались мужские голоса. Надя буквально впилась в темноту глазами. Заработал мотор машины, зажглись подслеповатые фары, и в их неярком свете Надя разглядела четверых мужчин. Потрошитель сел рядом с водителем, трое остальных уже собирались садиться на заднее сиденье, когда один из них, тот, что был в середине, оглянулся. Надя узнала отца. Всего мгновение он смотрел на окна их квартиры. Но этого было достаточно для того, чтобы он заметил силуэт дочери и кивнул ей, уезжая от них навсегда.
С тех пор в их доме воцарилась тишина. К ним никто больше не приходил и не звонил по телефону. Когда девчонки во дворе отказались с ней играть и прогнали ее, Надя поняла, что произошло нечто страшное. Бабушка слегла сразу после папиного ареста и больше уже не встала. Умирая, она благословила внучку нательным крестиком. Крестик висел на простой веревочке и переливался разноцветными камнями. На обратной стороне изящно были выгравированы две буквы: А.В. Бабушка сказала, что эти буквы означают инициалы отца и деда Нади, полностью совпадавшие. Как совпадали и их имена – Александр Воросинский.
После ареста отца и смерти бабушки мама очень изменилась. Она больше не улыбалась и вздрагивала буквально от каждого стука. Она не плакала, но по ночам Надя слышала, как она бродит по квартире и тихонечко подвывает, точно так же, как выла в их дворе собака, у которой дворник утопил щенят. Рано утром она уходила из дома и приходила поздно вечером. Надя ждала ее, сидя в темноте у окна. Свет она не включала, чтобы он не мешал ей видеть то, что происходит во дворе. Она все еще надеялась, что папу привезут обратно. Однажды мама пришла домой рано и начала собирать вещи. Потом она тепло одела Надю и, взяв чемодан, пошла к дверям. Уже у самых дверей она вдруг остановилась и сказала:
– Давай, Надюша, присядем на дорожку.
Она присела на чемодан, обняла прислонившуюся к ней Надю и горько расплакалась, а глядя на нее, заревела и Надя.
Глава 6
Они уезжали из Москвы, и это была уже как бы вторая серия их бытия.
Бесконечная дорога, проведенная на жесткой полке общего вагона, пропахшего человеческими нечистотами, разделила ее детство пополам. Из Надиной жизни исчезли счастливые краски родного города. Их заменило однообразие вечного холода и неуюта серой Воркуты. Вначале еще были удивления. Поразили глаза местных мужиков, разрисованные черными карандашами. Удивляло оранжево-розовое чудо – ягода морошка.
Потом выяснилось, что глаза мужикам раскрасила черная угольная пыль, что кисловатая морошка растет на болоте и кроме нее на этих болотах больше ничего хорошего не растет. Мандарины с их новогодним запахом остались в Москве.
Декорацией для новой жизни служила унылая карликовая растительность. Все вокруг было сумрачным и убогим. Даже небо здесь было не таким высоким и голубым, как в Москве. Оно висело над городом низкой тучей, стараясь придавить его к земле своей свинцовой тяжестью, и люди покорно подставляли плечи под свалившийся на них груз. В их числе были и Надя с мамой, ходившие по серой Воркуте, не поднимая глаз.
После отъезда из Москвы они не жили, а как бы извинялись за то, что живут. Чувство собственного достоинства у них отобрали вместе с гордым званием советских людей, оставив взамен право называться членами семьи изменника Родины, а короче – ЧСИР. В Воркуте ЧСИРам предстояло искупать вину своих арестованных близких, а все остальное, в том числе жить и дышать, им было не положено. Но они дышали и, даже более того, хотели есть. Бесконечные унижения, осознание собственной ненужности и того статуса бессловесного микроба, в который превратилась их жизнь в условиях вечного голода и холода, делали их существование без смысла и надежды. Но другого выбора у них не было и им пришлось привыкать к новым условиям.
Надю с мамой поселили в убогом, вонючем деревянном бараке на окраине города, который от древности действительно врос в землю по самые окна. Кроме матери и дочери Воросинских в нем жили еще несколько семей. Взрослые друг с другом особо не знакомились и без нужды между собой не разговаривали. Их повседневное соседское общение сводилось к угрюмым кивкам и пьяным скандалам на общей кухне.
В противоположность родителям, дети между собой дружили и постоянно роились единой чумазой кучкой во дворе, где вместо качелей и каруселей торчали гнилые пни. Сначала Надя боялась подходить к барачной стае, помня о том, как прогнали ее из своей компании московские подружки, но потом поняла, что здесь всем плевать на ее какую-то вину перед Родиной. Подружившись с ребятами, она перестала замечать, что от их замусоленной одежды пахнет мочой, что дырки на их штанах никто не зашивает и что с их носов порой стеклянными сосульками свисают сопли. Новые друзья понравились. Они научили ее драться, играть в ножички и ругаться «матными» словами так же залихвастски, как самый буйный взрослый житель барака Гошка, живший по соседству с Воросинскими. Среди местных обитателей спокойных людей вообще было мало. Тонкие дощатые перегородки плохо изолировали, и густонаселенный барак регулярно наполнялся жуткой какофонией звуков, где отдельные человеческие голоса исполняли «вечные арии» на тему проклятой жизни. При этом очень трудно было понять, кто из соседей плачет, а кто смеется. Гошка все время орал, голоса его жены Надя никогда не слышала и считала ее немой. Кроме того, в Гошкиной комнате что-то все время падало. Иногда оно попадало в Надину стену, сотрясая ее до угрозы обрушения. Однажды, после того как накануне вечером стена тряслась особенно сильно, она не выдержала и спросила у Гошкиного сына, Кирьки:
– А у тебя что, отец – спортсмен?
– Чег-го? – удивленно переспросил Кирька.
– Ну, силачи такие бывают, я на картинке видела. Они гири поднимают, а удержать не всегда могут. Вот у них гири и падают, – попыталась объяснить Надя.
Кирька от удивления даже забыл растереть рукавом соплю.
– Ты че, белены объелась? – спросил он.
Надя уже и сама поняла, что загнула куда-то не туда, но решила не отступать и выяснить все до конца.
– Просто у вас все время что-то падает, вот я и решила, что это гири.
– А, это… – дошло наконец до Кирьки. – Не-а, это не гири, это батяня мамашу учит.
– Как учит? – не поняла Надя.
– Как и положено, – примериваясь ножичком к броску, ответил Кирька, – лупит ее всем, что под руку попадется. Иногда кулаком так двинет, что она с ног падает или по стенке сползает. Вот у вас и слышится.
– Так что же она у вас, глупая? – прошептала обалдевшая от этих слов Надя.
– Все бабы – дуры.
– Так ей же больно! – отчаянно воскликнула Надя.
– Кому, мамане? – переспросил Кирька, бросая нож. – Не знаю, она ниче не говорит. Я и сам иногда думаю, как она терпит, у батяни рука тяжелая, он мне раз за кол по русскому звезданул по уху, так оно у меня потом два дня болело. А маманя ниче, не жалуется. Мужику, ему по званию баб учить положено, он – хозяин. Вот ты вырастешь, за меня замуж пойдешь, я тебя тоже учить буду, а ты мне сапоги стаскивать после будешь, как маманя бате.
Надька вспомнила вечно пьяного Гошку, его худенькую, закутанную в бесконечные платки жену, представила на их месте себя и Кирьку с сапогами и так перепугалась, что завопила на весь двор.
– Нет, никогда… не буду… стаскивать сапоги… не хочу!
С воплями она накинулась на Кирьку и начала его колотить куда попало. Она колотила его и кричала до тех пор, пока из дома не выскочила мама и не оттащила от Кирьки.
Вечером, открыв дверь ударом ноги, в их комнату ввалился Гошка. Встав посредине, он широко расставил ноги и молча уперся в Надю тяжелым, нехорошим взглядом. Постояв так минут пять, он, по-прежнему не говоря ни слова, перевел свой взгляд на маму. Наде стало страшно.
– Ну… – прорычал он, – энто твоя дочь Кирьку мово на весь барак ославила.
От страха Надя схватилась за маму, прижимаясь к ней, как к палочке-выручалочке.
– Значит, так, – сказал Гошка, слегка покачиваясь, – правов у вас никаких нету, сидите тиха, покуда я вас тута пока терплю, потому как человек я партийный и сознательный, не то что вы, контра недобитая. А то разозлюсь, и пойдете вы у меня на болота мошку кормить. Понятно? – брызнул он на Надю слюной. Не услышав ответа, он повторил свой вопрос уже более грозным тоном: – Я вас спрашиваю, вам все понятно?
Испуганная не меньше Нади, мама чуть слышно прошептала:
– Не беспокойтесь, мы все поняли. Больше этого не повторится.
– То-то же. Каждый должен знать свое место, а не то…
Не договорив, он ушел к себе и скоро оттуда послышался звук падающего тела. Надя с мамой сидели, не разнимая рук. Надя жалела Кирькину мать и, переполняясь сочувствием к ней, не замечала, как рядом беззвучно плачет ее собственная мама. Может быть, именно в тот вечер мама приняла решение, ставшее для них роковым.
Она была пианисткой и раньше работала в театре. Надю однажды водили на мамин концерт. Когда мама вышла на сцену, Надя узнала ее не сразу. В длинном черном платье, с гладко зачесанными назад волосами, она показалась Наде абсолютно чужой и была больше похожа на Прекрасную незнакомку с известной картины, чем на маму. Мама играла на рояле, а какая-то тетка под эту музыку пела, широко раскрывая рот. Все аплодировали. Кроме Нади. Ей не нравилась тетка. Она была толстой и уродливой, но стояла посреди сцены, кланялась зрителям и забирала у них цветы, которые они наверняка хотели подарить маме. Ведь мама была такой красивой! Но она сидела в глубине сцены за своим черным роялем, и тетка никого к ней не пускала. Мама осталась без цветов, а обиженная на тетку и на зрителей Надя больше на концерты не ходила. Дома мама лишь для нее одной играла веселые пьески на блестящем черном пианино, и девочка с восторгом смотрела, как легко порхают ее изящные длинные пальцы по ряду черно-белых клавиш. Сама Надя успела разучить лишь одну мелодию, которая ей очень нравилась, потому что под нее можно было петь: «До, ре, ми, фа, соль, ля, си, села кошка на такси». А теперь… Теперь судьба забросила их в неведомую раньше Воркуту, где единственно понятной для всех музыкой был похоронный марш.
Быть может, в тот вечер мама смотрела на свои некогда холеные руки с гибкими, длинными пальцами и, рыдая от собственной беспомощности, мучительно искала выход из сложившейся ситуации. Как выжить? Без права и средств на существование, без защиты от тех, кто бесцеремонно врывается в твое жилье с угрозами. Она ничего не умела и могла поступить только так, как поступила. На следующий день они собрали вещи и ушли в другой барак, к дяде Мите. Уголь нарисовал на его лице не только глаза, но и морщины.
Сначала Надя боялась, что он начнет «учить» маму. Но дядя Митя был очень добрым. Он обращался с ними как с фарфоровыми статуэтками. Он смотрел на мать с дочерью с восхищением и восторгом и вел себя рядом с ними так, будто постоянно боялся, что от его неловкого движения они могут разбиться.
Мама немного повеселела. Дядя Митя помог ей устроиться музыкальным работником в детский садик. Надя пошла в школу. Когда ее не приняли в октябрята, она, обиженная, поделилась своей обидой с мамой. Мама удивила дочь тем, что посоветовала не обижаться на всех, кто родом из октября, потому что у них с Надиной семьей разные родословные. Надя про родословные ничего не знала и грустила до тех пор, пока не пришел с работы дядя Митя. Узнав, в чем дело, он пошел в школу и долго о чем-то разговаривал с директором. После этого разговора Надю, как приемную дочь шахтера, приняли сначала в октябрята, а затем и в пионеры.
Так они и жили. Дядя Митя добывал уголь, мама учила детей петь хором про «ягоду-калинку-малинку», Надя была отличницей в школе. А по вечерам они всем семейством ужинали. Вместе с картошкой Наде доставался жиденький чаек с сахарином и баранками, а маме – стаканчик мутной жидкости из дяди-Митиной бутылки. Выпив ее, мама становилась веселой и звонко смеялась, совсем как раньше, в Москве, а потом начинала исполнять арии из опер.
Дядя Митя был очень благодарным слушателем и всегда с восторгом кричал «бис», как научила его Надя.
Где-то далеко, в прошлой их жизни, шла война. Она требовала жертв, и с вокзала послушно уезжали в ее прожорливую пасть эшелоны с новобранцами. Взамен их война присылала похоронки и возвращала назад инвалидов. Небо придавило людей еще сильнее. Для Нади и ее мамы война ничего не изменила. Всех своих родственников они уже утеряли. Провожать им было некого, а дядю Митю на фронт не взяли из-за болезни легких. Детей стало мало, и детский сад закрыли. Мама занималась домашним хозяйством, обучала Надю французскому языку и все чаще тянулась к заветной бутылке. Надя тогда еще не знала, что такое алкоголизм, и была почти счастлива: их больше никто не обижал, а мама иногда была трезвой. Дядя Митя тоже был доволен жизнью: дочь обута-одета, отличница, жена – прямо королевна какая: и красивая, и образованная, ну отчего же по такому поводу не выпить? И они пили. Он от радости, она от горя. Каждому свое.
Однажды, в холодный декабрьский вечер дядя Митя не вернулся с работы. На шахте произошел обвал, и вся его смена погибла. Их так и хоронили всех вместе. Семь гробов, в которых находилось неизвестно что – то ли люди, то ли отдельные кости, а может, и вообще никого не было. Управление шахты выдало родственникам заколоченные деревянные ящики и строго проследило за тем, чтобы никто не смог их открыть.
С поминок маму приволок огромный черный мужик. Он бросил ее, словно мешок, на диван, неодобрительно покачал головой и ушел. Ночью маме стало плохо. Она стонала и металась по дивану, затем у нее началась сильная рвота. Но утром она пришла в себя, собрала вещи дяди Мити и пошла на базар. Оттуда она принесла краюху хлеба и бутылку самогона.
Мать с дочерью снова остались одни, беспомощные и беззащитные. Но на этот раз Надина мама не думала над тем, как выжить. Она по частям продавала вещи и пропивала свою жизнь. Она больше не пела арии из опер, почти не разговаривала, на слезы дочери не реагировала. Надя существовала вне ее сознания и отражалась в ее стеклянных зрачках, как нечто потустороннее.
Когда вещей не осталось, мама стала исчезать из дома. Она уходила рано утром и возвращалась после обеда все с той же неизменной бутылкой и краюхой хлеба для дочери. Иногда она приносила девочке поношенную одежду. Видимо, в ее затуманенном сознании все еще хранилась память о материнском долге.
Однажды Надя, решив узнать, каким образом мать добывает пропитание и выпивку, рано утром вышла из дома следом за ней. Пробираясь по городским закоулкам, они вышли прямо к вокзалу. Мама уверенно вошла внутрь здания. Надя, прячась за скамейками, прошмыгнула за ней. В зале ожидания, возле выхода на перрон стоял столбиком взрослый маленький человек без ног. Для перемещения у него была приспособлена небольшая доска на колесиках. А руки, державшие деревянные бруски, продвигали его тело-обрубок по заплеванному вокзальному полу. Рядом с ним чернел чемодан. Мама подошла к инвалиду, нагнулась, что-то ему сказала, видимо поздоровалась, взяла чемодан и пошла на перрон. Мужик поехал за ней. На перроне они устроились возле входных дверей. Сначала мама вытащила из чемодана гармонь и надела ее на плечи мужика. Затем из того же чемодана достала две коробки. Одну она поставила возле инвалида, а другую взяла в руки сама. Мужик пробежал пальцами по клавишам, проверяя звучание гармони, мама повязала свой платок пониже, и оба застыли в ожидании поезда. Они стояли молча, не шевелясь и ни на кого не обращая внимания. Когда подошел поезд и вокруг засуетился народ, мама вдруг закричала, да так громко, что Надя, давно не слышавшая ее голоса, вздрогнула.
– Люди добрыя, – истошно завывала она, непривычно коверкая слова, – люди добрыя, поможите, коли можете, герою войны, не оставьте его милостию своею, потому как он за Родину нашу сражался и живота своего не жалел и теперича инвалидом стал. Поможите, Христа ради, чем можете, люди доб-рыя-я-я.
Мама замолчала. Инвалид развернул гармонь и заиграл. Мама запела: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой».
– Хорошо поет побирушка, – толстый дядька в длинном пальто вытащил из кармана смятую бумажку, повертел ее перед собой и, пробормотав: «Многовато будет», снова полез в карман. Немного в нем поковырявшись, он вытащил медяк и кинул монету в одну из коробок. Мама принимала подношения с благодарностью, норовя поцеловать ручку благодетелям.
Раздавленная этой унизительной картиной, Надя побрела домой.
Вечером мама, как обычно, принесла краюху хлеба и бутылку.
– Мама, – тихо сказала Надя, – не ходи больше на вокзал.
Мама, не слыша ее, налила целый стакан, выпила и закусила хлебом с солью.
– Не ходи туда, – настойчиво повторила Надя, – не ходи. Смотри, что у меня есть, мне бабушка перед смертью дала, – Надя протянула ей крестик, – давай продадим его, и на эти деньги будем жить. Ты снова устроишься на работу в детский садик.
Пока Надя говорила, мама смотрела на нее непонимающим взглядом, а потом вдруг, рассмотрев протянутый ей крестик, вздрогнула и спросила тоном абсолютно трезвого, нормального человека:
– Откуда он у тебя?
– Мне подарила его бабушка, – терпеливо повторила Надя, протягивая крестик матери, – продай его. За него, наверное, сколько-нибудь дадут денег. Видишь, переливается, как радуга.
Мать взяла крестик в руки и долго-долго разглядывала его.
– Нет, Надя, – твердо и четко сказала она. – Этот крестик я продавать не буду. Он принадлежит семье Воросинских… нашему роду. Роду людей, уничтоженных своей родной страной. Я так и не поняла, зачем нас уничтожили. Мы раньше песню пели про то, как «мы наш, мы новый мир построим». Я и папа, мы оба… Мы оба старались. Строили новый мир. Мы мечтали о том, что в нем будут жить только счастливые люди, что там всегда будет много солнца. Наверное, этот мир и впрямь построят. Только другие, не мы. Мы оказались ему не нужны. Нас записали во враги этого нового мира. Я не знаю почему. У меня нет силы что-то изменить. Бог с ним, с этим их миром. Пусть сами строят, сами живут и сами подавятся своим новым миром. Ты учись жить сама по себе. К сожалению, мы не можем тебе помочь. Единственное, что мы можем оставить тебе в наследство – наша любовь. И чтобы с тобой не случилось, ты всегда помни, что я, папа, бабушка – мы очень любим тебя. Мы хотели для тебя счастливой жизни. Прости нас за то, что у нас ничего не получилось. Прости и будь осторожна. Береги себя. От целой семьи, от тех, кто веками служил России, любил и верил, надеялся и мечтал, остались лишь ты, нежная моя девочка, и этот крестик. Ты береги его, он тебя к Богу приведет.
– Зачем? – не поняла Надя.
– Где Бог, там жизнь. Ты должна жить. За всех нас, Воросинских, униженных и оскорбленных. Ты должна, а я не могу. Прости меня, девочка моя. Сейчас прости и потом, когда все поймешь, прости. Помни одно – я любила тебя и твоего отца, но меня больше нет. Я умерла вместе с ним в ту проклятую ночь, – голос матери задрожал. – Я не смогла стать для тебя спасеньем, у меня не хватило сил… Ты спрячь этот крестик, чтобы не потерять… его беречь надо. У него цены нет, бесценный он для тебя, потому и продавать его нельзя. Прямо сейчас возьми и спрячь. Лучше в одежду зашей, чтобы он всегда с тобой был, мало ли что случится. Впереди много дорог, но только одна из них тебя ждет, потому что для тебя предназначена… Бог подскажет какая. Кроме Него, тебе надеяться не на кого. Он один и заступник твой и помощник. Живи с Богом в душе, и пусть твоя дорога будет не такой убогой, как наша. Такое тебе мое благословение, солнышко мое ясное.
Мама притянула Надю к себе и нежно обняла, поглаживая дочь по плечу. А потом она снова потянулась к бутылке и, допив ее до конца, впала в забытье.
А Надя принялась искать тайник для крестика. Хотела спрятать его в тумбочке, под стопкой белья, но вспомнила совет матери и, подпоров опушку единственного платья, вшила туда бабушкин заветный дар. Получилось надежно и совсем незаметно.
Утром следующего дня Надя проснулась и увидела, что мама все еще лежит в постели.
«Как хорошо, – обрадовалась она, – наверное, мама все-таки решила продать мой крестик и не пойдет больше на этот гадкий вокзал».
Обрадовавшись, Надя подбежала к маминой кровати. Мама спала, закинув одну руку за голову. Во сне она была так же прекрасна, как в прежние московские годы.
– Мама, – ласково прошептала Надя.
На минуту ей показалось, что сейчас мама откроет глаза и они окажутся в старой своей квартире с огромными потолками и картинами. На кухне будет суетиться бабушка, в прихожей хлопнет дверью отец, уходя на работу, а они с мамой еще немного поваляются в кровати, делясь друг с другом секретами или просто мечтая о чем-нибудь.
Но мама не просыпалась.
– Мама, – еще раз позвала Надя, присев на краешек ее кровати. Пышные мамины волосы лежали серебряной волной на скомканной подушке.
Раньше Надя любила плести из них косички. Собираясь на концерт, мама зачесывала их назад и скалывала на затылке шпильками, а дома просто сплетала в косы, укладывала вокруг головы, и тогда получалась настоящая корона, только не золотая, а каштановая.
«Теперь получится серебряная корона», – подумала Надя, осторожно перебирая седые пряди.
Ей на колени безвольно упала тонкая мамина рука. Наде вдруг стало страшно. В неподвижности матери было что-то неестественное. Она потрясла ее за плечо. Мама не просыпалась.
– Мама, мама, мамочка, любимая, – зашептала она, чувствуя, как рушится мир вокруг нее, – дорогая, ну проснись… иди на свой вокзал, если хочешь, только проснись, не оставляй меня.
Надя говорила и говорила, боясь замолчать и ощутить всю глубину той пропасти, в которую уносила страшная неподвижность матери.
– Хочешь, я вместе с тобой петь буду? У нас получится. Я про клоуна песню знаю. Нам много денег дадут. Ты только проснись, ну открой глазки, хоть на минутку.
Прикоснувшись к рукам матери, Надя ощутила мертвенный холод, исходящий от родного материнского тела. Она снова начала шептать разные слова, повторяя их как заклинание, способное вернуть жизнь самой любимой и прекрасной маме. Слова дарили ей веру в то, что маму еще можно разбудить, и она держалась за них, как держится за соломинку утопающий, идущий ко дну.
«Мама еще проснется, если услышит, как плохо без нее дочке, – шептала Надя. – А если я замолчу, то мама уже не проснется никогда и ее унесут на кладбище. Там всегда холодно, и на улице холодно, и в бараке холодно, и во всем этом сером мире ХО-ЛО-ДНО! А ведь раньше, когда мы жили в Москве все вместе – бабушка, папа, мама, – мир был таким добрым и теплым!»
День спустя соседи обнаружили в комнате вокзальной пьянчужки труп молодой и абсолютно седой женщины. Сидящая рядом с ней дочь гладила мать по руке и беспрерывно уговаривала ее проснуться. Красивое, мраморно-белое лицо женщины не отражало никаких чувств. Ее душа блуждала в других мирах. Когда женщину стали выносить, дочь потеряла сознание. Девочку отправили в больницу. Полная пожилая женщина-врач, констатировав факт нервного истощения, долго вертела Надю во все стороны, приставляя к ее худенькой грудной клетке прохладную трубку. Измучив Надю бесконечными командами «дыши, не дыши», она спросила:
– Часто кашляешь? Температура бывает? В больнице лечилась раньше?
– Кашляю часто, нигде не лечилась, про температуру не знаю. Я устала, отстаньте от меня, – безразлично отвечала Надя.
– У, какие мы сердитые, – улыбнулась врач, записывая что-то в свой журнал. – Тогда одевайся. Придется тебе полежать у нас, подлечиться надо.
В графе «диагноз» она написала: «пневмония». Потом, немного подумав, добавила: «хроническая», поставив рядом знак вопроса. Тем временем, сидевшая напротив нее Надя вдруг увидела, как врачиха начала расплываться, корчить рожи, кривляться, а потом и вовсе закружилась и полетела в длинную, узкую яму. Надя заглянула в эту яму и увидела, что глубоко, на самом ее дне, стоит красивая улыбающаяся мама. Мама улыбнулась ей и поманила дочь к себе, в глубь ямы. Надя закрыла глаза и полетела навстречу к маме.
Глава 7
Очнувшись, Надя увидела над собой белый потолок. Испуганно сжавшись под одеялом, она осмотрелась. Рядом стояло несколько кроватей, на которых лежали незнакомые женщины.
– Слава Богу, ожила, – заметила Надин взгляд соседка справа. – Сестра, девчонка наша с того света вернулась, – крикнула она громко и, обращаясь к Наде, сказала: – Теперь долго жить будешь!
Через две недели Надю из больницы выписали. В гардеробе нянечка выдала ей незнакомое кургузое пальтишко, потрепанный клетчатый платок и валенки.
– А где моя одежда? – робко спросила Надя.
– А кто ж ее знает? – пожала плечами нянечка. – Доставили тебя в палату, считай, в исподнем, окромя нижнего ничего на тебе и не было. Главный приказал одеть тебя, я и одела. Чем богаты, тем и рады. Бери, не отказывайся, одежка, хотя и не видная собой, зато чистая.
Надя молча начала одеваться.
– Вот и умница, – подбодрила ее нянечка и, порывшись в бездонном кармане своего фартука, вытащила оттуда чулки. – На вот тебе еще от меня, – протянула она их Наде, – веревочками подвяжешь. Эх, горемычные вы мои.
Выйдя из больницы, Надя сразу же побежала в свой барак. Чем ближе она подходила к нему, тем сильнее билось ее сердечко. А вдруг мама не умерла, вдруг она жива, здорова и ждет ее дома?
У дверей своей комнаты она на минутку замерла и прислушалась. До нее донесся знакомый скрип маминой кровати и чьи-то голоса.
– Мама! – радостно влетела в комнату Надя и замерла.
На маминой кровати лежал незнакомый седой старик, возле него суетилась пожилая женщина.
– Тебе чего? – недовольно спросила она, глядя на Надю.
– Извините, – прошептала Надя, – я думала…
– Ты никак жиличка бывшая, – догадалась женщина.
В ответ Надя молча кивнула головой.
– На вот тебе твои вещички, – женщина полезла в сундук, которого раньше в этой комнате не было, – и иди в управу, пусть они тебя теперь расселяют. Ты уж не серчай на нас, деточка, некогда нам, иди.
Отдав Наде тряпичный узел, она подтолкнула ее к выходу.
«Крестик! – вспомнила Надя, выйдя в коридор. – Неужели украли?»
Она развернула узел. В нем были мамины шпильки, дамская сумочка, где обнаружилась Надина метрика, несколько металлических ложек, одежда и то самое платье. В подоле Надя без труда нащупала контуры дорогой для нее вещицы. Крестик в целости и сохранности был там, куда его спрятала Надя. На душе ее сразу стало светлее.
Выйдя из чужого теперь барака, Надя столкнулась с бывшей соседкой. Увидев Надю, она бросилась ей на шею и разрыдалась, сочувствуя ее горю. Захлебываясь слезами, охая и причитая, женщина рассказала, что за матерью приезжала «катафалка», которая увезла ее на старое кладбище. Похоронили ее в дальнем углу, где отводились места для бездомных бродяг.
Надя пошла на кладбище и, бродя среди безликих бугорков, на каждый из них положила по колючему сухому сучку, в надежде не обойти безымянную мамину могилу. Заканчивался 1947 год.
Надя шла по улицам ненавистной Воркуты, совершенно не зная, что делать дальше. Вечерело. Начиналась метель. Ее никто нигде не ждал. Она остановилась около красивого трехэтажного дома. Прямо напротив нее в освещенных окнах первого этажа отражалась другая жизнь. В ней взрослые пили чай, сидя за круглыми столами под розовыми абажурами, дети писали в тетрадках красивые буквы, бабушки вязали носки, сноровисто перекидывая петли. Достопочтенные горожане, отгородившиеся от всего происходящего стенами своих квартир, ничего не знали и не хотели знать о той стране, в которой потихоньку замерзала забытая и покинутая всеми Надя. Редкие прохожие торопились домой, не замечая крохотной фигурки, прислонившейся к дереву.
В тот вечер она поняла, что такое ненависть. Ей было так плохо и одиноко, что она возненавидела мир, превративший ее в жертву. Возненавидела людей, зверей, дома, небо, убогую карликовую растительность, и даже ягоду морошку. Выбрав окно, за которым толстый вихрастый мальчишка уплетал пирог, Надя запустила в него снежком, вложив в этот бросок всю силу своей ненависти. Но силы было слишком мало, и мальчишка, не обратив внимания на легкий удар в окно, доел пирог, облизывая сладкие губы.
Зато Надин жест отчаянья заметил милиционер, охраняющий дом. Он сгреб девчонку в охапку и потащил в отделение. Оттуда Надю отправили в детский приемник-распределитель, где выяснилось, что террористка, внешне выглядевшая как ребенок, на самом деле уже вполне взрослая пятнадцатилетняя девушка, к тому же еще и образованная – семилетку почти закончила. Под конвоем ее вернули в милицию.
Начальник отделения Зотов долго листал Надины документы, думая о своем. Его отец погиб на лесосплаве, когда сыну было всего два года. Через три года на его глазах повесилась мать, заразившаяся сифилисом. В царской России он обречен был повторить нищую жизнь своих родителей, но случилась революция и советская власть вывела его в люди. Она обеспечила ему сытную жизнь в детском доме, обучила, как сына пролетария, дала путевку в НКВД.
У него была безупречная анкета и страстное желание служить верой и правдой стране рабочих и крестьян. Его усердие поощрялось, тем более что в этой стране друзья слишком часто становились врагами, которых нужно было ловить, сажать и давить, чем он с радостью и занимался. Но однажды Зотов перешел дорогу кому-то из высокого начальства и сам оказался в затруднительном положении. Выручил тесть. Старый революционер, закаленный в битвах за родимую власть, напомнил о своих заслугах нужным людям, позаботившись о том, чтобы его дочь не осталась без мужа, а внук без отца. Зотова понизили в должности и от греха подальше вместе с женой и сыном отправили из цивилизованной Тулы на край света, в убогую Воркуту.
Зотову было без разницы, где ловить врагов, но его жена, Дуня, сразу невзлюбила Север. Сначала она ждала, что их позовут обратно, и надеялась на помощь отца, но тот некстати скончался, оставив молодых без поддержки. Время шло, надежды на возвращение в Тулу оставалось все меньше. Ситуацию усугубляло то, что Зотов с перепуга утратил свою мужскую силу. Жена, обозленная этим и всеми другими обстоятельствами, каждый день устраивала скандалы, обещая заменить его на соседа.
Зотов был бы рад, если бы она и впрямь позвала соседа, но среди соседей охотников до его жены не находилось, и спасался он только тем, что усердно выполнял любые желания благоверной. В данный момент Дуня заказала ему домработницу, чтобы не отстать от жены начальника шахты, которая таковой уже обзавелась.
– Ну и что с тобой прикажешь делать? – оторвавшись от бумаг, Зотов сурово посмотрел на Надю. – Взрослая уже, пятнадцать лет. Я в твои годы на завод пошел, а ты? Какая от тебя польза нашему народу? Об этом надо думать, а не снежки по окнам кидать. Почему не работаешь?
– Не знаю, – угрюмо сказала Надя.
Зотов присмотрелся к задержанной. Щуплая, на вид не больше тринадцати лет.
«А ведь для домработницы и такая сойдет, – осенило Зотова, – платить ей не обязательно, пусть за кусок хлеба работает, вражья дочь».
– Значится, так, – суровей прежнего глянул на Надю Зотов, – идти тебе некуда, да и не имею я права отпускать тебя, не прореагировав на сигнал. За твой поступок я должон тебя по этапу отправить. Но я нынче добрый. Пойдешь ко мне в домработницы. Работа не тяжелая. Буду тебя кормить и угол для тебя отведу. Платить деньгами не буду: и так тебе повезло. Вместо того, чтобы вшей в бараке кормить, по-человечески жить будешь. И скажи спасибо за доброту мою.
– Мне бы школу закончить. Полгода осталось.
– Вона как. А больше ты ниче не хошь? – наливаясь краской, Зотов сжал кулаки.
– Хочу. Хочу паспорт получить и уехать, – набравшись смелости, выпалила Надя.
– Паспорт, – ударил кулаком об стол Зотов, – а ты, контра недобитая, выкормыш интлигенский, достойна его, паспорта нашего? Советская власть тебя учила, кормила, для чего? Для того, чтоб ты работать отказывалась, барыню из себя строила? Я уговаривать не буду. Щас быстро вместо паспорта другой документ оформлю и провожу под конвоем. На зону как преступный элемент пойдешь. Рядом с костями отца своего, врага нашего, сгниешь.
Надя вспомнила потрошителя, ворвавшегося в их московский дом в ту проклятую ночь, и заметила вдруг, что они с Зотовым очень похожи. У обоих одинаково штампованные, квадратные лица, бесцветные глаза-буравчики и огромные волосатые кулаки. Потрошитель уже прошелся бульдозером по жизни ее семьи, теперь до нее добрался Зотов. Глядя на него, Надя отчетливо поняла, что в случае отказа он действительно отправит ее в тюрьму и тогда…
– Хорошо, я согласна, – прошептала она, подумав о том, что сначала потерпит, а потом что-нибудь придумает.
Но терпеть оказалось не так-то просто. Надя раздражала хозяйку, прежде всего своей образованностью. По глубокому убеждению Дуни, прислуга не имела права быть умнее хозяев. Она поручала девушке самую грязную работу и при этом постоянно твердила, что, научившись читать и писать, Надя не перестала быть грязнулей и замухрышкой, которую она, благородная Дуня, осчастливила крышей над головой в приличном доме. Десятилетний сын Зотовых не отставал от родителей, издеваясь над Надей по-своему. Зная о том, что кормят Надю объедками с хозяйского стола, он, садясь пить чай, требовал, чтобы Надя стояла напротив него. Обсосав карамельку-ледяшку, он, протягивая ей остатки и противно улыбаясь, спрашивал:
– Хочешь?
Надя всегда отказывалась.
– Ну как знаешь, – хихикал мальчишка, – тогда иди задачи за меня решай.
Сынок у Зотовых был туповат, уроки за него делала Надя. Однажды, разозлившись на очередную выходку юнца, она отказалась ему помогать. Мальчишка назло ей выбросил на пол мусор из ведра, Надя ударила его веником. В ответ он завизжал так, будто его убивают. Влетевшая в комнату Дуня надавала Наде пощечин. Зотов устроил ей «проработку мозгов». Он кричал, топал ногами и грозил тюрьмой, но на первый раз простил, предупредив, что в другой раз выпорет ее «как сидорову козу».
Каждую ночь, лежа в своем углу на жестком топчане, Надя разрабатывала план бегства из Воркуты. И каждое утро она отодвигала эти планы на завтра, понимая, что без документов она далеко не убежит. Так прошла зима, потом весна. Наступило лето, а вместе с ним – время получать паспорт.
– Успеешь еще, – ответил на ее просьбу Зотов, – нет в тебе политической грамотности для того, чтоб мог я тебе с чистой совестью паспорт советский дать.
– Где мне взять эту грамотность, если вы меня в школу не пускаете?
– Ты меня школой не тычь, читай лучше газеты. Усваивай линию партии. Если хорошо усвоишь, пройдешь проверку на соответствие званию советского человека, получишь паспорт.
Надя старалась, читала. Однажды, оставшись в доме одна, она обложилась газетами, решив выучить линию партии наизусть. Так, чтобы Зотов понял – больше нет причины держать ее в черном теле. Она разложила на столе газеты, и увидела вдруг, что со всех страниц ей одинаково улыбается товарищ Сталин.
«Сейчас мы поразнообразим тебя», – подумала Надя, взяв в руки карандаш.
Она пририсовала одному Сталину уши, другому – трубку, третьему – бантик на шее. Увлекшись, она не заметила, как сзади к ней подошел вернувшийся домой Зотов.
– Ты… да как ты посмела… гнида болотная… На самого товарища Сталина, отца родного, руку поднять! – его затрясло от бешенства. – Я тебя предупреждал! Я слов на ветер не бросаю! Щас узнаешь, почем мое слово! – он начал расстегивать на своем животе широкий солдатский ремень. – Мало того, что ты всей моей семье нервы портишь, меня своим паспортом изводишь, ты еще и над товарищем Сталиным издеваешься.
Надя, с ужасом глядя на ремень в руках Зотова, вспомнила Гошу с его женой и закричала:
– Вы не имеете права. Я уже взрослая. Ничего я вашему Сталину не сделала, это он мне всю жизнь испортил, он моих родителей убил.
– «Моему Сталину»! Убил! Ах ты, вошь дворянская! Пригрел гадюку! Права у нее, вишь ли! Слишком много прав, как я погляжу, – озверевший Зотов, не обращая внимания на слабые Надины попытки защититься от побоев, намотал ее длинную косу на кулак и дернул вниз, перекинув через голову. Надя вздрогнула от боли и согнулась.
Зотов остановился только тогда, когда Надя почти перестала дышать. Он и сам не понял, как это произошло. Он просто выполнял свой гражданский долг – преподавал политический урок дочери врага народа. Но, видимо, настолько увлекся, что ощутил свою мужскую силу. Ощутил остро, жадно, до учащенного сердцебиения, до чертиков в глазах. И тогда ему стало все равно, кто перед ним.
Надя лежала на полу лицом вниз. Глаза ее были закрыты, и она не видела растекшейся лужи крови. Ей было больно, стыдно, обидно. Ей было так плохо, что она почти умерла. Оставалось только остановить дыхание, и она сдерживала каждый вдох, впечатывая свое тощее тельце в жесткие половицы. Однако воздух проникал в нее каким-то неподконтрольным ей образом, заставляя ее жить.
Придя в себя, Зотов растерялся: он был усердным служакой, но не насильником, и при виде растерзанной девчонки испытал нечто вроде жалости.
– Ты вот что, девка, за науку не серчай. За надсмехательство над товарищем Сталиным срок положен, а я с тобой по-отечески обошелся, – попытался оправдаться он. – Ты это. Давай, отдыхай, сколько надо. Я жене скажу, чтоб она, значит, тебя не трогала. Мол, заболела ты.
Вспомнив про жену, Зотов испугался. Если Дуня узнает, что он тут натворил, она его самого по этапу отправит. Он поднял не способную сопротивляться Надю, усадил на стул.
– Ты давай, приходи в себя, – потряс он ее за плечо, – не ровен час, жена вернется, а ты тут тетерей развалилась… Замой кровь. На полу и на юбке.
Надя сидела без движения. Зотов разозлился. С минуты на минуту могла прийти жена, все учует, и тогда ему несдобровать.
– Слышь, ты, тетеря, – заорал он в лицо Наде, – нече тут тоску изображать. Бери тряпку и прибирайся быстро. А то все по-новой…
Надя вздрогнула.
– Ожила! То-то же. Давай, вставай, убирайся. И помни – никому ни слова. На носу заруби. Ни-ко-му! Ремень вот он, всегда при мне, запорю, и никто с меня не спросит. А если спросит, найду че ответить, рисования твои представлю…
Добравшись до своего угла, Надя легла. Она не чувствовала телесной боли, потому что душевная боль терзала ее сильнее. Раньше Надя мечтала о том времени, когда она уедет из Воркуты. Там, в другом мире, она надеялась встретиться с высоким темноволосым юношей, похожим на ее отца. Он стал бы для нее защитником, она ему – верной женой. Но теперь все изгажено. Девичью надежду, веру, любовь Зотов растоптал, распяв Надю на газетах с портретами друга счастливого детства – Сталина.
Ночью, когда вся семья Зотовых дружно храпела, она ушла из их постылого дома. Унижению она предпочла смерть. Пустынные улицы Воркуты, укрытые черным бархатом ночи, встретили ее тишиной. Полярная осень, короткая, как последний вздох перед уходом в белое безмолвие, вступала в свои права. Надя шла наугад, не разбирая дороги. Из потаенного карманчика она достала крестик. Его разноцветные камни, преломляя лунный свет, мерцали загадочными бликами. На мгновение Наде показалось, что в них отражаются лица тех, кто покинул этот мир, безмерно любя ее. Воспоминания закружили ее, отдаваясь щемящей болью в груди. Далекая Москва… уютный дом… запах бабушкиных пирогов… картины на стенах… смеющийся отец у своих пейзажей… пианино… игра в четыре руки «Утро туманное, утро седое»…
Впереди предрассветными тусклыми огнями маячил вокзал. Подойдя к дверям, возле которых мама просила милостыню, Надя остановилась и посмотрела в серое небо.
«Прости меня, мама, за то, что я тоже не смогла здесь жить. Пусть нас не будет на земле, если им так уж сильно этого хочется. Обо мне никто здесь не заплачет. Зато там, на небе, я буду рядом с вами, и мы будем снова любить друг друга, и нам снова будет хорошо».
Надя зажала в кулаке крестик и решительно пошла в сторону железнодорожных путей.
«Это не страшно, не бойся, – мысленно уговаривала она себя, – всего минутку потерпеть, и все.
Мама с папой уже, наверное, ждут меня на небесах. Осталось сделать навстречу им всего только один шаг, и все мы будем вместе, навсегда. Рядом с ними я буду в безопасности, и никто никогда надо мной не надругается и не обидит».
Она остановилась на самом краю платформы и огляделась. Поезда перекликались короткими паровозными гудками. Белесый туман поглощал горьковатый вокзальный воздух, придавая запаху мазута утреннюю свежесть. Вдалеке послышалось лязганье вагонов. Надя приготовилась. В памяти вдруг всплыла бабушкина молитва.
– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, – зашептала Надя, услышав вдруг бешеное биение собственного сердца.
Поезд-товарняк затормозил у соседней платформы. Судьба играла против нее, затягивая время прощания с жизнью.
– Девушка! – какой-то человек, вынырнув из тумана, подбежал к ней. – Постерегите мои вещи, я мигом, – он бросил ей под ноги сумку и снова скрылся в тумане.
Едва он исчез, как утренняя тишина взорвалась сиреной милицейских свистков. Затем с криком: «Стой, кому говорят», – из тумана выскочили три милиционера.
Взяв сумку, они отвел Надю в привокзальное отделение милиции. Сумка оказалась краденой, и Надю задержали как воровку… К тому же не было паспорта… От такого поворота событий Надя потеряла всякий интерес к происходящему и, впав в состояние полной невменяемости, перестала разговаривать. В ее пустых глазах лишь однажды промелькнул испуг. Это произошло в тот момент, когда она увидела Зотова. Он передал следователю Надины документы, объяснив, что Воросинская уже около года находится в розыске по подозрению в покушении на жизнь большого начальника. О том, где она провела этот год, он не сказал ни слова. Следователь сложил имеющиеся у него факты Надиных преступлений, и в итоге ей, как социально-опасному элементу, «вырисовался» приговор – десять лет лагерей. Надя молча подписала все протоколы, и ее отправили в пересыльную тюрьму ждать отправки по этапу.
Глава 8
Когда охранник захлопнул за ее спиной дверь камеры, к Наде подошла толстая рыжая тетка. Взглядом навскидку оценив новоселку, она смачно выругалась, и подвела к крайнему лежаку. Наде было дурно. Ее не просто тошнило, ее буквально выворачивало наизнанку. Она прилегла. Через несколько минут в камеру ворвался охранник.
– Встать! – с порога гаркнул он. – Предупреждаю, днем лежать на кровати запрещено. В следующий раз получишь карцер.
Надя встала и прислонилась к стене. Тошнота не проходила.
– На, сглотни. – Толстая тетка сунула ей ржавый ковш с водой. – За че тя?
– Говорят, что я воровка, – прошептала Надя.
– А ты сама не знашь, кто ты?
– Не знаю. Я ничего не знаю. Ни кто я… ни зачем… ни почему.
– Дожили! Никто ничего не знат. Ни те, кого сажают, ни те, кто сажает. Сглотнула? Теперь давай ковшик-то, тоже пить хотся.
Она допила воду и, вытерев ладонью губы, сказала:
– Не хошь говорить, не говори. Я Матрена-Мотя. Из раскулаченных мы. Папаню в энти края отправили, потому как больно ретиво пахал у себя на Брянщине. Пахал-сеял, хлебов навеял. Богатеть начал, скотиной обзавелся. Коммуна не стерпела, суд устроила: не копи, сучий сын, добро, не сей, не паши, лозунги ори. Папаша не послушался, вот его товарищи и определили на отдых для подкорма комаров. Помер он, стосковался. Маманя еще раньше преставилась, Царство им Небесное. А я вот как «дочь подкулачная» мотаю срок по жизни. А ты хошь молчать, молчи. Уж больно ты мала, в чем только душа держится. Если кто обидит, мне жалься, я выручу, я малых всегда защищаю. Сердечная я така.
Матрена-Мотя пошла на свое место.
– Постойте, – окликнула ее Надя, – поговорите со мной еще, – попросила она, – а то мне страшно.
– Энто ниче, энто быват по первости, не боись, выдюжим, – подбодрила ее Мотря.
Матрена-Мотя добровольно взяла на себя роль Надиной защитницы, благодаря чему тюремный уклад стал казаться ей не очень страшным, и дни в камере пошли веселее, чем на той воле, которая была у Нади в зотовском доме.
Здесь было относительно тепло, кормили и существовало некое братство людей, баб, от которого Надя, преданная всеми, уже успела отвыкнуть.
Со временем она узнала, что у Матрены это пятая ходка. Вообще-то, выйдя в последний раз на свободу, она зареклась воровать. Ради детей. Их у нее было пятеро. Четыре сына и одна дочь. Так как на свободе времени ей не хватало, размножалась она исключительно в неволе. Там же и беременела, потому как любила настоящих мужиков, а такие, по ее глубокому убеждению, на воле, среди «краснопузых», не водились. Были, конечно, трудности и на этапе: иногда приходилось уступать всякой швали, вроде охранников, но Матрена тщательно заботилась о том, чтобы в ее чреве не оставалось их подлых последышей. А своих детей она обожала. Они воспитывались в разных детских домах Советского Союза и присылали ей оттуда письма. За тех, кто писать еще не умел, писали воспитатели, они же вкладывали в конверты фотографии симпатичных детских мордашек.
– Вот ентот, – рассказывала она товаркам по камере, показывая очередное фото, – от Гоши Питерского народился. Мы с ним на пересылке съякшались. А я особливо и не противилась. Сами понимаете, та-коой мужик! Здоровый, кудрявый, глаза веселые. Три судимости у него тогда было, и все по мокрому делу. Разве перед этаким орлом устоит кто? – смачно вопрошала она своих тюремных товарок и, не дождавшись от них ответа, удовлетворенно итожила их молчание: – Нет, конечно. И я уступила, вишь какой у нас справный малец-молодец получился, – зардевшись, Матрена кокетливо поправляла три волосины, прилепившиеся к ее узкому лбу, и продолжала дальше, вытаскивая еще один портрет: – А ентот от Санька-родимчика. Меченый он был, с пятном возле уха. Вот знатный ворюга был! Раз у важняка во время допроса конверт с казенной деньгой спер. Тот потом вешаться хотел. А Санюга ему и говорит: давай, мол, начальник облегченье мне в сроке, спасу тебя от погибели, найду кошелек. Тот пообещал, Санька, святая душа, ему кошель вернул. Ну, легавый, конечно, допер до сути и вкатил Саньке летов на всю катушку. Застрелили его, бедолагу, при попытке к бегству.
В этом месте Матрена всегда надолго умолкала, жалея дружка. Но наступал новый день и байки продолжались. По ним выходило, что вся уголовная элита оставила государству в наследство свою поросль в лице Матрениных «породистых» детей.
Иногда, в зависимости от настроения, одному и тому же ребенку она приписывала разных отцов. Особенно много претендентов на роль отца было у единственной среди Мотиных пацанов белокурой девочки с бантом, обнимавшей на фотографии большого медведя.
В данном случае в отцовстве подозревались двое: могучий авторитет Медик, заработавший свою кличку на матерых убийствах с расчлененкой, совершенных им особо изощренными способами, и обыкновенный зек Федя. Медик пленил воображение Матрены описанием своих преступлений, в которых он подробно разъяснил ей, как надо пощекотать ханурика ножичком, чтоб замочить его и после с толком для дела расчленить на составные части организм.
Федя ничего героического не совершал, но уж больно хорошо умел любиться. До того хорошо, что при воспоминании о нем у Матрены жеманно закатывались глазки и краснели щечки, висевшие на ее лице толстыми, дряблыми мешками. Матрена жалела обоих и потому хотела их наградить одной дочкой на двоих. По ее рассуждениям выходило, что она якшалась с ними в одно и то же время, так почему бы им обоим не прицепиться вместе, так сказать, единым фронтом к Матрениной половине? Бабы с ее доводами бесспорно соглашались. Действительно, почему?
Выходя в последний раз на свободу, Матрена-Мотя намеревалась поинтересоваться у знающих людей на предмет совместного отцовства, но не успела. Бес попутал. Причем два раза. Первый раз обошлось. Дядька хороший попался, хоть и соблазнительный. Потому как выставил кошелек из заднего кармана брюк, а мордой в витрину уткнулся. Разве ж уважающий себя вор пройдет мимо такой наживы? Нет, конечно. Ну, Мотя и цапнула кошелечек. Да за годы отсидки, видать, руки у нее от ювелирной работы отвыкли, а может, мужик слишком чувствительный на заднее место попался. Только че зря гадать. Раскусил он Матрену. Мертвой хваткой ей руки повязал, но в милицию не повел. Цельный час беседу ей говорил о пользе честной жизни. Матрене-Моте беседа понравилась. Она мужику в свою очередь про детей-сирот поплакалась, которые без матери маются. Мужик разжалобился, карамелек для них купил. Матрена тоже растаяла. Поклялась ему никогда больше не воровать и жить той самой честной жизнью, про которую он «ей беседовал».
На энтом они с мужиком и расстались. Он пошел к себе в честную жизнь, а она на вокзал, где барышня с кудряшками своим радикюлем порушила ее клятву. Причем Матрена была совсем не виноватая. Просто у бабы той, дуры круглой, радикюль дюже красивый был. Из крокодильей блестючей кожи, с желтенькими замочками. Потом оказалось, что в энтом радикюле только и навару, что фасон, а боле ничего. Ни цацок, ни капусты. Кудряшка та чертова своим пустым радикюлем прям в душу Матрене плюнула. На понюх и то не хватило, зато срок ей тогда богатый вкатали, по старой памяти. Менты поганые. Опять детей сиротами оставили, пусть вот теперя сами их своим государством кормят.
Надя слушала бесконечную Матренину болтовню и постепенно выходила из депрессии. В ней начал появляться интерес к той новой жизни, в которую она попала. Она привыкла к нарам и к запаху параши, научилась различать по номерам содержание статей Уголовного кодекса. Матрена-Мотя, приняв Надю под свое покровительство, посвятила ее в тайны тюремных дел, но девчонка к блатной жизни оказалась настолько негодная, что язык матерный и тот не смогла освоить. Матрена сначала злилась на бестолковость ученицы, а потом махнула рукой:
– Каждому свое. Случайный ты, Надежда, в камере человек. Не наш, не тюремный. Если уцелеешь, с воли сюда не вернешься, а потому наука наша тебе не в надобность.
Однажды, немного для виду поделикатничав, она спросила:
– Ты, девка, по возрасту уж взрослая, а что же, женских дел не имешь еще?
– Раньше было, – пролепетала покрасневшая Надя.
– Было, че ли, дело с кем?
Надя вспомнила Зотова и содрогнулась.
– Нет! – твердо ответила она, будто надеялась, что от одного только этого слова ненавистный образ Зотова исчезнет навсегда, а у нее все нормализуется.
– Э-э, нет, врешь, девка! – не поверила опытная Матрена. – Я давно к тебе приглядываюсь. Врешь. То у тебя тошноты, то бледности. Аппетиту нету, а вес вроде как животом набираешь. Не могет энто случаем быть. Сознавайся.
– Это у меня от кашля. У меня воспаление хроническое в легких. Вы же сами слышите, как я подкашливаю, – пустилась в объяснения Надя, сама не веря своим словам.
Она уже давно чувствовала, что с ней происходит неладное, но не могла понять почему.
– Меня не проведешь, мне такие дела ешшо как знакомые. Можешь и не сознаваться, я и так давно уж догадалась – носишь. Никак, снасильничал кто над тобой, и потому говорить не хочешь? – не отставала от нее Матрена.
Надя хотела в ответ возразить, но голос предательски задрожал и она заревела.
– Из энтих, из лампасников галифейных, наверняка, – догадалась Матрена. – Так?
Не в силах что-либо сказать, Надя кивнула.
– У, гады ползучие. Мало им коммунизма с партией родимой, они еще и девчонок-малолеток иметь хотят. Празднуют свои удовольствия, без стыда всякого, – выругалась Матрена. – Ты вот че, девка, не реви. Москва слезам не верит, и мы тоже. В Ужог тебе надо, нельзя тебе по этапу. Силы в тебе нету. А в Ужоге – там больница и дом младенца. Там все наши рожают. Я там тоже три раза отмечалась. Врач там душевный, Сергей Михалыч, из заключенных, политический. Сдается мне, ты того же корня, он нежных оберегает. Сам из антиллигельных.
– Интеллигентных, – улыбаясь сквозь слезы, поправила ее Надя.
– Ну, оно мне не больно надо, – отмахнулась Матрена, – счас мы тебе медосмотр организуем. Ложись, помирай.
– Чего? – удивилась Надя.
– В обморок, говорю, падай, а мы уж тут за тебя все объясним, – Матрена застучала в двери камеры.
Провожая Надю в Ужог, матерая уголовница прослезилась. Эта худенькая, слабенькая девчушка растревожила в ней материнские чувства, притупленные пожизненной разлукой с собственными детьми.
– Ну, ты, давай там, не робей, рожай как положено, – обняв припавшую к ней Надю, она неловко гладила ее по худеньким плечам. – Меня не забывай, может, даст Бог, свидимся. А по тюрьмам ты того, не приучайся, гиблое энто дело. Береги себя, – всхлипнула Матрена и, испугавшись собственной сентиментальности, отстранила Надю, нарочито грубо добавив: – Давай, будя. Михалычу привет передавай от заслуженной роженицы Советского Союза. Энто он меня так зовет. Скажи, скоро буду. Говорят, Витю Грека взяли. Вроде тут он, в наших краях кантуется. Глядишь, и сладим мы с ним еще одного гражданина для любимой нашей эСеСеСеРы.
Когда за Надей захлопнулась дверь, Матрена в бессильной злобе долбанула по железу кулаками и головным платком вытерла обильные слезы.
Глава 9
Блуждая в северном аду, замерзая от холода, страдая от горя и умирая от голода, Надя спасала себя надеждой на то, что наступит счастливый день ее отъезда из Воркуты. И вот этот день настал. Он был сумрачным и тяжелым. Под конвоем, в душной теплушке с зарешеченными окнами она отправилась в сторону другого медвежьего края – Архангельска. Холодная, вечно серая Воркута осталась позади, вместе с ней ушла в прошлое звериная ухмылка Зотова.
Начинался новый этап скитаний. Спецзона встретила Надю караульными вышками, колючей проволокой и густой чащобой стоящего за ней леса. Надя уже забыла, что деревья могут быть такими огромными, а таких темных, пугающих своей неизведанностью лесов она вообще никогда не видела.
Лагерь, в который она попала, был предназначен для претворения в жизнь лозунга товарища Сталина о том, что дети за родителей не отвечают. Здесь узницы из разных мест лишения свободы производили на свет свое потомство, а советская власть с готовностью брала на себя заботы о его воспитании. В больнице для «мамок» был «курорт». После грязных и вшивых бараков они нежились на белых простынях, лаская припавшие к груди плоды своей горькой любви. Продолжалось это блаженство не больше двух недель, затем детей отбирали и уносили из зоны в расположенный рядом, но за забором, а значит на воле, дом малютки. «Мамок» водили туда для кормления малышей несколько раз в день, остальное время они работали в пределах колючей проволоки. Через год детей распределяли по детским домам Советского Союза, а «мамок» рассылали по лагерям того же Союза. Схема действовала безотказно, и каждый винтик в этом механизме знал свое место. Если он его забывал, то навсегда терял свое место под солнцем и бесследно растворялся на бескрайних просторах Родины.
Начальник лагеря, увидев хрупкую девчушку с выпирающим животом, неодобрительно покачал головой:
– До того тоща да мала, что саму можно в дом малютки определять, а туда же, уже животом трясет. Видать, от работы отлынивает.
Изучив документы, он выяснил, что девчушка действительно еще та штучка. Не простая. Навешено на ней прилично, и срок большой даден. Видать, столько натворила, что и для первого раза годков не пожалели.
«Куда мне ее девать, уж и не знаю, – усиленно размышляя, почесывал начальник лысину. – Следовало бы ее определить куда построже, чтоб не до баловства было. На ферму, например, там свинарки нужны, но ведь она до того мала, что от ветра падает, а у меня там свиньи элитные, как бы урона какого не случилось».
Рисковать начальник не мог, ибо своими свиньями, которые по мясистости и поросистости приближались к стандартам ВСХВ, очень гордился. Иное дело – люди. Их корми не корми, все равно выживут, а не выживут – не беда. Для того и сделано в лагерной ограде две двери – через одну арестантики сами идут, через другую их выносят ногами вперед. Места вокруг много, на могилы с номерными дощечками всем хватит, а большего врагам народа не положено. Вот и этой пичуге тоже ничего не положено. Ни послабления, ни условий особых. А раз так, то пусть идет в хозблок на подсобные работы.
Надя послушно мыла полы, стирала, таскала воду, пилила и разносила дрова, чистила скотные дворы. До родов оставалось два с половиной месяца, а ей казалось, что в животе живет не один ребенок, а целых пять. Они давили на нее своей огромной массой, мешая ей не только ходить, но и дышать. А ведь еще надо было работать!
– И так, как в раю живешь, – подгоняли ее охранники. – Вот родишь, тогда и отдохнешь, а сейчас давай, шевелись бойчее.
Однажды, взяв вязанку дров, она потащила ее в родильное отделение. Там врач доложил начальству, что роженицы замерзают, и Наде приказали натаскать в больницу дров. Войдя в отделение, Надя почувствовала давно забытое блаженства домашнего тепла.
«Тоже мне, замерзают! – подумала она, еле передвигая ноги по длинному коридору. – Жарища здесь такая, а им все мало».
Поленница лежала на ее руках, почти закрывая лицо. Высокий, темноволосый мужчина в белом халате, выйдя из палаты, с изумлением уставился на странное сооружение, ползущее ему навстречу. Когда оно поравнялось с ним, он громко спросил:
– А это что за избушка на курьих ножках?
От неожиданности поленница выпала из Надиных рук, и Сергей Михайлович увидел глаза… огромные синие глаза на бледно-голубом нежном лице. В них отражалось так много, что Сергей Михайлович, заглянув туда, испугался этого бездонного омута страданий.
– Ты кто? – спросил он.
– Никто, – откликнулась Надя, пытаясь наклониться, чтобы собрать рассыпавшиеся поленья.
– Не надо, – врач мягко оттолкнул ее, – не надо, я сам.
Устало прислонившись к стене, Надя наблюдала за тем, как он подбирает поленья. Сложив их у печки, Сергей Михайлович подошел к ней. Надя увидела красивое, четко вычерченное смуглое лицо с ясными и добрыми зелеными глазами, в глубине которых сверкали озорные огоньки. Он повторил свой вопрос и улыбнулся в ожидании ответа, но она молчала. Доктор внешне был больше похож на доброго волшебника, чем на злодея, но она уже успела понять, что на зоне молчаливым живется легче, к тому же к горлу подступил очередной приступ кашля. Хрипло откашливаясь, Надя пошла к дверям больничного корпуса.
– Погодите, остановитесь! – догнал ее Сергей Михайлович. – Вам нельзя уходить, вам лечиться надо.
– Поздно уже мне лечиться, – увернулась Надя от его заботы, почему-то вызвавшей тупую боль.
– Я вас найду. Обязательно! – крикнул вслед ей доктор.
Вечером Надя долго лежала на неудобных деревянных нарах без сна, думая о Сергее Михайловиче. Он был похож на папу, такой же красивый и заботливый. Только у него, как у папы, нельзя было попросить защиты. Может, это ему Матрена привет передала? Еще она сказала, что Надя обязательно «глянется» этому чужому взрослому мужчине. Зачем? Надя представила себя со стороны: пышная коса, атакованная тогда вшами, обрезана в воркутинской тюрьме, ужасный живот вылезает уродливым горбом из тощего тела. Мама говорила, что Надя вырастет и станет красавицей. Не получилось. Надя стала зек 1123, статья 158 УК РСФСР. С таким багажом лучше держаться подальше не только от доктора, но и вообще от всех приличных людей. Надя привычно нащупала контур крестика в потайном месте, проверяя, на месте ли он. В их бараке давно не было шмона. Значит, скоро будет, и надо снова придумывать, как уберечь реликвию. Вот если бы она была обыкновенной девушкой, которая могла бы открыто носить этот крестик и не бояться собственного имени, тогда такой умный и красивый человек, как доктор, может быть, и «глянул бы» на нее. Надя повернулась на другой бок и снова спросила себя: «Зачем?»
«Затем, что вдвоем не так страшно жить», – уцепившись за эту мысль, как за спасательный круг, Надя незаметно для себя уснула, и всю ночь ей снились счастливые сны.
Сергею Михайловичу Крыленко тоже было не до сна. Дежурство проходило на редкость беспокойно. Поздно вечером с дальнего лагеря привезли роженицу. Муки, терзавшие ее тело, продолжались четвертые сутки подряд. Женщина страдала неимоверно, но Сергей Михайлович ничем не мог ей помочь. Плод, лежавший поперек, погиб три дня назад и теперь, разлагаясь, убивал свою мать. Встретившись с ней взглядом, он, в ответ на немой вопрос, виновато отвел глаза. Возле родовой, где находилась несчастная, стоял охранник, не покидавший свой пост ни на секунду.
– Что же вы так поздно ее привезли? – сорвался на него Сергей Михайлович. – Угробили ведь бабу. И не одну, с ребенком вместе.
– Да мы что, мы-то ведь ничего… – замялся совсем еще молодой парень, – ить мы люди подневольные. Нам как велено.
– Велено, велено. Это живых за решеткой держать велено, а на мертвых власть Советов не распространяется. В тот мир, куда она уходит, провожатые не требуются, так что отдыхай, служивый!
– Сергей Михайлович, зайдите сюда, – послышался из палаты голос медсестры.
Он подошел к кровати умирающей и склонился над ней.
– Что мне делать, доктор? – еле слышно спросила женщина. На ее искусанных губах запеклась кровь.
– Молись, Варенька, молись, – Сергей Михайлович погладил ее черные, с седыми прядями, волосы, еле сдерживая слезы.
– Не умею я, не выучилась, не до того было, – женщина помолчала, сдерживая болезненный стон. – Доктор, я о вас много хорошего слышала, не сочтите за труд, сообщите моим, в Омск, что и как тут со мной. Муж у меня и сын, – силы явно оставляли ее, и она торопилась, – главное, чтобы они знали и помнили всегда, как сильно я их люблю. И мужу я его предательство простила… чтоб он знал. Дай Бог им счастья и здоровья… сыночек мой, сиротинка… – судорога оборвала женщину, и она замерла.
Сергей Михайлович привычным жестом отыскал пульс.
– Отмучилась, страдалица, – дрожащими руками он свернул самокрутку и вышел на крыльцо.
В конце мая 1941 года Сергей провожал жену и дочь Наденьку, уезжавших на лето в Киев, к его родителям. Сам он из-за работы оставался в Москве, но намеревался приехать к ним в августе. На вокзале и позже, в вагоне, Наденька, сидевшая у отца на руках, вела себя довольно спокойно. Но, когда пришло время расставаться, она вцепилась в него своими пухленькими ручонками и громко заревела. Проводница ругалась, до отправки поезда оставались считанные секунды, а он все никак не мог оторвать от себя прильнувшую к его плечу дочь. В тот момент он даже удивился ее какой-то исступленной, недетской силе. Поезд уже тронулся и потихоньку пополз вперед, когда Сергею удалось наконец разжать кольцо детских рук и передать девочку матери. На ходу он выскочил из поезда и еще успел пробежать несколько метров, вглядываясь в любимые лица.
В ночь на двадцать второе июня он дежурил в госпитале. Там его застала страшная весть о войне. Первая мысль была о Наденьке. Ее крик с тех пор всегда звучал в душе Сергея. Он проклинал себя за собственное бессилие, рвался на вокзал, договаривался с какими-то госпитальными попутками и… оставался в Москве. Потому что был военным хирургом.
Через несколько недель после начала войны он отправился в зону линии фронта.
И где бы он ни находился, он постоянно думал о своей семье. Он знал, что в Киеве немцы, что ответа оттуда ждать бесполезно, но упорно продолжал поиски.
Все прекратилось в июне 1943 года, когда его из госпиталя, расположенного в районе Курска, вызвали в штаб дивизии. Там усталый полковник вытащил из кипы бумаг, лежащих на дощатом столе, небольшой листок и, протягивая его Сергею, сказал:
– Крепись, капитан. Война… Черт бы ее побрал. Ответ на твоей запрос пришел…
Он вышел, а Сергей смотрел на казенный бланк и никак не мог прочитать, что же там написано. Буквы, будто издеваясь, прыгали, кривлялись, и никак не складывались в слова. Полковник вернулся с алюминиевой фляжкой в руках и с двумя стаканами. Налил в них по сто грамм спирта. Один стакан протянул Сергею, другой взял сам.
Вернувшись в госпиталь, Сергей наконец смог прочитать текст казенного извещения. Равнодушно и сухо некто, подписавшись фамилией Петров, сообщил ему, что его родители, жена и дочь погибли в городе Киеве от бомбы, разрушившей дом, в котором они находились во время немецкого авианалета. Номер указанного дома полностью соответствовал адресу дома, где Сергей вырос.
Полковник зря беспокоился. Сергей не плакал и держался так, что в госпитале никто даже не догадался о том страшном известии, которое он получил. Просто внутри его что-то обломилось. Будто его «я» раскололось надвое и одна половинка сгорела дотла, оставив в опустевшей душе горстку горьковатого пепла. Эта пустота обрекла его на поиски смерти. Он потерял чувство самосохранения и постоянно думал только о том, что непростительно долго остается на земле, в то время когда его ждут на небе. Но… Чем чаще он рисковал, тем больше ему везло, чем больше он работал, тем меньше уставал.
Однажды рано утром, проводя обход, он споткнулся о знакомый взгляд.
– Капитан, – узнал его полковник, – вот и свиделись. Может, снова, как тогда, под Москвой, вытащишь?
– Обязательно вытащу, – склонился над кроватью полковника Сергей. – Сестра, готовьте раненого к операции.
Сергей сразу определил, что жить полковнику осталось недолго, но, отдавая указания, он дарил ему надежду – последнюю соломинку на этой земле.
– Спасибо, доктор, – полковник все понял.
Вечером того дня Сергей поминал полковника и думал о том, что бегать за смертью по меньшей мере бесполезно, потому что эта капризная дама никому не подчиняется и приходит к каждому в сроки, известные лишь ей одной. Причем в первую очередь забирает самых нужных и самых любимых.
Докурив самокрутку, Сергей Михайлович вернулся в отделение. Навстречу ему санитары, в сопровождении того же охранника, пронесли носилки с безжизненным телом.
«Царство тебе Небесное, раба Божья Варвара, вечная память», – мысленно перекрестил почившую страдалицу Сергей Михайлович.
На душе его было неспокойно. Он вспомнил давешнюю девчонку с дровами, лежащими на ее огромном животе.
«Надо бы узнать, кто она, и осмотреть ее. Маленькая, слабая, кашляет сильно. Опасно, – мысли его сконцентрировались вокруг Нади. – Как она смогла забеременеть? Девочка совсем, лет двенадцать-тринадцать от силы. Истощение налицо, гемоглобин наверняка ниже нормы. Надо ее с общих работ забирать. Завтра же займусь. Пусть санитаркой работает, или посудомойкой на кухне. Главное, забрать ее, а то тоже погибнет при родах». – Было что-то еще, поразившее его, чего он не мог для себя осознать.
Сергей поставил на плитку чайник, сел за стол, доставая папку с документами, но вместо букв перед ним возникли глаза. Огромные, голубые, чистые и глубокие, как лесные озера. И нежная белая кожа. Такая же была у его дочки, Наденьки.
«Интересно, за что ее посадили? Тоже покушение на Сталина готовила?» – усмехнулся Сергей Михайлович.
Сам он загремел на нары в 1946 году. После войны вместо прежней квартиры ему, как одинокому, досталась комната в коммуналке. В честь Дня Победы в гости к нему зашел фронтовой друг. Выпили, как и полагается, за святой праздник, основательно. Вспомнили былое, решили проверить, не утеряны ли боевые навыки. Сергей Михайлович вытащил из дальнего ящика пистолет с именной надписью, приладил жестянку к дверям в туалет и стрельнул. Из соседней комнаты жильцы выскочили, орать стали. Друзья досаждать никому не стали, стрельбу прекратили, а сосед тем временем наладился в туалет. Проходя мимо комнаты хирурга, он разглядел на портрете вождя, которым «декорировали» коммуналку к майскому празднику, сквозную дырочку. На внутренней стороне двери незадачливые стрелки и разместили свою мишень – жестянку… Данный факт, а также размер комнаты, в которой соседи остро нуждались и не могли утолить свой жилищный дефицит по причине проживания в ней военврача, побудили соседей к бдительности. Они сообщили обо всем куда надо и в качестве вещдока приложили простреленный портретик, не объяснив, правда, где он висел раньше. Сергей Михайлович особо не оправдывался. Друг предложил ему вмешаться и разъяснить военным, но он запретил ему. У того была семья, дети, и Крыленко посчитал правильным не впутывать его в опасную историю.
На следствии он подписал все, что от него требовал хамоватый тип в погонах, полагая, что врач дальше больницы все равно никуда не уедет. Так и вышло.
Он попал в Беломорлаг, узники которого строили город, завод и много других, нужных Родине объектов. Им было невыносимо трудно жить, но легко умирать: белое безмолвие не оставляло следа от человеческих трагедий. Счет упокоившихся шел на тысячи, но были единицы, сумевшие выжить. И часто благодаря доктору Крыленко. В больнице при пересыльном пункте Ужог он боролся за каждую жизнь, независимо от того, кому она принадлежала. Крыленко был хорошим врачом, а начальство тоже болело, и в знак благодарности устраивало ему всякие поблажки в виде исключения из общих правил.
Под утро, задремав на больничном топчане, Сергей Михайлович впервые почему-то вспомнил о том, что ему уже сорок лет.
Крыленко внимательно прочитал документы Воросинской Надежды Александровны, имеющей от роду неполных семнадцать лет. Само имя – Надежда – он воспринял как знак, данный ему свыше. Теперь он был убежден, что просто обязан позаботиться о девочке. Однако Надежда на контакт не шла, перевод на работу санитаркой восприняла равнодушно, на все вопросы отвечала односложно: «да, нет», а свободное время проводила в укромных уголках. Следуя принятой практике, он вызвал ее на медосмотр в приказном порядке.
Получив приказ, Надя не сразу поняла, что от нее требуется, а когда ей объяснили, от стыда закрылась в чулане. Сидя в темноте, она мучилась от вопросов без ответов. Зачем? Что в ней смотреть? Живот, в котором живет ее позор? Она не желала никому его показывать и сама на него не смотрела. Больше всего на свете она хотела бы забыть о своей непосильной ноше, но живот давил на нее постыдным грузом и уже вовсю шевелился, живя отдельной, ненавистной для нее новой жизнью. И вот теперь от нее требовали, чтобы она пошла к самому красивому на свете мужчине и показала ему свой позор. Она убиралась в его кабинете и несколько раз заставала там беременных женщин. Видела их убогое кокетство самок перед самцом, Надя не осуждала их. Наоборот, она завидовала их умению выживать в нечеловеческих условиях и ничего не стыдиться.
А Надя стыдилась. Стыдилась себя, своего огромного живота, своих грешных мыслей о человеке, который ей в отцы годится. И от стыда просидела в чулане до позднего вечера. Дождавшись, когда все стихнет, она тихонько покинула свое убежище и осторожно, стараясь остаться незамеченной, направилась к себе в барак. Сергей Михайлович, стоя у открытой двери ординаторской, с улыбкой наблюдал за нею. Надя ушла.
Сергей, работавший практически круглосуточно, налил себе стакан горячего чая и закурил. Он любил ночные часы, когда больничная суета отступала.
«Эх, Надя-Наденька, должно быть, трудно тебе здесь. Увезти бы тебя из этого ада, подкормить, нарядить, и зацвела бы твоя молодость на радость кавалерам. Настоящим, галантным, с конфетами и цветами».
Он вспомнил, как ухаживал за женой. Маша терпеть не могла шоколадные конфеты, а он, не ведая того, по всей Москве скупал самые красивые коробки. Она принимала их с благодарностью, и лишь после свадьбы созналась, что все конфеты отдавала девчонкам в общежитии.
«А тебе, Наденька, конфет никто не дарит. Да ты и вкуса их наверняка не знаешь. Можно сказать, с рождения срок отбывала, какие уж тут конфеты. Страшно. Не за себя. За таких, как Воросинская, страшно. На войне хотя бы понятно было, за что народ мучается. А здесь? Какое будущее у этой девочки? Родит, вернется на зону. С такими глазами незамеченной не останется. Снова изнасилуют, опять родит. Потом по кругу. До тех пор, пока раньше времени не превратится в старуху и не умрет…»
Докуривая папиросу, Сергей уже знал, что будет делать дальше.
«Спасибо, Господи, что вразумил, – прошептал Сергей, устремив свой взгляд вверх. – Я исполню свой долг. Эта девушка будет жить долго и счастливо».
Принимая во внимание стеснительность Надежды, Крыленко решил передать ее под наблюдение Софьи Марковны Рубман. Эта дама не слишком нравилась Сергею, но других женщин-докторов в больнице не было, а вмешательство мужчины, как он понял, в данной ситуации могло окончательно добить и без того напуганную девушку.
Доктор Рубман было вольнонаемной. В Ужог она приехала два года назад, по распределению мединститута, который закончила с отличием. Она была хорошим специалистом, но к заключенным относилась откровенно плохо. Зная это, Сергей попросил Софью быть вежливее с девушкой, имея в виду ее хрупкое душевное состояние. Доктор Рубман, выполнив действия, предписанные инструкцией, заявила, что осужденная Воросинская вполне здорова.
– А что у нее с легкими?
– То же, что и у всех. Здесь все кашляют. Ничего, живут. На самом деле Воросинская здоровее, чем кажется со стороны. На ней воду возить можно, а вы ей легкую работу дали. Зря, Сергей Михайлович, очень зря. Не в вашем положении, Сергей Михайлович, жалость проявлять, нарушая инструкции. Государство лучше знает, как мы должны относиться к заключенным.
– Наше государство, – усмехнулся Сергей, – и без нашей заботы не пропадет. Вон, – он кивнул в сторону окна, – сколько цепных псов у него в охранниках. А наш долг – лечить людей, независимо от того, нравятся они нам или нет. Мы клятву давали. А если вы ее нарушаете, то вы… Вы… Вы врач-уродина! Вот кто вы.
Хлопнув дверью, Сергей вышел из ординаторской. Он и сам не мог понять, с чего вдруг назвал Софью уродиной. Может, с того, что захотел досадить ей в ответ на обидные слова о Наде? Ведь других возможностей защитить девушку в пределах колючей проволоки у него не было.
– Бедная девочка, чистая душа! Какой же мразью надо быть, чтобы отправить ее на нары, да еще беременную, в руки таких, как Рубман? – бормотал он, доставая папиросу.
– Чегось? – остановилась проходившая мимо нянечка. – Чегось кажешь, Михалыч?
– Ничего, Манечка, ничего. Все хорошо будет.
– Будет, будет, – закивала нянечка и пошла по своим делам.
Какое-то время Софья Марковна сидела в оцепенении. В ее лице всего было много: большой рот, крупный нос, широкие брови. И только глаза выпадали из этого формата. Маленькие, буравчато-серые, они, казалось, попали сюда случайно и прятали свою несоразмерность за толстыми линзами очков.
– Это вы зря, Сергей Михайлович, зря меня обижаете, – прошептала она. – Мне обид хватило, у меня их много было. И не для того я сюда приехала, чтобы меня еще и здесь обижали. Не прощу я вам этой обиды. Не прощу!
Глава 10
Схватки начались рано утром, в тот момент, когда Надя готовилась мыть полы в больничке. Она, как обычно, сходила к колодцу, принесла ведро воды и, ставя его на пол, почувствовала резкую боль внизу живота. Охнув, она согнулась пополам и сползла по стене на пол, теряя сознание.
Очнувшись, Надя увидела прямо над собой озабоченное лицо Сергея Михайловича. Она лежала на кровати, и вокруг нее суетились две фельдшерицы.
– Не надо, не беспокойтесь, я сейчас вымою полы, – прошептала она и попыталась подняться, но новый приступ боли заставил обо всем забыть.
«Отрицательных обстоятельств много… Да, не так уж тут все и хорошо, – подумал Сергей Михайлович, обследовав Надю. – Анатомически узкий подростковый таз, родовая деятельность слабая. Зря я все-таки отдал ее Рубман, надо было самому заниматься».
– Совсем плохо? – заметила одна из фельдшериц озабоченность Сергея.
– Неважно. Вторая степень сужения таза, но плод не крупный. Придется нам с вами, девочки, рожать. Для начала проведем стимуляцию родовой деятельности, а там видно будет. Только осторожно, чтобы без разрывов обойтись.
Сергей Михайлович отдал необходимые распоряжения и вышел на крылечко. У него еще было время для перекура. Лагерь уже проснулся. «Мамок» повели в дом малютки на первое кормление. Охранники бесстыдно оглаживали их по бедрам, проводя, согласно инструкции, досмотр выходящих. Одна из «мамок», здоровая, крепкая тетка, родившая три месяца назад двойню, посмеивалась над молоденьким, розовощеким парнишкой, прибывшим в лагерь совсем недавно. Парень утопал в шинели, выданной явно не по его размеру. Он неуклюже облапил тетку и, покраснев, сказал:
– Проходите.
– Экий ты быстрый, ищи как положено, а то вдруг я в каком потайном месте финочку спрятала. Дядя начальник ругаться будет.
Увидев, что парень заполыхал от стыда, она вошла в раж:
– Давай, нажимай смелее, чай, не щупал еще бабьего богатства, так приходи вечером ко мне в барак, я тебя молочком покормлю.
Она ласково погладила парнишку по щеке и тут же свалилась кулем ему под ноги: подошедший сзади сержант пнул ее ногой в спину.
– Отставить разговоры! – грубо рявкнул он, стоя над барахтавшейся у его ног женщиной.
– Что, страшно тебе, начальник, от разговоров наших? Такой большой и важный, и боишься! – поднимаясь, сказала тетка.
Сильным ударом он снова сбил ее с ног и начал избивать. Женщина, прикрыв голову руками, молча кувыркалась по стылой земле. Проходящие мимо «мамки» старались не смотреть на избиение своей товарки и торопились поскорее пройти через КПП. Вдоволь натешившись, сержант последним ударом ноги превратил лицо «мамки» в единое кровавое месиво и, брезгливо поморщившись, отошел от лежащего на земле тела.
– Вот так учить их надо, чтоб язык свой поганый не высовывали, – сказал он солдату. – Эту никуда сегодня не выпускать, не сдохнут ее выродки без жратвы, товарки подкормят, а тебе за жалостливость – три наряда вне очереди. Выполнять.
– Есть! – салютнул паренек.
Женщина с трудом поднялась с земли и, пошатываясь, побрела в сторону барака.
Сергей Михайлович вернулся в больницу.
Надя старалась не кричать, но у нее это плохо получалось.
– А ты не тешпи, ты кшичи, Надейка, – уговаривала ее маленькая, сухонькая и абсолютно беззубая санитарка Машенька, – мы тута пшивычные, ты нас не стесняйся.
– Я не стесняюсь, – попыталась улыбнуться Надя, сжимаясь от нового приступа боли, – ой, мамочка!
Обработав руки легким хлорированным раствором, Сергей Михайлович подошел к Наде.
– Сейчас посмотрим, что там наша детка у мамы в животике поделывает, – подбадривая Надю, он осмотрел ее. – Все у нас прекрасно, уже и воды отошли, сейчас богатыря родим.
Крыленко улыбался, и Наде от его улыбки становилось легче. Она верила в то, что, пока он рядом, с ней ничего плохого не случится. Он обязательно поможет ей, надо только сначала потерпеть немного, а потом все останется позади. Этот ненавистный ребенок исчезнет навсегда из ее тела, а потом и из ее жизни.
Надя уже давно решила отказаться от ребенка сразу же после его появления на свет. Она не хотела его видеть, кормить, она вообще не хотела ничего знать о том человеке, который всегда будет напоминать о Зотове.
Время шло, а боль не только не исчезала, но и усиливалась. Сергей Михайлович старался казаться веселым, но глаза выдавали его озабоченность. День подошел к концу, уступая место тревожным сумеркам, обещающим трудную ночь.
– Я не могу больше, – не выдержала Надя, – я целый день мучаюсь, у меня все болит. Утром вы сказали, что все пройдет быстро, надо лишь немного потерпеть. Я старалась, терпела, но уже вечер. Я хочу поскорее. Мне больно. Мама, мамочка!
– Тешпи, тешпи, Надейка, ну еще немножешко, – Машенька гладила ее по голове и смотрела на Крыленко, как бы упрекая его в том, что Надя мучается.
– Не смотри ты на меня, – не выдержал Сергей, – она должна сама родить, а мы ей поможем, когда придет время. Надо только потерпеть. Операцию делать нельзя. Малокровна еще для того, чтобы резать ее. Так что будем надеяться и помогать.
Говоря так, он успокаивал не столько Машеньку, сколько себя самого. На самом деле Надино состояние беспокоило довольно сильно. Перебирая мысленно акушерские свои познания, он постоянно возвращался к одним и тем же фразам: «при общесуженном плоском тазе – разгибание головки, асинклитическое вставление, замедленное прохождение».
– Ну что ж, девочки, – преувеличенно бодро обратился он к фельдшерицам, – пора рожать. Готовьте наше знаменитое полотенце, будем выдавливать.
Медсестры встали по разные стороны от роженицы, положили под грудь полотенце, и это было последнее, что она запомнила. Потом Надя провалилась в густую вязкую темноту, из глубины которой навстречу неслись всего два понятных слова:
– Дыши, тужься… дыши, тужься.
Когда и эти слова стали пропадать в туманной дали, монотонные команды разорвал чей-то громкий крик. Однако она все еще продолжала старательно дышать и тужиться.
– Все, мамаша, расслабьтесь и отдыхайте, – весело сказал ей Сергей Михайлович. – Смотрите, какой у вас есть теперь сын-красавец, – он поднес к ее лицу крошечного, громко орущего человечка.
Не взглянув на него, Надя закрыла глаза и сразу же погрузилась в безмятежный сон человека, счастливо избавившегося от своей непосильной ноши.
Утром, уже сдав дежурство, Сергей Михайлович зашел к Наде. Она все еще спала. Лицо ее раскраснелось, пышные волосы, разметавшиеся по подушке, золотились в свете солнечных лучей. Она была прекрасна в своем безмятежном сне, и, уходя, он думал о том, как безжалостно расправляется колючая проволока с человеческой красотой, пряча в бесформенные лагерные клети чудесных маленьких женщин.
– Я же говорила ему, что зря беспокоится, проблем не будет, а если бы и были, то лично я бы не заплакала, – хмыкнула вполголоса Софья Марковна Рубман во время обхода.
– Чего сказали? – засуетилась присутствующая тут же нянечка Машенька.
– Да это я для себя, не для тебя сказала.
– Ладно, ладно, – услужливо закивала Машенька. – Сыношек у ей, у Надейки нашей. Аккушат ночью сеходня нашодился. Тшудно шел. Да у Михалича руки золотые…
– Хватит, – перебила ее Рубман, – и без тебя все знаю. Иди в соседнюю палату. Там судно убрать надо за лежачей.
– Иду, бегом бегу, – засуетилась Машенька.
Рубман, задержавшись в послеродовой еще немного, посмотрела на спящую. Красивая. Только что-то уж слишком раскраснелась. Может, жар?
Она хотела подойти к Наде, но быстро передумала. В палате Воросинская была одна, кровать ее стояла возле окна. Рубман подошла к окну и открыла форточку. И вышла.
Глава 11
Софья Марковна Рубман родилась и выросла в Курске. Отец ее был директором того же самого магазина, в котором до революции служил приказчиком. Своевременно подсуетившись, он обзавелся документом, подтверждающим, что служил там всего лишь грузчиком. Советская власть приняла к сведенью его трудовую биографию и поручила ему особо ответственное задание по снабжению пролетарских желудков политически правильной едой.
Папаша Рубман, будучи человеком догадливым, очень скоро понял, что даже при новой власти, с ее хваленым равенством и братством, желудки у всех братьев разные. Для одних хватало и того, что было на прилавке, а другим требовалось нечто более интересное, из-под прилавка. Таким образом, папаша Рубман не бедствовал, обеспечивая сытое и беззаботное существование своему малочисленному семейству. Они с женой Руфой всегда хотели иметь много детей, но Господь не учел их пожеланий. Первый сын умер в возрасте трех лет от воспаления легких. Вторая дочь, дожив до пятнадцати лет, умерла от менингита. Чета Рубманов молилась, и, когда надежда почти уступила место отчаянью, свершилось чудо. В день своего сорокалетия Руфа, краснея и смущаясь, сообщила мужу о том, что ждет ребенка. Папаша Рубман был счастлив. После рождения Сонечки, он заставил жену уволиться с работы, чтобы ничего не мешало ей заниматься дочерью.
Сонечка росла капризным и избалованным ребенком, имея все, что можно купить за деньги: куклы, платья, украшения. А вот друзей у нее не было. Не получалось у нее дружить с соседскими ребятами, что очень огорчало маму Руфу. Однажды она поделилась своими огорчениями с папашей Рубманом, но тот ни о чем не желал слушать.
Его девочка была здорова, умна, а все остальное, по его мнению, не имело никакого значения.
– Зачем нашей девочке друзья? Друзьями сыт не будешь, через них быстрей пропадешь, чем выживешь в стране, где каждый друг другу враг народа, – сказал он. – Главное, что у нашей девочки есть папа-золото, мама-золото и много другого золота. Этого достаточно для того, чтобы обойтись без голодранцев, за которых ты, не понятно зачем, агитируешь нашу дочь.
Обвинения в агитации так напугали маму Руфу, что она больше не задавала вопросов на эту тему.
Папаша Рубман не догадывался, какими пластами укладывались его слова в душе дочери. Взращенная в атмосфере запредельной родительской любви и обожания, она пришла в первый класс, ожидая особенного отношения к себе, но оказалось, что до нее никому нет дела. В классе, где было сорок человек, постоянно что-то происходило, и у Софьи не получалось быть вместе со всеми. Она очень хорошо училась, и за это ее звали «зубрилой», она пыталась помочь отстающим – ее назвали «собакой-задавакой», она честно отвечала на вопросы учителей – ее записывали в «подлизы». Софья переживала, не понимая, чтó она делает не так, а однажды, когда парень, который ей нравился, сказал, что из такого гадкого утенка, как она, никогда не вырастет прекрасный лебедь, проплакала всю ночь. Потом она еще долго ходила грустной, но рядом был папаша Рубман, который неустанно говорил про «маму-золото, папу-золото и много другого золота», подводя Софью к мысли о том, что необязательно быть «прекрасным лебедем», у «гадкого утенка» тоже могут быть неплохие перспективы, если он в золотой оправе. Мысль трансформировалась в убежденность, и школу Софья заканчивала не только с золотой медалью, но и с твердой уверенностью в том, что она первейшая из первых.
Выбирая медицинский институт, Софья думала не о том, чтоб помочь страждущим, а о выгоде, которую сулит профессия врача.
«Что такое инженер? – рассуждала Софья. – Железяки, машины, чертежи. Поживиться нечем, уважать тоже не за что. Другое дело – врач. Ему и кланяются, и подарки несут – лишь бы помог, лишь бы осчастливил своим вниманием. И никто не осмелится обидное слово сказать, никто не осудит, а если и осмелится, то сам же от этого пострадает. Есть у врача такая власть над людьми, и они это знают, ведут себя смирно».
О том, что у врачей есть и другое, более высокое предназначение, заключающееся в служении людям, Софья не думала, да оно ей было и не надо. В той жизни, которую она выстраивала, следуя заветам папаши Рубмана, ей нужны были деньги и власть, дающая защиту от обид. С этой точки зрения, профессия врача казалась ей идеальной, и она без проблем поступила в мединститут. Папаша Рубман от гордости за дочь поменял старый, тридцатилетней давности, пиджак на новый, купленный по случаю распродажи конфискованных у соседей вещей. А было это каких-нибудь пять лет назад. Мамаша Рубман выразила сомнения.
– Мне кажется, что наша дочь не очень любит людей и ей будет тяжело их лечить. Мне кажется, она сама больна.
– Как ты можешь так говорить о собственной дочери? Она тебе не нравится, да? – вопрошал муж. – Наша Софочка умная и послушная девочка. Как может матери не нравиться такая дочь? Ты плохо говоришь, Руфа, очень нехорошо.
– Я люблю нашу дочь, но врач всегда рядом с чужой болью и с чужими страданиями. Я много раз замечала, с какой брезгливостью смотрит Софочка на бедных и беспомощных людей, особенно на калек, – не отступала Руфа. – Может быть, сейчас она еще молода и не понимает этого, но со временем она возненавидит работу, на которой придется их лечить.
– Зачем ей калеки и нищие? – недоумевал папаша Рубман. – При чем здесь все эти люди? Софочка будет лечить себя и свою семью. Мне нет дела до других людей. Ты все-таки не любишь свою дочь?
– Да люблю я ее, люблю! – восклицала Руфа. – Просто боюсь, что когда-нибудь нелюбимая работа превратится для нее в каторгу.
Эти разговоры продолжались до тех пор, пока однажды папаша Рубман не разозлился. Стукнув пухленьким кулачком по столу, он закричал так, что щеки его затряслись, а из отвислых губ полетела слюна:
– Ты не любишь нашу дочь и меня. Ты плохая мать и еще худшая жена. Можешь уходить. Мы проживем и без тебя. Или уходи, или замолчи.
Это был второй за все годы совместного проживания семейный скандал, и мама Руфа сочла за благо замолчать.
В институте, как и в школе, Софья училась отлично. В то время когда юные студентки падали в анатомичке в обморок, она с холодным интересом изучала истерзанные внутренности человеческих тел. За это ее очень сильно уважал профессор Журкин, считая, что из Сони получится отличный хирург. Он ставил свою любимицу в пример сокурсникам, те в ответ кивали, но дружбы с отличницей не заводили. Впрочем, она в ней уже и не нуждалась.
К моменту окончания института произошло событие, круто изменившее жизнь Сони в сторону ГУЛАГа. Началось все с того, что в их доме появился молодой рыжеволосый гость. Это был инспектор райкома по торговле, которого папаша Рубман пригласил на ужин для обсуждения торговых дел. Парень целовал ручки маме Руфе, суетился вокруг Софочки, дарил ей цветы и, быстро сообразив, что к чему, стал приглашать ее на свидания. Соня ухаживания кавалера приняла, и папаша Рубман, помолясь, тайком начал готовиться к свадьбе.
А потом в «хозяйстве» папаши Рубмана началась очередная ревизия, и от обилия впечатлений с ним случился инфаркт. И хотя вся бухгалтерия у него была в порядке, сам факт внезапной смерти директора магазина вызвал у комиссии нехорошие подозрения. Возглавлял комиссию рыжеволосый Сонин жених. Трясясь от страха и проклиная себя за связь с семьей предполагаемого преступника, он проявил невиданное рвение в проверке финансовых документов папаши Рубмана. В результате выяснилось даже то, чего на самом деле и в помине не было. Так как обвиняемый к тому времени был мертв, а значит, неподсуден, бремя финансовой ответственности легло на его семью. Жених растворился в пространстве. Имущество семьи Рубман конфисковали, из просторной трехкомнатной квартиры в центре города их переселили в коммуналку на окраину. Папаша Рубман явно переоценил свои силы. Он отложил на черный день лакомый кусочек, но, не рассчитав сроки его наступления, не успел этот кусочек надежно спрятать. Софья Марковна осталась без «золотого» будущего, сумев уберечь от разгрома лишь небольшую часть золотого запаса семьи. Мама Руфа от горя ушла вслед за мужем в иной мир.
Судьба преподала Софье жестокий урок, а она была хорошей ученицей и четко усвоила, что для выживания в окружающей ее среде мало иметь одно лишь золото. Нужно еще уметь приспосабливаться к ситуации в этой среде, ничем при этом не брезгуя. И она написала заявление с отказом от своего отца: любые средства хороши, лишь бы выжить, лишь бы не пропасть, как бедный папаша Рубман, оказавшийся без вины виноватым.
Соответствующая комиссия учла заявление студентки Рубман и разрешила ей продолжить учебу в институте. Через полгода Софья получила диплом с отличием и выбрала место своей будущей работы – Беломорлаг. Профессор Журкин пытался ее отговорить, предлагая должность на кафедре, но Софья была непреклонна. Она хотела начать свою трудовую биографию с листа, не запятнанного делом папаши Рубмана. Беломорлаг наилучшим образом гарантировал защиту от последствий случившегося скандала, давал возможность заявить о себе как об идейно преданном товарище, выбравшем суровый путь служения системе. И к тому же новый статус давал Софье власть над людьми, чего она всегда хотела.
Профессор Журкин, прощаясь с Софьей, выразил сожаление, что столь блестящая студентка не стала научным сотрудником, и дал ей номер телефона своего коллеги, московского профессора, пообещав свое ходатайство и протекцию.
Ужог, куда она прибыла, состоял из нескольких улиц с деревянными двух- и трехэтажными домами, магазина, почты, школы и большого сарая с вывеской «Клуб». Его окраина упиралась в зону, отгороженную колючей проволокой, к которой Софья быстро привыкла. Сторожевые вышки, унылые бараки, одинаково серые охранники, злобный лай овчарок, понурые в своей покорности судьбе лица заключенных – вся эта навечно лишающая любой надежды адская геенна была для Софьи всего лишь предметом изучения, анализа и классификации. Особенно занимали ее бабы: грубые, грязные, вшивые, не имеющие права на жизнь, они продолжали любить и светились от счастья, глядя на своих младенцев! Материнский всепревозмогающий инстинкт в условиях неволи стал темой для одной из глав будущей диссертации Софьи Рубман. Туда стекались и другие данные, сухо отражающие картину убогой жизни и трагической смерти матерей, попавших под лагерные жернова.
В своем отношении к заключенным Софья Марковна четко следовала указаниям лагерных инструкций. Лишь несколько раз по приезде она нарушила их, идя навстречу пожеланиям доктора Крыленко. Но тут был особый случай. Увидев его в первый раз, она не признала в нем заключенного: ни затравленного взгляда, ни угодливости в поведении. Несмотря на убогость обстановки, на зависимое положение узника, он сохранял человеческое достоинство и оставался весьма привлекательным мужчиной. А Софья в силу молодости еще не совсем истребила в себе женское начало. Оно и давало червоточину, заставляя ее то смутиться в присутствии доктора Крыленко, то покраснеть, то улыбнуться ему. Сергей Михайлович в свою очередь относился к коллеге предельно вежливо, вел с ней беседы на медицинские темы, приглашал на чашку чая, иногда даже комплименты говорил. Для него это были рабочие моменты, хороший тон по отношению к женщине, и не более того. Для нее, сжавшейся в комок от былых обид и непривычной к такому обхождению, – знаками повышенного внимания. Каждый из них она воспринимала как аванс на будущее и со своей стороны всеми возможными способами давала понять доктору Крыленко, что готова подумать об их отношениях.
«Уродина!» Одно лишь слово спустило ее с небес на землю. Она расслабилась, отступила от своих принципов, проявила слабость, попав в зону обаяния доктора, и получила пощечину. Закономерную, считала Софья, дав себе слово, что это ее последний урок. Больше она никогда не позволит себе ни малейшей слабости: работа в соответствии с инструкциями, жизнь – по хорошо усвоенным правилам выживания. И она не простит доктору Крыленко нанесенного оскорбления. Здесь лагерь, и право сильного на ее стороне, а не на стороне доктора, обнаглевшего до того, чтобы оказывать знаки внимания убогой Воросинской.
Открытая форточка была лишь первым жестом ее мести.
У себя в бараке, лежа на нарах, Сергей ворочался с боку на бок, пытаясь заснуть. Он закрывал глаза, считал слонов, но сон не шел. Почему-то все время где-то рядом, прямо перед ним кружилось раскрасневшееся Надино лицо. В конце концов он встал, оделся и пошел к выходу.
– Стой, кто идет? – окликнул его охранник на выходе из барака.
– Это я, доктор Крыленко, – откликнулся Сергей. – Мне в больницу надо, там больная у меня тяжелая.
– Ну, раз надо, иди, – равнодушно зевнул солдат, – у вас, у докторов, все не как у людей.
В больничных окнах стояла сонная темнота, вокруг было тихо.
«Видно, я зря всполошился. Все здесь спокойно. Ну ладно, посмотрю и пойду спать», – подумал Крыленко, входя в полутемный коридор отделения.
Навстречу ему бросилась Машенька.
– Михалич, а я за тобой собхалась. Надюша нехоошая, неладно с ней. Гохит она вся, как в огне, и хлипит. С вечера в себя не плиходит, – шепелявила Машенька, едва успевая за бегущим по коридору доктором.
Он вбежал в палату, включил свет и, едва взглянув на Надю, понял, что самое страшное произошло. Ее трясло как в лихорадке, лицо было пунцово-красным от жара. Крыленко нащупал пульс. Он бился с бешеной скоростью.
– Надя, Наденька, – склонился он над ней, – ты меня слышишь? Отзовись, Надя.
Она открыла глаза, посмотрела на него долгим неузнающим взглядом, а потом сказала:
– А, это вы, – и потеряла сознание.
«Неужели послеродовой сепсис?» – первое, о чем подумал он.
Мысль о том, что он не выполнил собственное обещание уберечь от беды несчастную девушку, ввергла его в состояние такого ужаса, что он потерял способность соображать. В отчаянье он опустился на колени у постели и, сжав виски руками, тихо застонал:
– Боже, я виноват. Я не спас свою семью, не спасу и девочку эту. Господи, Ты сделал ее смыслом моей никчемной жизни, так почему теперь забираешь ее? Лучше меня возьми, я давно этого хочу!
Стоявшая рядом Машенька тронула его за плечо:
– Михалич, может, Надейке полотенце холодное на голову положить?
Он посмотрел на нее невидящим взглядом.
– Что? А… это ты. Надя умирает. Глюкозы нет, антибиотиков тоже, травы жаропонижающей и той здесь нет. В этой проклятой дыре кроме смерти ничего нет.
– Ты чего, Михалич, говолиш-то? – тихая, робкая Машенька заговорила неожиданно громко. – Она ведь не в лесу валяется, а в больнице лежит. А ты доктул обхазованный. Натулальный москаль. Чего ты ее ханьше влемени похолонил? Делай, давай, чего-нибудь. Хоть повязки ей на голову клади. Чего ты здесь лазвалился? Неуж мужик здоловый, сильный, этакой пигалице не поможет? Вставай, кому говолю! – Машенька налетела на него и начала пинать, пытаясь поднять с пола.
Удивленный поведением Машеньки, Крыленко встал. Перед ним, на кровати, тяжело дыша, лежала юная женщина. Не любившая, не познавшая счастья, но уже уходящая в иной мир.
– Девочка, милая, – прошептал Крыленко, поправляя пряди светлых волос, – жить тебе надо. Поменяться бы нам местами. Неужели придется мне и тебя хоронить?
Надя вздохнула, приоткрыв глаза, и снова впала в забытье.
– Сколько еще стоять будешь, илод!
Сергей почувствовал удар по спине, обернулся. Разъяренная Машенька, держа в руках полотенце, замахнулась для нового удара.
– Скоко ж можно нюни ласпускать! Мужик здоловенный, а нюнит, как сопля какая. Ты пошто живую холонишь? Пошто в глоб ее кладешь? Нагнись хошь, послухай, не стой столбом.
Надя, словно подтверждая требование Машеньки, закашлялась.
– Я самый натуральный идиот, – очнулся Сергей, – меня дисквалифицировать пора. – Он метнулся к Наде и поднес к ее губам попавшееся под руку полотенце.
На белой ткани появилось пятно гнойной, вязкой мокроты с примесью крови. Он вспомнил слишком частое покашливание, которое Рубман оставила без внимания, и, проклиная себя за невнимательность, бросился в ординаторскую за фонендоскопом. После тщательного выслушивания Крыленко облегченно вздохнул. Крупозная пневмония – это все-таки лучше, чем послеродовой сепсис.
Рубман спала в углу ординаторской на жестком топчане.
– Софья Марковна, проснитесь, – нарочито громко сказал Сергей, подходя к топчану.
– Что случилось? – вскочила Рубман, поправляя белый халат, в котором спала. – Что вы здесь делаете? Мне пора сдавать смену?
– Людей пора лечить, – жестко сказал Сергей Михайлович. – Вы ведь врач все-таки, а не пожарник. К тому же у вас есть тяжелая больная, – он отвернулся, стараясь не смотреть на заспанную, помятую женщину, чтобы не нагрубить ей.
– Вы пришли сюда среди ночи для того, чтобы рассказать мне о моих обязанностях?
Крыленко сделал вид, что не заметил вызова в ее словах.
– Я пришел, потому что у Воросинской крупозная пневмония.
– Вы теперь ставите диагнозы, лежа на нарах в своем бараке?
– Как я их ставлю, не имеет значения. Мне нужен пенициллин. У вас есть, я знаю.
– То, что есть у меня, вас не касается. Вы меня оскорбили, прощения не попросили, а теперь надеетесь на мою помощь. Не получится.
Сергей посмотрел на коллегу. В этот тяжелый для него момент она казалась ему особенно отвратительной. Уродина! Во всех отношениях уродина. Но сейчас надо спасать Надю.
– Вы правы, Софья Марковна, я поступил непорядочно. Простите меня за мое поведение.
– Вы думаете, я не понимаю цену вашего извинения? Для меня она ничтожна. Пенициллин – мой личный запас, и я не обязана его раздавать кому попало. Тем более за дежурное, мимолетно сказанное «извините», – Софья направилась к выходу, но Сергей преградил ей путь.
Взглянув на его лицо, она испугалась. Казалось, он готов был убить ее. Она мгновенно оценила опасность: ночь, охрана далеко, в случае чего его, конечно, потом накажут, но ей это уже не поможет. Стараясь не показать своего испуга, Софья сказала:
– На колени встанешь, прощенье попросишь, может, и дам тебе лекарство. А нет, сам виноват будешь в смерти заключенной Воросинской.
Сергей в бешенстве выскочил из ординаторской. Из Надиной палаты послышался звук кашля, идущая навстречу Машенька смотрела на него умоляюще. Он вернулся и покорно встал на колени, прося прощения.
Две недели он не выходил из больницы. Спал урывками, почти не ел. Особенно тяжело прошли первые три дня. К концу первых суток улучшения не наступило. На второй день он уже начал сомневаться в эффективности выбранного лечения, но на третьи сутки температура стала спадать. Кризис миновал.
Глава 12
Надя, дрожа от холода, бесконечно долго летела по длинному коридору, устремляясь к свету в конце его. Когда этот свет был уже совсем рядом, из него вышла мама, а за ней бабушка. Они звали Надю к себе, протягивая к ней прозрачные руки с тонкими пальцами.
– Я иду к вам, – кричала Надя, не слыша собственного голоса.
Она уже совсем было долетела до них, почти дотронулась до зовущих рук, но они исчезли вместе с длинным коридором. Наде стало жарко. Она почувствовала тяжесть чужой руки на лбу. В глаза ударил свет, показавшийся слишком ярким. Она открыла их и увидела доктора, стоявшего рядом с ней.
– А где мама? – спросила она и снова погрузилась в тяжелый сон.
Когда она снова проснулась, было уже совсем светло от неяркого северного солнца. Доктор дремал, полулежа на соседней кровати. Она смотрела на него и не могла понять, кто этот человек? Почему он находится рядом в этой непонятной палате? Понемногу сознание стало возвращаться. Она вспомнила, что у нее родился мальчик, сын Зотова, а напротив нее дремлет доктор Крыленко. Он похудел, зарос щетиной, и почему-то стал очень красивым. Она не могла понять почему и разглядывала доктора до тех пор, пока не встретилась с его глазами. Какое-то мгновение они безмолвно смотрели друг на друга, пытаясь осмыслить происходящее. Первым опомнился Сергей.
– Наденька, девочка наша, ты вернулась к нам, – он бросился к ней и прижал ее руку к губам. – Машенька, Маша, – крикнул он в сторону открытой двери, – иди скорее сюда, Наденька к нам вернулась!
В дверях палаты появилась нянечка.
– Слава Тебе, Господи, наша маленькая мама плоснулась! – перекрестилась, входя в палату, Машенька. – Сынок тут без Надейки скучает, а она все спит и спит… – засуетилась она возле Нади.
Надя подтянулась к спинке кровати, пытаясь сесть, но не смогла, почувствовав сильное головокружение.
– Лежи, лежи, – доктор поправил подушку под ее головой, – тебе пока еще рано вставать, надо сил набраться. А богатыря твоего сейчас принесут.
Он направился к дверям, но слабый Надин голосок его остановил.
– Не надо никого приносить, – попросила она.
– Как не надо, – удивился доктор, – ведь ты родила сына, разве ты забыла?
– Я помню.
– Прекрасный мальчуган, ты сейчас его увидишь.
– Никого я не хочу видеть. Я спать хочу, – Надя закрыла глаза.
Ей не хотелось объясняться с доктором. Тем более сейчас, когда голова утопала в непробиваемом болезненном тумане.
– Ну, хорошо, – отступил Сергей, – ты действительно еще слишком слаба, тебе пока еще не до сына.
Надино поведение озадачило его. За годы работы в зоне через его руки прошли сотни рожениц, и никто из них не отказывался от детей. Даже самая последняя лагерная шалава с благоговением мадонны подносила к груди своего ребенка. А эта чистая, нежная девушка отказывалась не только любить, но даже и видеть собственного сына.
Время шло. Надя под особым присмотром доктора восстанавливала силы. У нее появилось молоко, но кормить собственного сына она по-прежнему категорически отказывалась. Молоко она сцеживала по ночам в рукомойник, а наутро говорила, что кормить сына ей нечем, подкрепляя свой отказ демонстрацией пустых сосков. Обман очень скоро обернулся против нее: грудь начала болеть, проницательная Машенька доложила доктору о новой хворобе подопечной. Опасаясь осложнений, Сергей решил действовать. Зайдя вечером в Надину палату, он, выполнив все процедуры, как бы между прочим, спросил ее:
– Ты боишься, что твой сын напомнит тебе о чем-то плохом, и поэтому не хочешь его видеть?
Услышав его слова, Надя замерла.
Болезнь сблизила их настолько, что Надя перестала стесняться доктора. Теперь она непрестанно думала о нем, ждала его каждую минуту. Клеймо «дочь врага народа» лишило ее права свободного общения еще в детстве. А потом позор и надругательство вонючего борова Зотова превратили ее в замкнутого, осторожного зверька. Доктор Крыленко своей искренней заботой и лаской растопил, растормошил ее душу. Надя заговорила, начала шутить и улыбаться, расцветая с каждым днем. Ее настроение омрачала только мысль о малыше, которую она постоянно гнала прочь.
– Ты можешь ничего мне не объяснять, – не дождавшись ответа, жестко сказал Сергей Михайлович, – но сейчас я принесу твоего сына и ты его покормишь. Ты не обязана его любить, но кормить ты его должна. Женщину, которая была все это время его кормилицей, сегодня выписали из отделения, и она ушла в барак. Больше его кормить некому. Я врач и не могу позволить тебе уморить младенца голодом. Через год его отправят в детский дом, и ты его больше уже никогда не увидишь. Он будет скитаться по казенным домам и питаться детдомовской баландой. И своим сиротством искупит вину отца. Он не будет знать своего рода-племени, станет бродяжкой или преступником, а может быть, просто умрет, забытый всеми. Его отец совершил грех, обидев тебя, а ты грешишь вдвое, потому что мстишь своему обидчику ценой жизни безвинного младенца.
Доктору было жалко Надю, он понимал, что поступает жестоко. Может быть, для такого случая существовали другие слова, но он их не знал и сказал то, что думал. К тому же у него не было другого выхода. Кормилица действительно ушла, а Надин сын был вовсе не богатырем, а хилым младенцем.
Он пошел за ребенком, оставив Надю одну. Она смотрела на дверь и думала, что вот сейчас эта дверь откроется и войдет Сергей Михайлович с ребенком на руках. Мальчик посмотрит на нее и усмехнется ей наглой усмешкой Зотова. А потом будет расти, приобретая ненавистный зотовский облик, и, каждый раз глядя на него, она будет вспоминать о своем позоре.
– Нет, не надо, не хочу! – закричала она.
Когда доктор с мальчиком на руках вошел в палату, там уже была Машенька. Она хлопотала вокруг Нади, бившейся в истерическом припадке. Увидев сына, Надя потеряла сознание.
– Уходите, доктол, вы што, не видете, што ли, квелая она, еще помлет, не ловен час, сами ж плакать будете, – недовольно зашамкала беззубым ртом Машенька.
Сергей Михайлович, растерявшись, попытался объясниться:
– Да я ж как лучше хотел, ребенка кормить надо, да и пора с сыном контакт налаживать. Не отдавать же его сразу в отказники. Ну, ты сама подумай, Машенька. Может, у них все наладится.
Увидев, что Надя открыла глаза, Машенька скоренько вытолкала доктора из палаты и велела ему не приходить до тех пор, пока она его не позовет…
Машеньке было за пятьдесят, хотя, может, и меньше. Или больше. Ее точный возраст не мог определить никто. У нее было сморщенное старушечье лицо и грация молоденькой девушки. Маленькая и проворная, она целыми днями сновала по больнице, выполняя самую грязную работу. При этом она всегда и всем была нужна, потому что обладала редкой, неестественной для зоны добротой. Она всех любила. Пациенток она делила на дамочек и шалавочек. На ее впалой груди рыдали и те, и другие, открывая девочке-старушке свои тайны и печали. Машенька умела так сострадать, что ее почитали за кого-то вроде тюремного психиатра и обращались к ней за помощью, если какая-нибудь истеричная урка теряла над собой контроль.
Как Машенька попала в зону, никто не знал. Говорили, что была она то ли комиссаром, то ли сотрудником ЧК, откуда и загремела на нары как враг народа. Сама о себе Машенька никогда не рассказывала, предоставляя всем желающим возможность самим придумывать ее биографию. За Надей она наблюдала с момента перевода ее в профильный барак. От ее внимательного взгляда не укрылся тот интерес, который вызвала новенькая у Сергея Михайловича. Доктора нянечка любила особенно сильно и жалела его. Такой молодой, красивый, ему бы хозяйку справную да детей, а он по лагерям мается. Надя ей тоже понравилась. Тихая, скромная, работящая. Правда, молода для Михалыча, но, может, и к нему в окошко солнышко заглянет…
Выпроводив доктора за дверь, она присела рядом с плачущей Надей.
– А ты поплачь, поплачь, девушка, – погладила она ее по голове, – поплачь. Слезы что? Вода, одно слово.
Рыдая, Надя уткнулась в ее колени. Машенька тихо поглаживала худенькие плечи, вздрагивающие от рыданий.
– Слезы плоливай, да не забывай, что нет в этом миле такого голя, котолое нельзя было бы оплакать, а после забыть. И твое голе плойдет, забудется, тлавою по весне заластет, да и сгинет со свету, – приговаривала она, продолжая поглаживать прильнувшую к ней Надю.
Когда Надя немного успокоилась, Машенька уложила ее в постель, а сама быстренько сбегала за чайником. Вместе с ним она принесла несколько белых сухариков и изрядный кусок колотого сахара.
– Ты глянь, какое у нас здесь богатство объявилось, – засуетилась она вокруг Нади, – щас мы с тобой такой пил закатим, что всем влагам тошно будет.
Машенька задорно топнула ногой.
– У тебя слова такие смешные получаются, – улыбнулась сквозь слезы Надя. – Машенька, а почему ты так странно говоришь?
– Чем это стханно?
– Шипишь много, у тебя вместо «р» разные другие буквы получаются, то «л», то «ш». Так дети маленькие разговаривают.
– А я тоже маленькая, али не видишь. Во мне ведь два велшка от голшка.
– Ну, вот видишь, опять шипишь. Скажи – от горшка.
– Да нечем мне по-вашему лопотать. Зубов-то почитай и вовсе нету.
– А где они у тебя?
– А не хочу я тебе сказывать. Ты ж ведь не сказываешь, почему от лебенка отказываешься, и я не буду.
Надя помолчала.
– Я из-за Зотова не хочу его видеть.
– А тебе твого Зотова никто и не кажет. Тебе лебенка несут. А Зотов не тот гусь, штоб вспоминать его вечно.
– А ты что, знаешь его? – встрепенулась Надя.
– Да я всяких знаю, и таких тоже видывала. Ничего особенного, бывает и хуже, – отмахнулась Машенька.
– Нет, не бывает, – разозлилась Надя, – ты знаешь, он какой? Да он подонок похотливый, боров, да он… – Надя уткнулась в подушку и замолчала.
– Он ведь, Зотов твой, Богом обиженный, – спокойно сказала Машенька, разливая чай.
– Он не мой, – встрепенулась Надя.
– Ну не твой, – согласилась Машенька, подвигая к ней чашку с чаем. – Ты пей, пей чаек, а то плостынет. А обиду свою тешить не надо. В людях столько всего намешено, что если за все на них обижаться, то и жить станет невмоготу. А ты еще молодая, у тебя вся жизнь впеледи, и душа у тебя светлая. Тебе надо ее сохланить для добла.
– Нет у меня души, и светлого нет во мне ничего, – зло перебила ее Надя, – и жить я не хочу. Уже давно. Я ведь однажды хотела с собой покончить и с жизнью этой проклятой, да не получилось. Сюда вот угодила.
– Не глеши, милая, – голос Машеньки стал строгим, – только Господь знает, когда нам жить, а когда умилать, и ты на себя Его заботы не бели. Раз положено тебе жить и детей ложать, то так и поступай. Значит, такова воля Его. Он знает, что делает.
– Тогда спроси у своего Бога, зачем родителей моих погубили, зачем нас в эту проклятую Воркуту сослали? Может, Он знает, в чем мы провинились?
– А ты не селчай, не селчай. Бог, Он высоко, да от нас далеко. Он людям добло с небес святых посылает, да только то, что одним в ладость, длугим в тягость. Вот и получается на земле неполядок да зло несусветное, на луку сколое. Вот и Зотов, сдается мне, несчастный человек.
– Он несчастный? Это он-то? Боров жирный, – возмутилась Надя. – Да если бы ты знала, что он за человек!
– Вот и ласскажи, – подсуетилась Машенька, – тебе легче станет, да и я, глядишь, советом каким сгожусь.
– Хорошо, – согласилась Надя, – я расскажу, чтобы ты знала, какой он подлец, и больше никогда его не защищала.
Сергей Михайлович несколько раз заглядывал в палату. Он видел, как Машенька успокаивала Надю, как та, наплакавшись, начала говорить, судя по ее возбужденному лицу, о самом сокровенном. Машенька слушала, не перебивая. Поняв, что разговор будет долгим, Сергей Михайлович послал охранника в барак за кормилицей.
Прошло несколько часов, прежде чем Надя сказала Машеньке:
– Ну вот, теперь ты знаешь про меня все. Скажи, как мне дальше жить… Может, твой Бог знает и через тебя мне скажет?
– Бог знает, – вздохнула Машенька, – да только никому слова Свои не говолит, потому что пустое это… Так уж люди устлоены, что словам не верят. Делают по-своему, а потом Всевышнего поплекают. Нет у нас плава судить Его. Плидет время, Он Сам, кому надо, милость Свою плишлет. Холошего человека пожмет-пожмет да и отпустит. Ушедших не велнуть, вечная им память. А всем палачам воздастся по делам их. Своей же злобой захлебнутся. А ты не становись на них похожей. Свою жизнь живи.
– Ну, как, как мне жить с таким грузом! – отчаянно воскликнула Надя.
– А ты не с глузом, ты с Богом в душе живи, как мать твоя тебе завещала. Не у одной тебя ноша тлудная. В каждом дому есть по своему кому. Ты вота сплашивала, отчего я такая беззубая. Никому не говолила, а тебе скажу. Зубы мне в девятнадцатом году белый офицел посчитал в деникинском штабе. Я тогда по летам как ты была. Очень советскую власть защищала, почитай всю глажданскую отвоевала. А плишло время, этот же офицел, только уже в дхугом, чекистком мундире, сыночка моего у меня на глазах застхелил. Он, сыночек мой, когда меня блать плишли, на голе мое плоснулся, схватил табулетку и на обидчиков моих кинулся. Было ему всего пятнадцать лет. Эх, да не хочу я вспоминать ничего, – Машенька всхлипнула. – Ты вот тута нюни лазвела, хочу лебенка, не хочу. А была б я молодайкой, лодила бы мальца, никому б не отдала. Моим бы он был и ничьим больше. А ты поступай как знашь. Только лешай посколее, голодный он, сынок твой.
Собрав чашки, Машенька пошла в коридор.
– Скажи Сергею Михайловичу, пусть принесет… – вслед тихо сказала Надя.
Сергей вошел в палату, держа на руках живой сверток. Надя удобней устроилась в постели, и он протянул ей ребенка.
Малыш сначала неуверенно потыкался в материнскую грудь, но затем быстренько сообразил, что к чему, и зачмокал.
Глядя на Надю, кормящую своего ребенка, Сергей сказал:
– Я не знаю, о чем вы говорили с Машенькой, но догадываюсь, что в твоей короткой жизни уже была трагедия. И тем не менее… Поверь мне, я всю войну прошел. Сам не всегда знал, для чего живу. Смерти искал. А жизнь, она такая. Она простых ответов не дает. Но обязательно ответит. Не сегодня, так завтра. Тогда поймешь, что к чему. От тебя зависит. Будешь тянуть за собой прошлое, оно век твой заедать начнет, к прошлым страданиям новые прибавит.
Ты ведь хорошая, добрая девочка, тебе судьбой предназначено нести свет на земле, а ты во тьму лезешь. А там ничего хорошего нет. Одна грязь. Чем дольше ты ее перебирать будешь, тем больше она к тебе прилипать будет. Может так случиться, что и не отмоешься потом. Ты такой новой жизни хочешь?
– Простите меня. Не надо больше ничего говорить, – у Нади на глазах заблестели слезы.
Надя рассматривала своего сына, заснувшего у ее груди.
Розовое личико, черные волосики на голове. Ничто в нем не напоминало наглое лицо Зотова.
– А его уже как-то назвали? – спросила она, прижимая к себе ребенка.
– Удивляете вы меня, мамаша, – улыбнулся Крыленко. – Кто же вашего ребенка без вас именовать будет? Он у нас под номером 321 числится. Думай скорее, какое имя дашь своему первенцу.
– Не знаю, – Надя немного подумала, а потом, стесняясь собственной смелости, спросила: – А можно я его вашим именем назову?
– Милая моя девочка, – растроганный ее предложением, Сергей положил руку на Надино плечо. – Спасибо тебе за это предложение, но давай лучше назовем его именем моего отца – деревенского лекаря Михаила Ивановича, человека доброй славы и хорошего врача.
– А отчество? Какое у моего сына будет отчество? – Надя растерянно посмотрела на Сергея.
Милая голубоглазая девочка с пшеничными волосами, убранными под косынку. Ей бы в куклы играть, а у нее сын на руках.
– Отчество у него будет мое – Сергеевич, и фамилия тоже моя, Крыленко, – еще минуту назад доктор об этом не думал, но теперь был уверен, что поступать нужно именно так, потому что других способов вытащить Надю из ямы, куда она могла окончательно провалиться, у него не было.
– А это возможно? – удивленная Надя смотрела на него, прижимая к себе малыша.
– Не только возможно, но необходимо, потому что это единственное, чем я могу тебе помочь. Я, конечно, понимаю, что ты намного моложе меня, но одной тебе здесь не выжить. А когда весь этот кошмар закончится, ты сможешь поступать, как сочтешь для себя нужным. Я не буду тебя держать.
– Нет, вы не уходите, и я не уйду, – Надя взяла Сергея за руку, – мне очень страшно одной. Вы даже представить себе не можете, как мне страшно жить одной. Когда вы рядом, я ничего не боюсь и мне так спокойно. А одна я устала, устала бояться.
Крыленко сел на кровать рядом с Надей и крепко обнял ее вместе с ребенком.
Глава 13
Софья Марковна наблюдала со стороны за ситуацией, которая развивалась, по ее мнению, весьма неплохо для двух заключенных одного лагеря. После родов Надя оформилась в стройную молодую женщину. В ней не было особой красоты, но ее милое лицо излучало столько света и доброты, что казалось, там, где она, там солнце. При больнице работали фельдшерские курсы, готовящие персонал для тюремной медицины, и Надя стараниями доктора Крыленко начала учиться. Любовь еще только прикоснулась своим крылом к избранникам судьбы, а все вокруг уже заиграло новыми красками. Заключенные радовались чужому счастью, которое стало глотком чистого воздуха, пробившегося через толщу тюремного смрада. К людям, имеющим вместо имен номера, вернулась вера в то, что система никогда не сможет победить жизнь, потому что у жизни есть любовь, прорастающая к небу даже сквозь камни, а у системы – только ненависть.
Надя кормила сына. Глядя на ее сосредоточенное лицо, украшенное золотым локоном, выбившимся из-под платочка, наблюдающий за ними Сергей пытался понять, о чем она думает, прижимая сына к своей груди. А Надя думала о том, что малыш действительно совсем не похож на Зотова и она обязательно постарается его полюбить. Обязательно. Ведь теперь она не одна, у ее сына, Мишеньки, есть папа. Такой же замечательный, какой был у нее самой. Как, оказывается, хорошо жить, если рядом есть сильный и надежный человек, на плечо которого можно опереться!
Надя оторвалась от сына и увидела возле себя Сергея Михайловича. Надино сердце затрепетало от тайного предчувствия счастья, рассыпанного мерцающими звездами в сверкающих зрачках его зеленых глаз. Оба они замерли, не в силах оторваться от созерцания друг другом. В палату неслышно проникла Машенька. Приговаривая, она забрала ребенка из рук Нади и также неслышно удалилась, закрыв плотнее дверь палаты, радуясь тому, что Рубман только что ушла и до утра уже не вернется, а сложных больных, к счастью, нет. Уложив ребенка, она прилегла на кушетку в коридоре, собираясь до утра сторожить чужое счастье.
Наступившее утро для Сергея и Нади было утром новой жизни. Оковы лагеря превратились вдруг в стекло, которое разбилось и засверкало миллиардами разноцветных радуг. И было так радостно вбирать в себя этот свет, наполняя им каждый миг тайных свиданий, так уютно делить на двоих суровый быт, что колючая проволока стала казаться влюбленным изящной решеткой, ограждающей островок их любви.
О том, что на вверенной ему территории разыгралась любовная стихия, начальник лагеря узнал еще до того, как влюбленная парочка проснулась в общей постели. Однако эту новость он решил пока придержать и не предавать служебной огласке. Чисто по-человечески доктор Крыленко был ему симпатичен, а как профессионал – еще и полезен. О втором этом качестве, имея такую жену, какую имел начальник, забывать было нельзя ни в коем случае.
Его жена была всем хороша – и по дому складно управлялась, и детьми занималась, и мужу угождала, но была у нее одна слабость. Не такая уж маленькая, хотя сам начальник относился к ней весьма снисходительно, потому как больше всех иных живых существ любил свиней. Он возился с ними целыми днями, наделял их красивыми человеческими именами, кормил, поил, постоянно взвешивал и вел обширную переписку с журналом «Свиноводство», отсылая туда отчеты о мясистости и поросистости своих питомцев. Из журнала ему приходили грамоты и приглашения принять участие в выставках ВСХВ. Он радовался, жена тоже: пока начальник выставлял свиней в Москве, она наставляла ему рога с молодыми охранниками. Он получал награды и призы, она – проблемы интимного свойства.
Однажды жена умудрилась заразить самого начальника. Когда он об этом узнал, то первым делом подумал о свиньях. Ладно он, а вдруг они тоже заразились? С перепуга он избил жену до полусмерти и бросился к доктору Крыленко. Сергей Михайлович для начала попробовал успокоить начальника, объясняя ему, что такая зараза к свиньям не пристает, но тот даже слушать его не захотел. Пришлось доктору по особому приказу начальника срочно обследовать все свиное стадо. Только после того, как Крыленко, посмеиваясь, доложил начальнику, что у свиней заразы нет, начальник начал лечиться сам и разрешил Сергею Михайловичу осмотреть жену. Любвеобильная женщина к тому времени уже успела посинеть от побоев, однако на все угрозы мужа отвечала взглядом непокоренной волчицы, из чего можно было сделать вывод, что продолжение последует и главу семейства ожидает веселое будущее. При такой жизни любой доктор представлял для начальника интерес, а Сергей Михайлович особенно. Фронтовик, трудяга, а главное, тайны хранить умеет, слова лишнего нигде не сболтнет. Потому и решил начальник до поры до времени сделать вид, что ничего не замечает. Пусть его друг Сережа потешится немного. Мужик он еще молодой, в самом соку, истосковался, поди. Так думал начальник, пряча очередной донос в дальний ящик.
Сергей Михайлович после окончания Надей курсов, готовивших для тюремной больницы младший медперсонал, оставил ее при отделении. Работы было много, однако усталости младшая медсестра не замечала, потому что рядом всегда был Он. Ее сынишку перевели в дом малютки. Несколько раз в день Надя ходила его кормить. Мишенька ел хорошо и быстро подрастал, радуя маму толстыми щечками.
Жизнь наполнилась для Нади новым смыслом и маленькими радостными событиями: появились скромные подарки, ласковые слова и знаки внимания, которые без устали оказывал Сергей. Его забота выходила за рамки повседневности: думая о будущем, он помогал Наде осваивать медицинскую науку на практике. Будучи довольно способной ученицей, она достигла таких успехов, что начальство объявило ей благодарность. Из убогих условий влюбленные создали свой маленький, прекрасный мир, и были в нем счастливы. Прошедшая ночь любви осталась почти единственной в их жизни, но были еще минуты и мгновения, которые они могли использовать для проявления своих чувств. Отдаваясь друг другу, они испытывали истинное наслаждение от своей принадлежности к великой тайне торжества настоящей любви над всеми земными пороками.
Рубман бесстрастно отмечала в рабочем дневнике нарушения инструкций и отклонения от установленных правил, которые позволял себе коллега Крыленко. Она больше не испытывала никаких любовных надежд, а следовательно, и эмоций по отношению к доктору, хотя ее уязвленное самолюбие все еще болезненно «вскипало» при мысли о том, что Сергей Михайлович мог бы воспользоваться шансом, который давала ему она, Софья Марковна, и наладить свою жизнь, но вместо этого пустил ее под откос из-за ничтожной девчонки.
В очередной раз Софья Марковна оказалась в ряду проигравших, но она здесь, в лагере. И сила была на ее стороне.
Сергей с Надей не обращали на Рубман никакого внимания. Они были переполнены друг другом и своей любовью. В новогоднюю ночь Крыленко устроил в больнице праздничную встречу Нового года. По его просьбе охранники срубили в лесу маленькую елочку, которую Сергей Михайлович установил в столовой. Радуясь словно дети, женщины из числа больных и персонала в течение нескольких вечеров вырезали бумажные снежинки, мастерили разные фигурки и делали из ваты пушистые снежные хлопья. Все поделки отправлялись на зеленые пахучие ветки, в результате чего скромное деревце превратилось в волшебную красавицу. В полночь Машенька положила под елку несколько кусочков сахара. Сестра-хозяйка по такому поводу расщедрилась на маленькую бутылочку спирта. Его развели и разлили поровну на всех. Каждому досталось по паре глотков. Но Надя выпить свою дозу не смогла. От запаха спирта у нее неожиданно закружилась голова, и все вокруг поплыло. Сергей Михайлович, заметив ее состояние, увел в ординаторскую.
– Что с тобой? – встревожился он. – Тебе плохо, голова болит?
– Голова немного закружилась. Наверное, от запаха спирта, а может, просто переутомилась, слишком много суеты.
– Это уже было?
– Да, недавно, но не так сильно. Не обращай внимания.
– Легко сказать «не обращай внимания». Может, у тебя анемия или сотрясение мозга, ты никогда раньше головой не ударялась?
– Все-таки не надо иметь дело с врачами. Это не всегда приятно, – улыбнулась Надя. – У них на все случаи жизни найдется по диагнозу. Тебе самому никогда не бывает страшно оттого, что ты все про себя знаешь?
– Дело сейчас вовсе не во мне, а в тебе, – не принял шутку Сергей, – жизнь в лагере никому не добавляет здоровья, а тебе, существу слабому и нежному, тем более. Придется тебя обследовать…
– Обязательно, – засмеялась Надя, – только не меня, а нас.
– Что, еще и Миша заболел? – встрепенулся Крыленко. – Инфекцию на воле подхватил?
– Миша здесь ни при чем, – загадочно блеснула лукавыми глазами Надя.
– А кто тогда? – недоуменно посмотрел на нее Сергей и, раздражаясь от многозначительных Надиных смешинок, повторил: – Кто при чем?
– Вы доктор, – продолжая улыбаться, ответила ему Надя. – Вы как раз при чем, странно, что вы сами этого еще не поняли, ведь в таком месте работаете…
Он на минутку замер, а потом, поняв наконец истинную причину Надиного недомогания, радостно закричал:
– Надя, умница ты моя, – он подхватил ее на руки и закружил по комнате, – мамочка ты моя дорогая, девочка моя несравненная, счастье мое! Господи, благодарю Тебя за эту жизнь.
– Хватит! – возмутилась Надя и, погладив свой живот, заявила: – Нам уже снова стало плохо.
– Господи! Как я люблю вас обоих! – прошептал Сергей, целуя Надю.
Глава 14
– Ну, вот и дождалась, – ухмыльнулась Рубман, прочитав в медицинской карте Воросинской запись, подтверждающую беременность в двенадцать недель. – Пора. Два идиота построили для себя эшафот, на который я их теперь отправлю.
Софья закурила, глядя в окно. Там «отбывал свой срок» очередной серый день. Скоро, очень скоро Софья сменит этот пейзаж на другой, более соответствующий ее знаниям и устремлениям.
Меньше года осталось до того момента, когда она сможет покинуть Ужог, честно отработав положенный институтский срок. Софья уже решила, что поедет в Москву, и профессору Журкину в письме напомнила об обещанной протекции. Насчет работы Софья не беспокоилась, а вот с жильем могли возникнуть проблемы. Жить в общежитии, в одной комнате с незнакомыми и заранее неприятными ей девицами она не хотела категорически. Семьи у нее в перспективе не просматривалось, но мог быть ребенок. Софья знала, что усыновителям жилье выделяется вне очереди, однако не испытывала к детям абсолютно никаких чувств, кроме отвращения, и потому не могла решиться на этот шаг. Но запись в карточке Воросинской все изменила: Рубман усыновит ребенка, и даже знает какого. Это будет достойное наказание для двух глупцов, возомнивших, что их любовь сильнее воли государства, а она решит свою насущную житейскую проблему…
Начальник лагеря, читая доклад доктора Рубман, пыхтел, краснел и чесался. Он жалел Сережу, но теперь уже помочь ему не мог. На каждый сигнал, особенно если он, сигнал, оповещал о нарушениях государственного толка, – обязательно должно быть реагирование, таков порядок. Тот, кто его нарушит, может потерять не только место под солнцем, но и саму жизнь. Начальник был человеком для свершения подвигов неподходящим.
К тому же, по его сведеньям, Рубман числилась в команде тайных осведомителей, информируя кого следует наверху. Отсюда вывод – если начальник оставит доклад без реагирования, в лагерь нагрянет комиссия. Тогда и Сережа не спасется, и свиньи осиротеют. Такого развития событий начальник допустить не мог. Тем более сейчас, когда на недавней выставке его хрюши произвели такой фурор. А впереди у него и его свиней еще более радужные перспективы. Нет, рисковать собой и своими питомцами, даже ради доктора Крыленко, начальник не будет. Свиньям надо, чтобы он, их благодетель, продолжал жить и работать, а если тому дураку бес в ребро влез, то пусть он сам теперь свою кашу расхлебывает. Крутил бы шуры-муры с Рубманихой, глядишь, и вышел бы в короли. А с той девчонкой у него одна дорога – к черту на кулички. Вот пусть туда и идет.
Короткая северная весна не радовала глаз разноцветьем трав, но улучшала настроение нежной зеленью. Надя с радостным нетерпением ждала ребенка. Беременность помогала ей справиться с тоской по Мишеньке, которого увезли в детский дом, после того как ему исполнился год. Приняв душой сына, она со всей силой проснувшегося в ней материнского инстинкта полюбила его. И теперь, в разлуке, часто грустила, думая о том, что не увидит первые шаги своего малыша, не услышит от него первое слово – «мама». Если бы не поддержка Сергея, Надя, наверное, умерла бы от горя. Он успокаивал ее, уговаривал не терзать себя напрасно и думать о будущем ребенке. Сергей пообещал ей, что сделает все для того, чтобы через год не увезли их будущего малыша, и она ему поверила. Он сильный и умный, и он обязательно что-нибудь придумает, чтобы они никогда не расставались. Когда они выйдут из этой проклятой зоны и заберут Мишеньку, будут жить вместе, большой и дружной семьей. Долго-долго, целую жизнь. В самом прекрасном городе на земле – в Москве. Надя еще помнит дом, из которого ее увезли, и бабушкин крестик все еще с ней. Сейчас он был спрятан в коробке из-под лекарств, в самом углу нижней полки рабочего стола доктора Крыленко. А значит, все у них будет хорошо и они еще будут счастливы.
Надя так часто мечтала о будущем, что перестала замечать настоящее. Поэтому однажды, придя рано утром из барака на работу в больницу, она даже не удивилась тому, что Сергей Михайлович не вышел ей навстречу. Юное сердце уже успело забыть о былых страданиях и о том, что они могут повториться.
«Наверное, сложные роды, – беззаботно подумала она. – Надо пойти помочь».
И только тогда, когда она увидела заплаканное лицо Машеньки, в душе шевельнулось недоброе предчувствие.
– Что случилось? С Сергеем что-то? – вцепилась она в ее руку.
От животного, всепоглощающего страха у нее подкосились ноги.
– Ты сядь, сядь, касатушка, – зачастила Машенька, бегая вокруг нее. – Ты погодь, не плачь. Ты вот здесь посиди… Я тебе сейчас все как есть… Только ты не плачь…
– Не трогай меня, не надо меня усаживать, говори, где Сергей, что с ним, – закричала Надя.
– Немедленно прекратить вопли! – от резкого голоса Рубман Надя вздрогнула. – Вы чего здесь устроили с утра истерики? Быстро расходитесь по своим рабочим местам.
Посмотрев на нее, Надя вдруг обо всем догадалась.
– Это ты, – выдохнула она, – что ты сделала с моим Сергеем?
– Заключенный Крыленко был отправлен сегодня ночью по этапу. В дальнейшем он будет отбывать свой срок на рудниках, – сухо ответила ликующая Рубман.
О, этот чудный миг отмщенья! Ничто не может с ним сравниться. Даже любовь – всего лишь жалкий трепет по сравнению с этим сладостным чувством, приносящим истинное наслаждение.
– Фашистка, – закричала Надя, бросаясь на Рубман с кулаками.
– За оскорбление ответишь.
– Я отвечу, ты меня не пугай, – Надя была близка к истерике, – я за все отвечу. Мне не привыкать, всю жизнь за вас отвечаю, за подлость вашу. Мне теперь не страшно и за себя ответить, поэтому я тебя убью.
Надя вцепилась в Софью Марковну и принялась колотить ее в меру своих возможностей. Машенька напрасно старалась растащить двух дерущихся женщин. Они сцепились намертво. Одна была сильнее физически, но другой придавала силы злость, и очень скоро злоба стала побеждать. На шум прибежали охранники. Они оттащили Надю от Рубман и, заломав ей руки за спину, стали ждать дальнейших указаний.
– Отведите ее в тюрьму, в карцер, расстреляйте, делайте с ней что хотите, – поправляя свой халат, приказала Рубман, – но чтоб больше я ее здесь не видела.
Надю увели. Две недели она отсидела в холодном, темном карцере, питаясь черными сухарями с мутным, как болотная вода, чаем. Она почти не спала и все время думала о Сергее. Она перебирала в памяти каждую минуту их любви. Его улыбка… его глаза… его надежные, сильные руки… его пружинящая, легкая походка… Вот он что-то говорит… Он обещает ей покой и счастье… И она ему верит… Ему нельзя не верить… Ведь он – это часть ее самой… А теперь ее разрезали пополам и никто больше не скажет: «Солнышко мое, я так тебя люблю».
Ребенок внутри ее беспокойно шевелился, напоминая матери о своем существовании, и он был единственным, во имя чего еще стоило жить, потому все остальное в этом мире бесконечных страданий Надю перестало интересовать.
Вышедшую из карцера Надю определили на подсобные работы по лагерю, вход в больницу был для нее под строгим запретом. Используя каждую свободную минутку, к ней прибегала Машенька. Рубман запретила санитарке появляться в родильном отделении, но в больнице ее оставила. Она рассказала, что увели Сергея Михайловича прямо с дежурства. Он даже не сразу понял, в чем дело. Думал вначале, что к больному его ведут, а когда разобрался, стал вырываться. Да куда там, разве от этих битюгов вырвешься! Намертво они Михалыча скрутили. Начальник как раз подошел. Доктор закричал, просил, чтобы Надю не трогали, чтобы родить ей дали, не отдавали на растерзание Рубманихе. Начальник ничего не обещал, но, видать, не без сердца человек. Рубманиха требовала, чтобы Надю за нападение на врача расстреляли, но он не позволил. Спрятал в карцере, от греха подальше.
Надя слушала, не реагируя на Машенькины слова. В то, что Сергей вернется, она не верила. С рудников никто не возвращается. Врачи там не нужны, туда отправляют на смерть, а мертвые в медицинской помощи не нуждаются.
Чтобы отвлечь Надю от тяжелых мыслей, Машенька подарила ей маленькую старую иконку в деревянной, потрескавшейся от времени рамке.
На ней была изображена Божья Матерь с Младенцем на руках.
Сначала Надя относилась к подарку с некоторым пренебрежением, но повторяя по ночам слова услышанных от Машеньки молитв, она все глубже проникалась их смыслом, находя в них успокоение. От веры в высшие силы добра и справедливости на душе ее становилось светлее. Омрачало Надины молитвы только то, что не было с ней бабушкиного крестика: он по-прежнему находился в докторском кабинете. По ее просьбе Машенька тайком обыскала осиротевший стол доктора Крыленко, но заветной коробочки не нашла. А нашла маленький «клад» Софья Марковна. Именно она, проводя обыск среди вещей неблагонадежного коллеги, нашла небольшую коробочку из-под лекарства, а в ней – удивительный красоты крестик, инкрустированный драгоценными камнями, на обратной стороне которого был вензель: А.В. Зная, что Воросинская из бывших, Рубман без труда догадалась, кто является хозяйкой вещицы.
Надя, узнав о пропаже крестика, оплакала его как повторную потерю отца. Теперь у нее остались только дети и молитвы. Она молилась и смиренно ждала будущего.
Днем по узкоколейке, одиноко петляющей среди труднопроходимых болотистых лесов, пыхтя и отдуваясь, тащился старый паровоз. За ним дребезжала открытая платформа, в центре которой сидели, плотно сбившись в небольшую кучку, несколько человек. Вокруг них непрерывно ходили два охранника, вооруженные винтовками. Третий сидел на корточках в сторонке, держа арестантов на прицеле. Перед отправкой выяснилось, что заковать новую партию зеков нечем, ибо нужного инвентаря в наличии не оказалось. То ли по халатности, то ли по причине умышленного вредительства – неизвестно. А может, зеков слишком много развелось, не успевают для них цепи да наручники штамповать. Разбираться никто не стал. Решили проблему просто – страдальцев загнали на платформу и скрутили веревками. Какой дурак решится на побег в этом дремучем крае? Однако на всякий случай охране было велено смотреть в оба. Она и смотрела.
Сергею надо было возвращаться. Его ждала Надя. Ни о чем кроме этого он не думал. Веревка была уже давно перетерта. Когда к нему подошел один из охранников, он дернул его за ногу. Тот свалился. Не теряя ни секунды, Сергей сбил с ног второго солдата, оцепеневшего от изумления, и, спрыгнув с платформы, кинулся к лесу. Сидящий в сторонке третий охранник хладнокровно навел прицел своей винтовки на убегающую фигуру и выстрелил. Человек упал. Первые двое охранников, придя в себя, держали под прицелом оставшихся. Никто из них не шевелился.
Сергей полз к Наде, оставляя кровавый след на холодной земле.
«Солнышко мое, девочка моя любимая, потерпи еще немного, – шептал он в бреду, – уже иду к тебе, я рядом».
Распухшие, застывшие на полусгибе пальцы с трудом цеплялись за редкие кочки, подтягивая за собой тяжелое, неподатливое тело, утопающее в жидкой болотной грязи. Темнело. На небе появились первые звезды.
«Я иду, Наденька моя, иду», – шептал он.
Земля, теряя упругость, стала превращаться в зыбкую холодную перину, пугающую своей бездонной прожорливостью.
«Минутку, всего одну минутку, – подумал он, – я сейчас полежу и пойду дальше, к Наденьке».
Теряя последние силы, Сергей перевернулся и лег на спину. Над его головой чернело бескрайнее звездное небо.
«И над ней сейчас такое же небо, – подумал он, погружаясь в холодную вечность болота. – Такое же. Любимая моя, прощай!»
Над Ужогом погасла звезда. Но Надя этого не видела. Ночью она родила девочку и крепко спала после укола, сделанного «заботливой» Софьей Марковной. Проснулась она утром.
– Сережа! – забывшись, позвала она, но не услышала его голоса. Собравшись с силами, она слезла с кровати и побрела в детскую. Ей хотелось немедленно увидеть свою дочь. Она уже решила, что назовет ее Викой. Виктория – это их победа. Ее и Сергея.
«Сереженька, я родила тебе дочь. Ты слышишь, милый мой? Мы победили. У нас есть дочь», – шептала она, передвигаясь по коридору, держась за стену.
В колыбельке сладко посапывал крошечный комочек, завернутый в казенное одеяло.
– Немедленно уходите отсюда, – раздался за ее спиной резкий голос. Вздрогнув, Надя обернулась и увидела Рубман.
– Это мой ребенок, – спокойно ответила Надя, – а не ваш, и не надо мне указывать, что мне делать.
– Это не твой ребенок. Мать этой девочки умерла вчера при родах.
– А где моя девочка? Вы же сами принимали ее и сказали, что у меня родилась дочь. Куда вы ее дели? Арестовали?
– Твоя дочь, шутница вшивая, умерла, – бесстрастно ответила Рубман. – Так что тебе здесь больше делать нечего. Завтра ты уйдешь из больницы, и я позабочусь о том, чтобы свою вину перед Родиной в дальнейшем ты искупала в другом месте, – она развернулась, собираясь уходить.
– Врешь, – Надя схватила ее за край халата, – я родила живого ребенка, я слышала, как он кричал. Ты что, убила его? Сначала Сергея, а теперь его дочь, да?
– Охрана, вы что там, уснули? – Рубман с силой оттолкнула Надю, отчего та упала. – Заберите эту сумасшедшую. Я же говорила, что ее расстрелять надо.
По коридору к ним бежали два охранника. Надя, собрав последние силы, подползла к Рубман, хватая ее за ногу:
– Верни моего ребенка, прошу тебя, верни мне дочь!
– У меня нет твоего ребенка. Он в мертвецкой… – Рубман отшвырнула Надю ногой: – Забирайте эту дрянь. И начальника позовите, пусть полюбуется на свою протеже.
Рубман шла по коридору, а вслед несся отчаянный Надин вопль: «Убийца-а-а!»
В тот же день Надю из больницы перевели в барак. Там ее разыскала вездесущая Машенька. Она рассказала ей, что ночью в больнице свершилось недоброе. Кроме Нади там была еще одна роженица, очень тяжелая. Ее привезли под вечер. Роды у обоих принимала Рубман, одна справлялась, спровадив вон и фельдшерицу и нянечку. Когда утром народ вернулся, в родильной было два трупа – женщины и новорожденной девочки, которую она в документах указала как дочь заключенной Воросинской. Еще одна девочка, родившаяся в ту ночь, была жива и здорова. Рубман распорядилась найти для нее кормилицу из числа кормящих мамок. Девочку унесли сразу же в дом малютки за территорию лагеря.
– А что, если умерла вовсе не моя дочь, если в доме малютки сейчас именно моя дочь? Как мне это теперь узнать? – спросила Надя.
– От уж, Надейка, не знаю… И я ведь, глешным делом, тоже так подумала. Да только, – засомневалась Машенька, – видано ли тако дело, чтоб глех такой на душу блать.
– А мне кажется, что она на любую подлость способна, – возразила Надя. – Я почти уверена, что она мою дочь либо сама убила, либо своровала.
– А могила, Надейка, на кладбище всего одна, я туда сбегала, – тяжело вздохнула Машенька, – без всякого знака вообче.
– Ах вот ты где, – незаметно появившийся рядом с ними охранник грубо оттолкнул Машеньку от Нади, – шагай вперед.
– Куда ты меня, илод? – Машенька, повинуясь грубой силе, пошла к выходу.
– Не велено справки таким, как ты, давать. Засиделась ты у нас, пора на земляных работах размяться.
– Площай, Надейка, помни, что я тебе сказала, помни, не забывай. Свечку за нас в целкви поставь, да панихидку закажи, не забудь!
– Разговорилась тут, свечку ей ставь. На всех вас свечей не наберешься, – охранник ногой ударил Машеньку в спину так, что она вылетела из барака.
Надя ждала Машеньку несколько дней, но та больше не приходила, а потом лагерный телеграф донес до нее весть о том, что Машеньку отправили на лесоповал.
И тогда Надя замолчала. Она ждала, когда ее тоже отправят из Ужога умирать, но время шло, а ее никто не трогал. Надя не знала, что своим тюремным счастьем она обязана начальнику. Причем сам он, честно говоря, спасать ее не собирался. Просто так сложились обстоятельства. В списках «мамок», освободившихся от бремени мертвым младенцем и потому готовых для отправки на этап, фамилия Воросинской стояла последней. После нее полагалось делать прочерк и ставить подпись. Оформляя сопроводительную бумагу, начальник сделал такой размашистый прочерк, что одна из горизонтальных линий прошла по Надиной фамилии. Не обратив внимания на такую мелочь, начальник заторопился в загон к свиньям, которых надо было спешно готовить к новой выставке. Ответственный за этап, получив бумагу, долго ее рассматривал: вблизи фамилия Воросинской казалась вычеркнутой, издалека – подчеркнутой. Начальник к тому времени, сопровождая на выставку свиней, отбыл в Москву, спросить было некого, и ответственный, не желая ни за что отвечать, решил Воросинскую никуда не отправлять, а оставить в лагере, запрятав подальше от любопытных глаз в прачечную, на стирку грязных бинтов. Получилось, вроде она и есть, а вроде и нет ее. В полном соответствии с прочерком на фамилии.
Прошло лето, осень, а зимой Рубман подала рапорт на увольнение. Причин для того, чтобы задерживать ее, у начальника не было. К тому же напоследок она совершила похвальный поступок, девочку-сироту от умершей матери удочерила. Растроганный подвигом уважаемой Софьи Марковны, начальник сам составил ей наилучшие характеристики, выписал пособие, паек дал для ребенка и с почестями проводил.
В июле 1953 года Наде приказали явиться с вещами к начальнику лагеря. Из вещей у нее были только платок да одна чистая рубашка на смену. Связав их в узелок, она молча отправилась за угрюмым охранником. О том, какой еще поворот приготовила для нее судьба, она даже не думала, настолько ей было все безразлично.
Начальник был в хорошем расположении духа. Что-то сдвинулось в Москве после смерти Сталина. Амнистия вышла уголовным, а там, глядишь, и политических выпустят. Тогда, может, и ему доведется еще на старости лет где-нибудь в теплых краях погреться. Впрочем, вряд ли. Куда он без свиней! Их ведь за собой не уволокешь, значит, придется возле них до смерти куковать. Благо, что жена угомонилась, с годами в ум вошла.
Начальник еще раз пролистал лежащую перед ним на столе папку с делом Воросинской. О том, что ее не отправили по этапу, он узнал через несколько месяцев после отъезда Рубман. Виновные получили выговор, но Надю он трогать не стал. Из-за доктора Крыленко. Не было начальнику покоя из-за этой истории. Чувствовал он себя виноватым, особенно с тех пор, как узнал, что убили доктора при попытке к бегству. К ней наверняка бежал, к Воросинской. А она до того исхудала от тоски, что когда он ее увидел, даже испугался: не человек, а скелет ходячий. Не смог начальник отправить девчонку на верную смерть. Первый раз инструкцию нарушил, направил на работу все в ту же больницу, благо, что Рубман там больше не было, а остальным было не до Нади. Работала она хорошо, нареканий не поступало, и теперь начальник решил подвести ее как уголовницу, отбывающую срок за кражу, под амнистию.
Когда в кабинет вошла Надя, лицо начальника стало бесстрастным, как и полагается людям «при исполнении».
– Ну, значит, так, – без предисловий начал он. – Вину ты свою искупила и заслужила от народной нашей власти прощение. Вышла тебе амнистия. Забирай свои документы, распишись в получении денег на проезд, и скатертью дорога, счастливого, значит, пути.
Надя от неожиданности не поверила тому, что услышала, и переспросила:
– Что вы сказали?
– А что слышала, – довольно хмыкнул начальник. – Свободу тебе советская власть возвращает за примерное поведение и отличный труд. Иди на все четыре стороны, только не балуй больше.
– И вы меня не задержите?
– Только нам и делов, что за тобой бегать. Теперь уж сама давай жизнь устраивай, без нас. Но постарайся сюда не возвращаться.
Надя схватила узелок и побежала к выходу.
– Да постой ты, егоза, – беззлобно окликнул ее начальник, – надо же порядок соблюсти. Сначала паспорт получи и все остальное, что положено, а потом уж беги.
Через полчаса хмурый охранник закрыл за Надей дверь в ее прошлую жизнь. Надя стояла на дороге и никак не могла поверить тому, что никому больше нет до нее дела. Она шагнула вправо, влево – тишина. Никакого окрика за спиной. Она не заметила, как ее догнала лагерная персоналка. Машина остановилась рядом. Надя притихла. Из кабины выглянул начальник:
– Садись, подвезу тебя, птица вольная.
– Неуютно с вами, пешком надежнее.
– Тогда как знаешь, – он не стал ее уговаривать и кивнул водителю: – Поехали.
Машина газанула, но тут же затормозила снова.
– Слушай ты, как тебя там, Воросинская, что ли? – начальник выпрыгнул из кабины. – Подойди-ка сюда.
Надя подошла.
– Ты вот что, Воросинская. Ты доктора нашего, Крыленко, не ищи. Погиб он. Давно уже сообщение по инстанции пришло. В пятьдесят первом году, в августе. Два года назад, стало быть, застрелили его при попытке к бегству. К тебе, наверное, торопился.
– Девочка моя тоже в пятьдесят первом родилась, только в июле. А это правда, что она умерла? – огромные Надины глаза умоляли начальника об ответе.
– Не знаю я, – отвел взгляд начальник, – не мои это дела. Это тебе у Рубман надо было спрашивать, она тогда роды ваши принимала.
– А где она?
– В Москву уехала. Между прочим, перед отъездом она похвальный поступок совершила, сиротку удочерила.
– Так это она, наверное, дочь мою украла, – вскрикнула Надя.
– Ты мне такие заявления брось, – сурово осадил ее начальник, – на моей территории ничего такого не было. Отсидела свое – иди вон и людей не обвиняй беспричинно, не то назад заберу, за клевету на советского человека, члена партии!
Он сел в машину, которая, сорвавшись с места, обдала Надю облаком пыли. Ей не хотелось больше ни прыгать, ни кричать, радуясь своему освобождению. Она обернулась и долго-долго смотрела на забор, за которым осталось и счастье ее и горе. А потом, перекрестившись, решительно развернулась и пошла вперед. Она выжила! Назло всем врагам и свинцовому воркутинскому небу! И теперь она свободна, и эта дорога, уходящая вдаль, приведет ее к новой жизни, о которой говорил ей Сергей.
Глава 15
В переполненном вагоне пассажирского поезда Архангельск – Москва было жарко и накуренно. Деревянные сиденья напоминали нары. Свет в вагоне горел только во время движения поезда, а на период остановок, когда начиналась посадка, он автоматически выключался. На одной из станций, на полпути от Архангельска, в вагон, где ехала Надя, с перрона ринулась большая толпа пассажиров. Народ в темноте пробирался из тамбура вглубь, наощупь отыскивая свободные места. Орали дети, матерились мужики. Время от времени раздавался призывный вопль проводницы:
– Граждане сидящие, не будьте жлобами, поимейте сочувствие. Если рядом с вами есть свободные места, известите.
Сердобольные граждане отзывались хором, и никто не мог понять, в какой стороне есть эти самые свободные места. Проводница, разозленная всеобщей бестолковостью, покрыла всех матом и заперлась в своей каптерке. Началось настоящее столпотворение. Народ лез вперед, пытаясь сесть на голову друг другу. На Надино плечо легла чья-то рука. Рука ощупала ее и полезла вниз. Она опускалась до тех пор, пока не уперлась в ее грудь.
– Нахал, ты чего здесь руки распускаешь! Нет здесь места. Двигай дальше, – возмущенно крикнула Надя.
Рука исчезла. Поезд тронулся, и медленно, будто насмехаясь над людской беспомощностью в условиях полной темноты, загорелся тусклый свет. Надя недовольно посмотрела на того, кто так нагло прицепился к ней. Это был невысокий, симпатичный парень в солдатской шинели с погонами старшего сержанта. Перехватив Надин взгляд, он виновато улыбнулся:
– Вы уж потерпите, на меня тут сзади напирают.
– А мне что? Я не стена, чтобы на меня опираться, – сказала Надя, злясь на парня, который неуклюже навис над ней.
– Ну не сердитесь, девушка. Я ведь не виноват, что вагон железный, а не резиновый. Приходится быть нахалом. Я сейчас попробую от вас отодвинуться, раз уж вы такая нервная, – отклонившись, он усиленно стал сдвигаться назад.
– Эй ты, амбал нахальный, – раздался за спиной парня визгливый женский голос, – ты чего здесь задницей вертишь! Ты на что намекаешь! Думаешь в толкотне можно к порядочным женщинам приставать? Так у меня муж рядом, он тебе всю охоту сейчас отобьет, если не притихнешь.
– Ну вот, кругом я виноват. И тут нахал, и там. И спереди, и сзади. Везде мне одно звание, – грустно вздохнул парень.
Глядя на его растерянное, покрасневшее от смущения лицо, Надя не удержалась и улыбнулась. Парень в ответ ей тоже заулыбался.
– Садитесь, вы тоненький, влезете, – сказала Надина соседка, отодвигаясь от нее.
Парень сел, с трудом втискиваясь в освободившуюся узкую полоску сиденья между нею и Надей.
Надя смотрела в окно вагона. За окнами мелькали поля и леса, полустанки и небольшие города.
Паровик медленно тащился, пропуская скорые поезда. А то и вовсе останавливался среди леса…
Надя впервые за свою сознательную жизнь видела страну, бывшую много лет ее тюрьмой. Мохнатые, бархатистые ели упирались в безграничную небесную синеву. На зеленых лугах белели ромашки, в поле синели головки васильков. Наде хотелось прямо на ходу выскочить из вагона и, вдохнув аромат настоящего лета, которого раньше в ее жизни не было, нарвать огромный букет полевых цветов. Но ей надо было торопиться вперед. Надю ждал Мишенька. Она думала о нем, о Сергее, об их погибшей дочери, а поезд все пыхтел и пыхтел, навсегда увозя ее из прожорливой пасти энкэвэдешного монстра. Дум было так много, что она не заметила, как день перешел в вечер, а потом – в густую, звездную ночь.
– Интересно? – спросил парень.
– Что? – Надя нехотя повернулась к «подселенцу».
– То, что вы там видите? – он кивнул в сторону темноты.
– Не знаю, – пожала плечами Надя, – я сплю уже.
– Ну, тогда давайте вместе спать. Я тоже спать хочу.
– Мне и без тебя хорошо, не пристраивайся, – отодвинувшись насколько это было возможно от парня, Надя снова отвернулась к окну.
– Пока служил, – огорчился тот, – все девушки такими злыми стали. Прямо мурашки по спине бегают.
– Слушай ты, балагур, – с верхней полки свесилась лохматая мужская голова, – звук выруби, а то спущусь – помогу уяснить.
– Не надо так беспокоиться, замолкаю, – не стал спорить парень.
Потихоньку все успокоились, в вагоне стало тихо. Изредка раздавался чей-нибудь шепоток да сладкое похрапывание. Надя задремала, убаюканная стуком колес. «Тук, тук, едем на юг», – приговаривала мама, поглаживая заснувшую на коленях дочку. Это было много-много лет назад. Юг оказался Севером. Он забрал маму, но дочка осталась. Вот только никто больше не гладил ее по голове.
Проснулась Надя от боли. Шея затекла от неудобного положения. Щека упиралась во что-то жесткое и колючее. Надя открыла глаза. Оказывается, она сидела, положив голову на плечо давешнему пареньку. Надя вздрогнула и тут же отпрянула от него, разворачиваясь к окну. Там вовсю играло солнце. Надя хотела в туалет, ей надо было умыться и расчесаться, но она боялась, что кто-нибудь займет ее место, если она уйдет.
– Вы идите, я ваше место посторожу, – парень, оказывается, тоже не спал.
«Надо же, – подумала Надя, пробираясь к тамбуру, – прямо мысли мои читает. Интересный парень. Зря я ему нагрубила. А может быть, и не зря. Вдруг он специально притворяется, чтобы выследить меня и снова в лагерь отправить? Военный все-таки».
– А вы красивая, – сказал он, когда она, приведя себя в порядок, возвратилась. – Я вас, можно сказать, впервые вижу, потому что вчера здесь вообще никто ничего не видел. А то бы вы мне понравились еще вчера…
– А вы мне нет, – Надя решила, что осторожность в данном случае не помешает, – не понравились, и мне не хочется с вами разговаривать. Давайте помолчим.
Она уселась на свое место и, вытащив сухарик, стала его жевать, снова уткнувшись в окно.
– А вас как зовут? – спросил он.
В ответ Надя промолчала.
– А вот меня зовут Алексей, и я этого не скрываю, – настойчиво, не желая отступать, сказал парень. – Может, и вы откроете тайну своего имени?
– Зачем? Мне и ваше имя ни к чему вовсе, – всем своим видом Надя демонстрировала полнейшее равнодушие к происходящему. – Через несколько часов поезд в Москву приедет. А там у каждого свои дорожки.
– А может, нам по пути, – не отставал Алексей. – У вас в Москве пересадка? А дальше куда?
– Во Владимир, за сыном, – резко оборвала его Надя, надеясь, что это поможет поскорее избавиться от навязчивого попутчика.
– Никогда бы не подумал, что вы уже мамаша, – удивился Алексей, – вы такая молодая на вид.
– Если это комплимент, то спасибо. А о моем материнстве вам думать незачем, – сказала Надя, не отрываясь от окна.
– А может, есть зачем, – продолжал свою атаку Алексей. – Он там с кем вас ждет?
– Он там в детском доме меня ждет, – Надя повернулась к парню и дерзко посмотрела ему прямо в глаза. – Пока его мама в лагере срок мотала, он в детском доме свой срок отсиживал. Доволен? Надеюсь, вопросов больше нет?
Алексей замолчал. Надя снова уткнулась в окно. Только на этот раз она почти не видела дороги, потому что слова, предназначенные для парня, отозвались в ее душе неожиданной болью. Оказывается, затягивающиеся раны болят сильнее, чем она думала.
– Извини, – тихо сказал паренек и мягко сжал ее руку.
Этот нежданный жест докатился до ее горла ершистым комком и встал там, вызывая спазмы. На глазах появились слезы. Пытаясь справиться с наплывом жалости к себе, Надя буквально впечаталась в оконное стекло.
– Не надо, не плачь, – прошептал паренек, и от его сочувствия Надя расплакалась так, что не могла больше скрывать этого.
– Что? Что случилось? – забеспокоилась одна из соседок.
– Известное дело что. Сначала хвостом вертят, потом нюни пускают, – сосед с верхней полки свесил вниз ноги в вонючих носках, собираясь спрыгнуть.
– Не волнуйтесь, граждане, все нормально, – взял инициативу в свои руки паренек, – у девушки горло болит, и голова тоже. И насморк еще, – паренек минуту помолчал, а потом добавил, махнув рукой, добавил уже для Нади: – Все остальное тоже болит.
– А она того, не заразна? – забеспокоилась сидящая напротив тетка.
– Не бойтесь, не заразна, – в тон ей ответил парень, – сейчас водички ей принесу, она горлышко промоет и успокоится.
– Да кака тут водичка, на-ка молока ей, – разжалобилась тетка, – пусть пьет, сердечная. Така малоденька, така худэнька, ажно светится, а все едет куда-то, все едет, – тетка горестно вздохнула.
Парень налил в стакан молоко, протянул Наде. Та сначала хотела отказаться, но ощутила вдруг голод и вспомнила, что за последние два дня почти ничего не ела. Взяв стакан, она хотела отпить всего один глоток, но молоко показалось ей таким вкусным, что она выпила его залпом.
– Изголодалась как, сердешная, на-ка още, – тетка наполнила стакан до краев и плотно закрыла бутылку пробкой.
Второй стакан она пила медленно, вприкуску с хлебом, кусок которого дал паренек.
– Ну вот, сейчас наша Снежная королева оживет, – улыбнулся он, забирая у Нади пустой стакан, – пойду, помою.
– Лучше я сама, – остановила его Надя.
В туалете она умылась и посмотрела на себя в зеркало: слезы действительно высохли, не оставив следа. В тамбуре ее ожидал паренек.
– Все нормально? – озабоченно спросил он.
Надя хотела в ответ сказать нечто резкое, такое, чтобы парень понял неуместность своего сочувствия, но, посмотрев на его симпатичное, открытое лицо, на его приветливую улыбку, поняла, что любая резкость в данном случае будет неуместна, потому что перед ней стоял не враг. Невысокого роста, ладный, он всем своим видом демонстрировал надежность и силу.
– Да, – тихо кивнула она и пошла на место.
Он шел рядом, поддерживая ее за локоть.
Поезд между тем уже подходил к Москве.
Каким он стал, город ее детства? Увы! Надя узнает это не скоро. Она уже решила, что, не задерживаясь в столице, поедет во Владимир, за Мишенькой. А там видно будет. Страна большая, где-нибудь и для нее найдется кров.
– Граждане пассажиры, – зычно прокричала проводница, – поезд прибывает в столицу нашей Родины Москву. Приготовьтесь к высадке. Не забывайте свои вещи.
– А чужие? – откликнулся за всех какой-то остряк.
– Чужие оставьте мне, – не промолчала проводница.
Надю охватило радостное волнение. Она в Москве! Как часто они мечтали об этом вместе с мамой, сидя в убогом воркутинском бараке! Нет, она не будет больше вспоминать плохое, она будет думать только о хорошем! Раз Бог дал ей дорогу в будущее, она должна идти по ней достойно, без злобы и ненависти к своим палачам. Так учил ее Сергей. Она постарается, и у нее все получится. Обязательно получится!
– Ну что, высохли слезки? – паренек стоял рядом, закинув рюкзак за спину. – Где твои вещи, давай помогу.
– Вот, – Надя протянула ему свой скромный узелок.
– Да, не богато, – улыбнулся паренек, – ну да не в этом счастье. Ты куда дальше?
– Пойду поищу, откуда поезда во Владимир ходят.
– Где поищешь?
– В Москве, конечно.
– Так Москва большая, долго ходить придется.
– Долго так долго, что тут поделаешь? Значит, буду искать до вечера, а может, и до завтрашнего утра. Мне во Владимир обязательно надо.
– Господи! – выдохнул парень.
Он посмотрел на Надю: хрупкая, нежная, беззащитная, судя по всему, ничего не знающая о той жизни, в которую привез поезд. И как ее теперь оставить одну? Совесть замучает. Да и приглянулась она ему: хоть и из заключения возвращается, а не наглая, не курит, не матерится, грубыми зековскими привычками не похваляется. Что не удивительно: к таким, как она, грязь не прилипает, потому что душа у девушки светлая, чистая, как вода родниковая. Парень это сразу понял, потому-то, когда поезд остановился, без лишних слов взял ее за руку и повел к выходу.
– Тебя как зовут? – спросил он, когда они вышли на площадь вокзала.
– Надя… Надежда Александровна Воросинская.
– А меня Алексей Петрович Иванов. Для тебя просто Алексей. Значит, так, Надежда Александровна, – он подвел ее к стоящей у здания вокзала лавочке, – садись здесь и жди меня. Поняла?
Надя, растерявшаяся от обилия первых впечатлений, послушно кивнула.
– Я в справочном бюро насчет Владимира узнаю и вернусь. А ты тут рот не разевай, за вещами следи, Москва – город опасный, – Алексей усадил Надю и ушел.
Прошло минут десять, прежде чем Надя, оглушенная суетой большого города, начала осознанно воспринимать происходящее вокруг.
«Так вот ты какая, родина моя Москва! – думала она, озираясь по сторонам. – Светлая, красивая. А люди! Какие красивые здесь люди! Особенно женщины».
В лагере все женщины были одинаковыми, единой серо-зеленой массой. А здесь они, цокая каблучками, пробегали мимо нее в ярких, цветастых платьях и были все такими разными и прекрасными! Надя посмотрела на свои грубые ботинки, увидела убогость своей затасканной черной юбки и полосатой, широкой кофты и ощутила неловкость за свой внешний вид. Неизвестно откуда появилась толстая тетка с метлой.
– Эй ты, нищенка! Ты чего здесь расселась? Здесь не подают, – заорала она на Надю. – А ну давай уходи отсюда, а то милицию позову.
– Это вы мне? – удивленно спросила Надя, до которой не сразу дошло, что ее приняли за нищенку.
– А то кому, других побирушек здесь нет.
– Не кричите на меня, – громко сказала Надя, краснея от стыда, – я не нищенка, я только что приехала. Я здесь вещи сторожу и жду знакомого. Он сейчас придет, и мы уйдем.
– Видала я таких знакомых! Поди, на пару орудуете, честных граждан обираете! – не унималась тетка. – А что это за вещи у тебя? – подозрительно прищурилась тетка, опираясь на метлу. – Никак, успели уже у кого спереть?..
Она достала из кармана свисток и дунула в него, оглушив Надю пронзительным свистом. Вокруг начала собираться толпа любопытных.
– В чем дело, граждане? – рядом, будто из-под земли, появился милиционер. – Кто свистел?
– Да я, я свистела, я, Петр Николаевич, – затараторила тетка. – Я тут мела, смотрю, нищенка приблудилась. Уходить не захотела, вещи, говорит, сторожу. А может, они ворованные. Вот я и свистнула, чтоб проверили. У ней и подельник, она говорит, есть.
– Молодец, Федотовна, благодарю за бдительность, – похвалил ее милиционер и подошел к Наде. – Следуйте за мной, гражданка, в участок.
– Я никуда не пойду, – Надя, хоть и испугалась, но вида не показала. – Я жду Алексея. Он пошел узнавать, как во Владимир попасть… Сейчас придет.
– Разговоры прекрати и делай, как я тебе говорю, – прикрикнул на нее Петр Николаевич. – Потом и с Алексеем разберемся.
– А чего со мной разбираться? – послышался громкий голос Алексея, пробиравшегося к Наде через толпу. – Вот он я, перед вами, собственной персоной. Что за шум, а драки нет? Надежда, ты чего сидишь, как не живая? Ответь товарищу милиционеру, и пошли. Некогда нам.
– Да он не спрашивает, – почти плача ответила Надя, – он меня опять в тюрьму посадить хочет.
– Фьють, – присвистнул Алексей, – за что?
Надя так испугалась, что ее снова прямо сейчас отправят в Воркуту, что ничего не стала отвечать, а только обреченно пожала плечами, опустив голову.
– Граждане, товарищи. Расходитесь по домам, – закричал Алексей, – здесь вам не цирк, зверей не показывают. Кто не разойдется, того в участок для разбирательства заберем.
Народ стал нехотя расходиться.
– Ты, солдат, не самовольничай, – недовольно проворчал милиционер. – Здесь мой участок, и ты не указывай.
Когда все выяснилось и милиционер, козырнув им на прощанье, отошел от них, Надя облегченно вздохнула:
– Ну, слава Богу, пронесло.
– Да Бог здесь ни при чем, – сказал Алексей, – просто выглядишь ты действительно как оборванка. Давай вот что. Пока у нас время есть, в магазин сходим, тут рядом есть такой. Купим тебе что-нибудь приличное, московское, а то на каждом вокзале будут к нам придираться.
– А ты выяснил, где этот Владимир и как туда попасть?
– Да все нормально. С Курского вокзала вечером поезд туда будет.
– Ой, а как же мне до Курска добраться? Успею ли до вечера?
– Куда? – не понял Алексей.
– Ты же сам сказал, что в Курск. Оттуда поезда на Владимир ходят.
– Чудо ты несусветное, – улыбнулся Алексей, – никуда ехать не надо, потому что Курский вокзал находится в Москве.
– Ну, если так… – недоверчиво посмотрела на него Надя. – Если так, то ты мне его покажешь?
– Твое счастье, Надежда, что демобилизовался я, могу теперь сам своим временем распоряжаться. Так и быть, подождет маманька, пока я с тобой во Владимир съезжу, а то заблудишься одна или опять кто милицией напугает.
– Спасибо! – благодарно улыбнулась она.
– Ну, тогда айда в магазин, – Алексей взял вещи и уверенными шагами двинулся к выходу из вокзала.
Надя пошла за ним, думая о том, что это, конечно, Бог о ней позаботился, прислав защитника. Оглянувшись, она увидела прежнюю тетку с метлой, подозрительно глядящую им вслед, и показала ей язык.
– Надюха, не отставай! – окликнул ее Алексей.
– Теперь уж не отстану, не бойся! – весело ответила Надя.
В магазине Надя выбрала себе голубое платье из ситца с яркими бело-розовыми цветами, отрезное по талии, с широкой юбкой и с рюшечкой под шею. Когда Надя, расправив поясок, вышла из примерочной кабины, не только Алексей, но и продавщицы восхищенно закачали головами: платье превратило нищенку в стройную и красивую молодую женщину. А Надя смотрела на себя в зеркало глазами, полными слез: это было первое в ее жизни настоящее дамское платье.
Вместе с Алексеем они разыскали в одном из владимирских детских домов Мишеньку. Он вырос и, конечно, не узнал Надю, но, подчиняясь воспитательнице, послушно подошел к ней, впервые сказав незнакомое ему прежде слово «мама».
Втроем они поехали в деревню к Алексею. Там, в сельсовете, молодые расписались, а потом справили скромную свадьбу, на чем настояла властная свекровь. Собрали родню да соседей. Все ели, пили, в глаза молодых хвалили, а за глаза судачили о том, что сам Лешка – парень хоть куда, а вот с женой промахнулся. Взял за себя бабу красивую, да нищую. Приданого у невесты – вошь на блюде да сынок в приблуде, а из одежи – одно платье ситцевое, да и то Лешкой купленое. Баба Настя, свекровь Анастасия Макаровна, слышала обидные слова, но терпела. Бедность невестки ее не удручала.
Не нравилось ей другое. Вроде и с прошлым молодая, и сын у нее невесть откуда, а нате вам, ведет себя так, будто не зечка она бывшая, а королевна. Все на «вы» да «извините, пожалуйста», и осанкой такая горделивая, что прямо зло брало Анастасию Макаровну. Нет, не о такой жене для Лешки она мечтала. Думалось, будет какая попроще, посговорчивей, чтоб было с кем и поругаться и посмеяться. А к этой фифе лишний раз и подходить не хотелось. Однако пришлось терпеть. Анастасия Макаровна была мудрой женщиной и, видя, как счастлив сын с молодой женой, приняла его выбор.
Прожив в деревне несколько месяцев, молодые переехали в небольшой городок Синегорск. Были в нем две улицы и строго засекреченный завод, называвшийся почтовым ящиком номер тридцать. Как может целый завод быть маленьким почтовым ящиком, Надя не понимала, но к заводу относилась с большим уважением, как и людям, которые там работали. Сама она устроилась медсестрой в роддоме, Алексей пошел работать в милицию.
Через полгода после переселения в Синегорск семье Ивановых выделили ведомственное жилье. Что это было за ведомство, Алексей ей не сказал, да Надя особо и не интересовалась, но была ему очень благодарна за доброту. Комната была большой и светлой, с золотистыми узорами, накатанными на желтые стены. Надя тщательно в ней убралась, прибила на стену коврик с картинкой «Три медведя» и повесила на окна беленькие занавесочки с выбитыми на них узорами.
Однажды, отправив Мишу в садик, Надя сидела в своей прекрасной комнате и ела настоящую докторскую колбасу. Первый раз в жизни! Колбаса была необыкновенно вкусной, и Надя отрезала одну розовую полоску за другой, не в силах остановиться.
«Вот бы сейчас Сережа с Машенькой видели, как я хорошо живу, – думала она, – они бы за меня порадовались, а как мамочка была бы счастлива!»
Надя все ела и ела колбасу. Алексей, придя на обед и увидев, сколько она съела, первым делом спросил:
– Тебе плохо не будет?
– Мне уже плохо, очень плохо, – виновато улыбаясь, ответила она, и согнулась от приступа рвоты.
«Скорая помощь» увезла Надю в больницу, а когда через пару недель Алексей забирал ее домой, Надина подруга по работе Вера сказала:
– Ты, папаша, держи жену на диете, если хочешь, чтоб ребеночек здоровеньким родился.
– Какой ребеночек?
– Какой-какой. Обыкновенный, – засмеялась Вера.
В октябре 1955 года в семье Ивановых родилась девочка. Ее назвали Таней.
Надина жизнь покатилась по накатанному руслу – дом, семья, работа. Вечерами, тайком ото всех, Надя молилась, благодаря Бога за то, что подарил Он ей простое человеческое счастье – быть матерью двоих чудесных детей и женой такого хорошего человека. Она часто вспоминала, как в вагоне Алексей взял ее за руку и повел за собой. Тогда она думала – к выходу из поезда, теперь понимала – в другую жизнь. Эта другая, взрослая жизнь сложилась для нее удачней прежней, детской, и она дорожила каждой минутой, понимая, что иного счастья ей не надо. А в минуты грусти она закрывала глаза и видела, как из глубины полутемного больничного коридора легкой пружинящей походкой навстречу ей в распахнутом белом халате идет высокий красивый человек с ребенком на руках… И тогда Надежда тоже молилась, прося у Господа вечного Царствия Небесного тому, кого так сильно любила она на земле, и такого же упокоения навсегда для девочки, оставшейся в Ужоге.
Часть III
Ивановы
1965 год
Глава 16
– «Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки»… – орал Мишка во весь голос, лежа на диване.
– Миш, замолчи, ты мне мешаешь, – сказала ему Танька.
– А что ты такого делаешь, что я тебе мешаю? Сидишь перед чистым листом бумаги и смотришь в потолок, воображаешь тут из себя мыслителя. Этого, как его там? Училка говорила… Родуна, что ли?.. «Нарисовал он на листе и подписал в уголке»… – снова заорал он.
– Тундра ты, не Родуна, а Родена Огюста, знать надо. И вообще, если ты не замолкнешь, я маме пожалуюсь. Ма-ам, – закричала она, не двигаясь с места, – а мам!
– Можно подумать, что она тебя услышит. Она на кухне. Иди туда и жалуйся. «Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет небо»… – невозмутимо продолжил он свое пение.
– Все слова перепутал, – фыркнула Таня и пошла на кухню.
– Катись, катись. «Пусть всегда буду я»…
На кухне пахло чем-то вкусным. Мама готовила ужин.
– Ты чего, Танюша, кто тебя обидел? – встрепенулась она, увидев обиженное лицо дочери.
– Мишка не дает мне стих сочинять.
– Стих сочинять? – удивилась Надя. – А ты разве стихи умеешь сочинять?
– Да. Вот послушай. «Мы приходим каждый раз, каждый год в свой новый класс. Все нам в классе интересно, все науки нам известны…»
– А дальше?
– А дальше Мишка не дает сочинить, – грустно вздохнула Таня. – А я обещала. Меня Заноза встретила и попросила стих к завтрашней торжественной линейке написать, в честь первого сентября. А Мишка мне думать не дает. Орет песню про солнечный круг, да еще слова перевирает.
– Ну ладно, – улыбнувшись, мама поцеловала Таню в щечку, – пойдем, скажем Мишке, чтобы он перестал тебе мешать. Только твою учительницу зовут Анной Викторовной, а не Занозой.
Они пошли в комнату.
– Миша, не мешай Танюше, ей надо стихотворение сочинить в честь первого сентября, – строго сказала она, входя в комнату. – Ты портфель приготовил к завтрашнему дню?
– А что там складывать? Пару тетрадок бросил. Завтра ж еще уроки будут не настоящие.
– А какие же? Игрушечные? Ты расписание списал?
– Завтра у Галки спишу. Она у нас отличница, у нее всегда все записано. У нее весь класс списывает.
– Беда мне с тобой, – вздохнула Надежда, – выпускной класс, надо заниматься, а ты ко всему относишься несерьезно. Так в институт не поступишь.
– А я и не собираюсь. Не нужны мне ваши институты, я в военку пойду или в милицию. Стиляг гонять буду.
– А стилягов уже нету, – вклинилась Танька.
– Мя-мя-мя, – передразнил ее Мишка. – Ну, не стиляг, так панков. Кто-нибудь все-равно найдется.
– А для этого что, разве учиться не надо? – продолжила разговор Надя.
– Чего надо – выучу, – надувшись, буркнул Мишка.
– Вот отец придет, я ему все расскажу. Пусть сам с тобой разговаривает, – пригрозила Надя. – Тебе букет на завтра нужен? С цветами, наверное, пойдешь?
– Еще чего не хватало! Что я маленький, что ли, с вениками по городу таскаться. Без цветов пойду.
– Запомни, веники существуют для того, чтобы полы подметать, а цветы для красоты. Совсем ты от рук отбился.
– Мам, я прибьюсь, – пообещал ей Мишка, вскакивая с дивана. – Можно я на баскет пойду, у нас сегодня тренировка.
– Иди. Танюшка без тебя, может, хоть стихотворение свое досочиняет.
– Ага, – обрадовался Мишка, взял мяч и дурашливо поклонился Таньке, дернув ее за косу: – Есть поэт в семье у нас, он тра-та-та в каждый класс, он не Пушкин тру-ля-ля, у него в мозгах фигня.
– Дурак, у тебя у самого везде фигня, – Танька побежала за братом, но тот, хлопая дверью, уже выскочил в подъезд.
Таня вернулась в комнату и сосредоточилась над листом бумаги.
– Какие у тебя, Надя, дети хорошие, – сказала Наде на кухне соседка Клавдия Ивановна.
– Не жалуюсь, только шума от них много. Мешают вам, наверное.
– Нет, нет, что ты, Наденька. Мне, старухе, рядом с вами жить веселее. Своих-то внуков Господь не дал. Сыночек мой совсем молодым на фронте погиб, одна осталась. Вот и греюсь вашим теплом.
– И нам с вами теплее, – улыбнулась Надя, – не случайно, видно, нас судьба в одной коммуналке свела.
Женщины замолчали. Надя думала о Мише. Что-то встревожило ее в разговоре с сыном, и она никак не могла понять, что именно.
Время промчалось так быстро, что она не успела привыкнуть к тому, что у нее есть взрослый сын. Широкоплечий, на голову выше ее, он отличался от сестры и родителей черными волосами, размашистыми чертами лица и удлиненным овалом лица. Однако вопросов по этому поводу никто не задавал, принимая несхожесть за «прорастание» корней далеких предков Ивановых. Так привыкла считать и Надя, потому что чисто внешне Мишка ничем не напоминал Зотова. И тут вдруг такое заявление.
«Неужели, – думала она, разрезая сочную луковицу, – неужели зов крови окажется сильнее всего того воспитания, которое дала я сыну? Столько раз беседовала с ним, заставляла его добрые книжки читать, учила любить людей, быть честным и справедливым. И все для того, чтобы однажды он начал кого-то там гонять, превращаясь в палача Зотова? Если это случится, я не переживу».
Из глаз ее потекли невольные слезы.
– Ой, расплакалась, – всплеснула руками Клавдия Ивановна, – я тоже всегда плачу, когда лук режу. Ты ножичек сполосни холодной водичкой, сразу легче станет.
Надя направилась к раковине, а Клавдия Ивановна подошла к окну.
– Вон Мишаня ваш пошел, – сказала она, глядя на улицу, – совсем взрослый уже. А все повадки у него от Алексей Петровича. Только ростом он повыше. Тоже милиционером будет?
– Собирается, – вздохнула Надя, – или военным. Не решил еще.
– Ну и хорошо. На такой должности хорошие люди нужны, – Клавдия Ивановна одобрила Мишкины планы, не догадываясь, какой стопудовый камень сняла при этом с души его матери.
«Действительно, – обрадовалась Надя, возвращаясь к прерванным размышлениям, – ведь Алексей с Мишкой – не разлей вода, так и ходят друг за другом, как привязанные. И всегда у них куча дел: то на рыбалку вдвоем улизнут, то примутся старый мотоцикл ремонтировать, который уже давно выбросить пора, потому как он все-равно на каждом километре ломается, то строить на даче что-нибудь возьмутся. Одним словом, всегда они при деле, и не случайно Мишка о милиции заговорил. Наверняка Алексей его уже обработал, направил, так сказать, на путь истинный. Но поговорить с ним все равно надо». Повеселев, Надя выкинула из головы тревожные мысли о Зотове и заторопилась с ужином.
Алексей пришел с работы поздно. Дети уже спали. Пока он умывался, Надя накрывала ужин.
– Дети уже спят? – спросил он, садясь за стол.
– Конечно. Завтра первое сентября. Им вставать рано. Привыкли за лето спать вволю, не знаю, как они завтра проснутся с утра пораньше. Я с тобой поговорить хочу о Мишке, – сказала она, встав у окна по другую сторону стола.
– А что Мишка, натворил чего?
– Он после школы в военное училище надумал идти или, еще хуже, в милицию.
– Да ну, – обрадовался Алексей, – вот порадовал сынок. По моим стопам пойдет. А ты чего говорить собралась? Возраженья есть?
– Есть. Сам знаешь, не очень я милицию и все с нею связанное люблю.
– Надюш, мы уже много говорили на эту тему. Хватит уж, не береди старые раны. Народ наш, партия осудили культ личности Сталина, а ты все перебираешь старое.
– Да нет, я не про это, просто боюсь, как бы Мишка палачом не стал, не навредил людям.
– Ты, мать, меня удивляешь. Нынче времена другие. Но если тебя это так волнует, то, так и быть, уговорю Мишку, пусть в военку идет. В райвоенкомат разнарядка пришла на пограничников, вот и пусть крепит границы нашей Родины, – Алексей взял жену за руку и притянул к себе, – чтобы твоя красивая головка не кручинилась.
За годы семейной жизни Надя располнела, превратившись из девочки-заморыша в цветущую женщину. Ее пышные волосы, лежащие у лба причудливой волной, были убраны на затылке в высокую строгую прическу. Она выглядела строгой и неприступной, но только не для Алексея, который сам себе завидовал, глядя на жену. Голубые глаза, полные губы, нежная кожа – мужское желание обладать всем этим богатством с годами не угасало, и, обняв жену, он начал ее целовать.
– Но ведь там бандиты, нарушители всякие!
– Дорогая моя! Сейчас главная бандитка ты, потому что мучаешь меня разговорами вместо того, чтобы заняться более интересным делом.
– Алешка, ты прямо как молодой! Между прочим, я еще не все сказала, – Надя попыталась отстраниться от мужа. – Соседка с первого этажа застукала Мишку.
– Застукала? Он что, убивал кого? – улыбнулся Алексей.
– Хуже. Курил с парнями.
– Тьфу ты, – сплюнул Алексей. – Я думал, в самом деле что важное произошло. Испугался даже.
– А что, курение – это не важно? По-твоему, ничего не произошло?
– Надь, отстань, а, – взмолился Алексей. – Ну, покурит, ну, бросит. Ему уже шестнадцать лет, в армию скоро, в таком возрасте все пацаны пробуют курить. А как же без этого. Я сам в тринадцать лет первый раз затянулся. Теперь вот бросил. И он бросит. Настоящему мужику все надо попробовать.
– Может, ему и женщина уже нужна?
– Ему… не знаю. А вот мне очень нужна. Особенно моя жена, – он схватил ее за руку и потянул за собой в комнату.
Надя засмеялась.
– Вот уж не знала, что ты такой нахал. Кстати, в комнате дети спят. Вдруг проснутся.
– А вдруг не проснутся, – он открыл дверь и прошептал, обращаясь в глубину темной комнаты: – Дети, вы спите?
В ответ донеслось посапывание.
Глава 17
Был последний день второй четверти. Уроки в школе закончились рано. Мишке не терпелось похвастаться перед матерью четверкой по русскому языку, которую он получил за четверть и первое полугодие. Для него это было грандиозное достижение, ибо с русским языком у него всегда были проблемы. Это Танька умела правильно писать и стихи сочинять, а он в каждом предложении умудрялся сделать по пять ошибок. Мать пилила его за это каждый день.
– Пойдешь после школы в дворники, – говорила она, увидев очередную двойку в его тетради.
– Не в дворники, а в начальники, – защищал сына отец.
– Это ты что, хочешь сказать, что у нас все начальники неучи безграмотные? Или только в вашей особой конторе? – подкалывала его мать.
– Наоборот, умные, – оставался невозмутимым отец, – даже очень. До такой степени, что догадываются для всякой писанины секретаршу нанять, а сами только приказы отдают.
– Угу, – довольно подхватывал Мишка. – Я, мам, генералом буду. Генералы ничего сами не пишут. Точняк. У них ординарцы есть.
– Я вот сейчас возьму отцов ремень и пропишу этому генералу на одном месте все правила и запятые. Поговори мне тут.
Мишка матери не верил, потому что она никогда ремня в руки не брала и детей не била.
Однако без нужды он ее терпением не злоупотреблял. Знал, если мать разозлится, то обязательно какое-нибудь наказание придумает. Насчет русского она все-таки разозлилась. Целый месяц не пускала его на тренировки. Ребятам пришлось соврать, что заболел. Не будешь же всем рассказывать, что мать не пускает из-за двоек по русскому. В общем, пришлось Мишке выучить правила орфографии и пунктуации. Он так старался, что даже на четверку вытянул. Училка удивилась, что он такой настойчивый, но Мишка уж если за что брался, то железно. Особенно, если обещал. Сегодня он пообещался ребятам из своего двора пойти на стадион.
Дома никого не было. Мишка быстро пообедал, положил дневник на самое видное место, чтобы мать сразу увидела его достижения, и помчался на стадион. Над стадионом гремела музыка. В самом его центре стояла огромная елка, разукрашенная бумажными гирляндами. На табло висел разноцветный плакат «С Новым 1966 годом!».
– Миха, – кинулись к нему друзья, – ты чего так долго? Мы тебя уже здесь давно ждем. Сегодня наша Центральная улица с Октябрьской играют. Давай, беги в раздевалку. Скоро построение.
– Сейчас. Я мигом, – Мишка побежал шнуровать коньки.
Выйдя на лед, Мишка отметил, что на воротах у «октябрят» стоит Кабан – Сашка Кабанов из соседнего класса – и забить гол будет трудно. Сашка считался лучшим вратарем в городе. Вячеслав Степаныч, хоккейный тренер, трижды свистнул, и началась игра. Мишке нравился звук, с которым острое лезвие конька рассекает лед. Нравилось стучать по льду деревянной клюшкой. Через минуту после выхода на ледовое поле он, забыв обо всем, устремился в атаку на ворота противника. Мишка долго вел шайбу, ловко обходя ринувшихся на него противников, и в тот момент, когда он уже приготовился к броску, рядом с ним промелькнул один из «октябрят». Мишка размахнулся, отправляя шайбу в ворота, и тут же упал, споткнувшись обо что-то острое. Он услышал, как все вокруг закричали, почувствовал сильную боль в затылке и потерял сознание. Очнулся он очень быстро и увидел, что лежит на льду, а вокруг него толпятся ребята. Вячеслав Степаныч держал его за запястье руки, пытаясь найти пульс.
– Очнулся, – облегченно выдохнул он. – Ну, напугал ты нас, дружок. Как себя чувствуешь, болит что-нибудь?
– Да нет, – Мишка начал вставать, – только в голове шумит.
Ребята подняли его и повели в раздевалку.
Мать, увидев бледного сына, поддерживаемого с двух сторон тренером и другом Борькой едва удержалась на ногах. Хорошо, что Алексей был дома. Он уложил сына на диван, и Надя, придя в себя, принялась хлопотать вокруг него. Она со всех сторон ощупала Мишкину голову, будто арбуз, долго заглядывала в его зрачки и зачем-то измеряла ему температуру. Потом достала из своего баула резиновые трубки и, обмотав ими его руку, принялась мерить давление. В конце концов она уложила его на кровать и накапала в стакан с чаем каких-то капель. Он выпил их и уснул, а когда проснулся, на улице было уже темно. Танька сидела за столом и вырезала из кальки снежинки.
– Сколько времени? – вскакивая с постели, спросил Мишка.
– Восемь часов вечера. Тебе нельзя вставать. Лежи и не шевелись, – строго сказала сестра, не отрываясь от своей работы. – Тебе вообще нельзя шевелиться, а ты вскакиваешь.
– У меня в классе сегодня новогодний «Огонек» с чаепитием и танцами. В шесть часов начался. А я здесь валяюсь, – Мишка схватил брюки и стал одеваться.
– Можешь не торопиться, мама тебя никуда не пустит сегодня. Она уже сказала. Она из-за тебя даже телевизор не разрешает включать.
– Ты мне своим языком еще больше навредишь. Где мама?
– На кухне, и отец там.
– Мам, пап, – Мишка побежал на кухню, – у меня вечер в классе. Я пятьдесят копеек на пирожные сдавал, мне надо идти.
– Ни на какой вечер ты не пойдешь, – сказала мать тоном, не допускающим возражений, – сегодня ты будешь лежать и отдыхать. Голова не болит, не кружится?
– Ничего у меня не болит и не кружится, – Мишка расстроился. – Пропали мои пирожные, и подарка от Дед Мороза не будет.
– Неужели тебе так нужны эти пирожные! Ведь ты уже большой. В армию собираешься, в народную дружину записался, бандитов ловишь, а все подарка от Деда Мороза ждешь. Куплю я тебе пирожное, и подарок тебе Дед Мороз принесет. Иди, ложись, малышка моя, – улыбнулась Надя, глядя на расстроенное лицо сына.
– Ну что, съел свои пирожные? – съехидничала Танька, когда он вернулся в комнату. – Придется тебе без танцев обойтись. Надо было меньше за шайбами гоняться, тогда бы сейчас рок-н-ролл отплясывал, вместо того чтоб дома торчать.
– Рок-н-ролл уже не в моде. Сейчас все твист танцуют.
– Я знаю. Только мне рок-н-ролл больше нравится.
– Ой, сама ни в чем не разбирается, а туда же. Болтает, сидит, малявка.
– А ты – стукнутый на голову, – быстро возразила Танька. – Если хочешь знать, у моей подруги, Томки, отец стилягой раньше был и рок-н-ролл танцевал.
– Кем-кем? – недоверчиво спросил Мишка. – А ты-то откуда знаешь про стиляг?
– А вот знаю! Она мне показывала, какие у него были ботинки и брюки.
– Ну и какие? – Мишку совсем не интересовала Танькина болтовня, но просто так лежать и ничего не делать было скучно. Уж лучше болтать о всякой чепухе. – Какие у него ботинки?
– Желтые, на толстой подошве с каблуками, а носы у них узкие.
– Мужики каблуки не носят.
– Стиляги носят, – уверенно сказала Танька. – И брюки у него были узкие-узкие. Дудочки назывались.
– А может, дурочки?
– Это у тебя одни дураки в голове сидят, – отмахнулась от него Танька. – А еще у него знаешь что есть?
Она замолчала и с опаской посмотрела по сторонам.
– Ты чего? – удивился Мишка. – Нет же здесь никого. Чего оглядываешься?
– У него пластинки на костях есть, – прошептала Танька с заговорщицким видом. – Ты про них слышал?
– Слышал, – так же шепотом ответил ей Мишка. – А про что на них поют?
– Темнота, – презрительно сморщилась Танька, – живешь, а ничего не знаешь. На них рок-н-ролл играют. Ты только никому не говори, а то Томкиного отца и так из-за них из комсомола исключили, чуть из института не выгнали. Он у нее инженер.
– А слова-то какие-нибудь есть на этих пластинках?
– Есть, только они не русские. Мы с Томкой слушали, слушали, ничего не поняли.
– Ни одного слова?
– Ни одного. Что-то поют. Какое-то «бачвон-чгчело-чуручело», а больше ничего не понятно.
– Мужик или баба?
– Вроде мужик. Хотя тоже не всегда понятно. Миш, а ты видел, как рок-н-ролл танцуют?
– Ага, я, когда маленький был, с пацанами на пятачок бегал, то есть на танцплощадку.
– Которая в парке? – уточнила Таня.
– Ага, – подтвердил Мишка. – Она ведь всего лишь сеткой огорожена, а через нее все видно.
– Ну и что ты видел?
– Там один стиляга знаешь как рок-н-ролл с девкой выплясывал, закачаешься. Может, это и он, Томкин отец, был.
– Как ты говоришь нехорошо. С девкой, – поморщилась Танька.
– Ну, с девушкой. Извините, товарищ Пушкина. Только это дела не меняет.
– Ладно тебе, – примирительно сказала Танька, – расскажи лучше, как они танцевали?
– Я ж не поэт, не знаю, как рассказывать. Все парами прыгали, крутились, сходились-расходились, парни девчонок кружили и на руку к себе закидывали, а те ноги задирали.
– А показать можешь?
– Могу. Только без музыки не получится.
– А я тебе подпою, я помню. «Чандабы, ра-ла, о-го-ого», – запела она вполголоса.
Глава 18
Весной 1966 года баба Настя заколотила свой дом в деревне, заявив, что будет жить у дочери, в Москве. Алексей уговаривал ее переехать в Синегорск, но та наотрез отказалась, заявив, что не желает на старости лет прислуживать барыне, то есть его жене. Надя в ответ промолчала. Уж кем-кем, а барыней она себя совсем не считала, потому что трудилась не покладая рук, но объяснять это свекрови она не стала, справедливо полагая, что если той хочется так считать, то переубедить ее невозможно.
Единственное, на что согласилась непримиримая в вопросах классовой борьбы баба Настя, так это погостить у сына до лета. Больше всего бабушкиному присутствию радовалась Таня. Прежде всего, потому, что по утрам та никуда не спешила и подолгу заплетала ей косы. Волосы у Татьяны были цвета спелой пшеницы, густые и длинные. Окружающие восхищались их красотой, а сама она испытывала сплошные неудобства из-за того, что они постоянно сами по себе запутывались, связываясь в узелки. Утром, причесывая Таню, мама всегда торопилась и больно дергала ее, распрямляя расческой узелки.
Таня, может быть, и смогла бы вытерпеть эту боль, не такой уж страшной она была, если бы у нее были такие же локоны, как у прекрасной куклы бедной девочки Козетты из рассказа писателя В. Гюго. Но локонов у Татьяны не было, вместо них были «волны», которые мама стягивала в косы. Уцелевшие от плена волосинки причудливо извивались на Танькиных висках, но до локонов им было далеко.
В первых числах июня баба Настя уехала в Москву. Таня скучала по бабушке, по ее деревне и по старому дубу, который больше уже ее не дождется. Она вспоминала деревенских ребят, Андрюшку, так и не написавшего им из своего Ленинграда, и даже рыжую Вальку. И ей хотелось плакать.
Настроение портилось еще и оттого, что у Мишки началась пора вступительных экзаменов и дома все ходили на цыпочках. Телевизор не включали, разговаривали шепотом, чтобы не мешать ему заниматься. Таня попробовала возмутиться, но родители прикрикнули на нее, и она сникла, решив, что от такой жизни уж лучше уехать в лагерь.
Сговорившись со своей подругой Томкой, с которой они дружили с детского сада, Таня объявила родителям, что они должны отправить ее в пионерский лагерь. Все Танькины одноклассники уже успели побывать в лагере по нескольку раз, и от них она наслушалась столько интересных историй о жизни вдали от родительского надзора, что теперь сгорала от нетерпения побывать там сама. Знакомые девчонки рассказывали, что днем в лагере можно было драться подушками во время тихого часа, а ночью ходить мазать зубной пастой мальчишек. Родители, сосредоточенные на Мишкином поступлении, желание дочери уехать на время из дома одобрили. И Таня с Тамарой отправились в лагерь, прихватив с собой несколько тюбиков зубной пасты.
Лагерь находился за городом в красивом сосновом бору и представлял собой чистый уютный городок, разделенный на две части широкой центральной аллеей, вдоль которой стояли одноэтажные деревянные корпуса. В одном из них поселился третий отряд, в который попали Таня с Тамарой. Подруги устроились рядом, заняв в палате соседние кровати и одну тумбочку на двоих. Аккуратно разложив по полкам родительские гостинцы, они побежали осматривать новую для них территорию.
Кроме корпусов в лагере были: спортплощадка, деревянная эстрада и площадка для торжественной линейки, в центре которой возвышался столб с развевающимся на нем флагом, а по периметру стояли стенды с плакатами из серии «Пионер – всем ребятам пример».
Дуновение ветра донесло до девчонок ванильный запах пирогов, и, ощутив чувство голода, они, ориентируясь по нему, вышли к столовой. У входа в столовую висел распорядок лагерного дня. Прочитав его, подружки узнали, что в течение целого месяца им предстоит с утра делать зарядку, потом идти на линейку, заниматься отрядными играми, обедать, спать в тихий час, полдничать, участвовать в лагерных мероприятиях, а после ужина танцевать или смотреть кино. Таньке больше понравилось кино, а Тамаре – танцы.
– Ты глянь, «мы с Тамарой ходим парой» тоже сюда приехали! Эй, «мы с Тамарой», привет!
Девчонки оглянулись. Позади них стоял Пашка из их школы. Он был на год старше их и славился тем, что любил подраться.
– Ну, что молчите, «мы с Тамарой»? Привет, говорю.
– Не очень нам надо со всякими там здороваться, – девчонки развернулись и пошли в корпус своего отряда.
– А я не всякий, – вырос теперь уже перед ними Пашка. – Будете здороваться?
– Нет. Уйди с дороги. Нам в отряд надо. У нас сейчас пионерский сбор будет.
– Ой-ей-ей, какие мы важные. А вы что, друг без друга жить не можете? В лагерь и то вместе приперлись?
– Не твое дело, – сказала Таня, пытаясь его обойти, – стоишь здесь как подсолнух рыжий.
– Будешь дразниться, по шее дам.
– Па-адумаешь, испугал, – девчонки на всякий случай отбежали от него подальше. – Пашка, Пашка-драная рубашка.
– А за это схлопочите от меня, – разозлился Пашка, и, подскочив к Тане, больно дернул ее за косу.
– Пусти, дурак! – завопила она.
Тамарка изо всех сил начала долбить его по спине.
– Будешь обзываться, будешь? – не отставал от своей жертвы Пашка.
– Буду, – Танька изловчилась и укусила его за руку.
– Ой! – завопил от боли Пашка и отпустил косу.
Девчонки, воспользовавшись моментом, убежали.
– Ну, погодите, – крикнул вслед им парень, – я с вами еще посчитаюсь.
Запыхавшись, они вбежали в коридор своего корпуса и оказались сразу в центре внимания всего отряда, который уже собрался для проведения сбора.
– Вот еще две души появились. Вы кто? – спросила у них отрядная вожатая Валя. – Вы из нашего отряда или просто заблудшие овцы?
Весь отряд уставился на девчонок. Второй вожатый Игорь, глядя в список, сказал:
– Это, наверно, Иванова со Смирновой. Правильно я вычислил?
– Ага, – дружно кивнули девчонки.
– Ну, раз вы наши пионеры, – снова заговорила Валя, – давайте ваше предложение о том, как бы вы хотели назвать наш пионерский отряд.
– «Гелиос», – высказала Таня первое, что пришло ей на ум.
– Интересное предложение. Игорь, ты понял, какие у нас пионеры нынче пошли образованные! – Валя обратилась к ребятам: – Ребят, вы знаете, что означает мудреное слово «Гелиос»?
В ответ раздался не слишком дружный хор голосов, в котором «да» чередовалось с «нет».
– Давайте, девчонки, объясните народу, что значит слово «Гелиос», – сказала Валя, и Таня не поняла, чего в этой просьбе было больше – насмешки или простого любопытства.
– «Гелиос» – это значит «солнце», – заносчиво сказала она, – очень хорошее название, лучше, чем всякие там «Товарищ» или «Искра».
– Тихо, – оборвала ее Валя. – Понял, Игорь, какие у нас диссиденты затесались? Молчите, чтоб никто ничего не слышал.
– Да перестань ты, Валентина, девчонок пугать, – улыбнулся Игорь.
Он был обаятельным, худеньким пареньком, и добродушное лицо его внушало окружающим уверенность в том, что все будет хорошо. Валя представляла собой полную противоположность своему напарнику. Резковатая, с сальными прядями волос, свисающими вокруг бледного лица, с грязными пятками, торчащими из потасканных танкеток.
– Ну что, – спросил Игорь у отряда, – принимаем предложение Ивановой? Будем называться «Гелиос»?
– Будем, – дружно согласились ребята, которым уже не терпелось разбежаться в разные стороны.
– Тогда переходим к следующему вопросу, – продолжила Валя. – Наберитесь терпения. Нам надо выбрать председателя отряда, редколлегию, члена совета дружины, санитаров и назначить дежурных на сегодня. Потом дежурить будут все.
– Спортсмены пусть после собрания подойдут ко мне: нам нужна команда для лагерной спартакиады. А завтра проведем спартакиаду в отряде, – объявил Игорь.
Сообщение Игоря о спартакиаде Тане не понравилось, ибо любые виды спорта вызывали у нее стойкое нежелание заниматься ими. Она не умела ничего – ни бегать, ни прыгать, ни кататься на коньках или лыжах. Антонина Сергеевна, или просто Антошка, так школьники назвали за глаза учительницу физкультуры, распекала ее за это перед всем классом.
– Сейчас Иванова покажет нам рекорд, – язвила Антошка, приглашая весь класс посмотреть на неуклюжую одноклассницу, готовившуюся прыгнуть в высоту.
Для Таньки ставили самую маленькую высоту – полметра. Она валко разбегалась, подпрыгивала – и падала, сбивая планку. Все смеялись во главе с учительницей.
Со временем уроки физкультуры для Тани стали мукой. Она старалась на них не ходить, придумывала всякие причины, но Антонина устроила ей настоящую травлю. Даже если у Таньки была справка врача об освобождении от уроков физкультуры, Антошка все равно заставляла приходить ее в зал и сидеть там целый урок на скамеечке.
Услышав, что в лагере тоже надо заниматься спортом, Танька решила сбежать домой. Хотя ей здесь и понравилось, но с нее хватит школьной физкультуры. Она так задумалась о побеге, что не сразу услышала, как кто-то назвал ее фамилию.
– Иванова, очнись, – постучала ей по плечу Валя. – Есть предложение выбрать тебя председателем отряда.