Читать онлайн Убийство Командора. Книга 1. Возникновение замысла бесплатно
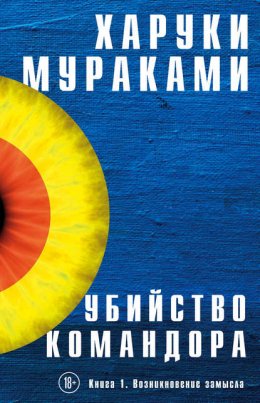
Haruki Murakami The Fiction literary work enh2d KILLING COMMENDATORE
Volume 1 (THE IDEA MADE VISIBLE) (“Book 1”)
Volume 2 (THE SHIFTING METAPHOR) (“Book 2”)
© 2017 by Haruki Murakami
© Замилов А., перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
* * *
Пролог
Вздремнув сегодня после обеда, я открыл глаза и увидел перед собой безлицего человека. Он сидел на стуле прямо напротив дивана, пристально уставив на меня воображаемый взгляд с отсутствия лица.
Мужчина был высок, одет, как и прежде, в длинный темный плащ. Широкие поля черной шляпы прикрывали его безликое лицо.
– Вот, я пришел. Давай, пиши мой портрет, – сказал Безлицый, убедившись, что я полностью проснулся. Говорил он тихо, голосом сухим и монотонным. – Помнишь, ты обещал.
– Помню. Но тогда не нашлось бумаги, вот ничего и не получилось. – В моем голосе тоже ни эмоций, ни интонаций. – Но мы квиты, я отдал вам амулет с пингвином.
– Да, я прихватил с собой эту безделушку.
С этими словами он вытянул правую – очень длинную – руку, в которой держал пластмассовую фигурку пингвина. Такие обычно крепятся ремешком к сотовому телефону. Безлицый обронил фигурку на кофейный столик, и та брякнула о стеклянную поверхность.
– Возвращаю. Тебе он, пожалуй, нужнее. Этот крошечный пингвин будет оберегать твоих близких. Я хочу, чтоб ты взамен написал мой портрет.
Я растерялся.
– Прямо не знаю – я никогда не рисовал людей без лица.
В горле у меня пересохло.
– Говорят, ты – мастер портрета. К тому же, все когда-нибудь бывает впервые, – сказал Безлицый и рассмеялся. Полагаю, что рассмеялся. Нечто похожее на смех донеслось как бы из глубины пещеры – словно гулкое завывание ветра.
А потом он снял шляпу. На месте, где полагалось быть лицу, медленно закручивалась по спирали лишь молочная пелена.
Я поднялся, принес из мастерской альбом и мягкий карандаш. Затем сел на диван, собираясь приступить к портрету Безлицего, – но не знал, с чего начать и где это начало искать. Ведь там не было ничего. А как можно придать форму тому, чего нет? Только белесая пелена, что окутывала эту пустоту, беспрестанно меняла форму.
– Советую поторопиться, – сказал Безлицый. – Я не могу оставаться здесь долго.
В груди у меня гулко билось сердце. «Времени в обрез, нужно быстрей». Однако рука с карандашом так и повисла в воздухе, не в состоянии сдвинуться с места. Как будто кисть онемела прямо от запястья. Он прав: мне есть о ком позаботиться, а я умею только рисовать. Но вот нарисовать Безлицего я так и не мог. Не зная, как быть, я удрученно следил за водоворотами пелены.
– Прости, но время вышло, – вскоре сказал Безлицый и глубоко выдохнул через рот несуществующего лица белый речной туман.
– Погодите! Еще немного…
Человек надел шляпу, вновь скрыв половину отсутствующего лица.
– Когда-нибудь я навещу тебя опять. Может, тогда ты наконец-то сможешь нарисовать меня. А до тех пор я придержу пингвина.
И Безлицый исчез. Растворился в воздухе, словно дымка от порыва ветра. Остались только опустевший стул да стеклянный столик. Пингвина на столике как не бывало.
Все это показалось мне мимолетным сном. Но я прекрасно понимал, что это не сон. Будь это так, сам мир, в котором я живу, – один сплошной сон.
Быть может, когда-нибудь я научусь рисовать портрет пустоты. Смог же другой художник закончить картину «Убийство Командора». А пока что мне требуется время. И очень важно, чтобы оно было за меня.
1
Если поверхность потускнела
С мая того года и до начала следующего я жил в горах неподалеку от начала узкой лощины. Летом в глубине лощины беспрестанно шел дождь, а за ее пределами почти всегда бывало ясно. Причиной тому – юго-западный бриз. Он приносил в лощину полные влаги облака, которые, поднимаясь по склонам, проливались ливнем. Дом стоял прямо на границе стихий, и даже когда мне на порог светило солнце, на заднем дворе зачастую лило как из ведра. Вначале мне это казалось очень странным, но вскоре я свыкся и перестал замечать.
Над горами нависали обрывки туч. Стоило подуть ветру, как эти клочки, словно забредшие из прошлого души, шатко плыли над горными склонами в поисках утраченных воспоминаний. Порой белые дождинки, словно мелкий снег, бесшумно кружились вихрями. Ветер здесь почти никогда не утихал, и летом в доме было вполне терпимо без кондиционера.
Дом был стар и мал, зато двор оказался очень просторным. Стоило немного его запустить, как все заросло сорняками в человеческий рост, где, точно скрываясь от закона, прижилось кошачье семейство. Но вскоре приехал садовник, скосил всю траву, и полосатой кошке с тремя котятами пришлось уйти – укрыться ведь негде. Напоследок кошка-мать сурово озиралась – такая худая, что сразу было видно: не жилец она.
Дом выстроили на вершине горы, и с террасы, смотревшей на юго-запад, сквозь лесную чащу видно было море. Казалось, его там не больше, чем воды в раковине: просто мелкая лужица в сравнении с огромным Тихим океаном, – но, по словам моего знакомого агента по недвижимости, даже при таком размере вида на море цены на землю с ним и без него сильно отличаются. Хотя мне было без разницы, есть там вид на море или нет: издалека обрывок морской глади казался лишь тусклым куском свинца. И я не понимал, отчего людям так хочется непременно видеть море. Мне, наоборот, больше нравилось разглядывать окружающие горы. Ведь склоны в глубине лощины в разные сезоны и в разную погоду так живо меняют свой облик. И я нисколько не уставал от каждодневных перемен.
К тому времени я расстался с женой, и мы даже подписали документы для официального развода, но позже нам выпала возможность начать супружескую жизнь сызнова.
Сложно сказать, почему так вышло. Даже мы, участники тех событий, едва улавливаем связь между их причиной и следствием. Если обобщить одной фразой, прозвучит банально – мы примирились. А между двумя периодами супружеской жизни – так сказать, предыдущим и последующим – зияет пространная брешь длиною в девять с лишним месяцев, точно канал с отвесными стенками, прорытый в узком перешейке.
Я сам не могу понять: девять с лишним месяцев – для расставания это долго или нет? Когда я потом оглядывался на то время, мне иногда казалось, что они тянулись вечно – или, наоборот, пролетели на удивление незаметно. День ото дня впечатление менялось. Часто, фотографируя, для верного восприятия размера предмета рядом кладут сигаретную пачку. Так вот, сигаретная пачка, помещенная сбоку от проекции моей памяти, будто бы своевольно вытягивалась и сжималась в зависимости от моего сиюминутного настроения. В пределах моей памяти, подобно тому, как безостановочно видоизменяются разные вещи и обстоятельства – или же в противовес этому, – похоже, беспрерывно меняются даже неизменные, казалось бы, закономерности.
При этом я не хочу сказать, будто так же, наобум, мечется и своевольно меняет размеры вся моя память. Жизнь моя, по сути, сложилась ровно, ладно и резонно. И лишь на эти девять месяцев она пришла в состояние необъяснимого полнейшего хаоса. Тот период стал для меня во всех смыслах исключительным и необычным. Словно бы меня, плывущего посреди спокойного моря, затянуло в неопознанный огромный водоворот.
Может быть, поэтому, когда я вспоминаю события того периода (да, я делаю эти записи по памяти – все происшествия случились несколько лет назад), степень их тяжести, отдаленности и связанности нередко колеблется и становится неопределенной, и стоит лишь ослабить внимание, как в тот же миг логический порядок полностью сбивается. Но даже при этом я приложу все усилия, чтобы построить рассказ, насколько это будет возможно, систематично и логически. Возможно, в конечном итоге, это бесполезная попытка, но я хотел бы отчаянно уцепиться за мои придуманные гипотетические закономерности. Так обессилевший пловец хватается за подвернувшееся бревно.
Перебравшись в тот дом, первым делом я обзавелся дешевой подержанной машиной. Прежнюю незадолго до этого я загнал, будто лошадь, и отправил ее в утиль, так что мне понадобилась другая. Когда живешь в провинциальном городке, да к тому же в одиночестве в горах, машина становится предметом первой необходимости: для покупок и прочих повседневных дел. В центре подержанных машин «Тоёта», что в пригороде Одавары, я нашел недорогую «короллу»-универсал. Продавец пояснил, что кузов – нежно-голубой, хотя мне он напоминал цвет лица изможденного болезнью человека. Пробежала машина тридцать шесть тысяч километров, но не без аварии, из-за чего на нее сделали значительную скидку. Я немного проехался – тормоза и колеса в порядке. Гонять целыми днями по автострадам я не собирался, поэтому решил, что мне подходит.
Дом же сдал мне в аренду Масахико Амада – мой однокашник по Институту искусств. На два года старше, но при этом – один из тех немногих друзей, кто был близок мне по духу. Мы иногда встречались и после выпуска. Получив диплом, он отказался от живописи и, устроившись в рекламное агентство, посвятил себя графическому дизайну. Он знал, что я, расставшись с женой, ушел из дому и податься мне особо некуда, а потому предложил пожить в пустующем родительском доме. Заодно и присмотрю за ним. Его отец, Томохико Амада – известный японский традиционный художник, – владел этим домом со студией в горах неподалеку от Одавары. Похоронив супругу, последние десять лет отец вел одинокую вольготную жизнь в этом доме. И все бы ничего, но недавно у него обнаружили прогрессирующее слабоумие и поместили старика в фешенебельный пансионат на плоскогорье Идзу. Так что дом несколько месяцев назад опустел.
– Знаешь, дом – на вершине горы, место не самое удобное. Спокойное – да, гарантия сто процентов. Прямо-таки идеальное, чтобы писать картины. Абсолютно ничего не отвлекает, – сказал Масахико.
Арендная плата была символической.
– Если в доме никто не живет, он начинает ветшать; так или иначе, переживаешь из-за домушников и пожаров. Жил бы там кто-нибудь постоянно – и нам будет спокойно. Но жить абсолютно задаром, полагаю, не в твоих принципах? Я же, в свою очередь, могу попросить тебя съехать по первому звонку.
Я был не против. Все мое имущество свободно помещалось в багажнике малолитражки. Велят съезжать – смогу съехать хоть на следующий день.
Перебрался я в тот дом после майских выходных. Скромное одноэтажное строение в европейском стиле было вполне похоже на коттедж, но при этом оказалось достаточно просторным для холостяка. Дом стоял на вершине невысокой горы, в зарослях; Масахико сам толком не знал границ своего участка. Во дворе росла, раскинув толстые ветви на все четыре стороны, большая сосна. Местами проложены дорожки из плоского камня, рядом с каменным светильником росло прекрасное банановое дерево.
Как Амада и говорил, там действительно было очень тихо. Однако теперь, вспоминая те события, я бы не сказал, будто абсолютно ничто меня не отвлекало.
За восемь неполных месяцев, что я, расставшись с женой, прожил в той лощине, я спал с двумя женщинами. Обе замужние. Одна младше меня, другая – старше. И обе – ученицы изокружка, в котором я преподавал.
Выбрав удобный случай, я предложил каждой из них переспать со мной (обычно я так не поступаю – по характеру я человек стеснительный и к такому не привык), и они не отказались. Не знаю, почему, но в то время уложить их в постель казалось мне делом простым и логичным. Я не испытывал угрызений совести за то, что сексуально соблазняю тех, кого сам же учу. И плотские отношения с ними казались мне таким же обыденным делом, как спросить у случайного прохожего, который час.
Первой стала высокая черноглазая женщина под тридцать, с маленькой грудью и тонкой талией. У нее был высокий лоб, прямые красивые волосы, но непропорционально большие уши. Пусть не красавица в прямом смысле слова, но с такими чертами лица, что ее захотел бы нарисовать любой художник (и я, сам художник, несколько раз действительно пробовал набросать ее портрет). Детей нет. Муж – преподаватель истории в частной средней школе повышенной ступени[1] – дома колотил жену. В школе распускать руки он не мог, и накопившийся гнев срывал дома на жене. Но по лицу не бил. Однажды, раздев ее донага, я рассмотрел синяки и шрамы по всему ее телу. Она не хотела, чтобы их видели другие, и, прежде чем раздеться, гасила в комнате свет.
Секс ее почти не интересовал. Нередко внутри у нее оставалось сухо, я пытался вставить – и ей становилось неприятно. Я неторопливо и нежно ее возбуждал, но ни ласки, ни смазывающий гель нужного действия не оказывали. Боль была острой и никак не унималась. От боли она временами громко вскрикивала.
Но даже при этом она хотела секса со мной. По меньшей мере, ей это не было противно. Интересно, почему? Может, она жаждала боли? Или, возможно, так избегала приятных ощущений? Или даже пыталась каким-то образом себя покарать? Да мало ли чего порой хотят люди от жизни. Но вот одного она не желала – близости.
Она была против встреч у меня или у нее дома, поэтому мы ехали на моей машине к морю, и там, вдали от всех, в гостинице для пар занимались сексом. Встречались на просторной парковке сетевого ресторана, в начале второго входили в номер и к трем покидали его. Для таких встреч она непременно надевала большие солнцезащитные очки – даже в пасмурный день или в дождь. Но как-то раз она не приехала в условленное место и перестала посещать изостудию, тем самым положив конец нашей короткой и безнадежной связи. Всего мы встречались так раз четыре или пять.
Затем у меня возникла связь с другой замужней женщиной, которая жила счастливой семейной жизнью. По крайней мере, выглядело так, будто ее семья ни в чем не нуждается. Ей тогда исполнилось (насколько я помню) сорок один, а значит, она была на пять лет старше меня. Невысокая, с правильными чертами лица, всегда одета со вкусом. Три раза в неделю она ходила в спортзал на йогу, и потому ее живот был без единой складки жира. Ездила на новеньком красном «мини-купере», издалека сверкавшем на солнце свежей полировкой. Обе ее дочки учились в дорогой частной школе в районе Сёнан, которую прежде окончила и их мать. Муж управлял какой-то фирмой, но что за фирма, я не спросил (и, разумеется, даже не собирался).
Я не могу понять, почему она не отвергла мои подкаты. А может, в то время я излучал особый магнетизм? И я притянул ее душу (если можно их сравнивать), как простой кусок железа. Или же ни мой магнетизм, ни ее душа здесь совсем ни при чем, а ей просто потребовалась плотская встряска на стороне, и я всего-навсего ей подвернулся.
Во всяком случае, я мог спокойно давать все, что ей было нужно в ту пору, – как бы само собой, чем бы оно ни было. Как мне показалось, вначале она очень естественно наслаждалась нашей связью. Если говорить о ее плотской стороне (пусть других сторон, заслуживающих упоминания, и не было вовсе), мои с ней отношения складывались весьма гладко. Мы занимались сексом чисто и честно, и эта чистота достигла практически абстрактного уровня. Я поймал себя на этой мысли не сразу, и она меня слегка изумила.
Однако со временем женщина образумилась. Тусклым утром в начале зимы раздался телефонный звонок, и она, будто читая по бумажке, проговорила:
– Полагаю, нам больше не стоит встречаться. Ведь продолжения у наших отношений нет.
Или что-то в том духе.
И вправду, какое там продолжение? У них не было даже основы.
В студенчестве я в основном увлекался абстрактной живописью. Простое, казалось бы, понятие «абстрактная картина» подразумевает довольно широкие рамки. Я не знаю, как объяснить ее формы и содержание, однако это – «картина, передающая нефигуративный образ вольно и непринужденно». Некоторые мои работы удостоились второстепенных премий на выставках, а обо мне самом в журналах об искусстве появлялись публикации. Не многие, но некоторые преподаватели и приятели поддерживали меня и ценили мои картины. И пусть от моего будущего многого не ждали, я считаю, что талант к живописи у меня все-таки был. Вот только для моих картин зачастую требовались большие холсты и много краски, что, разумеется, повышало расходы. Нечего и говорить: вероятность того, что какой-нибудь благожелатель приобретет подборку абстрактных полотен неизвестного художника и украсит ими стены своего дома, сводилась к нулю.
Конечно, я бы не прожил любимым творчеством, а поэтому, чтобы заработать на хлеб, по окончании института стал принимать заказы на портреты – директоров фирм, важных в научных кругах персон, депутатов, выдающихся провинциалов – тех, кого можно назвать «столпами общества» (пусть даже разной толщины); и прорисовывал их образы весьма фигуративно. От меня требовалось изображать их реалистично, величаво, полными достоинства и самообладания. То были картины во всех отношениях практического использования: они вешались на стены в директорские приемные и кабинеты. В общем, по работе мне приходилось рисовать совсем не то, к чему я стремился как художник. И, положа руку на сердце, никакой гордости за эти работы я не испытывал.
В районе Ёцуя снимала помещение одна маленькая фирма, которая принимала заказы исключительно на портреты, и я по рекомендации своего бывшего педагога подписал с ними эксклюзивный контракт. Хоть я и не получал фиксированную зарплату, несколько выполненных работ давали доход, позволявший мне, молодому холостяку, жить вполне безбедно: оплачивать тесную квартирку в доме по линии Кокубундзи частной железной дороги Сэйбу, три раза в день питаться, временами покупать дешевое вино, изредка ходить с подружками в кино. Несколько лет прошло так, словно их отпечатали под копирку: я сосредоточенно рисовал портреты, а затем, пока не заканчивались деньги на жизнь, возвращался к творчеству для души. В те годы заказы на портреты были для меня лишь средством к существованию, и продолжать эту работу до бесконечности я не собирался.
Признаться, с точки зрения самой работы, выполнение типичных портретов было достаточно простым занятием. В студенчестве мне приходилось подрабатывать носильщиком в компании по переездам, продавцом в круглосуточном магазине. В сравнении с этим нагрузка при написании парадных портретов – как физическая, так и эмоциональная – намного меньше. Достаточно понять суть, а дальше – сплошное повторение одного и того же. Вскоре мне уже не требовалось много времени, чтобы написать очередной портрет. Как если бы я ставил самолет на автопилот.
Однако через год такой безразличной работы я узнал, что мои портреты, как ни странно, ценятся. Они оказались безупречны и нравились заказчикам. Ведь частые упреки и недовольство клиентов, разумеется, не прибавили бы мне заказов, а то и вообще стоили бы мне контракта. Наоборот, хорошие отзывы – считай, больше работы, и гонорар с каждым разом хоть ненамного, но растет. Жанр портрета – достаточно серьезное поле деятельности. Однако мне, фактически новичку, продолжали поступать заказы, что, разумеется, сказывалось и на доходах. Мой менеджер из конторы не нарадовался качеству моей работы, а некоторые заказчики ценили мои портреты за особый штрих.
Сам я не мог объяснить, чем привлекали внимание мои портреты. Ведь я лишь выполнял – без огонька – один заказ за другим. И, честно говоря, не припомню ни одного лица из тех, какие мне довелось написать. Но все же не стоит забывать, что я учился на художника и не могу рисовать совершенно никчемную, ничего не стоящую картину, какого бы жанра та ни была. Иначе мне самому было бы стыдно за наплевательский подход к ремеслу, которому я учился. Пусть это не те работы, которыми человек вправе гордиться, но все же я старался избегать творений, за которые самому было бы стыдно. Пожалуй, такое можно назвать некоей профессиональной этикой. Но сам я просто не мог поступать иначе.
И вот еще что: с самого начала я последовательно вырабатывал собственный стиль. Перво-наперво я не спешил рисовать портрет с натуры. Получив заказ, договаривался с героем портрета о встрече – хотя бы на час, и мы с ним беседовали наедине. Просто так. Я даже не делал наброски. Я задавал вопросы, а собеседник на них отвечал. Где, когда и в какой семье родился, как провел детство, в какую школу ходил, куда устроился работать, какую завел семью и как достиг нынешнего положения. Еще мы говорили о повседневной жизни, увлечениях. Как правило, люди охотно рассказывали о себе. При этом – очень увлеченно (пожалуй, потому, что их истории другим были безразличны). Так условленный час перетекал в другой, а бывало порой, что и в третий. Затем я брал на время пять-шесть фотографий клиента – обычные снимки из их повседневной жизни, в естественных позах. Бывало (но далеко не всегда), сам делал несколько фотографий с разных ракурсов своим портативным фотоаппаратом. И этого обычно бывало достаточно.
Многие обеспокоенно уточняли:
– Нам что, не нужно позировать? Сидеть неподвижно? – Все они считали, что им не избежать такой участи, раз уж пишут их портрет. Они представляли себе знакомую по фильмам сцену, когда художник (благо, в наши дни – без берета), нахмурившись, стоит с кистью в руках перед холстом, а перед ним неподвижно сидит натурщик. И двигаться ему при этом нельзя.
– Вы сами этого хотите? – переспрашивал я. – Позировать для непривычного к этому занятию человека – тяжкий труд. Долгое время необходимо сохранять одну и ту же позу. Это весьма скучно, к тому же затекает тело. Но если вы этого желаете, что ж – так тогда и поступим.
Разумеется, 99 % клиентов ничего подобного не хотели. Почти все они – очень активные, занятые люди либо отошедшие от дел старики. И, по возможности, никто не прочь избежать бессмысленных мук такой самодисциплины.
– Мне достаточно просто выслушать вас, – успокаивал их я. – Станете вы позировать или нет, на результат работы это не повлияет. Если вам результат не придется по вкусу, я напишу новый портрет.
Недели через две портрет бывал готов (на то, чтобы полностью высохли краски, требуется несколько месяцев). И для этого мне вовсе не нужен клиент перед глазами, а требуется лишь яркая память о нем (случалось даже так, что присутствие клиента, наоборот, мешало работе). Память о его образе в объеме. И оставалось лишь перенести этот образ на холст. Похоже, я от рождения был одарен этой способностью – отличной зрительной памятью. И так получилось, что эта способность, которую вполне можно назвать особым искусством, стала важным козырем в моем ремесле портретиста.
Еще для меня очень важно испытывать хоть чуточку приязни к тому, кого я изображаю. Поэтому при первой встрече с клиентом я старался разглядеть в нем как можно больше схожих со своими симпатий и взглядов. Конечно, среди заказчиков встречаются и такие, в ком и разглядывать попросту нечего. А с некоторыми я не стал бы связываться, даже предложи мне кто из них свою дружбу. Другое дело – один-два раза навестить клиента в удобном для него месте. В таком случае выявить одну-две приятные черты характера – дело не столь уж и трудное. Если заглянуть в самую глубь, в любом человеке сияет какой-нибудь бриллиант. Важно отыскать такую драгоценность и, если поверхность ее потускнела (а чаще всего так и бывает), натереть до блеска, сняв налет. Зачем? Потому что этот настрой сам собой отразится в произведении.
Вот так незаметно для себя я стал художником-портретистом. Даже получил некую известность в специфических узких кругах. Под предлогом женитьбы я отказался от эксклюзивного контракта с той фирмой на Ёцуя и стал работать сам по себе. Моим посредником стало агентство, для которого живопись – бизнес, благодаря чему я начал получать заказы на более выгодных условиях. Мой агент был на десять лет старше меня – компетентный и волевой человек. Мне, как свободному художнику, он посоветовал относиться к работе еще прилежнее. С тех пор я рисовал портреты разных людей (по большей части бизнесменов и политиков – известных в своих сферах личностей, чьи имена, однако, мне лично ничего не говорили) и получал за это совсем неплохие гонорары. Но это не значит, что меня признали. Мир портретистов отличается от мира искусств. Тем более отличается он от мира фотографов. И если фотографы-портретисты изредка, но добиваются признания своего творчества и становятся известными личностями, то художникам-портретистам это не светит. Их произведения крайне редко проникают во внешний мир. Такие портреты не публикуют в художественных альманахах и не выставляют в галереях. В рамах на стенах каких-то приемных они просто покрываются пылью и пеленой забвения. А если кто-то неспешно рассмотрит картину (вероятно, от избытка свободного времени), то вряд ли станет справляться об имени художника.
Временами я воспринимал себя как некую элитную проститутку от живописи. Свободно владея техникой, я старался все выполнять четко и добросовестно. К тому же я знал, как сделать так, чтобы клиент остался доволен, – был у меня и такой талант. Я работал высокопрофессионально, но это не значит, что я лишь механически следовал установленному порядку. Нет, по-своему я вкладывал душу. Стоили портреты весьма недешево, но клиенты платили, не жалуясь. Ведь я имел дело с людьми, не обращавшими внимания на цену, и молва о моем мастерстве передавалась от одного человека к другому. Благодаря чему поток клиентов не иссякал, и в моем рабочем графике почти не оставалось окон. Вот только сам я работой не горел. Ну ни на йоту.
Я не собирался становиться такого рода художником. Как и человеком, впрочем, тоже. Просто в силу разных обстоятельств в какой-то момент перестал рисовать для себя. Конечно, сказалась женитьба, помыслы о размеренной жизни, но не только это. По правде говоря, еще до того у меня совершенно пропало острое желание рисовать для себя, и семейная жизнь – всего-навсего отговорка. Меня уже нельзя было назвать молодым. Нечто похожее на пламя, пылавшее в груди, казалось, исподволь угасало у меня внутри. И я постепенно забывал ощущение согревавшего меня тепла.
В какой-то момент мне следовало перестать быть тем, кем я стал. Попробовать хоть что-нибудь изменить. Вот только я все откладывал на потом. И раньше, чем я сам, от меня прежнего отказалась жена. Мне тогда исполнилось тридцать шесть.
2
Возможно, все улетят на Луну
– Извини, но жить с тобой я больше не смогу, – тихо отрезала она и надолго умолкла.
Внезапное заявление моей жены застало меня врасплох. От неожиданности я не знал, что ей ответить, и ждал, что еще она скажет. Вряд ли что-то приятное для меня, но в тот миг я ничего не мог с собой поделать – разве что дождаться ее следующей фразы.
Мы сидели за столом на кухне друг напротив друга. Было это в воскресенье после полудня, в середине марта, примерно за месяц до шестой годовщины нашей свадьбы. В тот день с утра зарядил холодный дождь. После слов жены я первым делом выглянул за окно – дождь лил тихо и совсем бесшумно. Почти без ветра. Но все же он нес в себе холод – такой, что въедливо пробирает до костей. Он будто напоминал, что до весны еще далеко. За пеленой дождя тускло маячил оранжевый контур Токийской башни. В небе ни одной птицы. Они, укрываясь под карнизами, терпеливо пережидают дождь.
– Только не спрашивай причину, ладно? – попросила она.
Я слегка качнул головой. Ни «да», ни «нет». Я не мог сообразить, какие слова окажутся уместны, и потому кивал машинально.
Она сидела в обтягивающем свитере цвета лаванды, с широким вырезом. Мягкие бретельки белого топа выглядывали рядом с оголенной ключицей. Напоминали они какие-то макаронины, приготовленные по особому рецепту.
– Один вопрос, – наконец сказал я, глядя на бретельки, но не замечая их. Сухо, тоном, лишенным надежды и обаяния.
– Если я смогу на него ответить.
– В этом… есть моя вина?
Она задумалась, а затем, подобно человеку, который долго нырял, а теперь выплыл на поверхность, медленно сделала глубокий вдох.
– Думаю, непосредственно нет.
– Непосредственно нет?
– Думаю, нет.
Я постарался уловить ее интонацию. Будто взвешивал на ладони яйцо.
– То есть… косвенно есть?
На это жена ничего не ответила.
– Несколько дней назад, под утро, я видела сон, – сказала она вместо ответа. – Такой явственный, что я сама не могла разобрать, где грань между действительностью и сновидением. А когда открыла глаза, то подумала… даже не так – отчетливо осознала: все, больше я с тобой жить не смогу.
– О чем был сон?
Она покачала головой.
– Прости, но этого сказать я не могу.
– Потому что сон – это личное?
– Пожалуй.
– Кстати, я был в том сне? – спросил я.
– Нет, ты в нем не появлялся. Выходит, и в этом смысле тоже непосредственно твоей вины нет.
Я на всякий случай резюмировал ее фразы. Это моя давнишняя привычка – резюмировать фразы собеседников, когда не знаешь, что им сказать (чем я их частенько злю).
– Иными словами, несколько дней назад ты увидела явственный сон. А когда проснулась – осознала, что жить со мной больше не сможешь. И также не можешь сказать мне, о чем был твой сон. Потому что сон – это личное. Так?
Она кивнула.
– Да, все так и есть.
– Но это ровным счетом ничего не объясняет.
Она положила руки на стол и посмотрела внутрь кофейной чашки, стоявшей прямо перед ней. Будто увидела внутри этой чашки предсказание и пыталась разобрать его текст. И, судя по ее взгляду, предсказание оказалось очень символическим и многозначным.
Сны всегда много значили для нее. Они нередко влияли на ее решения и поступки. Но как бы ни веровала жена моя в сны, одно явственное видение никак не должно свести на нет всю вескость шести лет нашей супружеской жизни.
– Сон – не более чем спусковой крючок, – сказала она, словно прочтя мои мысли. – После того сна у меня будто все разложилось по полочкам.
– Нажмешь на спусковой крючок, и вылетит пуля?
– О чем ты?
– Без спускового крючка пистолет – не пистолет, и мне кажется, выражение «не более чем спусковой крючок» тут неуместно.
Она пристально смотрела на меня, ничего не говоря. Похоже, никак не могла понять, что я хотел ей этим сказать. Хоть я и сам, по правде, мало что понимал.
– Ты встречаешься с каким-то другим мужчиной? – спросил я.
Она кивнула.
– И с ним же, выходит, спишь?
– Да. Я виновата перед тобой. Прости.
Пожалуй, мне стоило спросить, кто он и как давно это происходит. Но знать этого мне не хотелось. Я не желал об этом даже думать. Поэтому опять смотрел за окно, наблюдая, как на улице льет, не переставая, дождь. И почему я до сих пор ничего не замечал?
Жена сказала, прервав молчание:
– Но это – лишь одна из причин.
Я обвел глазами квартиру. Привычное, казалось бы, жилье теперь предстало передо мной, словно пейзаж далекой чужбины.
«Лишь одна из причин»?
Что это значит: «Лишь одна из причин»? – всерьез задумался я. Она занимается сексом с кем-то… помимо меня. Но это – лишь одна из причин? Какие тогда есть еще?
Жена сказала:
– Через несколько дней я покину этот дом, поэтому тебе ничего делать не нужно. Это на моей совести, и, разумеется, уйду я.
– Уже решила, куда?
Она не ответила, но, похоже, да – уже решила. Вероятно, собралась с духом завести этот разговор, все заранее подготовив. От одной этой мысли я ощутил свою беспомощность, будто оступился в кромешном мраке, сделав неверный шаг. Пока я ни о чем не догадывался, обстоятельства развивались своим чередом.
Жена сказала:
– Я постараюсь не затягивать с разводом и надеюсь на твое содействие. Понимаю, что слишком многого от тебя требую.
Я перестал следить за дождем и перевел взгляд на нее. И вновь подумал, что за шесть лет жизни с этой женщиной под одним кровом я так в ней и не разобрался. Так же люди ничего не понимают в луне, хоть и видят ее на небосводе почти каждый вечер.
– Одна к тебе просьба, – собравшись с духом, сказал я. – Выполнишь ее, а дальше – поступай, как знаешь. За это обещаю, не мешкая, поставить печать на заявлении о разводе.
– Что за просьба?
– Уйду из дому я. Причем сегодня. Тебя же прошу остаться.
– Прямо сегодня? – удивленно спросила она.
– Ну да. Ведь чем раньше, тем лучше?
Она немного подумала и вскоре сказала:
– Ну, раз тебе хочется…
– Да, именно этого я хочу, и больше мне ничего не нужно.
Здесь я не лукавил. Будь что будет. Не оставаться же мне в одиночестве в этом месте, напоминавшем жалкие руины, один на один с холодным мартовским дождем?
– Машину я заберу. Хорошо?
Хотя об этом можно было и не спрашивать. Машину с коробкой мне отдали друзья еще до свадьбы. Счетчик спидометра давно перевалил за сто тысяч километров. К тому же у жены все равно не было прав.
– За мольбертом, красками, одеждой и прочими вещами заеду позже. Ты не против?
– Не против. Только «позже» – это примерно когда?
– Пока не знаю, – ответил я. Мне сейчас не до того, чтоб думать наперед, у меня земля уходит из-под ног. И я тут балансирую из последних сил.
– Почему я спрашиваю? Потому что вряд ли… задержусь здесь… надолго, – сказала она, запинаясь.
– Возможно, все улетят на луну, – промолвил я.
Похоже, она не поняла и переспросила:
– Что ты сейчас сказал?
– Да так, ничего. Пустяки.
В тот же вечер к семи я сложил свои вещи в большую спортивную сумку и закинул ее в багажник красного хетчбэка «пежо-205». Смена белья на первое время, туалетные принадлежности, несколько книг и ежедневник. Какую-то походную утварь, которую брал с собой для пеших прогулок в горах. Альбом для эскизов и набор карандашей. Что еще взять, сообразить я не мог. Пока хватит. Понадобится – можно пойти и купить. Когда я выходил из дому с сумкой в руке, жена все еще сидела на кухне. И кофейная чашка по-прежнему стояла перед ней. Как и прежде, жена смотрела в чашку.
– Послушай, у меня к тебе тоже одна просьба, – сказала она. – Хоть мы и разойдемся, останемся же друзьями?
Что она хотела этим сказать, я так и не понял.
Я обулся, закинул на плечо сумку и, положив руку на дверную ручку, кратко глянул на жену.
– Говоришь, останемся друзьями?
Она сказала:
– Ну, если б мы иногда могли встречаться, чтобы поболтать…
Я пока не мог понять смысла ее слов. Остаться друзьями? Иногда встречаться, чтобы поболтать? Ну, встретимся – и о чем мне с ней говорить? Она будто задает мне загадки. Что она хочет мне этим сказать? Зла на нее я, в общем-то, не держу. Если она об этом.
– Не знаю. Посмотрим.
Других слов у меня не нашлось. Навряд ли я смог бы найти другие, простой там хоть неделю. Поэтому я просто отворил дверь и вышел наружу.
Я совсем не думал, в чем покидаю свой дом. И наверняка не заметил бы, будь на мне хоть халат поверх пижамы. Позже, заехав на парковку в туалет, перед высоким ростовым зеркалом я увидел, во что одет: рабочий свитер, яркий оранжевый пуховик, синие джинсы и рабочие ботинки. На голове – старая вязаная шапочка. Местами на обтрепанном зеленом пуловере белели пятна краски. Из всей одежды одни лишь джинсы были совсем новыми и резали глаз своей яркой синевой. В целом выглядел я весьма пестро, но не сказать, что как-то причудливо. И пожалел я лишь о том, что забыл прихватить шарф.
Когда я выезжал с подземной парковки дома, мартовский студеный дождь все еще продолжал бесшумно лить. Дворники «пежо» так шоркали по стеклу, будто рядом хрипло кашлял старец.
Я понятия не имел, куда податься и некоторое время бесцельно колесил по токийским дорогам, куда глаза глядят. От перекрестка Ниси-Адзабу направился по улице Гайэн-Ниси в сторону Аоямы. Там за третьим кварталом повернул направо и поехал на Акасаку, после нескольких поворотов оказался на Ёцуя. Затем заехал на первую попавшуюся на глаза заправку и наполнил бак под завязку. Еще попросил проверить уровень масла и давление в шинах. Также мне залили жидкость для стекол. Кто знает, может, мне предстоит прямо сейчас выдвинуться в дальний путь. А может, и добираться до луны.
Заплатив кредиткой, я опять выехал на трассу. Дождливым воскресным вечером дорога была пуста. Включил было радио, но там оказалось слишком много пустой болтовни. Голоса людей чересчур пронзительны. В плеере компакт-дисков стоял первый альбом Шерил Кроу. Послушав оттуда три композиции, я выключил звук.
И тут заметил, то еду по улице Мэдзиро. Потребовалось некоторое время, чтобы понять, в какую сторону. Затем я сообразил – от Васэды в сторону Нэрима. Тишина стала нестерпимой, я опять включил плеер. После нескольких треков опять выключил. Тишина была слишком спокойной, музыка – раздражающе шумной. Но лучше уж тишина. До моих ушей доносилось только шорканье изношенных «дворников» да непрерывное шуршание колес по мокрому асфальту.
В тишине я представил жену в объятиях какого-то другого мужчины.
Об этом мне следовало бы узнать пораньше. Ну почему я не догадался? Несколько месяцев у нас не было секса. Я соблазнял, но она под разными предлогами отказывала. Вернее сказать, с некоторых пор секс ее не интересовал. А я считал, что, вероятно, бывают и такие промежутки. Поди устает на работе, может, неважно себя чувствует. При этом она, конечно же, спала с каким-то другим мужчиной. Когда это началось? Я попытался вспомнить. Месяца четыре или пять тому назад. Примерно с октября или ноября.
Однако что было тогда, я вспомнить не смог. О чем тут говорить, если я толком не мог припомнить даже вчерашний день.
Поглядывая на светофоры, чтобы не проехать на красный, я держал дистанцию до задних фар машины, что ехала впереди, а сам размышлял о событиях прошлой осени. Размышлял так сосредоточенно, что закипали мозги. Правая рука машинально переключала скорости, подстраиваясь под транспортный поток, левая нога, опережая движение руки, выжимала сцепление. В такие минуты меня никак не радовала езда в машине на коробке. Ведь кроме того, что я думал о жене, мне приходилось постоянно действовать руками и ногами.
Что же было в октябре и ноябре?
Я представил, как осенним вечером на широкой кровати какой-то мужчина раздевает мою жену. Подумал о белых бретельках ее топа. Подумал о розовых сосках под этим топом. Воображать все это одно за другим я не хотел, но и не мог прервать вереницу засевших в голове домыслов. Я вздохнул, заехал на возникшую перед глазами парковку придорожного ресторана. Открыл водительское окно и, вдохнув полной грудью сырой воздух с улицы, неспешно успокоил биение сердца. Затем вышел из машины. Как был в вязаной шапочке, без зонтика прошел под мелким дождем по парковке в ресторан. Там уселся в кабинке в глубине зала.
Посетителей было мало. Подошла официантка, я заказал горячий кофе и бутерброд с ветчиной и сыром. Отпив кофе, я закрыл глаза и попытался овладеть собой. Попытался прогнать это наваждение: жену ласкает другой мужчина, – но оно никак не исчезало.
Я пошел в туалет, где вымыл руки с мылом и заново посмотрел на отражение лица в зеркале, висевшем над раковиной. Налившиеся кровью глаза казались меньше обычного. Как у лесного зверька, потерявшего от голода последние силы: он исхудал и напуган. Протерев бумажными салфетками лицо и руки, я посмотрел, как выгляжу в большом зеркале на стене. Там отражался осунувшийся тридцатишестилетний художник в неказистом свитере с пятнами краски.
Куда мне теперь податься? – подумал я, уставившись в зеркало. А еще раньше: до чего я докатился? Где это я? Даже не так, прежде всего – кто я такой?
Глядя на свое отражение в зеркале, я подумал: а не нарисовать ли мне автопортрет? Если вдруг соберусь – каким я себя изображу? Найдется ли у меня хоть капля любви к самому себе? Смогу ли я обнаружить в себе хотя бы один лучик света?
Оставив вопросы без ответов, я вернулся за столик. Когда допил кофе, подошла официантка и опять наполнила чашку. Еще я попросил принести мне бумажный пакет, и когда та выполнила заказ, положил туда нетронутый бутерброд. Позже проголодаюсь, а пока есть не хотелось.
Выйдя из ресторана, я поехал по дороге прямо и вскоре увидел щит с указателем на автостраду Канъэцу[2]. А что, заеду на хайвэй и двину на север, подумал я. Что там, на севере, я не знаю. Но мне показалось: чем ехать на юг, лучше податься на север. Хотелось оказаться в прохладном и чистом месте. Не важно, на юге или севере, просто мне хотелось уехать подальше от этого города.
Открыв бардачок, я увидел там пять или шесть компакт-дисков. Один из них – струнный октет Мендельсона в исполнении «I Musici». Жене нравилось слушать эту музыку во время наших поездок. Красивое произведение – две интерпретации двух схожих по составу струнных квартетов. Когда Мендельсон это сочинял, ему было шестнадцать. Так мне сказала жена. Вундеркинд.
Что ты делал в свои шестнадцать?
В шестнадцать я был без ума от девчонки из нашего класса, сказал, вспомнив, я.
Ты с ней встречался?
Нет, ни разу нормально не поговорил. Просто наблюдал за ней издалека. Заговорить не было смелости. А вернувшись домой, набрасывал ее портреты. Их было много.
Ты с тех пор почти не изменился, смеясь, сказала жена.
Да, я с тех пор так и занимался почти одним и тем же.
Да, я с тех пор так и занимался почти одним и тем же, – повторил я в голове свою тогдашнюю фразу.
Достав из плеера диск Шерил Кроу, я поставил вместо него альбом «MJQ» «Пирамида». И под приятное блюзовое соло Милта Джексона ехал по автостраде прямо на север. Иногда заезжал передохнуть на придорожные парковки, неспешно отливал, затем пил горячий кофе и ехал дальше. Почти всю ночь. Ехал строго по первому ряду и перестраивался во второй только для обгона еле ползших грузовиков. Странно, однако спать не хотелось. Не хотелось настолько, что временами казалось, будто сон не придет больше никогда. И вот перед рассветом я уже оказался на побережье Японского моря.
В Ниигате я свернул направо и поехал вдоль моря на север, миновал Ямагату и Акиту, из Аомори переправился на Хоккайдо. На этот раз, не заезжая на автострады, неспешно колесил по обычным дорогам. Во всех смыслах размеренная поездка. Вечером находил простой рёкан[3] или дешевую гостиницу, заселялся и спал на узкой кровати. К счастью, где бы я ни был, какой бы ни была моя постель, я засыпал, стоило лишь в нее забраться.
На второй день с утра, проезжая город Мураками[4], я позвонил в агентство и сообщил, что некоторое время, судя по всему, не смогу принимать заказы. Оставалось несколько недоделанных портретов, но работать я был не в состоянии.
– Это никуда не годится… раз уж вы приняли заказ, – напористо возражал мой агент.
Я попросил прощения.
– Делать нечего. Придумайте что-нибудь, скажите, что попал в аварию. Есть ведь и другие художники, кроме меня.
Агент умолк. Он прекрасно знал, как добросовестно я отношусь к работе. До сих пор я ни разу не опоздал к сроку.
– Такая ситуация. Мне нужно на время уехать из Токио. И пока не вернусь, работать не смогу. Уж простите.
– На время – это примерно на сколько?
На этот вопрос я ответить не смог. А едва отключил сотовый телефон – остановился на мосту первой же реки по пути и швырнул в нее из окна этот маленький прибор для связи. Сожалею, но агенту придется с этим смириться. Пусть думает, что хочет – да хоть что я улетел на луну.
В Аките я заехал в банк, снял в банкомате наличных и проверил остаток на счете – там еще оставалась какая-то сумма. К нему же привязана моя кредитка. Какое-то время я смогу продолжать путешествие, ведь много денег я не трачу: бензин, еда и комната в дешевой гостинице, только и всего.
Неподалеку от Хакодатэ я приобрел на распродаже обычную палатку и спальный мешок. В начале весны на Хоккайдо все еще холодно, поэтому еще я купил теплое белье. И если поблизости от мест, куда я приезжал, попадались открытые кемпинги, я ставил палатку и в ней ночевал, чтобы по возможности не тратиться на постой. Снег и не подумывал таять, по ночам еще случались заморозки, но, видимо, потому, что до сих пор я спал в тесных номерах душных гостиниц, в палатке я чувствовал свежесть и свободу. Под палаткой – твердая почва, над палаткой – безграничное небо. На небе мерцали бессчетные звезды. И больше ничего вокруг.
Затем я три недели бесцельно колесил на своем «пежо» по разным уголкам Хоккайдо. Пришел апрель, но снег той весной залежался. Но цвет неба все равно заметно изменился, начали распускаться почки. В местах с горячими источниками я останавливался в рёканах, неспешно принимал ванны, отмокал и брился, питался сравнительно прилично. Но даже при этом, когда я встал на весы, оказалось, что после отъезда из Токио я сбросил всего-навсего пять килограммов.
Я не читал газет, не смотрел телевизор. С первых дней на Хоккайдо забарахлила стереосистема и вскоре заглохла окончательно. Я совершенно не знал, что происходит в мире и, по правде говоря, совсем не стремился узнать. Однажды в Томакомай я постирал в прачечной самообслуживания разом всю свою грязную одежду. А пока она сохла, сходил в ближайшую парикмахерскую постричь отросшие волосы. Там же меня и побрили. Сидя в кресле парикмахера, напротив телевизора, я впервые со дня отъезда из Токио увидел новости «NHK». То есть я сидел с закрытыми глазами, но до меня все равно доносился голос диктора, хотел я того или нет. Вся череда передаваемых новостей от начала и до конца показалась мне событиями на какой-то чужой планете, ничем не связанными со мной. Или же неким вымыслом, сфабрикованным кем-то на скорую руку.
Единственная новость, хоть чем-то созвучная со мной, – репортаж о смерти семидесятитрехлетнего грибника в горах Хоккайдо: его растерзал медведь. «Когда медведь просыпается от зимней спячки, он голоден, зол и потому очень опасен», – вещал диктор. Я иногда спал в палатке, под настроение гулял в одиночку по лесу, так что медведь вполне мог напасть и на меня. По чистой случайности в лапы медведю попался не я, а тот старик. Однако эта новость почему-то не вызвала у меня жалости к старику, зверски растерзанному зверем. Я даже не смог представить те боль, страх и шок, что, должно быть, пришлось испытать старику. Наоборот, я симпатизировал медведю. Хотя нет, это не симпатия, подумал я. Это больше похоже на пособничество.
Что со мной такое происходит, подумал я, всматриваясь в собственное отражение. Даже тихо проговорил это вслух, словно ослаб на голову. В таком состоянии лучше ни к кому не приближаться. По крайней мере – пока.
Апрель перевалил за половину, когда мне порядком надоел окружающий холод. Тогда я оставил Хоккайдо и вернулся на главный остров. Оттуда поехал по тихоокеанской стороне: из Аомори в Иватэ, оттуда в Мияги… Продвигаясь на юг, я ощущал постепенное приближение весны. Все это время я продолжал размышлять о жене. О ней и о том незнакомце, который, возможно, ласкает ее на чьей-то постели. Думать об этом мне вовсе не хотелось, но ничто другое в голову не лезло.
Мы с женой познакомились незадолго до моего тридцатилетия. Она была на три года младше меня. Работала архитектором второго класса в маленькой конторе на Ёцуя. Однокашница по школе моей тогдашней подружки. Встретились мы случайно: я с подружкой заглянул в какой-то ресторан, а там – она. Подружка нас и познакомила, и я влюбился с первого взгляда. Как сейчас помню ее волосы – прямые и длинные, легкий макияж, мягкие черты лица (вскоре я понял, что характер у нее совсем не такой мягкий, как внешность, но было уже поздно).
Ее лицо ничем особо не выделялось. Изъянов я не заметил, пленительной красоты, впрочем, тоже. Лицо как лицо: длинные ресницы, миниатюрный нос. Скорее худощава, чем наоборот. Длинные, почти касающиеся лопаток волосы (за которыми она тщательно следила) аккуратно уложены. У правого края пухлых губ маленькая родинка, которая причудливо двигалась, когда лицо ее меняло выражение. Это придавало ей слегка чувственный шарм, но только если хорошенько присмотреться. На первый взгляд подружка, с которой я тогда встречался, была намного красивее. Но это не помешало мне совершенно потерять голову. Меня будто ударило молнией. Интересно, почему? Прежде чем я догадался, прошло несколько недель, и в какой-то момент меня осенило: она мне напомнила покойную сестру. Очень явственно.
Внешне они не были похожи. Если сравнить фотографии обеих, никто не найдет ни малейшего сходства. Поэтому и я сначала не замечал. И напомнило о сестре не столько само лицо Юдзу, сколько его выражение: живой взгляд и блеск в глазах были точь-в-точь, как у сестры. Будто по какому-то волшебству прошлое воскресло прямо у меня на глазах.
Сестра тоже была младше меня на три года. Родилась с пороком сердца. В детстве она перенесла несколько операций, которые прошли успешно, но оставили серьезное осложнение. Пройдет оно само или же потом вызовет смертельную патологию, не знал даже врач. И все же сестра умерла, когда мне было пятнадцать. Накануне только-только перешла в среднюю школу. Всю свою короткую жизнь она неустанно боролась с генетическим дефектом, но при этом не лишилась бодрости и оптимизма. Всегда строила пространные планы на будущее, до последнего не позволяя себе слабину. Собственная смерть в ее планы не входила. Сколько себя помню, она была проницательной, прекрасно успевала в школе (и была куда более справным ребенком, чем я). А еще у нее была твердая воля, и от решений своих она не отступалась. Во время наших с ней ссор, случавшихся крайне редко, в конце всегда уступал я. Перед кончиной она сильно похудела и ссохлась, и только глаза по-прежнему были полны задора и жизненной силы.
Глаза – вот что привлекло меня в Юдзу. Нечто сокрытое в их глубине. С тех пор ее взгляд не дает мне покоя. Но это совсем не значит, будто заполучив ее, я собирался видеть в ней покойную сестру. Потому что мне хватило ума предположить: впереди меня ждет безысходность. Ведь все, что мне было нужно, чего я добивался – искра оптимистичной воли. Некий надежный источник тепла, чтобы жить. То, что мне было так знакомо и, пожалуй, чего так недоставало.
Искусно вызнав номер телефона, я пригласил ее на свидание. Она, конечно, сперва удивилась и затем еще долго колебалась. Ее можно было понять: ведь я – парень ее подруги. Но я не отступал. Сказал, что хотел бы встретиться и поговорить. «Просто увидимся и немного поболтаем. Только и всего. Больше мне ничего не нужно». Встретились за обедом в тихом ресторане. Беседа вначале не заладилась (я неуклюже запинался от волнения на каждом слове), но вскоре стала весьма оживленной. Мне очень многое хотелось о ней узнать, и тем для разговора было предостаточно. Я выяснил, что она родилась лишь на три дня раньше моей сестры.
– Не против, если я набросаю твой портрет? – спросил я.
– Сейчас? Прямо здесь? – удивленно воскликнула она и осмотрелась. Мы только что заказали десерт.
– Я закончу до того, как принесут десерт, – заверил я.
– Ну, если так, то давай, – с сомнением ответила она.
Я вынул из сумки небольшую тетрадь для эскизов, которую всегда носил с собой, и проворно набросал мягким карандашом ее лицо. Уложился, как и обещал, до того, как принесли десерт. Глаза – важная деталь лица. Именно их я и хотел нарисовать больше всего. В глубине этих глаз открывался безбрежный мир вне времени.
Я показал ей готовый эскиз. Похоже, рисунок пришелся ей по душе.
– Прямо как живая!
– Потому что жизнь в тебе так и бурлит.
Она долго и увлеченно рассматривала набросок – так, будто увидела незнакомую сторону самой себя.
– Если тебе понравилось, то дарю.
– Что, правда можно?
– Конечно, ведь это просто почеркушка.
– Спасибо.
С тех пор мы несколько раз ходили на свидания и, так получилось, стали встречаться. Вышло все как-то само по себе. Вот только моя тогдашняя подружка пала духом, узнав, что меня увела у нее из-под носа ее же лучшая подруга. Вероятно, она сама имела виды на свадьбу со мной и, понятное дело, сердилась (хотя я вряд ли когда-либо женился на ней). У Юдзу тоже был мужчина, с которым она тогда встречалась, и с ним тоже оказалось непросто договориться. Но даже при том, что оставались прочие препоны, примерно через полгода мы стали мужем и женой. Устроили скромный банкет, собрав только близких друзей, и поселились в квартире на Хироо. Хозяином квартиры был дядюшка жены, и он пустил нас жить за символическую плату. Одну из комнат – самую тесную – я превратил в мастерскую, где занимался своей работой. Я перестал считать эту работу временной. Для семейной жизни нужен стабильный доход, а другого заработка у меня попросту не было. Жена ездила на свою работу в архитектурную контору до 3-го квартала Ёцуя на метро. И со временем вышло так, что все дела по дому стал выполнять я, что было мне совершенно не в тягость. Наоборот, эти хлопоты помогали мне отвлечься после рисования. По меньшей мере, чем ездить каждый день в офис, где требуется работать на своем рабочем месте, куда приятней трудиться на дому.
Первые несколько лет супружеской жизни складывались для нас обоих мирно и счастливо. Вскоре вылепился семейный уклад, и мы к нему постепенно привыкли. В конце недели и по праздникам я делал перерыв в работе, и мы вдвоем куда-нибудь ездили. Бывало, ходили на выставки картин или же выбирались за город погулять в горах, а то и просто бесцельно бродили по токийским кварталам. Мы находили время для интимных бесед, делились личным, и это вошло для нас в очень важную привычку. Мы честно, без утайки рассказывали друг другу почти обо всем, что с нами происходило. Прислушивались ко взаимным мнениям и не забывали делиться впечатлениями.
И лишь в одном я не отважился открыться жене: что ее глаза явственно напоминали мне глаза моей сестры, покинувшей этот мир в свои двенадцать лет. Пожалуй, это – главное, чем привлекла меня жена. Если бы не ее глаза, вряд ли я бы стал ее добиваться. Но я чувствовал, что лучше держать это в тайне, и так ни разу не признался. То был мой единственный секрет от собственной жены. Что она скрывала от меня – ведь наверняка что-то скрывала, – мне неизвестно.
Имя жены – Юдзу. Да-да, тот самый юдзу[5] – цитрус, какой применяют в стряпне. В постели я иногда называл ее в шутку «Судати»[6]. Потихоньку нашептывал ей прямо на ухо. Она каждый раз смеялась, но полувсерьез сердилась.
– Не судати, а юдзу. Похоже, но не то же самое.
И все же, когда все вокруг меня покатилось под откос? – пытался понять я, сжимая руль, пока выезжал с одной парковки на пути к другой, или покидал еще одну безликую гостиницу, чтобы к вечеру добраться до такой же, продолжая передвигаться ради самого движения. Но так и не смог определить, в какой точке теплое течение сменилось холодным. Все это время я считал, что у нас все хорошо. Конечно, как и у других супругов в мире, у нас тоже оставались неразрешенные вопросы, и мы, бывало, иногда их обсуждали. При этом самым важным, как мне кажется, был вопрос, не пора ли нам завести ребенка – или же пока повременить. Хотя до той поры, когда нам пришлось бы принять окончательное решение, время еще оставалось. И помимо таких открытых вопросов (вернее, задач, которые можно отложить в долгий ящик) мы, в общем-то, жили нормальной супружеской жизнью, устраивая друг друга как духовно, так и плотски. Я до недавних пор был в этом большей частью уверен.
Как я умудрился сделаться таким оптимистом? Вернее, как опустился до такой безрассудности? Есть у меня некие участки, я уверен, – нечто вроде врожденных слепых пятен, и я постоянно что-то упускаю из виду. А это что-то постоянно оказывается наиболее важным.
По утрам, проводив жену на работу, я сосредоточенно работал над портретами, после обеда гулял по округе, заодно покупал продукты и вечером делал заготовки к ужину. Два-три раза в неделю плавал в бассейне местного спортивного клуба. Стоило жене вернуться с работы, я готовил ужин и подавал на стол. И мы вместе пили пиво или вино. Если она предупреждала, что задержится на работе и поест где-нибудь рядом с офисом, я обходился весьма простой едой. Наша супружеская жизнь протяженностью в шесть лет в основном состояла из повторов таких вот дней. И я бы не сказал, что это меня не устраивало.
Жена была завалена работой в своей архитектурной конторе и часто засиживалась там допоздна. Мне же приходилось ужинать в одиночестве все чаще и чаще. Случалось, она возвращалась домой за полночь.
– В последнее время прибавилось работы, – поясняла она. Один ее коллега внезапно уволился, и заполнять эту брешь приходится ей. Однако начальство почему-то не подыскивало ему замену. Возвращаясь поздно ночью, жена принимала душ и сразу засыпала. Какой тут может быть секс? Иногда, чтобы завершить незаконченные дела, ей приходилось выходить на работу по выходным. Я, конечно, принимал ее объяснения без тени сомнения. У меня не было ни единой причины ее подозревать.
Хотя переработок на самом деле, возможно, и не было. Пока я ужинал дома в одиночку, она вполне могла развлекаться в постели с новым любовником в каком-нибудь отеле.
Жена моя – человек общительный. Казалось бы, выглядит она спокойной, а при этом соображает и принимает решения быстро. Ей требовался круг общения, в котором она могла бы проявить себя, но я помочь в этом ей не мог. Поэтому Юдзу зачастую ужинала с кем-то из близких подруг (которых у нее водилось немало), и после работы они своей компанией шли выпивать (она пьянела не так быстро, как я). И я не возражал, когда она веселилась без меня. Наоборот, возможно, сам когда-то предложил ей это.
Если подумать, мои отношения с сестрой были в чем-то схожи. Я не любил болтаться на улице и после школы читал в одиночестве дома книги, рисовал картинки. В отличие от меня, сестра была энергичным, общительным ребенком. Поэтому, как мне кажется, в повседневной жизни мы не пересекались интересами и поступками. Но мы прекрасно понимали друг друга, обоюдно уважая достоинства друг дружки. Хоть это, возможно, нечасто водилось между старшим братом и младшей сестрой нашего возраста, мы откровенно беседовали на разные темы. Забирались на второй этаж – на веранду для сушки белья – и зимой и летом без устали разговаривали. Особенно нам нравилось делиться смешными историями, а потом хохотать до упаду.
Не скажу, что причина лишь в этом, но я действительно был излишне спокоен, считая, что между мной и Юдзу все хорошо. Меня вполне устраивала роль молчаливого супруга-помощника. Но Юдзу, вероятно, так не думала. В супружеской жизни со мной ей наверняка чего-то не хватало. Ведь жена и младшая сестра – совершенно разные люди, абсолютно непохожие характеры. Не говоря уже о том, что я – давно не подросток.
Прошел месяц, наступил май, и я наконец-то устал изо дня в день ездить на машине. Мне уже не хотелось думать об одном и том же, коротая часы за рулем. Все вопросы лишь повторялись в голове по кругу, а ответ так и оставался нулевым. От постоянной езды у меня заболела поясница. «Пежо-205» – ширпотреб: сиденья не очень-то удобные, а тут еще начала сыпаться подвеска. Длительное напряжение глаз, блики на дороге не могли не сказаться на зрении и привели к постоянным болям. Если задуматься, уже полтора с лишним месяца я почти без отдыха продолжал беспрерывно передвигаться, будто уходя от какой-то погони.
В горах на границе префектур Иватэ и Мияги я заприметил деревенскую водную лечебницу и решил сделать передышку. На безвестном источнике в глубине ущелья приютилась маленькая гостиница, где местные жители могли неспешно отдохнуть и подлечиться. Умеренная плата за постой, общая кухня, где можно готовить себе простую еду. Там я решил вволю понежиться в целебной воде и наконец отоспаться. Отдыхая от вождения, я растягивался на татами и читал книги. Когда надоедало читать, доставал из сумки тетрадь для эскизов и рисовал. Желания порисовать не возникало у меня давно. Сперва я рисовал цветы и деревья в саду, затем кроликов, живших на заднем дворе. Простые штрихи карандашом, но все, кто видел эскизы, ими восхищались. Не в силах устоять перед просьбами, я рисовал лица людей вокруг: посетителей, работников рёкана. Рисовал прохожих, попадавшихся мне на глаза. Людей, с которыми больше никогда не увижусь. И если меня просили – дарил им наброски.
Пора возвращаться в Токио, говорил я себе. Буду скитаться до бесконечности – так ничего и не достигну. И я опять хотел рисовать. Не портреты на заказ, не простые эскизы – рисовать для себя, основательно, чего не делал так давно. Не знаю, что из этого выйдет. Но иного способа, как сделать первый пробный шаг, я думаю, нет.
Я собрался было пересечь весь район Тохоку и вернуться в Токио, однако на государственном шоссе № 6 перед городом Иваки машина приказала-таки долго жить: топливная трубка дала трещину, и мотор перестал заводиться. Признаться, за машиной я почти не следил. Кого еще винить, кроме себя? В одном мне повезло – машина заглохла совсем недалеко от парковки одного очень любезного механика-ремонтника.
– Запчасти от старой модели «пежо» в этой глуши? Еще нужно поискать. Заказывать новые – придется ждать, пока пришлют. Ну, починим на этот раз, глядишь, вскоре сломается что-нибудь другое, – сказал механик. – Ремень вентилятора на износе, тормозные колодки стерлись до предела, подвеска изрядно подустала. Плохого не посоветую. Машина безнадежна, и лучше ее больше не мучить.
Мне было очень грустно прощаться с «пежо», который все полтора месяца жизни на колесах оставался мне верным спутником. Но ничего другого не оставалось, как уйти, оставив его здесь. Спидометр отмерил ему сто двадцать тысяч километров жизни.
«Вместо меня испустила дух машина», – подумал я.
В ответ на любезное согласие утилизировать машину я подарил механику палатку, спальник и разную кемпинговую утварь. Сделав напоследок набросок «пежо-205» в своем альбоме, я с одной сумкой на плече сел в поезд линии Дзёбан и вернулся в Токио. Прямо со станции я позвонил Масахико Амаде и вкратце описал ему свою ситуацию. Рассказал, что супружеская жизнь дала сбой, уезжал на время путешествовать и вот вернулся в Токио. Податься мне некуда. И на всякий случай спросил, нельзя ли где-нибудь перекантоваться?
– Знаешь, есть у меня именно то, что тебе нужно, – ответил он. – Дом отца, в котором он долго прожил в одиночестве. Отцу пришлось переселиться в пансионат на Идзу, и дом уже некоторое время свободен. Мебель и все необходимое там есть, ничего покупать не нужно. Место – не самое удобное, хотя телефон там работает. Если устраивает, можешь пожить.
– О таком я даже и не мечтал, – ответил я. И действительно, предложение Масахико превзошло мои ожидания.
Вот так началась моя новая жизнь на новом месте.
3
Всего лишь физическое отражение
Устроившись в новом жилище на вершине горы в пригороде Одавары, через несколько дней я позвонил жене. Пришлось набрать раз пять, пока она ответила. Похоже, все так же занята работой и возвращается домой поздно. А может, просто в тот день с кем-то встречалась. Но в любом случае меня это больше не касалось.
– Ты сейчас где? – спросила Юдзу.
– Поселился в Одаваре, в доме Амады, – ответил я. И вкратце объяснил ей, почему так вышло.
– Я много раз звонила тебе на сотовый, – сказала Юдзу.
– Сотового у меня больше нет, – ответил на это я и подумал, что его, должно быть, вынесло течением в Японское море. – Так вот, на днях хочу заехать за вещами. Ты не против?
– Ну, у тебя же ключ при себе?
– Да, при мне, – ответил я. Чуть не швырнул его вслед за телефоном, но передумал, посчитав, что ключ придется ей вернуть. – Значит, ты не против… если я зайду, пока тебя нет дома?
– Ну да! Ведь это и твой дом. Конечно, можешь, – сказала она. – А где тебя… носило так долго? Чем занимался?
Я рассказал ей, не вдаваясь в подробности, как я все это время путешествовал. Как проехался на машине в одиночестве по северным районам, как по пути машина вышла из строя.
– Ну, главное, ты жив-здоров.
– Я-то живой, а вот машина умерла.
Юдзу на какое-то время умолкла. Затем сказала:
– На днях… видела тебя во сне.
О чем был сон, я не спросил. Я не горел желанием узнать, что я делал в ее сне. И потому она больше к этому разговору не вернулась.
– Ключ я оставлю, уходя, – сказал я.
– Поступай как хочешь. Мне все равно.
– Кину его в почтовый ящик, – предупредил я.
Возникла пауза. Затем она сказала:
– Помнишь, как ты рисовал мой портрет на нашем первом свидании?
– Помню.
– Временами достаю тот набросок и подолгу смотрю. Он такой славный. Смотрю и будто вижу настоящую себя.
– Настоящую себя?
– Да.
– А разве ты не видишь свое лицо каждое утро перед трюмо?
– Это другое, – сказала Юдзу. – В зеркале я вижу лишь физическое отражение себя.
Положив трубку, я пошел в ванную и задумчиво посмотрелся в зеркало. Там отражалось мое лицо. Давненько я не разглядывал его анфас. «В зеркале я вижу лишь физическое отражение себя», – сказала Юдзу. Однако отражение собственного лица казалось мне всего лишь воображаемым осколком раздвоившегося меня самого. И там, в зеркале, был тот, которого я не выбирал. Причем даже не его физическое отражение.
Через два дня, после полудня, я приехал в дом на Хироо забрать вещи. В тот день с самого утра беспрестанно лил дождь. Я заехал на подземную парковку – там пахло сыростью, как и всегда в дождливый день.
Поднявшись на лифте и отперев дверь, я переступил порог дома – спустя почти два месяца. И при этом ощутил себя домушником. В этой квартире я прожил почти шесть лет, и каждый ее угол стал мне словно бы родным. Однако теперь я больше не вписывался в интерьер по эту сторону двери. В раковине громоздилась грязная посуда, но ела из нее жена. В умывальной комнате сохло постиранное белье, но все оно – женское. Я открыл дверцу холодильника, а там – сплошь не знакомые мне продукты, большинство – бери и ешь. И молоко, и апельсиновый сок совсем других производителей, нежели те, какие выбирал я. Морозильник был переполнен полуфабрикатами, а я такое никогда не покупал. Очень многое изменилось за два неполных месяца.