Читать онлайн Внеклассное чтение бесплатно
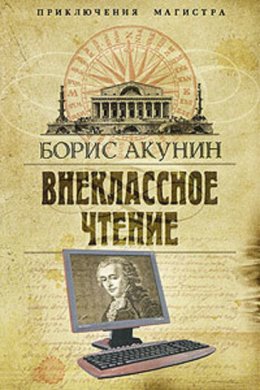
Глава первая
Рассказ неизвестного человека
Далась им эта любовь, подумал Собкор, шагнув на эскалатор и разглядывая наплывающий сверху рекламный щит. Реклама была такая: рука в старинной кожаной перчатке держит пышную розу за шипастый стебель, внизу двустишье:
- Чтоб не пораниться колючками любви,
- «Трех мушкетеров» ты на помощь позови.
И ниже готическими буквами: «Презервативы „Три мушкетера“. Размеры „Портос“, „Атос“, „Арамис“».
Стишки, конечно, дрянь, но с формальной точки зрения и они тоже поэзия. Разве не странно, что из трех основных инстинктов – насыщения, самосохранения и продолжения рода – поэзия зациклилась именно на третьем, наименее важном. Есть ли хоть одно гениальное стихотворение, воспевающее чувство голода или страха? Нету. А между тем пустое брюхо или смертный ужас – ощущения посильней любовного томления. Подумаешь, любовь. (Тут Собкор сердито покачал головой.) Теперь вот никакой любви нет, она пятьсот семнадцать дней как на Ваганьковском, а ничего, жить можно. Даже еще лучше, чем прежде. А будь любовь жива, Великая Тайна нипочем бы не открылась. Жил бы себе дурак дураком – «Поле чудес» смотрел да грядки на даче копал. А потом помер бы слепым бараном, не найдя Пути.
С другого плаката, уже не рекламного, а так, для улучшения настроения, Собкору посылала воздушный поцелуй девушка в метрополитеновской форме. «Легкого вам пути», было написано под девушкой. Он вежливо поклонился, сказал: «Спасибо».
Увидел щит, призывающий хранить деньги в отделениях кредитно-сберегательного товарищества «Капитан Копейкин» и уже достал блокнот – взять на заметку, для последующей проверки, но тут углядел впереди непорядок: какой-то парень стоял рядом с размалеванной девицей, загородив проход. Собкор поднялся на несколько ступенек, тронул нарушителя за плечо, сказал:
– Стойте справа, проходите слева.
Нарушитель открыл было рот – наверное, собирался сказать грубость, но, повнимательнее посмотрев в строгие, ясные глаза Собкора и задержавшись взглядом на широких плечах (вот они, утренние пробежки и гантели), посторонился.
Пришлось и дальше идти пешком, хотя до верха было еще ого-го сколько. Ничего, это полезно для укрепления мышц.
Больше слева никто не стоял, но, пока поднимался, Собкор успел сказать «Нет» плакату шампуня, призывавшему: «Скажите „нет“ перхоти», и спросить «Как?» у тетки со значком «Хочешь похудеть, спроси меня как». – Что? – сначала удивилась тетка, а потом спохватилась, заулыбалась. – Вы хотите похудеть?
– Нет, – ответил он. – Я уже похудел. Раньше был живот, а теперь видите? – Обтянул на себе пиджак, чтобы она увидела, какая у него замечательная фигура.
– Зачем же вы тогда спрашиваете, как похудеть? – еще больше удивилась тетка.
– Я не спрашивал вас, как похудеть. Я просто спросил: как? Как вам не стыдно обманывать людей и наживаться на их доверчивости? Чтобы похудеть, нужно мало есть, и никаких других способов не существует. Я вот перестал есть и похудел на тридцать два килограмма.
Шарлатанка заоглядывалась, голос стал жалобным:
– Что вы ко мне пристали? Кто вы вообще такой?
– Собкор, – ответил он и улыбнулся, потому что звучание этого слова доставляло ему удовольствие.
– А? Чего? – растерялась тетка.
– Вы хотите знать, собкором чего я являюсь? – вежливо осведомился он. – Правды. Всего вам наилучшего. Задумайтесь, правильно ли вы живете.
Дотронулся двумя пальцами до краешка воображаемой шляпы и ступил с распластавшейся ступеньки эскалатора на серый пол вестибюля.
Так. Где тут выход на Солянку? Ага. В рекламном объявлении был только контактный телефон, по которому Собкору задали множество совершенно излишних, необязательных вопросов, но хватка у него была профессиональная, журналистская, и своего он добился, выпытал-таки адрес.
Собкор достал из кармана сложенный вчетверо лист еженедельной газеты «Эросе», развернул.
Вот оно.
СТРАНА СОВЕТОВ
Вам нужен добрый совет, но вы не знаете, к кому обратиться?
Готовитесь принять важное решение и колеблетесь в выборе?
Вам кажется, что все пропало, что выхода нет?
Безвыходных ситуаций не бывает! Выход есть всегда!
Его найдет для вас специалист по умным советам
МАГИСТР Н.ФАНДОРИН, ПРЕЗИДЕНТ «СТРАНЫ СОВЕТОВ»
– волшебного государства, куда не нужна виза и где каждого гостя встретят с уважением и пониманием.
Результат гарантирован!
Контактный телефон 7-095—8 887 777
Здоровенное объявление, во всю полосу. Собкор позвонил в рекламный отдел «Эросса», омерзительного порнографического издания, которое он регулярно покупал в киоске (надо ведь отслеживать степень падения нравов), и выяснил, что объявление на всю полосу стоит пятнадцать тысяч долларов. Значит, у специалиста по умным советам, денег куры не клюют, бизнес процветает. Ну и название – «Страна советов». Это у них, современных циников, называется стебом. Ничего, еще посмотрим, кто будет смеяться.
Здесь же, на газетной странице, мелким, дерганым почерком был записан продиктованный по телефону адрес: ул. Солянка, дом 1, офис 13-а.
Свернув лист и сунув его обратно в карман (там лежала еще одна бумага, и пальцы Собкора любовно погладили ее плотные, острые края), он двинулся налево по подземному переходу.
Каждый раз перед выездной сессией охватывало особенное волнение, пожалуй, составлявшее главную прелесть возложенной на него миссии. С чем бы сравнить это ощущение? Будто грудь всасывает не мутный московский воздух, а охлажденное шампанское, которое щекочет бронхи и трахею веселыми пузырьками. Но это не самодовольство и, упаси Боже, не кураж – мол, захочу казню, а захочу помилую. Никакого произвола, никакой предвзятости. Раз ты избран быть взыскующим оком и указующим перстом, изволь отрешиться от всего личного, не зарывайся.
А все же, знать, есть во мне что-то особенное, если избран именно я, подумал Собкор, посмотрел на себя в витрину киоска и остался доволен: статная фигура, гордая осанка, костюм – мешковатый, но элегантный, а ведь куплен еще в семьдесят седьмом, во время бейрутской командировки.
Дом номер один по улице Солянке раскинулся чуть не на целый квартал, был он с несколькими дворами и множеством подъездов. Поди-ка отыщи, где тут офис 13-а.
Ничего, нашел.
Любопытная оказалась фирма «Страна советов»: ни вывески, ни таблички. Знать, не афиширует магистр Н.Фандорин перед соседями свой бизнес.
Горячо, подсказал участившийся стук сердца, горячо!
Подъезд, правда, разочаровал. Ни охранников, ни консьержки, даже кодового замка нет – входи кто хочет. Стены облупленные, лифт допотопный.
Ясное дело: прибедняется цельнополосный рекламодатель, уклоняется от налогов, не желает делиться с обществом своими жульническими доходами.
На пятом этаже медная табличка – просто «Офис 13-а», и все. Открыла Собкору длинноногая красавица с фиолетовыми волосами и шальными зелеными глазами. Кожаные рейтузы в обтяжку, высоченные каблуки, оранжевого цвета губы.
– Я не ошибся? – спросил Собкор. – Здесь находится фирма «Страна советов»?
И холодок разочарования: а что если это просто бордель? Вот ведь и реклама напечатана не где-нибудь, а в газете «Эросс». Тогда время потрачено впустую, мелкие грешки не по нашей части.
– Абсолютно, – ответила впечатляющая девица. – Зо вас?
Это по-немецки, не сразу догадался Собкор. Означает: «Ну и?». Не очень-то любезно.
– Я прочитал в рекламе, что здесь торгуют советами… А у меня как раз такая ситуация, что очень нужно посоветоваться…
Нарочно так сказал. Если тут публичный дом, сразу дадут от ворот поворот.
Но экзотическая красотка кивнула:
– Клиент? По рекламе? Антре.
Тоже еще полиглотка выискалась. Вид офиса подтверждал гипотезу о намерении надуть фискальные органы. Бывшая коммуналка, никаких особенных евроремонтов. Коридор с какими-то гравюрками по стенам вывел в маленькую приемную: письменный стол с оргтехникой, диванчик, кактус на окне – в общем, кто честной бедности своей и все такое прочее.
Разноцветная нимфа уселась за компьютер, из чего следовало, что она здесь трудится секретаршей. Собкор только головой покачал.
Должно быть, к приходу налоговых проверяльщиков эта Гелла смывает косметику и переодевается скромницей, а то на нее достаточно посмотреть – сразу ясно, за какую работу ей платят зарплату и, можно быть уверенным, не маленькую.
– Логин? Пароль? – спросила фифа, щелкнув по клавиатуре, и Собкор снова забеспокоился – не вышло ли ошибки. Пароль?
Здесь что, какой-то закрытый клуб?
– Имя, цель визита? – вздохнув, перевела сама себя секретарша.
Окинула посетителя взглядом и наморщила носик, в точеном крыле которого посверкивал маленький бриллиант. Собкор иронически улыбнулся – стало быть, не произвел на нее солидного впечатления.
– Пишите: Николай Иванович Кузнецов. – Сделал паузу, уверенный, что это имя поколению фиолетововолосых и оранжевогубых ничего не говорит. Так и есть – секретарша как ни в чем не бывало запорхала пальцами по клавишам. – А про цель визита я, сообщу самому магистру. Можно войти?
Он кивком показал на дубовую дверь, за которой, очевидно, располагался кабинет проходимца.
– Абонент временно недоступен, – буркнула нахалка, отвернувшись от неинтересного клиента.
Достала зеркальце, полюбовалась на свою холеную мордашку. Потом поджала губы, поелозила ими туда-сюда. Он знал: это чтобы помада легла равномерней. И Люба так делала. Только помада у нее была приличного цвета, светло-розовая.
Воспоминание относилось к прежней, ненастоящей жизни, и Собкор затряс головой, отгоняя его прочь.
– Я не понял. Его нет на месте? Или у него посетитель?
Секретарша опять ответила непонятно:
– Шеф путешествует во времени. Хотите – ждите. Вон, в чилл-ауте. – И мотнула головой в сторону диванчика.
Если б были собственные дети, я бы наверное, лучше понимал язык современной молодежи, подумал Собкор. А так, без домашнего репетитора, чувствуешь себя с новым поколением каким-то иностранцем.
На столике вместо обычных журналов лежали альбомы с репродукциями. Репин, Васнецов, Лансере, Борисов-Мусатов.
Полистал немного. Хорошо раньше художники писали, не то что нынешние.
– Шит-мерд-шайзе! – Секретарша бросила зеркальце на стол. – Не розовый, абсолютно!
Выскочила из-за стола, убежала в коридор, сердито топоча каблучками.
Истеричка. Ведет себя, будто она здесь одна. Или носом чует, у кого есть деньги, а у кого их нет? Которые без денег для нее не люди.
А я теперь и есть не вполне человек, сказал себе Собкор, и внутри у него все затрепетало, потому что приближался Миг Истины, высокоторжественный момент Принятия Решения. Тут следовало положиться на первое впечатление, не искаженное фильтром логики и предубеждения, прислушаться к голосу собственного сердца, которое есть частица Бога. Не шутки ведь, человеческая жизнь на весы положена, пускай даже человечишко гад и обманщик. Права на ошибку нет, слишком высока и страшна возложенная ответственность.
Собкор поднялся и, коротко постучав, открыл дубовую дверь.
Кабинет у «президента волшебного государства» был просто тошнотворный. Во-первых, огромный монитор на столе (это у них, новых русских, такая мода – чем больше пластмассовый ящик, тем, как они выражаются, «круче»). Во-вторых, на стене висел старинный портрет какого-то царского чиновника в вицмундире (тоже мода, любой прощелыга нынче – непременно столбовой дворянин и кичится аристократическими предками). В-третьих – какие-то застекленные дипломы (насмотрелись, низкопоклонники, голливудских фильмов). А венец всему – маленький баскетбольный щит в углу. Яппи доморощенный!
И у самого видок соответствующий. Гладкомордый, подтянутый, с аккуратным пробором, в твидовом пиджачке, из кармана торчит платочек в тон галстучку. Фитнес-центр, гольф-клуб, искусственный загар, тьфу!
Н. Фандорин быстро повернул свой монитор-переросток, чтобы вошедший не увидел даже краешек экрана (знать, есть что скрывать!), и поднялся. Ну и дылда – метра два, вряд ли меньше. Губы магистра механически растянулись в улыбке, однако в серых глазах читалось недвусмысленное: принес же тебя черт.
Еще бы! Ведь в эту самую минуту решалась судьба Данилы Фондорина. Сумеет ли юный сержант Семеновского полка попасть в камер-секретари к супруге наследника престола, будущей великой императрице. Для этого нужно было пройти испытание – разгадать хитроумную загадку, предложенную Екатериной Алексеевной. При неудаче Данила попадал на гауптвахту, откуда не так-то просто выбраться, а играющий терял очки и время.
Странное занятие для сорокалетнего отца семейства – сочинять компьютерные игры, да еще в рабочее время. Добро бы на заказ, а то исключительно для собственного удовольствия. Кому еще могут быть интересны квесты и бродилки, героями которых являются твои предки, все эти присыпанные песками времени фон Дорны, Фондорины и Фандорины, секунд-майоры, камер-секретари, статские советники? Вот, может быть, когда сын подрастет…
Ах, если б получше разбираться в программировании, да иметь высококлассную аппаратуру, тогда можно было бы создать полноценную игру с анимацией и умопомрачительными эффектами, а так приходилось довольствоваться чем-то вроде диафильма. Молодую Екатерину Ника сосканировал с портрета Торелли, только убрал царскую корону. Даниле досталось лицо романтического красавца Ланского – изображений далекого предка в семье не сохранилось. Бог знает, как Данила Ларионович выглядел на самом деле.
От екатерининского камер-секретаря уцелела одна-единственная реликвия, листок с росчерком: «Вечно признательна. Екатерина». Летописец рода, Исаакий Самсонович Фандорин, живший в первой половине девятнадцатого столетия, сопроводил знаменательный документ сухой припиской: «Собственноручная роспись ЕИВ государыни императрицы Екатерины Великой», воздержавшись от каких-либо комментариев. Может, вовсе и не Даниле сулила вечную признательность Новая Семирамида – это уж были Никины предположения, хоть и вполне правдоподобные, если учесть близость предка к всероссийской самодержице.
За что признательна – вот вопрос, ответ на который теперь, два с лишним века спустя, сыщется разве что в игре «Камер-секретарь». Никакой ответственности и полный простор для фантазии, то есть абсолютная противоположность всему, чему учили Николаса Фандорина в Кембриджском университете. Жалкая участь для магистра истории: вместо того чтобы стать серьезным исследователем, превратиться в сочинителя псевдоисторических сказок. Но, поразительная штука (в этом Ника мог признаться разве что самому себе), сказки занимали его воображение гораздо больше, чем научно доказанные факты.
Скрестятся ли судьбы семеновца и великой княгини, получит ли Данила возможность оказать Екатерине таинственную услугу, которая, быть может, изменит ход российской истории, – вот к какому нешуточному перепутью подобрался Николас Фандорин, когда дверь кабинета вдруг распахнулась и на пороге возник сутулый человек в мешковатом костюме из давно позабытого синтетического материала (кажется, он назывался «кримплен»), с подложенными плечами и широкими, острыми лацканами – просто ходячий привет из семидесятых.
– Вы ко мне? – глупо спросил Фандорин (ну конечно к тебе, к кому же еще?) и стыдливым школярским движением повернул к себе монитор, чтобы человечек не увидел Данилу (вид сзади) и Екатерину Алексеевну (анфас).
Нужно было возвращаться из восемнадцатого столетия в двадцать первое.
После того как жена подарила Нике на день рождения цельнополосную рекламу в своей газете, в офис «Страны советов» валом повалили посетители. Правда, по большей части из «эроссиян», как называли себя постоянные читатели «Эросса», издания специфического или, как теперь говорят, узкопрофильного. Прежде всего «волшебным государством, куда не нужна виза», заинтересовались половые затейники, вообразившие, что магистр Н.Фандорин сулит им какие-то доселе невиданные радости плоти. Дальше приемной этот род гостей, как правило, не попадал – искателям чувственных услад не удавалось прорваться сквозь Валю. Беда в том, что новый тип посетителей пришелся Вале по душе, а отдельные представители еще и по вкусу – с такими беспутное существо, исполнявшее в фирме секретарско-ассистентские обязанности, напропалую кокетничало и подчас даже уславливалось о свидании. Николас уже начинал беспокоиться, не привлекут ли его к ответственности за притонодержательство.
Было двое посетителей иной категории, сначала мужчина, потом женщина. Оба мрачные, изъясняющиеся недомолвками. Эти вообразили, будто обещание «гарантированного выхода из любой ситуации» – реклама киллерского агентства, и пришли оформить заказ.
Мужчину, который задумал истребить нечестного бизнес-партнера, Ника сумел образумить – посоветовал отплатить вору той же монетой и даже, пораскинув мозгами, предложил остроумную схему операции под кодовым названием «Возмездие». Клиент ушел окрыленный. Обещал в случае успеха заплатить щедрый гонорар.
Заказчица, жаждавшая крови бабника-мужа, оказалась орешком покрепче. Фандорин прочел ей целую лекцию по патологоанатомии супружеских измен. Сказал, что всегда виноват не тот, кто изменил, а тот, кому изменили. Люди женятся для того, чтобы утолить свой тайный голод. Если супруг ищет удовлетворения на стороне, объяснял Николас, значит, вы не насыщаете его голода. Метаболизм любовных отношений непредсказуем: вы можете быть с вашим партнером добры и щедры, а ему, наоборот, нужна женщина злая и скупая. Вы его кормите пряником, а все его существо просит кнута. Или наоборот. А если человек мечется от одной интрижки к другой, это означает, что его внутренний голод очень велик, и одному партнеру накормить беднягу не под силу. Дон Жуан – несчастнейшее существо, эмоциональный калека. Его удел – все время поглощать пищу, не ведая сытости. В общем, распинался целый час. Обманутая жена выслушала проповедь молча, сказала «спасибо» и ушла, кажется, оставшись при своем кровожадном намерении.
Алтын, конечно, хотела как лучше. Представить страшно, каких деньжищ стоит реклама на полосу в газете с трехмиллионным тиражом. То есть, разумеется, будучи главным редактором, Алтын не заплатила ни копейки – так сказать, злоупотребила служебным положением (перед самой сдачей номера слетела полоса, заабонированная постоянным рекламодателем, стрип-клубом «Либидиная песня»), но все равно подарок был царским.
Спутница жизни давно ломала голову над тем, как помочь Никиному бизнесу, при этом не ущемив мужского самолюбия. Заработки продавца добрых советов были, увы, смехотворны, не шли ни в какое сопоставление с жалованьем главного редактора еженедельной газеты. Алтын давно твердила, нужна реклама, без нее не продашь никакой товар, даже самый качественный. Вот хитрая азиатка и решила воспользоваться днем рождения, чтобы наполнить рекламным ветром обвисшие паруса «Страны советов».
Название компании рождалось в муках. Никин соучредитель и главный инвестор предлагал окрестить фирму-родоначальницу услуг нового типа «Палочкой-выручалочкой», но Алтын встала стеной, заявила, что с малолетства ненавидит эту слюнявую детскую сказку. Потом, уже возглавив газету «Эросс», из вредности завела рубрику совершенно недетского содержания именно с таким заголовком.
«Страну советов» выдумал сам Фандорин, очень гордился своей находкой, однако отстоял ее с тяжелыми боями. И соучредитель, и жена в один голос твердили, что их тошнит от этого словосочетания, что самим своим звучанием оно будет отпугивать состоятельных клиентов, приманивая лишь козлов-коммунистов, у которых все равно нет денег. И все же Николас не поддался. Нельзя делать вид, что этих семидесяти лет в нашей истории не было, говорил он. Почему нужно шарахаться от лексики и символики советского периода? Это все равно, что делать вид, будто в твоей жизни не было прошлого года, и только позапрошлый и все предыдущие. Или что ты родился на свет не от папы с мамой, а прямо от бабушки с дедушкой. Эти семьдесят лет были, и нечего их демонизировать, малевать сплошь черной краской. От этого лишь возникнет опасность, что некоторое время спустя советскую эпоху вознесут на пьедестал и реабилитируют, как всякого чрезмерно наказанного. Да, в Советском Союзе было много скверного, но ведь немало и хорошего. На счету у злодеев-большевиков по меньшей мере три великих свершения, оказавшиеся не по зубам монархии: накормили голодных, обучили неграмотных и победили германский империализм. А взять те же всеми проклинаемые Советы? Покойного отца, сэра Александера, от этого слова начинало трясти, он даже в бытовой лексике избегал употреблять ужасное звукосочетание, говорил не «мой вам совет», а «моя вам рекомендация», не «давайте посоветуемся», а «давайте порекомендуемся». Скажите на милость, что плохого в Советах? Стихийно возникшая форма народного парламентаризма.
Ох, и наслушался же Николас оскорблений от любимой супруги за импотентский объективизм и ублюдочное европейское левачество! В какой-то момент даже дрогнул, согласился было на «Страну добрых советов», но в последний момент прилагательное все-таки убрал – очень уж получалось сиропно.
А опасение насчет нищих «козлов-коммунистов», которые валом повалят на родное сердцу обозначение, не сбылось. За все шесть лет существования фирмы этот кримпленовый был первым, кто выглядел как гость из грустного социалистического прошлого.
– К вам, к вам, к кому же еще, – ответил посетитель на дурацкий вопрос и прибавил (кажется, с сарказмом). – Если вы и есть сам Н.Фандорин, магистр, специалист по умным советам и президент. У меня очень сложное, просто-таки совершенно неразрешимое дело. Какая у вас такса?
Николас взглянул на вошедшего по-новому – с надеждой. Может быть, первое впечатление обманчиво и наконец появится настоящая работа? Прорвался же этот плюгавец через Валю – значит, сочтен перспективным. Странно, правда, что вошел без доклада.
Сложных дел «Стране советов» не перепадало давно. Впрочем, и несложных тоже. Не считать же работой излечение семнадцатилетней студентки, безнадежно влюбленной в актера Меньшикова.
Совет: Запереться в комнате; ни на что не отвлекаясь и не делая перерывов, с утра до вечера смотреть кассету с фильмом «Сибирский цирюльник» вплоть до позит. рез-та.
Процесс: Через 2 дня, после 23-го просмотра, звонок. Рыдания, крики: «Олежек – бог, бог, бог!»
Совет: Продолжать процедуру.
Рез-т: Еще через три дня, после 57-го просм., полное выздоровление. Восстановление сна, аппетита, интереса к др. предст-лям муж. пола. (Из записной книжки Н. Фандорина), или консультирование домоуправления по поводу участия в конкурсе «Московский дворик».
Совет: не высаживать траву, все равно не приживется; выкрасить стены дома a la лунный кратер; членов жюри пригласить на осмотр звездным вечером;
Рез-т: 1-ое место по р-ну. (Из записной книжки Н. Фандорина).
Правда, в начале осени пришлось изрядно повозиться, вызволяя из нехорошей компании двоюродного племянника жены, шестнадцатилетнего балбеса. Компания оказалась не просто нехорошая, а криминальная, подсаживавшая на иглу подростков, так что консультирование вылилось в целую детективную эскападу, едва не стоившую Николасу жизни, однако не принесшую фирме ни гроша. Не станешь же брать деньги с родственников?
Последний серьезный заработок выпал полтора месяца назад. Одной торговой даме, открывавшей бутик для взыскательной клиентуры, понадобилась оригинальная идея – чтоб магазин получился не такой, как у всех. Ника предложил назвать заведение «Лохмотья», в витрине разложить рваные мешки и грязные ящики, голые кирпичные стены расписать граффити хулиганского содержания, примерочной придать вид милицейского «обезьянника», кассу расположить в мусорном баке и прочее в том же роде. Клиентка от этой чуши была в восторге, давала пять тысяч долларов наличными, однако Ника, принципиальный сторонник законопослушности, попросил перечислить гонорар рублями через банк. Заказчица никак не могла понять, чего он от нее хочет. В конце концов пришлось перейти на доступную ей терминологию. «Сударыня, – сказал Фандорин. – Я зеленый черняк не беру, извольте слить деревяшкой по безналу». От такой эксцентричности бизнес-леди пришла в неописуемый восторг: «Деревяшкой, по безналу! Хай класс!». Однако при переводе удержала 31,6 % на единый социальный налог. Это бы еще ладно, но ложкой дегтя было то, что подослала денежную клиентку все та же Алтын. Как ни посмотри, а и тут Николас выходил иждивенцем и захребетником.
Винить в этом кроме самого себя было некого.
Женившись и решив поселиться в России, баронет Николас А. Фандорин, во-первых, счел своим долгом поменять британское гражданство на российское (чего Алтын не могла ему простить до сих пор), а во-вторых, продать лондонскую квартиру и перевести все деньги в московский банк, чтобы содействовать росту отечественной экономики. Во время дефолта 98-го банк преотличным образом лопнул, и бывший подданный ее величества оказался в отчаянном положении: на одной чаше весов неработающая жена, двое годовалых детей и привычка к определенному уровню жизни, на другой – странный бизнес, который неплохо смотрелся как хобби состоятельного рантье, однако обеспечить существование семьи из четырех человек никак не мог. Если б благодетель-соучредитель как раз в ту пору не надумал создавать масс-медиальную империю и не предложил Алтын Мамаевой (взять фамилию мужа свирепая феминистка, конечно, и не подумала) возглавить новый эротический еженедельник, неизвестно, что и было бы.
– Неразрешимых дел не бывает, – успокоил Николас нового клиента и улыбнулся обширной европейской улыбкой, от которой так и не отучился за годы, прожитые в неулыбчивой России, хотя отлично знал, что у аборигенов эта демонстрация достоинств «колгейта» вызывает недоверие и настороженность. Нередко бывало так: подойдет он к человеку на улице спросить дорогу, приветливо улыбнется, а на него сразу рукой машут – отстаньте, мол, надоели, зомби проклятые, со своей Церковью Объединения.
– Про оплату мы поговорим после, когда вы изложите мне суть дела. Но сначала скажите, пожалуйста, как вас зовут. Кто вы по профессии?
– Звать меня Николай Иванович Кузнецов, – представился посетитель, усаживаясь на стул так важно, словно это был королевский трон. – А по профессии я судья. Значит, так-таки не бывает? Любую проблему расщелкаете, как орех?
Фандорин сразу догадался, что имя ненастоящее, но это было нормально – должно быть, деликатное дело, требующее приватности. Судья? Непохож. Но в России судьи вообще мало похожи на судей, нет в них ни вальяжности, ни ощущения собственной неуязвимости. Хотя взгляд у непрезентабельного господина Кузнецова был, пожалуй, именно такой, какой подобает профессиональному вершителю судеб: тяжелый, уверенный, бескомпромиссный. Может, и вправду судья.
Или псих, подумал вдруг Николас, приглядевшись к «судье Кузнецову» повнимательней. Неужто снова пустая трата времени?
– Если хорошенько подумать, – сказал он вслух, улыбнувшись еще шире, – выход отыщется всегда, даже в самом тяжелом положении.
Аноним (именно так мысленно окрестил Фандорин собеседника, потому что в России называться «Кузнецовым» – все равно что представляться мистером Иксом) удовлетворенно кивнул, будто именно на такой ответ и рассчитывал. Глаза с расширенными зрачками блеснули не то азартными, не то все-таки безумными искорками.
– Сколько этажей в этом доме? – спросил он ни к селу ни к городу.
– Шесть, – терпеливо ответил Фандорин. – И еще чердак. А почему вы спра…
– Отлично. Предположим, полез я на крышу – ну, к примеру, поправить телевизионную антенну. Поскользнулся, да и сорвался – несчастный случай. Лечу вниз, мимо вашего чудесного окошка. – Посетитель показал на высокое окно, выходившее на Солянку. – Вы и в этом случае найдете для меня спасительный выход? Поможете умным советом?
– Разумеется. Если вы по дороге залетите ко мне в форточку и сформулируете свою проблему, – в тон ему ответил Николас. – Но вы ведь пока не упали с крыши, так что давайте не будем терять времени попусту. Что вас ко мне привело?
– Та-ак, – зловеще протянул человечек и вполголоса пробормотал. – Пишем в протокол: оказывается, фирма «Страна советов» все же может найти выход не из всякой ситуации.
И в самом деле полез во внутренний карман, будто собирался сделать соответствующую запись.
Начиная злиться, Фандорин заметил:
– Человек, падающий с крыши, лишен возможности выбора, поскольку представляет собой предмет, движущийся к земле с ускорением 981 сантиметр за секунду в квадрате, и более ничего.
– Ага, вот я вас и поймал. Стало быть, вам нужна свобода выбора. Тогда нужно было написать в объявлении: «Выход гарантирован лишь клиентам, обладающим свободой выбора». Было бы правильней. И честней.
Упрек, при всей своей несуразности, задел Николаса за живое – он считал себя человеком слова и на малейшие сомнения в собственной порядочности реагировал болезненно.
– Ничего вы меня не поймали. Тут вопрос терминологии. Что такое, с вашей точки зрения, «выход из тяжелой ситуации»?
– Избавление от этой ситуации.
– Ну, тогда не о чем и говорить, – съязвил Ника. – Скоро вы долетите до земли и отличным образом избавитесь от своей ситуации.
Разговор превращался в нелепое препирательство из-за ерунды, да еще с человеком, который, кажется, все-таки был не в себе, поэтому закончил Фандорин сухо и без улыбки, как бы подводя черту в дурацкой полемике:
– Выход – это выбор оптимального, то есть наиболее эффективного или, по крайней мере, наименее вредоносного решения. Вот из какой трактовки исхожу я.
– Ладно, – хищно улыбнулся аноним Кузнецов. – Черт с вами, пускай будет выбор. Предположим, у меня двое детей. Маленьких. Поехал я с ними… ну, скажем, в Кисловодск или в Минеральные Воды. В общем, в какую-нибудь здравницу Кавказа. И вдруг похитили нас террористы, чеченские боевики, взяли в заложники. И вот они мне, отцу, говорят: «Одного из твоих детей мы убьем, выбирай сам, которого». Какой у меня будет выход из подобной ситуации?
– Нужно объяснить этим людям, что так поступать нельзя, что тем самым они только повредят своей идее…
– Попытался, – перебил неизвестный, хмыкнув. – Но это не люди, а обкурившиеся анаши звери.
– Тогда… Скажите им, чтоб они лучше убили вас, а детей не трогали.
– Сказал – смеются. Им нравится смотреть, как я мучаюсь.
– Послушайте, что вам от меня нужно?! – стукнул кулаком по столу Фандорин и сам удивился неадекватности своей реакции. Вроде бы считаешь себя уравновешенным, выдержанным человеком, а потом привяжется такой вот Кузнецов, и нервы дадут сбой. Вероятно, все дело было в том, что природа наделила магистра истории чересчур живым воображением, а поскольку у Николаса в самом деле было двое маленьких детей, то он на миг, всего на миг представил себя в описанной психом ситуации…
Вспышку немедленно погасил, взял себя в руки. Если это сумасшедший, не нужно его провоцировать. Что это он все держит руку во внутреннем кармане? А вдруг у него там бритва?
– Хорошо, я дам вам совет. – Фандорин осторожно отодвинулся от стола, чтобы в случае чего успеть вскочить на ноги. – Эта коллизия известна из литературы, есть целый роман на эту тему, и, читая его, я думал, как поступил бы на месте несчастного родителя. Выход такой: бросьтесь на того из бандитов, который отвратительней, впейтесь ему зубами в глотку и пусть вас убьют. Но ни в коем случае не выбирайте между своими детьми.
Аноним впервые утратил самоуверенность, растерянно моргнул – очевидно, не ожидал такого ответа.
– Ничего себе! – загорячился он. – Разве смерть – выход?
– Я же вам сказал: выход – это выбор оптимального, то есть в данном случае наименее вредоносного решения. Даже если существует загробная жизнь и муки ада, худшей пытки, чем предложенная вами ситуация, там быть не может. Так что вы в любом случае окажетесь в выигрыше.
Неизвестный вынул руку из кармана (слава богу, пустую, без бритвы) и посмотрел на Нику по-другому, без издевки и блеска в глазах.
– Существует, – сказал он.
– Что «существует»?
– Загробная жизнь. Но сейчас это к делу не относится. А что вы скажете, если я вам задам такой ребус…
Ободренный тем, что в руке посетителя не оказалось колющего или режущего предмета, Фандорин решил, что пора проявить твердость:
– Может быть, достаточно ребусов и абстрактных задачек? Мы ведь занимаемся вашей проблемой.
Собеседник строго произнес:
– Это вам так кажется, – и бросил на Николаса взгляд, от которого хозяину кабинета стало окончательно не по себе. Как бы узнать, на месте ли Валя? Фандорин покосился на дверь. Если Кузнецов сейчас впадет в буйство, в одиночку с ним, возможно, не справиться – известно, что у сумасшедших во время припадка сила удесятеряется.
– Так я, с вашего позволения, изложу вам свой рассказец? – вполне миролюбиво спросил аноним. – Уверяю вас, в нем нет ничего абстрактного или фантастического.
– Хорошо-хорошо, – поспешно согласился Ника.
– Итак. Жил-был на свете один человек. Прожил с женой двадцать восемь, ну пускай для ровного счета тридцать лет. Детей у них не было. Это важно, потому что, когда есть дети, любовь имеет обыкновение рассеиваться, а тут, знаете, все чувства в одну точку. Короче говоря, очень этот человек любил… то есть, собственно, и сейчас еще любит свою жену. Можно сказать, она у него – единственный свет в окошке.
Николас слушал, сдвинув брови – уже заранее знал, что рассказ будет неприятным, вроде того, про заложников.
Так и вышло.
– И вдруг у жены обнаруживается болезнь. Тяжелая, а может, и неизлечимая, – припечатал Кузнецов и сделал паузу, чтобы слушатель как следует осознал, вник.
И Фандорин сразу же вник, выражение лица у него сделалось страдальческим. Была у Николаса такая особенность – можно даже сказать, профессиональная черта: когда кто-нибудь рассказывал про свои проблемы, глава «Страны советов» не просто ставил себя на место рассказчика, а на время как бы даже превращался в этого человека. И сейчас перед глазами, конечно же, сразу возникла картина. Возвращается Алтын от врача, смотрит в сторону, неестественно спокойным голосом говорит: «Ты только не волнуйся, это еще не наверняка, он говорит, просто нужно подстраховаться…» Бр-р-р.
Он передернулся, а мучитель разворачивал свой «ребус» дальше:
– Муж, само собой, запаниковал. Бросился туда, сюда. Караул, кричит, люди добрые, спасите, помогите! И люди добрые тут же сыскались, спасальщики-помогальщики. Они на крики «караул» сразу слетаются и нюхают, пахнет деньгами или нет. Если унюхают – сулят чудеса и даже стопроцентно гарантируют. Это раньше, во времена проклятого тоталитаризма, чудес не бывало: если можно вылечить – лечат, если нельзя, говорят: медицина, мол, бессильна. А нынче ведь невозможного не стало, верно? Результат гарантирован, – подмигнул Кузнецов, очевидно, цитируя рекламу «Страны советов». – Были бы деньги. Только вскоре у мужа деньги кончились, и чудеса не замедлили иссякнуть. Вот вам и ребус: время упущено, жена умирает, поделать ничего нельзя. Хотя нет, – плотоядно улыбнулся садист. – Я вам еще краше картинку нарисую. Когда поделать ничего нельзя – это что ж, на нет и суда нет. А тут, представьте себе, спасение есть. Правда, далеко, в Швейцарии. Есть там некая волшебная клиника, в которой одной только и делают спасительную операцию. Но вот ведь закавыка: стоит курс лечения денег, которых этому человеку ни в жизнь не раздобыть. Тут не важно, какая именно сумма – важно, что она совершенно за пределами реального. Назовем ее условно: миллион. Ну-ка, специалист по безвыходным положениям, что вы тому человеку присоветуете?
Улыбка исчезла бесследно, в голосе грохотнул раскат грома, глаза метнули в мастера добрых советов молнию.
Ника, пока длилась печальная повесть, весь исстрадался – болезненно морщился, вздыхал, рисовал на листке ножи и стрелы. Дело у господина Кузнецова и в самом деле выходило сложным, муторным и, увы, опять безо всяких видов на заработок.
Дослушав, Фандорин открыл записную книжку.
– Миллион – это слишком много, таких расценок за курс лечения не бывает, – хмуро сказал он. – Мне все-таки необходимо знать точную сумму. Это первое. Второе. Мне понадобится полный комплект медицинской документации: справки, анализы, выписка из истории болезни, заключение специалистов. Главное – не отчаивайтесь. Свет не без добрых людей. Есть международные фонды, есть благотворительные организации. Я не знаю подробно, потому что сам в такой ситуации не был. – Мысленно прибавил: тьфу-тьфу-тьфу, скрестил пальцы и еще бесшумно постучал по ножке стола. – Но обещаю вам: уже завтра соберу всю нужную информацию. Приходите ко мне… в четыре. Нет, лучше в пять, чтоб наверняка. Принесете все бумаги. Письма благотворителям я напишу сам – у меня английский язык родной. Не падайте духом. Все, что можно сделать, сделаем.
Однако вопреки ожиданиям клиент не возликовал и не стал рассыпаться в благодарностях. На худом, пучеглазом лице отразилось крайнее удивление, впрочем, в следующую же секунду сменившееся облегчением.
– Вы забыли, что у этого человека нет денег! – торжествующе воскликнул он. – Это совершенно некредитоспособный субъект! Он не сможет вам заплатить. Я же говорил, все его сбережения съели шарлатаны и обманщики!
– Это я уже понял. Тем не менее, постараюсь помочь вашей жене.
От этих слов аноним вдруг как-то поник. Устало поморгал, потер веки. Вяло сказал:
– С чего вы взяли, что речь обо мне? Это я так, некую трудную ситуацию обрисовал…
И тут Нику сорвало с винта во второй раз, куда основательней, чем в прошлый.
Он вскочил так порывисто, что отъехало кресло, и заорал на псевдо-Кузнецова самым недостойным, постыднейшим образом. Нет, оскорблений в его филиппике не содержалось, но слово «совесть» прозвучало трижды, а выражение «кто дал вам право» целых четыре раза. Черт знает, что творилось сегодня с русским англичанином – он сам себя не узнавал. Должно быть, перенервничал из-за несуществующей бритвы.
Пакостник слушал Никину тавтологию внимательно, не проявлял ни малейших признаков раскаяния или обиды. Скорее в его глазах читалось нечто вроде радостного изумления.
На шум и крик в кабинет влетела Валя. То есть влетел, потому что женщина-вамп, явившаяся утром на работу и всего полчаса назад поившая шефа чаем, успела трансмутироваться в стройного бритоголового юношу. Исчезли косметика и фиолетовый парик, туфли на десятисантиметровом каблуке сменились тяжеленными ботинками, блузка – асимметричным свитером грубой вязки. Эта метаморфоза означала, что фандоринский ассистент, личность капризная и непредсказуемая, ошибся в дефиниции сегодняшнего дня и на ходу поменял его цвет с розового на голубой.
Валя Глен появился на свет существом мужского пола, однако в процессе подрастания и взросления тендерное позиционирование необычного юноши утратило определенность. Иногда Вале казалось, что он – мужчина (такие дни назывались голубыми), а иногда, что он, то есть она – женщина (это настроение именовалось розовым). Фандорин сначала пугался интерсексуальности своего помощника и никак не мог разобраться с грамматикой – как говорить: «Ты опять строила глазки клиенту!» или «Ты опять строил глазки клиентке!» Но потом ничего, привык. По розовым дням ставил глаголы и прилагательные в женский род, по голубым – в мужской, благо спутать было трудно, поскольку Валя даже говорил двумя разными голосами, тенором и контральто.
Стало быть, вбежал в кабинет андрогин, успевший перекрасить сегодняшнее число в цвета неба, и воинственно подлетел к посетителю.
– Вас ист лос, шеф? Сейчас я этого гоблина делитом и в баскет!
Сиюминутная половая самоидентификация никак не отражалась на Валином лексиконе – в любой из своих ипостасей он выражался настолько своеобразно, что без привычки и знания языков не поймешь. Во всем было виновато хаотичное образование: Глен успел поучиться в швейцарском пансионе, американской хай-скул и закрытой католической школе под Парижем, но всюду задерживался ненадолго и нахватался от разных наречий по чуть-чуть. Николас содрогался от мысли, что через сто лет все человечество, окончательно глобализовавшись, будет изъясняться примерно так же. Да и выглядеть, наверное, тоже. Пока же, слава Богу, Глен мог считаться существом экзотическим.
Сделалось стыдно – и за собственные вопли, и за невоспитанного ассистента. Фандорин махнул Вале, чтоб исчез, а перед посетителем извинился, закончив словами: «Вы должны меня понять».
– Ничего, я понимаю, – снисходительно обронил несостоявшийся клиент, проводив взглядом Валю. – Этот молодой человек очень похож на вашу секретаршу. Ее родственник? Он тоже работает у вас?
– Да, брат. Помогает, когда дел много, – соврал Ника. Не объяснять же про голубое и розовое – у человека и так психика не в порядке.
Удовлетворившись ответом, странный гость снова воззрился на Фандорина. Пожевал губами. Изрек:
– Случай не очевидный. Суд удаляется, на совещание.
Встал, с достоинством кивнул и прошествовал к выходу. Ну явный шизофреник, что с такого возьмешь.
Николас сокрушенно вздохнул, развернул монитор поудобней. Экран скинул черную завесу, ожил. Возник крупный план: лицо Екатерины. Величайшая женщина русской истории смотрела на Нику внимательно, не мигая, как будто знала, что решается ее участь.
Глава вторая
Как вам это понравится?
Глаза же у матушки-государыни оказались светло-серые, лучистые, с хитрыми морщинками по краям. А может, морщинки не от хитрости, а от щек, подумал Митридат. Вон какие щеки пухлые, словно две подушки. Давят, поди, на глаза-то.
Богоподобная Фелица была вся такая: толстая, раздутая, будто едва втиснувшаяся в платье. Ступня, поставленная на резную скамеечку, выпирала из сафьяновой туфельки, как разбухшее тесто из чугунка, подбородок висел складками, и даже под носом, где по физиогномическому устройству вроде бы и не положено, тоже была складка – надо думать оттого, что ее величеству приходится много улыбаться без истинной веселости, по привычке извлек причину из следствия Митя.
Августейший взгляд задержался на маленькой фигурке на какую-нибудь секундочку, но Митридат сразу же прижал руку к сердцу, как учил папенька, и изящно поклонился, отчего на лоб щекотно сыпануло пудрой с волос. Увы, царица равнодушно скользнула своим светоносным взором снизу вверх, с полуторааршинного мальчугана на саженного индейца, не заинтересовалась и им. Чуть подольше разглядывала усатую женщину. Раздвинула губы в рассеянной улыбке, снова посмотрела в карты.
– А чай, дама-то бубновая вышла? – произнес слабый, дребезжащий голос, выговаривавший слова на немецкий манер. Жирная рука нерешительно взяла из желоба на столе белую фишку, подержала на весу. Как вам это понравится, а? Хороша повелительница Российской империи, не может запомнить, какие карты вышли, а какие нет! Это в бостон-то, игру простую и глупую, где всего тридцать шесть листков!
Тут Митя в императрице окончательно разочаровался. На портретах-то ее Минервой рисуют, Афиной Палладой, а сама как есть бабушка старая. Точь-в-точь асессорша Луиза Карловна, что заезжает к маменьке по четвергам кофей пить. Даже чепец такой же! А что это у ее величества пониже уха (государыня как раз повернулась к партнерше слева)? Ей-богу, бородавка, сиречь кожный узелок на эпителиуме, и из бородавки седые волоски. Ну и ну!
Он жалостливо покосился на папеньку, что стоял справа и немного позади, как было предписано инструкцией. Вот уж кто, должно быть, сражен и убит. Как он живописал небесную красоту и величавость новой Семирамиды! Бывало, даже глаза увлажнялись слезой, а тут нате вам.
Но папенька, казалось, не заметил ни поросячьих щек, ни противной складки под носом, ни волосатой бородавки. Его прекрасные, немного навыкате глаза сияли экстатическим восторгом. Алексей Воинович тихонько ткнул сына пальцем в плечо: не вертись, стой смирно. И Митридат стал стоять смирно, только смотрел уже не на жирную старуху, а на других игроков, которые были несравненно приятней взору.
Когда Екатерина, наконец, решилась и на синее сукно неуверенно легла карта, молоденькая дама, что сидела слева, быстро захлопала пушистыми ресницами, закусила нижнюю губку и неуверенно оглянулась на соседа, славного юношу в голубом мундире. Этих двоих Митя сразу признал, потому что, в отличие от царицы, оба были похожи на свои портреты. Юноша – его высочество Императрицын Внук, а прелестная особа – его супруга, урожденная маркграфиня Баден-Дурлахская. (Митя по привычке проверил память: маркграфство Баден – 712 тысяч населения обоего пола, из коих две трети придерживаются лютеровой веры; обширность – 3127 квадратных миль; добывают железо, а еще курят вина, славнейшие из которых «маркграфское» и «клингельбергское».) Ее высочество чуть повернула свои карты, чтобы супруг мог в них заглянуть, великий князь шепнул нечто в розовое ушко, и она тихонько прошелестела:
– Je passe.
Августейший Внук тоже спасовал – видно, и у него карта не задалась. Зато четвертый игрок, небывалый красавец в голубой муаровой ленте, с бриллиантовым кренделем на плече, на туфлях – замечательные пряжки из сверкающих камешков (надо думать, не цветные стеклышки, как у Митридата, а самые настоящие рубины-изумруды), – небрежно шлепнул государынину карту своей.
– Вот она, дама-то. Запамятовали, матушка, – засмеялся победитель и придвинул все фишки к себе.
Митя уже догадался, что это непременно должен быть наиглавнейший при ее величестве человек, сам Фаворит, светлейший князь Платон Александрович Зуров, больше некому. Папенька про князя много рассказывал. И всякий раз при том губу закусывал, крыльями носа дергал – сетовал на судьбу за злейшее к себе неблаговоление. Одному все: и генерал-фельдцейхмейстер, и главноначальствующий флотом, и генерал-от-инфантерии, и крестьян пожаловано по круглому счету до пятидесяти тысяч, а другому, отнюдь не менее достойному, – разбитая жизнь, неутешное сердце да горькие сожаления. А ведь могло все иначе быть, говаривал папенька, и тут его глаза всякий раз загорались искрами, подщипанные брови выгибались, а голос начинал трепетать и срываться.
Историю эту Митя слышал множество раз и знал в доскональности, слово в слово. Как служил папенька в юные годы в том же конногвардейском полку, откуда впоследствии вознесся Платон Александрович, и тоже сумел себя показать – уже присматривалась к писаному красавцу царица. Что присматривалась! Однажды (о вечнопамятный день!) изволила поманить пальцем, взяла за подбородок и повернула папенькину голову в профиль, а уж профиль у секунд-ротмистра Алексея Карпова был чистый бронза-мрамор, после чего кандидат был отправлен на осмотр к лейб-медику и достойно прошел апробацию у самой «испытательницы» Анны Степановны Протасовой, чем впоследствии особенно гордился. В чем заключалась апробация, Митя представлял себе неявственно, но в этом месте родительского рассказа ему всегда делалось страшно. По словам папеньки, прославленная камер-фрейлина Анна Степановна была страшней африканского единорога, а единорогов Митридат видал на картинке в энциклопедии – куда как ужасны. Это у государыни нарочно так устроено, объяснял Алексей Воинович, – чтобы себя от женской обиды уберечь: если уж кандидат самой Протасовой не заробел и молодцом себя проявил, то и ее царское величество не расстроит.
А только зря папенька геройствовал. Вернулся в столицу не ко времени грозный Киклоп, да и вышиб бойкого офицерика и из Петербурга, и из гвардии, да так свирепо, что у папеньки тогда нервная болезнь приключилась, еле-еле потом пиявками да грибами-мухоморами залечился. Когда Митя был несмышленышем, ему часто по ночам мерещился Киклоп, злоковарное чудище с одним-единственным огненным глазом, замыслившее истребить весь карповский род. Это уж потом, войдя в разум и сделавшись из Митеньки Митридатом, он узнал, что папеньку обидел не греческий пещерный великан, а князь Потемкин-Таврический. Тому три года всемогущий временщик издох, и отставной секунд-ротмистр быстренько собрался в столицу, однако не задержался там и вернулся в слезах: оказалось, что новый Фаворит, этот вот самый Зуров, сидит на своем месте прочно, собою ослепительно хорош, да и моложе папеньки на целых десять лет.
Про ослепительную красоту Митя неоднократно читал в романах, но думал, что это так пишут в метафорическом смысле. Оказалось, правда. Князь Зуров и в самом деле ослеплял: кожа на лице и руках вся посверкивала золотыми звездочками – прямо глазам больно. До сего дня Митя твердо знал, что самый красивый мужчина на свете – его отец, Алексей Воинович Карпов, а теперь вдруг усомнился. Тут же себя и устыдил: если папеньке на его белый с серебром камзол столько же бриллиантов понашить, да лицо-руки золотой пудрой присыпать, это еще посмотреть надо, кто выйдет краше.
– Еще партию? – спросила матушка-государыня – не у великого князя и великой княгини, а у Зурова.
Фаворит потянулся, скучливо зевнул, не прикрывая рта – блеснули ровные, крашенные жемчужной эмалью зубы.
– Надоело.
Их высочества, не дожидаясь ответа императрицы, сразу же поднялись из-за стола. Подсеменил пожилой лакей, ловко смахнул карты и фишки на серебряный поднос.
Государыня ласково поправила князю замявшийся кружевной манжет.
– Так не угодно ль в шахматы, друг мой?
Папенька снова ткнул сзади пальцем – вот оно, начинается, зри в оба.
А другой лакей уже нес доску, распрекрасную собой, слоновой кости и эбенового дерева; третий в два счета расставил фигуры – ее величеству белые, его светлости черные.
Придворные подошли, встали у стола почтительным полукругом – раньше, пока шла карточная игра, приблизиться не смели. Пользуясь сим прикрытием, папенька поднял Митю на руки – чтоб поверх пудреных затылков и дамских куафюр наблюдать за баталией.
Теперь, когда Внук с супругой встали, кроме двух играющих сидеть остался только один человек удивительно некрасивой наружности. Митя еще прежде на него поглядывал, пытался вычислить, кто таков, почему держится наособицу от всех прочих, отчего лицом дергает. И без того урод-уродом: нос утицей, шишковатый лоб, плешивый череп – прямо мертвая голова какая-то. На камзоле у некрасивого человека сверкала звезда, но какого именно ордена, Митридат не знал, ибо к внешне-декорационной сфере общественного организма интереса не испытывал – глупости это, не достойные внимания разумной личности. Несмотря на орден, непохоже было, что утконосый важная персона. Сидит себе один-одинешенек, никто на него и не смотрит, а те, кто близко стоят, все поотвернулись. Должно быть, увечный, стоять не может, пожалел урода Митя, вон у него и палка в руке. Ладно, Бог с ним, с инвалидом.
За спиной у государыни встал старый старик в черном одеянии, даже парик у него, и тот был черный, как при Петре Великом носили. Из всех мужчин один только этот старик был в парике с буклями, прочие, согласно моде, накладных волос не носили, пудрили свои собственные. Как ворон меж попугаев, подумал Митя про черного, странно смотревшегося среди пышных платьев, золоченых камзолов и разноцветных фраков. Только лицо не вороновье, скорее собачье, как у английского мопса: по бокам брыли, нижняя губа налезла на верхнюю, носишко совсем никакой, а глазки быстрые, пуговками.
Перед тем, как царице сделать первый ход, мопс наклонился к ней, зашептал что-то.
– Без тебя, сударь мой, знаю, – ответила она, поморщившись, и пошла пешкой с е2 на е4. – Вы бы, Прохор Иванович, поменьше сырым луком увлекались.
Старик сконфуженно улыбнулся:
– Так ведь знаете, матушка, как в народе-то говорят: «Лук от семи недуг».
Ответа на шутку не последовало, и мопс сник, но от игроков не отошел. Митя и его тоже пожалел. Почтенный человек, сидел бы лучше дома, с внуками, чем шею тянуть, на цыпочки привставать.
Фаворит подумал-подумал и ответил правым конем на лодейное поле. Ага, будет разыгрывать карлсбадское начало. Интересно! Но на государынино выдвижение белого офицера светлейший бухнул пешкой на h5, и стало ясно: никакое это не карлсбадское начало, а просто Зуров ходит не думая, на авось. Что это за игра такая? Митя дальше и смотреть не стал.
В углу что-то стукнуло. Некоторые из придворных обернулись, увидели, что это у курносого калеки упала трость, и тут же утратили интерес к маленькому происшествию. Он, бедный, сам свою клюку (впрочем, замечательно красивую – красного дерева и с золотым набалдашником) поднять не мог, так и сидел неподвижно, только тонкой губой задергал.
Митя хотел подбежать, подать, но папенька удержал за фалду, шепнул испуганно: «Ты что, это ж Наследник!»
Ах вот кто это. Его императорское высочество, сын великой императрицы. Тоже нисколько на свои портреты не похож – на портретах-то он хоть и не красавец, но величавый, важный. Может, раньше и был такой, пока паралич не разбил. Однако что же это ему никто не поможет? Или по церемониалу не положено?
Нет, мопс в черном бесшумно попятился от высочайшего стола, подсеменил к наследнику, нагнулся, подал упавшую трость и почтительно поклонился.
Сидевший посмотрел на доброхота, как показалось, с удивлением, но не поблагодарил и даже не кивнул – наоборот, дернул головой кверху. Славный старик около инвалида не задержался, тут же вернулся на прежнее место – и вовремя. Государыня не оборачиваясь спросила:
– Что, Прохор Иванович, брать мне у князя пушку иль не брать?
– Беспременно брать, ваше величество. А чего ее брать-то? Зурову уж давно сдаваться пора.
– Царицын сын – расслабленный телом, да? – шепнул Митридат папеньке. Тот ответил тоже шепотом:
– Нет, это он от чванности. Ты за игрой следи.
Вот еще.
Митя стал вертеть головой по сторонам, исследовать, что за Малый Эрмитаж такой.
На стене большущая картина: Леда, лежащая в страстном положении с Юпитером во образе лебедя. Другой холст, немногим меньше: дева или, может, дама, в античной хламиде и златом венце, за нею чудесный дворец восточной наружности, на крыше зеленеет пышный сад. Ага, это, надо думать, изображена вавилонская царица Семирамида (правильнее Шаммурамат, поминается у великого Геродота) со своими висячими садами. Понятно.
Куда примечательней был висевший подле окна прибор – бронзовый, круглый. Ух ты, сообразил Митридат, и градусы показывает, и пульсацию атмосферы. Подойти бы, разглядеть получше, да жалко нельзя.
А больше ничего особенно любопытного в зале не было. Ну люстра хрустальная, радужная. Ну мраморные бюсты. Ну паркет с инкрустацией. От покоев, где собирается ближний круг величайшей монархини мира, можно было ожидать чего-нибудь и почудесней.
– Вот вам, Платон Александрович, и мат, – объявила Екатерина, и зрители мягко, деликатно похлопали. – Да не кручинься, душа моя, я тебя после утешу.
Наклонилась, зашептала придвинувшемуся Зурову что-то, по всему видать, веселое – сама мелко смеялась, трясла подбородками. Придворные тут же отодвинулись, а некие из них даже сделали вид, будто рассматривают люстру и лепнину потолка.
Фаворит тоже улыбнулся, но кисло. Молвил:
– Благодарю, ваше величество.
Ах, да что на них смотреть?
Больше всего Мите хотелось изучить диковинных соседей – американского дикаря и женщину с лихими, закрученными кверху усами. Он сделал два шажка назад, чтоб не в упор пялиться, и вывернул шею вправо, где переминалась с ноги на ногу удивительная усачка.
Вот уж чудо так чудо! Ведь анатомо-физиологическая наука утверждает, что особы женского пола, будучи наделены повышенной способностью к произращению волос в макушечно-теменной и затылочной частях краниума, к лицевой волосатости от природы не расположены. Подергать бы ее за ус – не приклеенный ли?
Похоже, и государыне пришло в голову то же.
Она снова, уже во второй раз, глянула на отдельно стоящих: Митридата с папенькой, индейца, мужчино-женщину и (впереди, в позе полкового командира на параде) обер-шталмейстера Льва Александровича Кукушкина, папенькиного с Митей благодетеля.
– Кого нынче привели, Лев Александрович? Чем распотешите? – спросила царица, приглядываясь. – Усы-то у нее настоящие?
Индеец, весь в перьях и стеклянных цветных шариках (вот бы потрогать!), шевельнулся. Не понимает по-нашему, догадался Митя. Думает, может, про него речь.
– Самые что ни на есть настоящие, ваше царское величество! Уж я девицу Евфимию за растительность дергал-дергал, все пальцы исколол. Намертво! – бодро, весело гаркнул Кукушкин. Ему и полагалось говорить весело – такая у Льва Александровича должность: придумывать затейства и кунштюки для увеселения ее величества.
Щелкнул усачке пальцами – приблизься, мол. И сам за ней подкатился, весь кругленький, легкий.
– Да вы, милая, точно женщина? – улыбнулась ее величество, оглядывая чудо природы.
Кукушкин приложил руку к груди:
– Лично проверял, ваше величество. Вся женская кумплектация на месте.
Придворные с готовностью захохотали – видно, ждали от Льва Александровича остроумия.
Засмеялась и императрица:
– Ой ли?
Лев Александрович поднял два пальца:
– Фима, давай.
Женщина громким шепотом спросила:
– Уже заголяться?
Присела, стала подбирать подол юбки. Хохот сделался пуще.
Ослабшая от смеха Екатерина махнула рукой:
– Ну тебя, старый греховодник. Убери свою монстру. Да сто рублей подари. Ох, распотешил…
Обер-шталмейстер поклонился, другой рукой, согнутой за спиной (Мите-то сзади хорошо видно), щелкнул – и сразу подскочили два служителя, утянули усатую Фиму прочь.
Теперь дошла очередь и до Карповых – российская Юнона, еще не доулыбавшись, повела взором с Мити на папеньку. Тот сглотнул, да и у Мити в грудной полости, где сердце, екнуло.
– А из этих кто? – спросила Екатерина. – Большой или маленький? Что они?
Папенька выступил вперед, раскланялся изящным манером, заговорил плавно, мягко, самым лучшим своим голосом:
– Вашего императорского величества покорнейший слуга, отставной конногвардейский секунд ротмистр Алексей Карпов.
И чуть помолчал. Проверяет, не вспомнит ли его государыня, догадался Митя.
Нет, не похоже, чтоб вспомнила. Даже странно – такого красивого, приятного, и не вспомнить? Хотя что ж, она ведь старая уже, шестьдесят шестой год. В преклонные лета, как известно, умственная тинктура замедляет свое обращение, образуя в мозгу узелки и спайки, нарушающие стройность памяти.
– Вот сын мой Митридат, – продолжил папенька, указав на Митю, и тот низко, по-заученному поклонился. – Посредством каждодневных многочасных экзерциций я развил в сем чудо-младенце невиданную остроту ума и ученость. Митридат перемножает и делит любые числа с резвостью непревзойденной. Столь же легко возводит числа в квадрат, извлекает корень, равно как производит и иные математические операции, еще более сложные. А еще, – здесь папенькин голос сделался совсем бархатным, – Митридат превосходнейше овладел тайнами благородной утехи монархов и мудрецов Востока. (Плавный жест в сторону шахматной доски.) И в сей игре ему нет равных, даже и среди признанных мастеров. А мальчику всего шестой годок…
Договорив приготовленную речь до конца, Алексей Воинович снова склонился, да так и застыл в благоговейном изнеможении. Митя вздохнул. Ничего не шестой, это уж папеньку занесло. Через полтора месяца сравняется семь.
– Такой крошка, а знает шахматы?
Touche! Клюнула! Государыня повернулась всем своим грузным телом, отчего нога, покоившаяся на скамеечке, соскользнула на пол.
– Ой!
Екатерина болезненно поморщилась, вскрикнула.
Из дальнего угла, расталкивая дам и кавалеров – будто фрегат, рассекающий волны, – к столу ринулся смуглый человек в расшитом позументами морском мундире.
– Сьто, матуська, нозька болит? – закричал он, смешно коверкая слова. – А вот он я, твой верный Козепуло, и волсебная водитька со мной!
Выхватил из преогромного кармана склянку с ядовито-лиловой жидкостью, бухнулся на коленки, осторожно снял туфлю и стал порхать по распухшей ступне ловкими жирными пальцами – мазать, тереть, мять, приговаривая что-то под нос на непонятном наречии.
– Влез, орех грецкий, – досадливо пробормотал обер-шталмейстер. – Все испортил!
Папенька выпрямился, в отчаянии всплеснул руками:
– Кто этот невежа?
– Контр-адмирал Козопуло, морской разбойник. Наш новейший чудотворец, нынче при государыниной больной ноге состоит. Вишь ты, снадобье у него какое-то особенное. Лучше б его, щетинную морду, турки на кол посадили!
Щеки у адмирала и в самом деле были фиолетовыми от проросшей к вечеру щетины, да и на пирата он тоже чрезвычайно походил. Митя представил грека не в военном камзоле, с пудреными волосами, а в черном платке на голове, в алой, расстегнутой на волосатой груди рубахе, с кривой саблей за поясом – вот была бы картинка! Что ему по морям не плавалось?
– А вот и англичанин, лейб-медик Круис, – ухмыльнулся Кукушкин. – Ну, сейчас будет баталия при Лепанто.
Толпа придворных снова заколыхалась – к столу проталкивался строгий господин в золотых очках. Еще издали, тоже смешно выговаривая слова, но только не мягко, как адмирал, а чересчур твердо, он закричал:
– Изволте немэдленно прекратит! Ваше велычество, вы губите свое августэйшее здоровье, доверяяс этому шарлатану! Я дэлал анализ его so-called эликсир! Это конская моча с самым дешевым матросским ромом!
И схватил сухой рукой грека за плечо, пытаясь оттащить.
– Ну да, лосядиные саки. – Адмирал двинул локтем, и лейб-медик отлетел в сторону. – И сьто? Моя бабка, старая лахудра, есе добавляла туда немнозько оветьих какасек, а я придумал лутьсе – натираю обезьянье… – И моряк употребил слово, которого, по мнению Мити, в царском дворце звучать никак не могло.
– Я ваших медицинских терминов не разумею, – засмеялась Екатерина. – А вы, Яков Федорович, на моего Костю не серчайте. Он хоть в университетах не учился, но в разных странах бывал, все повидал и руки у него мягкие. Ну а вы-то, Аделаида Ивановна, куда морду тычете? Ах, полизать хочет, мое золотце!
Митя вздрогнул и привстал на цыпочки. Слава Богу, последние слова адресовались не какой-нибудь из придворных дам, а жемчужно-серой левретке, усердно облизывавшей императрицыну щиколотку. Вон оно тут как: собаку зовут по имени-отчеству, а адмирала просто «Костей».
– А про нас с индейцем забыли, – шепнул Митя папеньке. – Выходит, Прожект не получился, да?
Тот лишь всхлипнул. Да и индеец хлопал своими глазами-маслинами невесело. Тоже и у него, дикого жителя девственных лесов, на этот день, надо полагать, имелось какое-нибудь особенное упование.
– Вы, сударь, из каких индейцев будете? – спросил Митя тихонько, сначала по-английски, потом по-французски. – Я про ирокезов читал, еще про чирокезов и алгонкинцев.
Вроде вежливо спросил, уважительно, а дикарь почему-то напугался. Отскочил от Мити, пробормотал:
– Big little man!
И еще перекрестился. Вот тебе и дикарь. Папеньку было ужас как жалко. Ведь столько ждали этого дня! Денег одних издержано – на дорогу, да на наряды, да на кормовые, да Льву Александровичу Кукушкину на подарок, чтоб приглашение на малоэрмитажный четверг устроил (хоть и старый знакомец, а тоже ведь отблагодарить надо)!
Собственно, сколько издержано денег, сосчитать было нетрудно, потому что вести счет папенька доверил сыну – сам-то с арифметикой был не очень. Стало быть, так: двадцать восемь рублей тридцать три с четвертью копейки на лошадей, восемь рублей тринадцать с половиной копеек столовых, пятьсот тридцать рублей на платье, сто пятьдесят рублей за бронзовую наяду для Льва Александровича да на четыре рубля одиннадцать копеек прочих расходов, а всего (исчисление было простейшее, и Митя даже лоб морщить не стал) 720 рублей 57 копеек да три полушки. Шутка ли?
Да разве в одних деньгах дело? Папенька своему Прожекту всю душу отдал, сколько раз маменьке во всех подробностях обсказывал, как оно все превосходно в их жизни переменится, когда матушка-императрица Митридатом восхитится и к своей особе его приблизит, а там, глядишь, вспомнит прежнюю симпатию и устремит свой солнечный взор на некоего отставного секунд-ротмистра. Ах, да куда солнцу до этого взора? Оно способно произрастить из семечки травинку, не более, а волшебный взор Екатерины может самую малую травинку вмиг обратить в прегордый баобаб. Маменька слушала эти мечтания и только пунцовела от счастья.
Три с лишком года готовил папенька Митю. Можно сказать, только Прожектом и жил с того самого мгновения, когда обнаружил, что сынок у него не такой, как прочие дети.
До того дня младшенького жалели, считали дурачком. Мите ведь уже четвертый годок шел, а он ни слова не говорил. Губками пошлепывал, шелестел что-то, а никакого членораздельного речения от него не было. Уж и увещевали, и кричать пробовали – помалкивает и только, хотя вроде не глухой, все слышит. Наконец махнули рукой, решили, что, видно, не жилец, приберет его Господь в невеликих годах, а пока пускай себе растет, как хочет.
Как Митюшу самому себе предоставили, тут у него самая интересная жизнь и началась. Больше всего он полюбил сидеть в классной комнате, где старшего брата Эндимиона мосье де Шомон и семинарист Викентий поочередно обучали наукам. Если малыша гнали, он закатывал рев и после долго икал, потому гнать перестали – пускай его сидит. Еще выяснилось, что кроха надолго затихает, если дать том из французской «La Grande Encyclopedic» (ее Алексей Воиновия некогда со столичной службы привез, получил в уплату карточного долга). Глядели взрослые на маленького дурачка – умилялись: уставится на большенную страницу, будто и впрямь читает. Если б им сказать, что Митя на четвертом году жизни и в самом деле читал французскую энциклопедию статью за статьей, том за томом, нипочем бы не поверили.
Но тут надо с самого начала рассказывать – с того самого мига, когда потомственный дворянин Звенигородского уезда Дмитрий Алексеевич Карпов начал свое знакомство с подлунным миром. Сей отпрыск старинной фамилии (в гербе – конское копыто и собачья голова на палке) явился на свет не как обычные пискуны, а в полном молчании и с широко открытыми глазами, которыми, к удивлению лекаря и повивальной бабки, принялся немедленно вращать и хлопать. Что новорожденный молчал, было, пожалуй, не столь и удивительно – очень уж оглушительны были стенания роженицы, измученной безысходными многочасовыми потугами и принужденной подвергнуться жестокой операции чревовзрезания. При отчаянном шуме, производимом несчастной, надежды быть услышанным у новопришельца было бы немного. А вот открытые, ясные глазенки, с первого же мига зажегшиеся ненасытимым любопытством, и в самом деле являли собой феномен в своем роде исключительный.
Другая интригующая особенность проявилась чуть позже, когда на голове младенца отросли волосенки – всюду каштановые, а на темечке седое пятнышко, из которого со временем произросла серебристая прядка. Однако значение этой символической меты открылось много позднее, а поначалу никто ничего такого не подумал. Мало ли что: у одного родимое пятно, у другого веснушки, а у этого на голове белая клякса.
Отец заранее приготовил для второго чада, буде родится мужского пола, превосходное имя Аполлон, однако был вынужден поступиться благозвучным прозванием в пользу обыденного Дмитрия. Так звали тестя, в денежном воспомоществовании которого у отставного конногвардейца в ту пору как раз явилась самая неотложная нужда в связи с некими карточными обстоятельствами.
Крохотный Дмитрий Алексеевич был помещен в колыбельку, построенную умельцем из родительского имения Утешительного (прежней Сопатовки) на манер корабля, и пустился на сем челне в плавание по морю жизни, поначалу тихому и мелководному.
В спаленке на потолке было изображено вращение планет вкруг Солнца. Эту-то картину Мите и суждено было лицезреть в продолжение всего первого года своего земного бытия. Напротив каждого небесного тела русскими и латинскими буквами указывалось его название, так что обжект и его письменное обозначение слились для Мити воедино много ранее, чем сопутствующее тому же предмету устное наименование. Сначала было Солнце ¤ Sol; потом, когда Митеньку первый раз вынесли в сад и показали на желтый жаркий кружок, появилось «сонце», а соединил первое и второе он уже собственным разумением, и то был самый волнующий и таинственный миг в его жизни.
Ужасно хотелось поскорей выучиться ходить, но изверги продержали спеленутым чуть не до года. Зато когда пустили ползать, Митя уже к вечеру научился переступать, держась за стенку, а назавтра ходко ковылял по всему дому, делая все новые и новые открытия.
Что не разговаривал ни с кем до трех лет, так недосуг было. Что интересного мог он услышать от окружающих? От няньки Малаши, когда укладывает в кроватку: «Баю-бай, баю-бай, заберет тебя Мамай». От маменьки, когда утром принесут к ней в спальню – показать: «Усю-сю, Митюшенька, сахарный мой душенька». От братца Эндимиоши, когда забежит в детскую спрятать в верное место, под колыбелькой, рогатку или тряпицу с уворованным у папеньки табаком: «Что, урод, все в пеленки гадишь?» (Вот и не правда. Митя с шести месяцев приучил няньку: как зацокает языком, стало быть, зов натуры. А что она, дура непонятливая, раньше не скумекала, об чем цоканье, так то не его вина.)
Главное Митино приключение той безгласной эпохи было потихоньку забраться к папеньке в кабинет, где книги, или, того лучше, к гостям – под столом сидеть. То-то наслушаешься, то-то нового узнаешь: и про войну с турками-шведами, и про якобинцев, и про московские происшествия. Но во взрослых комнатах тем более языком болтать незачем, иначе сразу подхватят на руки и уволокут назад, к Малаше, по тысячному разу слушать ерунду про Кота Котовича и Бабу Ягу.
Вот когда Митя отвоевал себе право сидеть у братца в классной комнате, тогда и началась настоящая жизнь. Каждый день открытия, пир разума! Мосье де Шомон учил по-французски и по-немецки, да из географии, да из истории, да из астрономии. Викентий – арифметике, да русской грамматике, да Божьему Закону. Жаль, уроки были всего два часа в день, и еще раздражал тупостью Эндимион, сколько времени из-за него попусту пропадало! Про себя Митя называл старшего брата Эмбрионом, ибо по развитию мыслительной функции сей скудоумец недалеко продвинулся от человечьего зародыша.
Вечером, когда дом засыпал (а ложились в Утешительном рано: летом в десятом часу, зимой в восьмом), наступало самое главное время.
Тихонько, на цыпочках, мимо храпящей на сундуке няньки, в коридор; там легкой мышкой на лестницу – и в верхнее жилье, по-французски belle-etage, где кабинет. Под столом заранее спрятаны свеча и тяжелый, не поднимешь, том «Великой энциклопедии». Часов до пяти существуешь по-царски, общаясь с особами, равными тебе разумом, – перед одним благоговейно склонишь голову, с иным, бывало, и заспоришь. В шестом часу назад, спать. Это ведь уму непостижимо, что человеки треть своей жизни, и без того недлинной, на подушке проводят! Зачем столько? Трех часов для телесного отдыха и освежения ума куда как довольно.
Еще и посейчас Митя, бывало, сомневался, не зря ли он в тот осенний день разомкнул уста. Минутный порыв, понуждение чувствительного сердца положили конец тихим радостям безмолвного уединения. Очень уж жалостно было смотреть, как убивается в гипохондрии папенька, который только что вернулся из Петербурга, куда ездил, обнадеженный смертью Киклопа, да несолоно вернулся. День за днем, прямо с утра и до вечера, Алексей Воинович горько плакал, воздымал к небу руки и проклинал жестокую судьбу, обрекшую его прозябать в подмосковном ничтожестве, на две тысячи восемьсот рублей годового дохода, безутешным родителем двух выродков – никчемного балбеса и бессловесного дурачка.
В доме было тихо. Маменька терзалась головными ваперами, братец спрятался на чердаке, чтоб не высекли, дворовые тоже позатаились. И тогда Митя принял великодушное решение: пускай папеньке хоть в чем-то будет облегчение. Пускай утешится по поводу младшего отпрыска, который никакой не дурачок и слова произносить, если пожелает, очень даже умеет.
Сначала, для практикума, попробовал говорить вслух сам с собой. Раньше, конечно, тоже иногда разговаривал в монологическом регистре, но беззвучно, одними губами, а тут обнаружилось, что голос за мыслью никак не поспевает. (Эта скороговорливость и потом осталась, так что не всякий ее и понять мог, особенно если Митя увлечется какой-нибудь интересной мыслью.) Тут еще следовало учесть папенькину бурливость чувств. Произнесенная фраза должна была быть короткой и завершиться прежде, чем Алексей Воинович начнет бурно восклицать и тем испортит всю эффектность. Самое простое – войти и поздороваться, но не по-русски (эка невидаль для трехлетка), а на иностранном языке. И коротко, и впечатлительно.
Вошел в столовую, где у окна рыдал папенька, рассыпав незавитые и даже нечесаные локоны по подоконнику. Сказал, стараясь выговаривать французские звукосочетания в точности как мосье де Шомон: «Bon matin, papa[1]».
Папенька обернулся. То ли не расслышал, то ли решил, что почудилось. Страдальчески поморщился, простонал: «Поди, поди, дитя неразумное!» И рукой на дверь показал, а сам зарыдал еще пуще – вот как от Митиного вида расстроился.
Тогда Митя ему про разумность и неразумие процитировал из Паскалевых «Pensees» (как раз накануне ночью книгу прочел и многие максимы слово в слово запомнил – до того хороши): «Deux exces: exclure la raison, n'admettre que la raison».[2]
Вышло еще эффектнее, чем хотел. Недооценил Митя папенькиной чувствительности – Алексей Воинович, прослушав максиму, закатил глаза и пал в обморок. А когда очнулся, увидел над собой оконфуженное лицо меньшого сына, бормотавшего по-русски, по-французски и по-немецки слова утешения, то воздел руки к небу и возблагодарил Провидение за явленное чудо.
Потом папенька долго ахал и дивился, узнавая, что малыш может и по-латыни читать, и в разных науках сведущ изрядно. Но более всего родителя поразили Митина памятливость и сноровка в арифметических исчислениях. Ну, запоминать интересное – невелико чудо, хоть бы даже и целыми страницами – это он папеньке легко объяснил, а вот про цветные цифры растолковать затруднился, ибо и сам не очень понимал, как в мозгу свершается арифмометрическая механика.
Тут было так: единица – она белая, двойка малиновая, тройка синяя, четверка желтая, пятерка коричневая, шестерка серая, семерка алая, восьмерка зеленая, девятка лиловая, ноль черный. Кто этого не видит, без толку и объяснять, что, когда берешь, к примеру, число 387, оно навроде трехцветного леденца – сине-зелено-алое. Перемножаешь его с числом 129, бело-малиново-лиловым, все цифры вмиг переплетаются в толстую многоцветную косичку, колоры перетекают из одного в другой, и дальше просто: называй образовавшиеся части спектра подряд, вот и выйдет искомое 49 923. Тож и при делении.
Папенька послушал-послушал невнятные разъяснения и вдруг наподобие Архимедеса Сиракузского как закричит: «Эврика!» Подхватил Митеньку на руки и побежал на маменькину половину. Там пал на колени и стал целовать маменьку в живот, прямо через платье. «Что вы делаете, Алексис?» – вскричала та испуганно.
– Лобзаю благословенное ваше чрево, произведшее на свет Геракла учености, а вместе с тем проложившее нам дорогу к Эдему! Воззрите, любезная Аглая Дмитриевна, на сей плод чресел наших!
В тот миг и родился Прожект.
Во времена папенькиного детства много говорили о маленьком музыканте Моцарте, которого отец возил по Европе, показывал монархам и получал за то немалые награды и почести. Чем Дмитрий Карпов хуже немецкого натурвундера? В музыке несведущ? Да кому она у нас в России нужна, сия глупая забава. Свет-государыня хоть оперы с симфониями слушает, но больше для назидательности и привития придворным изящного вкуса, а сама, рассказывают, иной раз и засыпает прямо в ложе. Не нужно никакой музыки! В столице все только и говорили, что о новом увлечении ее величества, шахматной забаве. Многие кинулись изучать умственную игру. Папенька тоже купил доску с фигурами, выучился головоломным правилам – ну как пригодится? Увы, не пригодилось. У царицы и без Алексея Карпова было с кем повоевать в шахматы.
А если предъявить ее величеству небывалого партнера – премаленького мальчишечку, от горшка два вершка? Это будет кунштюк получше Моцарта!
Бледнея от страха разочароваться, звенигородский помещик перечислил своему удивительному отпрыску правила благородной игры, и, разумеется, свершилось чудо, а вернее, никакого чуда не произошло, ибо шахматные премудрости показались поднаторевшему в цветных исчислениях Мите сущей безделицей. В первой же партии трехлеток одержал над отцом решительную викторию, а вскоре обыгрывал всех подряд, давая в авантаж королеву и в придачу пушку.
Отныне в жизни карповского семейства и прежде всего самого младшего его члена все переменилось. Гераклу учености наняли полдюжины преподавателей для постижения всех известных человеческому роду наук, и успехи юного Митридата (так теперь именовали бывшего Митюшу) превосходили самые смелые чаяния счастливого родителя. Раз в месяц нарочно ездили в Москву покупать новые книги – какие только Митя пожелает. Крестьянам и в Утешительном, и в дальней деревне Карповке для того назначили специальную подать, книжную: по полтине в год с ревизской души, либо по две курицы, либо по три фунта меда, либо по мешку сушеных грибов, это уж как староста решит.
Митя в доме стал самый главный человек. Если сидит в классной комнате, все говорят шепотом; если читает книгу, опять же все ходят на цыпочках и разувшись. А поскольку новоявленный Митридат все время либо учился, либо читал, стало в господском доме тихо, шепотно, будто на похоронах.
Нянька Малаша теперь тиранствовать над мальчиком не могла. Не хочет спать – не укладывала, не хочет каши – насильно не пичкала. Очень за это убивалась, жалела. Однажды, когда Митя при всех домашних блестяще сдавал экзамен по немецкому, стрекоча на сем наречии много быстрей учителя, нянька молвила, пригорюнясь: «Ишь как жить-то поспешает. Видно недолго заживется, сердешный». Папенька услыхал и велел выпороть дуру, чтоб не каркала.
Конечно, в новой Митиной жизни не все были розы, хватало и терниев. К примеру, очень докучал братец – завидовал, что «малька» теперь одевали по-взрослому, в кюлоты с чулками, в сюртучки и камзолы. То ущипнет исподтишка, то уши накрутит, то в башмак лягушонка подложит. Пользовался, мучитель, что Митя придерживался стоической философии и брезговал доносительством. Да что с неразумного взять? Одно слово – Эмбрион.
Через год Митридат был готов. Хоть сажай в карету и вези прямо к государыне или даже в Академию де сиянс – лицом в грязь не ударит. Дело медлилось за малым – подходящей оказией. Как чудесного отрока государыне предъявить и заодно себя показать? (Маменьку по понятной причине брать с собой ко двору не предполагалось.)
Оказии ждали еще два года, пока в Москву не пожаловал благодетель Лев Александрович. За это время Митя «Великую энциклопедию» всю превзошел и увлекся интегральными исчислениями, что на папенькин взгляд уж и лишнее было. Алексею Воиновичу ожидание давалось тяжело, как отцу девицы-красы, у которой никак не составится достойная партия, а девка тем временем перезревает, застаивается. Одно дело четырехлетний шахматист и совсем другое – почти семилетний.
А Митя ничего, не томился. Жить бы так и дальше, с книгами да уроками. Папеньку вот только было жалко.
* * *
Сколько трудов и надежд положено, сколько преград одолено, а она и смотреть не желает! За папенькин жалкий вид, за изнурительно тесный камзол, за чешущуюся под насаленными волосами голову (а ногтями поскрести ни-ни, про это строжайше предупреждено)
Митя разозлился на толстую старуху, брови насупил. Если б глаза могли источать тепло, подобно тому как солнце ниспосылает свои лучи, прямо подпалил бы неблагодарную, поджег ей взбитую пудреную куафюру!
Тепло не тепло, но некую субстанцию Митин взгляд, похоже, излучил, потому что императрица, еще не отсмеявшись над препирательством грека с англичанином, вдруг повернула голову и взглянула на маленького человека в лазоревом конногвардейском мундирчике в третий раз. Тут-то Митя и отплатил ей, привереде, разом за все: скорчил обидную рожу и высунул язык. На-ка вот, полюбуйся!
Глаза Семирамиды изумленно расширились – видно, во дворце никто ей языка не показывал.
– Сколько лет, говорите, вашему крошке? – спросила она у папеньки.
– Шесть, ваше императорское величество! – вскричал окрыленный Алексей Воинович. – У меня и приходская книга с собой прихвачена, можете удостовериться!
Розовый палец поманил Митю.
– Ну, скажи мне…
Хотела вспомнить имя, но не вспомнила. Папенька сладчайше выдохнул: «Митридат».
– Скажи мне, Митридат…
Не сразу придумала, что спросить. По ласковой улыбке видно было, что хочет задать вопрос полегче.
– Какой нынче у нас год?
– По какому летоисчислению? – быстро спросил Митя, подбираясь к старухе поближе (от нее пахло лавандой, пудрой и чем-то пряным, вроде муската). Не дожидаясь ответа, зачастил. – От сотворения мира по греческим хронографам – год 7303-ий, по римским хронографам – 5744-ый, от Ноева потопа по греческим хронографам – 5061-ый, по римским – 4088-ой, от Рождества Христова 1795-ый, от Егиры сиречь бегства Магометова 1173-ий, от начатия Москвы – 648-ой, от изобретения пороху – 453-ий, от сыскания Америки 303-ий, а от воцарения государыни Екатерины Второй – 33-ий.
Царица руками всплеснула, и все вокруг сразу зашушукались, языками зацокали. Ну а дальше все как по маслу пошло.
Митя немножко поумножал трехзначные числа (Фаворит самолично пересчитал столбиком на салфетке – сошлось); потом извлек квадратный корень из 79 566 (проверить смог только Внук, да и то с третьего раза, все сбивался); назвал все российские наместничества, а про какие особо спросили – даже с уездными городами. Дальше так: обыграл в шахматы обер-шталмейстера Кукушкина (четырех ходов хватило) и черного старика, оказавшегося тайным советником Масловым, начальником Секретной экспедиции (этот играл изрядно, но где ж ему против Митридата?), а напоследок сразился с самой государыней. Тут немножко увлекся, забыл, что папенька учил ее величеству поддаться, и разгромил белую рать в пух и прах. Но Екатерина ничего, не обиделась, а даже облобызала Митю в обе щеки. Назвала «милончиком» и «умничкой».
Еще продекламировал державинскую «Фелицу», стихи глупые, но приятно-трескучие, в завершение же триумфального действа с низким поклоном произнес:
– Льщусь надеждою, что сими скромными ухищрениями сумел отвлечь великую государыню от бремени державных забот. Почту за высшее счастие, если ваше императорское величество и ваши императорские высочества, равно как и ваша светлость (это Фавориту – папенька велел про него ни в коем случае не забыть), в награду за мое доброе намерение ответят на мой поклон прощальными рукоплесканьями.
Глава третья
Смерть Ивана Ильича
Вежливо попрощавшись с лысым братом фандоринской секретарши (тот выщипывал пинцетом фиолетовую, как у сестры, бровь и на уходящего даже не взглянул), Собкор покинул офис 13-а в глубокой задумчивости.
Потыкал пальцем в кнопку вызова лифта и нескоро сообразил, что кабина приезжать не собирается. За время, которое Собкор провел в «Стране советов», скрипучий элеватор успел выйти из строя. Такой уж, видно, нынче выдался день, топать пешком по ступенькам – то вверх, то вниз.
Ладно, спуститься с пятого этажа – дело небольшое, ноги не отвалятся.
Собкор двигался навстречу окну и жмурился – сквозь пыльные стекла светило солнце, погода для ноября стояла удивительно ясная и теплая.
Семь раз отмерь, один раз отрежь, бормотал он себе под нос. Урок, хороший урок на будущее. А то мы все сплеча да наотмашь. Вот ведь по всем признакам гад и брехун, а поближе посмотреть да в глаза заглянуть – живой человек. Если тебе оказано такое доверие, если тебе дана такая власть, ответственней нужно, без формализма. А то ведь там долго разбираться не станут, раз-два и готово. Еще и дети невинные пострадают, как тогда, в «мерседесе». В Содоме и Гоморре тоже, надо думать, были малые дети, которые во взрослых безобразиях не участвовали, а ведь и на них тоже пролил Господь серу и огонь – заодно, до кучи. А кто виноват? Не Бог – Лот. Это он, Божий уполномоченный, должен был подумать о детях и напомнить руководству. Тоже ведь был, можно сказать, собкором. Должность нешуточная. Вот в редакции, перед тем как первый раз в долгосрочку послать, сколько человека проверяли, перепроверяли, инструктировали. Чтоб понимал: собственный корреспондент – глаза и уши газеты, да не абы какой, а самой главной газеты самой главной страны. И то была всего лишь газета, а тут инстанция куда более возвышенная.
Нельзя заноситься, нельзя отрываться от людей, строго сказал себе Собкор. Приговор отменить, это первым делом. Пускай себе живет, раз непропащий человек.
На площадке четвертого этажа расположилась компания бомжей. Двое сидели на подоконнике (на газетном листе бутыль бормотухи, вареные яйца, полуобгрызенный батон), третий уже сомлел – лежал прямо поперек лестницы, раскинув ноги. Глаза закрыты, изо рта свисает нитка слюны, к небритой щетине пристала яичная скорлупа.
Какой он к черту буржуй, подумал Собкор про магистра-президента. Офис без евроремонта, лифт не работает, в подъезде вон бомжи киряют.
– Да здравствуют демократические реформы? – сказал он вслух и подмигнул бедолагам. – Так что ли, мужики?
Лежачий на его слова никак не откликнулся. Один из сидящих, с рыжеватыми волосами и, если помыть, еще совсем молодой, сказал с набитым ртом:
– Чего ты, чего. Сейчас докушаем и пойдем. Кому мы мешаем?
Другой просто шмыгнул распухшим утиным носом, подвинул батон к себе поближе.
Эх, несчастные люмпены. Щепки, отлетевшие от топоров рыночных лесорубов.
– Да мне-то что. Хоть живите тут, – махнул рукой Собкор.
Надо бы порасспросит, как до такой жизни дошли. Наверняка на пути каждого из них встретился какой-нибудь гнилостный гад – обманул, выгнал из дому, лишил работы, подтолкнул оступившегося.
Собкор замер в нерешительности – вступать в беседу, не вступать. Мужики смотрели на него с явной тревогой. Не будут откровенничать, им бы сейчас выпить да закусить.
Ну, пускай расслабляются.
Прошел мимо сидящих. Через спящего алкаша пришлось переступать – очень уж привольно расположился.
В тот самый миг, когда Собкор уже поставил одну ногу на ступеньку, расположенную ниже лежащего, а вторую еще не оторвал от площадки, клошар вдруг открыл ясные, совершенно трезвые глаза и со всей силы ударил Собкора грубым армейским ботинком в пах.
Ослепший от боли Собкор не успел и вскрикнуть. Рыжий и курносый вмиг слетели с подоконника, заломили ему локти за спину, причем оказалось, что оба бродяги почему-то в прозрачных резиновых перчатках, а тот, что притворялся спящим, задрал Собкору брючину и ткнул в голую лодыжку черной трубкой с двумя иголками.
Раздался треск электрического разряда, пахнуло паленым, и в следующую секунду (впрочем, следующей она была только для выпавшего из режима реального времени Собкора) перед его глазами оказался дощатый потолок, с которого свисали лохмотья паутины и клочья отслоившейся краски.
Потолок был наклонный, в углу смыкавшийся с полом. А когда Собкор повернул голову, то увидел сияющий квадрат окна с треснувшим стеклом, услышал откуда-то снизу завывание автомобильной сигнализации и подумал: я нахожусь на чердаке большого дома. Окошко выходит во двор, не на улицу – иначе был бы слышен шум движения.
Дул сквозняк, а холодно не было. Крышу солнцем нагрело, что ли.
Собкор посмотрел в другую сторону. Увидел сверху и чуть сбоку, совсем близко, небритую рожу Яичного. Скорлупы на щеке у него уже не было, но мысленно Собкор назвал разбойника именно так. В руке Яичный держал большой ком ваты, источавший резкий и неприятный запах. Нашатырь. Очевидно, только что отнял от лица пленника. Рыжий и Курносый стояли чуть поодаль.
«Идиоты, нашли кого грабить», хотел сказать им Собкор, но вместо этого только замычал – губы не пожелали размыкаться.
Оказывается, они были залеплены пластырем, а он сразу и не заметил.
К жертве грабителей понемногу возвращалось сознание, и открытия следовали одно за другим. Руки-то скованы за спиной наручниками. А ноги стянуты ремнем. Судя по тому, что сползли брюки, его же собственным.
– С возвращением, – сказал Яичный, оттянув пленнику веко. – Зрачок нормальный, контакт с действительностью восстановлен. Приступаем к прениям. Извольте обратить свой просвещенный взор вот сюда.
Собкор скосил глаза и увидел зажатый в пальцах бандита шприц.
– Тут, коллега, едкий раствор. Игла вводится в нервный узел. Интенсивность и продолжительность болевого синдрома зависят от дозы.
«Интенсивность, синдром», ишь ты, прямо профессор, подумал Собкор.
Яичный дернул его за руку, чуть не вывернув плечевой сустав, и аккуратным, точным движением, прямо через пиджак и рубашку, ткнул иглой в локоть.
Гхххххххх, подавился невыплеснувшимся воплем Собкор и секунд десять корчился, стукаясь затылком и каблуками об пол.
Подождав, пока конвульсии утихнут, Яичный продолжил:
– Это была минимальная доза. В порядке дегустации. Для экономии времени и сил. Моего времени и ваших сил. И чтобы вы поняли: мы не дилетанты, а профессионалы. Вы сами-то профессионал или как?
Собкор вопроса не понял, однако кивнул.
– Ну, значит, умеете оценивать ситуацию. Раунд проигран, информацию из вас мы все равно добудем. Вы знаете, что технические средства это гарантируют, вопрос лишь во времени. Так что, поговорим?
Собкор снова кивнул.
– Ну вот и золотце, – усмехнулся Яичный. – Значит, так. Официальную биографию можете не рассказывать, ее мы знаем. Лучше поведайте нам, уважаемый Иван Ильич Шибякин 1948 года рождения, как складывалась та линия вашей судьбы, что сокрыта от невооруженного глаза. Я спрашиваю, вы отвечаете. Четко, полно, честно. Я обучен определять дезинформационные импульсы по микросокращениям зрачка. Чуть что – получите дозу. Итак. Вопрос номер один. В какой структуре проходили спецобучение? ГРУ?
Собкор кивнул и в третий раз.
– Отлично. Я чувствую, мы поладим, – Яичный потянул за пластырь. – Вопрос номер два. Сколько вас?
Едва рот освободился от липкого плена, Собкор, не теряя ни мгновения, вцепился допросителю зубами в палец. Вгрызся, что было сил. На языке засолонело. Хотел вовсе откусить, но Яичный, выматерившись, ткнул Собкора указательным пальцем другой руки куда-то под скулу, и от этого лицо вдруг одеревенело, челюсти разжались сами собой.
Укушенный налепил пластырь обратно, затряс окровавленной рукой.
Протягивая ему платок, Рыжий сказал:
– Она же предупреждала: вряд ли профи, скорее идейный. Такого на два прихлопа не расколешь. Чего ты вздумал в гестапо играть? Сказано, в Мухановку, значит, в Мухановку. Все выслужиться хочешь, в дамки лезешь?
Яичный скрутил платок жгутом, перетянул раненый палец.
– Нам тут так на так до ночи сидеть, – зло процедил он. – Не тащить же его через двор среди бела дня? Время – субстанция конечная, его беречь надо. Опять же не впустую париться, а дело сделать. Ничего, я всяких колол. И идейных тоже. Пытка – не попытка. Да, товарищ?
Это он уже обратился к Собкору – наклонился к самому лицу пленника, подмигнул, а у самого глаза бешеные. Разозлился, значит, из-за пальца-то.
Собкор говорить не мог, а потому тоже подмигнул. Мысль у него сейчас была одна: пробил час испытания. Нисколечко не боялся. Даже обрадовался, потому что знал – выдержит.
Рыжий сказал:
– Охота тебе. В Мухановке вколем дозу – скворушкой запоет. Все расскажет: и сколько, и кто, и где.
А третий, которого Собкор окрестил Курносым, помалкивал, держал руки в карманах. Слова Рыжего взволновали пленника. А ну как в самом деле накачают наркотиками? Не выболтать бы, о чем не положено знать никому и никогда.
– Охота, – отрезал Яичный. – Я эту гадюку кусачую сейчас без химии поучу уму-разуму, по-афгански.
Он нагнулся, взялся одной рукой за ремень, которым были стянуты щиколотки Собкора, и рванул, намереваясь выволочь узника на середину чердака.
Рывок был такой мощи, что старый, в нескольких местах перетертый ремень лопнул. Яичный едва удержался на ногах, Собкор же проворно встал на колени, потом на корточки, увернулся от рук Курносого и, не тратя времени на то, чтобы распрямиться, метнулся к окошку. Вышиб головой прогнившую раму, кубарем прокатился по теплой, сверкающей бликами крыше и ухнул вниз, в густую тень.
Об асфальт он ударился спиной. Боли и звуков не было, но зрение и обоняние Собкора покинули не сразу. Он судорожно вдохнул запахи двора: сырость, бензин и карбид. В голубом прямоугольнике зажатого меж корпусами неба светило солнце.
Внезапно, очень явственно и отчетливо он увидел себя, молодого, четверть века назад. Рядом стояла жена. Они только что приехали на Остров Свободы, в первую загранку, вышли на балкон и смотрели на океан, на залитую солнцем Гавану. «…Семьсот сертификатов будем тратить на жизнь, а по пятьсот пятьдесят будем откладывать, да, Вань? Накопим, Вань, и купим двухкомнатную на Ленинском или на Академической», – щебетала Люба счастливым голосом. Собкор слушал и улыбался, а вокруг было столько света, сколько никогда не бывает в северных широтах.
Вдруг солнце начало стремительно меркнуть, небо потемнело, а облака сделались похожи на черные дыры. Это конец света, удовлетворенно подумал Иван Ильич. Допрыгались, гады? Ну, теперь вы за все ответите.
Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер.
Глава четвертая
Амур и Псишея
- Ах, лутьше б умер я, нещастный,
- Нежель сердечну муку длить
- И тщиться пламень сладострастный
- Слезами горькими залить,
– бормотал себе под нос нечесаный господин в засаленном сюртуке, отчаянно гримасничая и размахивая кулаком.
Пиит, с уважением подумал Митя. Внимает зову музы. Однако на всякий случай отодвинулся подальше – еще зашибет в лирическом упоении, ручища-то вон с оглоблю, да и пахло от Аполлонова жреца нехорошо, кислятиной и потом.
Среди собравшихся в сей позднеутренний час в апартаментах светлейшего князя Зурова стихотворец один был обтрепан и не напудрен, все прочие явились парадно, благоухая цветочными ароматами и немецкой туалетной водой.
Снова, как вчера, приходилось ждать, но умудренный опытом Митя уже понимал: придворная жизнь по большей части состоит в ожидании. Сегодня, правда, томились не только Карповы, а все, пришедшие засвидетельствовать почтение великому человеку. Дам почти не было, все больше господа, в том числе преважные, иные в генеральских мундирах, а у некоторых на камзолах такие бриллиантовые пуговицы, что за каждую, наверно, можно по два Утешительных купить. Стояли смирно, в голос никто не говорил, и вообще, как приметил Митя, держали себя здесь много строже, чем давеча в высочайшем присутствии. Сам же себе сей удивительный феномен и разъяснил: там, на четверговом собрании у государыни, что – лестно быть приглашенным, и только, а тут у людей судьба решается. Вот где подлинное вместилище власти, в этих беломраморных комнатах, примыкающих к внутренним царицыным покоям.
Человек с полета собралось, не меньше, и все беспрестанно поглядывали на высокую злато-белую дверь, откуда, должно быть, и следовало появиться Платону Александровичу. Каждый день в десять утра светлейший завивал волосы, попутно принимая просителей и значительных персон, кто приехал в Петербург или же, наоборот, собирался отъехать. Всякий посланник, даже из наипервейших европейских держав, знал: прежде чем предстать перед императрицей, надобно засвидетельствовать почтение Фавориту, иначе милостивого приема не жди. Вот и сегодня вместе с прочими дожидался какой-то восточный вельможа, в парчовом тюрбане, при красной бороде. Пальцы достойно сложены на брюхе, веки приспущены, из-под них нет-нет да и блеснет искорка – приглядывается, высматривает. Интересно, кто таков – перс или, может, бухарец? Вот бы с кем потолковать, порасспрашиватъ, чем попусту время тратить.
Митя с папенькой пришли загодя, в начале десятого, а уже минуло одиннадцать. Что-то заспался князь, но посетители, даже самые развельможные, не роптали. Лишь один пухлый генерал с черной повязкой на глазу все причитал, что кофей простынет. Рядом с Карповыми топтался говорливый старичок со звездой, он и шепнул, что сей заслуженный воин, измаильский герой, научился у турков варить замечательный кофей. Однажды Платон Александрович отведал знаменитого напитка и изволил похвалить, с тех-то пор Михаила Илларионович (так звали героя) почитает за обязанность каждое утро приезжать к светлейшему и собственноручно варить кофе. Ловок, с завистью сказал старичок. Этак в аншефы выплывет, на кофее-то.
Неужто это и есть чудесная придворная жизнь, о которой мечталось папеньке, вздохнул Митя. Сколько за вчера и за сегодня можно бы книг перечесть, интересных дум передумать…
– Не вертись, – шепнул Алексей Воинович. Нагнулся, поправил сыну тупей и тихо, чтоб сосед не слышал:
– Ничего, mon ange, потерпи. Они все просители, а мы приглашенные. Это большая разница.
Руки у папеньки трепетали еще больше, чем вчера. Шутка ли – сам Зуров к себе позвал! Императрица, та подарила сто червонцев и велела завтра ввечеру приходить в Бриллиантовую комнату, в шахматы играть, но сказала это лениво, зеваючи, а вот светлейший, прежде чем последовать за ее величеством в опочивальню, изрек кратко, непререкаемо: «Чтоб завтра на завивке были у меня. Оба».
Всю ночь папенька не спал, метался по гостиничной комнате. То страшился Фаворитовой ревности, то уповал на невиданные милости, то истово бил поклоны перед дорожной иконой. Мите и самому любопытно было – зачем это они князю понадобились? Может, хочет в шахматы поучиться, чтоб царицу обыгрывать? Это бы легче легкого.
Наконец-то! Ручка знаменательной двери дернулась, шелест голосов сразу затих. Все приготовились, умиленно заулыбались.
Однако в залу вышел не светлейший, а высоченный офицер-преображенец с хмурым, мятым лицом. Не взглянув на собравшихся, протопал к золоченому столику, где был сервирован фриштик на одну персону, налил из графина полный бокал вина, стал пить. Кадык у офицера дергался, и в тишине было слышно, как вино с бульканьем льется в глотку.
Старичок шепнул:
– Капитан-поручик Андрюша Пикин, князев адъютант. Забубенная башка, ему б в остроге сидеть. Все разбойнику с рук сходит.
Допив и смачна крякнув, капитан-поручик повеселел. Поправил лихой ус, облизнул красные губы и, звеня шпорами, направился к стоявшим у стены креслам, куда никто доселе присесть не осмеливался. Этот же развалился самым вольным образом, ногу на ногу закинул и еще трубку закурил.
Снова скрипнула дверь, снова сделалось тихо, но и на сей раз то был не князь, а преизящный господин, лицом удивительно похожий на стерлядку, какой Митя с папенькой угощались вчера вечером после малоэрмитажной виктории: такой же задранный кверху острый носик, широченный тонкогубый рот, и даже задом новоприбывший вихлял совершенно на манер рыбьего хвоста.
– Метастазио, Еремей Умбертович, – сообщил полезный старичок. – Секретарь светлейшего. Пойти, поклониться. Сейчас Сам пожалует…
И карповский сосед кинулся к секретарю, только где ему, старому, было протиснуться через иных Соискателей. Господина Метастазио обступили со всех сторон, совали какие-то бумаги, пытались шепнуть что-то на ухо. Он же на месте не стоял – легкой, порхающей походкой шел через залу, и вся толпа, толкаясь, двигалась за ним.
– Он итальянец, да? – спросил Митя вернувшегося ни с чем старичка.
– Проходимец он, – сердито ответил тот, потирая зашибленный локоть. – Его в Милане за шулерство к постыдному столбу выставляли. Давно ли барышень танцулькам обучал по рублевику за час, а ныне кавалер и действительный статский советник. – Сплюнул. – У царя дьяк, у дьяка хряк. Вот кто истинно империей-то правит. Никуда без него, вертлявого, не двинешься.
Сказал и сам напугался, аж рот себе зажал, по сторонам заоглядывался.
Проходимец ли, нет ли, но смотреть на итальянца было интересно. Все-то он, шустрый, поспевал: и с вельможами раскланяться, и выслушивать нескольких просителей сразу, и даме ручку поцеловать.
Вдруг остановился, сказал – чисто, почти без акцента:
– Вы, генерал, первый. Вы, граф, второй. После вы, сударыня, а дальше я укажу, кому…
Не договорил, склонил голову по-собачьи, прислушиваясь к чему-то, внятному ему одному. Стремительно вскинул руку – будто капельмейстер пред оркестром.
– Его светлость Платон Александрович Зуров!
Из-за двери донеслись громкие, неспешно приближающиеся шаги.
Сияющие створки в третий раз скрипнули, и впереди стоявшие согнулись в низком поклоне, так что теперь поверх спин и белых затылков Мите стало все очень хорошо видно.
Ух ты!
На середину залы, потешно переваливаясь, выбежала мартышка в короткой юбчонке и кружевных панталончиках. Увидела склоненные тупеи и давай в ладоши стучать, скалить желтозубую пасть.
А уж потом из-за створки высунулся сам Платон Александрович, да и покатился с хохоту.
– По… похвально, что даму чтите!
Прямо слезы у него из глаз, так смеялся. Преображенец Пикин с кресла вскочил, еще громче князя заржал, Метастазио же ограничился веселой улыбкой.
– Хорошо. В добром расположении пребывают, – обрадовался старичок.
И начался прием.
Светлейший, вышедший к посетителям в китайском халате, сначала закусывал: кушал маслинки, начиненные соловьиными язычками, и щипал шемаханский виноград. Потом ковырял в зубах. Покончив с зубами, взялся за нос, нисколько не смущаясь многолюдства. С утра кожа Платона Александровича золотом уже не искрилась, но впрочем цвет лица у его светлости был свеж, а щеки румяны. Большую часть просителей он слушал скучливо или, может, не слушал вовсе – мысли любимца Фортуны витали где-то далеко. Иной раз по понуждению куафера он вовсе поворачивался к низко кланяющемуся человеку затылком. О чем просили, Мите слышно не было, да и всяк старался изложить дело потише, склоняясь чуть не к самому уху князя.
Одним он не отвечал вовсе, и тогда нужно было пятиться прочь, а непонятливых господин Метастазио брал двумя пальцами за локоть или за фалду и тянул назад: подите, мол, подите. Митя приметил, что несколько раз итальянец что-то нашептывал патрону про очередного искателя, и таких Зуров слушал внимательнее, ронял два-три слова, которые секретарь немедленно записывал в маленькую книжечку.
Папенька предпринял тактический маневр. Взял Митю за рукав и тихонечко, тихонечко переместился влево. Расчет был такой: когда светлейшему кончат завивать правую сторону головы, он повернется другим профилем – и как раз узрит отца и сына Карповых.
Так и вышло. Увидев же Митридата и его родителя, светлейший вдруг оживился, взор из скучающего сделался осмысленным.
– А, вот вы где! – вскричал князь, дернул головой и вскрикнул – забыл про раскаленные щипцы.
– Руки велю оторвать, образина! – рявкнул он на куафера по-французски. – Отойди прочь. А вы, двое, сюда!
Папенька ринулся первым. Подлетел к его светлости соколом, поклонился и замер, как лист перед травой. Митя припустил следом, встал рядом. Ну-ка, что будет?
– Как вас… Пескарев? – спросил Зуров, вглядываясь в красивое лицо Алексея Воиновича, и отчего-то поморщился.
– Никак нет. Карпов, отставной секунд-ротмистр, вашей светлости по Конной гвардии однополчанин.
– Карпов? Ну, не важно. Вот что, Карпов, вашего сына я беру к себе в пажи. У меня будет жить.
– О! Какая честь! – возликовал папенька. – Я не смел и мечтать! Мы немедленно переедем на квартиру, которую вашей светлости будет благоугодно нам назначить.
– Что? – удивился Зуров. – Нет, вам, Карпов, никуда переезжать не нужно. Вы вот что. – Он снова поморщился. – Вы отправляйтесь… ну, в общем, туда, откуда приехали. Без промедления, нынче же. Еремей!
– Да, светлейший? – привстал на цыпочки Метастазио.
– Ты ему дай тысячу или там две за утруждение, пускай его посадят в санки и скатертью дорога. Да гляди у меня, Карпов, – строго молвил Платон Александрович, переходя с помертвевшим папенькой на «ты». – Не вздумай в Петербург возвращаться, тебе здесь делать нечего. А о сыне не тревожься, он у меня ни в чем нужды знать не будет.
– Но… но… Родительское сердце… Совсем дитя… И потом, в Брильянтовую комнату, приглашение ее величества, – залепетал Алексей Воинович бессвязное.
Однако князь его не слушал, а Метастазио уже тянул за фалду.
– Папенька! – закричал Митя, бросаясь к отцу. – Я с вами поеду! Не хочу я тут, у этого!
– Ты что, ты что! – зашептал папенька, испуганно улыбаясь. – Пускай так, это ничего, ладно… Приживешься, понравишься, и о нас вспомнишь. Ты его светлости угождай, и все хорошо будет. Ну, храни тебя Христос.
Наскоро перекрестил сына и не посмел более задерживать, попятился к двери, кланяясь Платону Александровичу.
– Попрощались? – спросил тот. – И отлично. А теперь поди-ка сюда, лягушонок.
Один остался Митя, совсем один среди всех этих чужих, ненужных людей. И как быстро все стряслось-то! Только что был с родителем и ничего на свете не боялся, а тут вдруг обратился сиротой, малой травинкой среди преогромных деревьев.
– Еремей, как он тебе? – Зуров слегка ущипнул Митю за щеку.
– Смотря для какой надобности ваша светлость намерена сего отрока употребить, – ответил итальянец, разглядывая мальчика.
Тот слушал ни жив, ни мертв. Как это «употребить»? Не съесть же? Тут вспомнилось прочитанное из китайской гиштории про злого богдыхана, который омолаживал кожу в крови младенцев. Неужто?!
– Как для какой? – осерчал князь. – Иль ты не знаешь, отчего я утратил сон и дижестицию желудка? Скажи, годится ли он в посланцы любви?
Над головами просителей вылезла косматая башка давешнего пиита.
– Сиятельный князь произнес слово «любовь»? – закричал стихотворец и замахал листком. – Вот обещанная ода, которую желая бы возложить к стопам вашей светлости и за авторство сих вдохновенных строк нисколько не держусь! Дозвольте прочесть?
Зуров не дозволил:
– Недосуг.
Секретарь взял у пиита листок, сунул в немытую лапищу золотой и замахал на толпу: отодвиньтесь, отодвиньтесь, не для ваших ушей.
Подтанцевал обратно к столику, успев по дороге погладить Митю по голове.
– Не мал ли?
– Глуп ты, Еремей, хоть и слывешь умником. Мал золотник да дорог. А я сразу придумал, вчера еще. – Хитро улыбнувшись, Зуров достал из кармана мелко исписанную бумажку. Велел Мите. – Слушай и запоминай.
Стал читать вполголоса, проникновенно:
«Павлина Аникитишна, mon ame, mon tout ce que j'aime![3] Напрасно вы бежите меня, я уже не есть тот, который был. Не беспутной ветреник и не любитель старушьего плотолюбия, каким ты, верно, меня мнишь, а истинный Вертер, коему от нещастныя страсти неутоления жизнь не мила, так что хоть пулю в лоб или в омут головой. А чувствительнее всего мне то, что смотреть на меня не желаешь и когда мимо твоего дома верхами проезжаю, нарошно велишь ставни закрывать. Жестокосердная! Пошто не бываешь ни в балах, ни на четвертках? Уж и она приметила. Давеча говорила, где моя свойственница, а у меня сердце в груди так затрепыхалось, словно крылья бога любви Амура. И то вам подлинно сказать могу, голубушка Павлина Аиикитишна, что я буду не я, если не стану с тобой, как Амур с Псишеей, ибо вы самая Псишея и есть. Помните сии вирши иль нет? „Амуру вздумалось Псишею, резвяся, поймать, спутаться цветами с нею и узел завязать“. Так ведай же, о, Псишея души моей, что узел меж нами завязан волею небес и никоим силам немочно тот узел развязать!
Ton Amour».
Пока читал, прослезился от чувств, промокнул манжетом глаза.
– Ну-ка, премудрый Митридат, повтори. Да гляди, ни слова не выпусти. Сможешь?
Чего ж тут мочь? Митя повторил, не жалко. Светлейший следил по бумажке.
– Ага! Все в точности! Как по-писаному! – взликовал он. – Видишь, Еремей? Буду ей писать, моей душеньке, а письмеца никто не выкрадет, не трясись. Если что – малец сам выдумал, всегда отпереться можно. Старуха мне поверит. Да еще гляди. – Зуров взял Митю за плечи, повернул и так, и этак. – Волосья ему подвить, хитончик пошить, сзади крылышки из кисеи – будет Купидон. Еще можно малый лук золоченый, со стрелами.
Тут Метастазио заволновался, стал шипеть Фавориту в ухо. Митя отошел – пускай себе секретничают, не очень-то и нужно.
Все не мог опомниться от приключившегося жизненного переворота. Куда прислониться? У кого спросить совета?
Побродил по зале, повздыхал и пристроился подле знакомого старичка – все ж таки не совсем чужой, больше часа бок о бок простояли.
– С милостью вас, – сказал тот и присел на корточки, чтоб быть вровень с Митиным лицом. – Кто рано начинает – высоко взлетает. Может, когда-никогда выдастся оказия, и за меня словечко замолвите? Третью неделю паркеты топчу, все никак не протолкаюсь. А дело у меня, сударь мой, вот какое…
И завел что-то про младшего сынка-недоросля, но так долго и подробно, что Митя скоро отвлекся – стал за мартышкой наблюдать. Очень уж затейная была, бестия, пронырливая. Понравился ей чем-то кофейный генерал, застыла она перед ним, уставилась снизу вверх своими блестящими глазенками, морщинистый палец в рот засунула – ну прямо по-человечьи.
– Ой, берегись, Михаила! – весело предупредил Фаворит. – Зефирка у меня влюбчивая. Гляди, не попользуйся девичьей слабостью. Обрюхатишь – жениться заставлю.
Генерал княжьей шутке обрадовался, ответил в тон:
– Так ведь это, Платон Александрыч, от приданого зависит, какое пожалуете. А то и женюсь, ей-богу.
Наклонился к скотине и представил ей пальцами козу. Зефирка застеснялась, генералову руку своей лапкой пихнула, головенку вбок отвернула, а сама на героя глазенками так и стреляет. Все давай смеяться мартышкиной кокетливости. Она того пуще законфузилась, опустилась на четвереньки, попятилась и вдруг как спрячется ближней даме под пышную юбку.
Что тут началось! Дама стоит ни жива ни мертва, только приседает да повизгивает. Публика корчится от хохота, громче всех заливается сам Фаворит.
А Мите даму жалко. Каково ей? Не юбки же задирать, чтоб животное выгнать? И рукой через жесткие фижмы тоже не достанешь.
– Ай, ай, – причитала бедная. – Перестань! Миленькая, Зефирочка! Ай, что ты делаешь!
Хотела к выходу просеменить, но чуть не упала. Видно, мартышка ей в ноги вцепилась – ни шагу не ступишь.
Митя увидал, что у несчастной пленницы по лицу текут слезы, даже мушка со щеки отклеилась, вниз поплыла. Неужто никто не поможет, не заступится? Что ж, тогда на помощь ей придет рыцарь Митридат.
Он подбежал, тоже встал на четвереньки, приподнял край парчового платья и пролез под проволочный каркас.
Там было темно, тесно и пахло звериным запахом – надо думать, от Зефирки.
Хохот из многих глоток, когда лиц не видать, звучал жутковато, будто свора собак осипла от заполошного лая. Ну и пускай их хохочут.
Мартышка скрючилась, обхватив белеющую во мраке полную ногу. Не исцарапает? Нет, обрадовалась избавителю – обняла его за шею, и он полез обратно, стараясь не слишком высоко поднимать юбку от пола.
Митю встретили рукоплесканьями и шутками. Шутки были взрослые, несмешные. Митя умел их распознавать по особенному тону, каким сии mots произносились, и в смысл не вникал – пустое.
– Мал, да удал! Везде побывал, все повидал!
– Одним махом двух нимф услаждахом!
– С новым галантом вас, Марья Прокофьевна!
Право, как дети малые.
Зефирка ручонки расцепила, скользнула на пол, да и замерла, очарованная пряжкой на Митином башмачке. Цветные стеклышки так переливались, так сверкали – заглядение.
Потрогала, подергала, потом вдруг как рванет!
– Отдай!
Куда там. Коварная тварь сунула трофей в зубы и припустила прочь на всех четырех лапах, ловко лавируя меж ног.
– Пиши пропало, – сказал старичок-сосед. – Что пряжка, третьего дня эта поганка у меня с груди звезду Александра Невского уперла! Любит, сволочь, блестящее. Хотел у его светлости попросить, чтоб отыскали, да не осмелился. Жалко, беда! С алмазами была звезда-то…
А Митя взглянул на осиротевший башмак, еще недавно столь нарядный и прекрасный, – слезы брызнули. Ну, проклятый Cercopithecus[4] из семейства приматов, нет такого закона, чтоб у дворянских сыновей пряжки воровать!
И ринулся в погоню – тоже на четвереньках, ибо так обсервация лучше.
Ага, вон ты где, за лаковыми ботфортами! Зефирке игра в догонялки, похоже, понравилась. Она оборачивалась, корчила рожи, в руки не давалась.
От ботфорт к палевым чулкам; потом к старомодным башмакам с высокими красными каблуками; потом под кресло. Чуть-чуть не поспел за юбчонку ухватить, выскользнула. Но дальше прятаться Зефирке было негде: голый паркет, стена, боковая дверь.
Попалась!
Митя поднялся, растопырил руки.
– А ну, дай!
Мартышка вынула пряжку изо рта, сунула под мышку и вдруг отмочила штуку: подпрыгнула, повисла на дверной ручке, и дверь приоткрылась. Подлая воровка шмыгнула в темную щель, исчезла.
Ну нет, шалишь! Митридат Карпов от поставленной цели не отступится.
Митя оглянулся назад – одни спины, никто не смотрит. Стало быть, вперед, в погоню.
Зефирка ждала на том конце большой, с завешенными окнами комнаты. Задрала юбку, махнула хвостом, для которого в панталончиках имелся особый вырез, и побежала дальше – но не слишком споро, будто не хотела, чтоб преследователь совсем отстал.
Так пробежали пять или, может, шесть пустых комнат. Митя их толком не рассмотрел, не до того было. А в невеликой, славно протопленной каморе (в углу поблескивала бело-синими изразцами большущая голландская печь) воровка прыгнула на лавку, с лавки на портьеру, с портьеры под потолок и вдруг исчезла.
Что за чудо?
Митя пригляделся – вон оно что! Печь шла не до самого потолка, там была щель, этак с пол-аршина. Надо полагать, для циркуляции нагретого воздуха.
По портьере лазить человеку невозможно, поэтому со скамьи он вскарабкался на подоконник, оперся ногой на медную ручку заслонки, другой встал на приступку, ухватился за фрамугу, а там уже можно было и до печного верха дотянуться.
Ну вот и встретились, мадемуазель Зефира! В узком, темном надпечье передвигаться получилось только ползком. В носу щекотало от пыли, и мундир с кюлотами, наверно, запачкались, но зато пропажа была возвращена – мартышка без боя вернула пряжку, сама протянула.
Выходило, что она не подлая и не жадная. Оказавшись на печи, угомонилась, дразниться перестала. Может, она вовсе и не бежала от Мити, а к себе в гости звала?
А судя по некоторым признакам, именно здесь, на печи, находилось Зефиркино жилище или, вернее сказать, ее эрмитаж, куда посторонним доступа не было. Когда глаза приобвыклись с темнотой, Митя разглядел разложенные по кучкам сокровища: с одной стороны пол-яблока, несколько коржиков, горку орехов; с другой – вещи поинтересней. Золотая ложечка, большой хрустальный флакон, еще что-то, переливавшееся голубоватыми бликами. Взял в руку – алмазная звезда. Верно, та самая, утащенная у незадачливого старичка. Надо вернуть, то-то обрадуется. Во флаконе темнела какая-то жидкость. Духи?
– Нехорошо, – сказал Митя хозяйке. – А если каждый начнет таскать, что ему нравится? Это у нас тогда как во Франции выйдет – революция.
Зефирка погладила его сухой лапкой по щеке, сунула огрызок печенья – угощайся, мол.
– Мерси. Давай-ка лучше отсюда слезать, не то…
Тут в комнате раздались шаги – вошли двое, а то и трое, и Митя замолчал. Ах, нехорошо. Найдут на печи, да еще с ворованным. Не ябедничать же на Зефирку, тварь бессловесную и к тому же, как выяснилось, нескверную сердцем.
– …Будто мало девок! Никогда не мог понять, почему нужно непременно упереться в какую-нибудь одну! – произнес мужской голос, показавшийся знакомым. – Ведь суть-то одна, вот это, и ничего более. – Раздалось легкое пошлепыванье, будто стучали ладонью по ладони или, скорее, по сжатому кулаку, после чего говоривший продолжил. – Эк что придумали, статс-даму вам подавай! Царскую свойственницу! Да в своем ли вы уме, князь? Блажь, и к тому же преопасная. Предосторожность с мальчонкой вас не спасет. Князь, вы не думаете ни о себе, ни о преданных вам людях!
Метастазио – вот кто это, узнал Митя.
– Оставь, надоел, – ответил второй (уж понятно, кто). – Клянусь, она будет моей, чего бы мне это ни стоило.
– Чего бы ни стоило? – зловеще переспросил итальянец. – Даже, к примеру, положения, высшей власти, наконец, самое жизни? Помните про завещание. Вы в двух шагах от сияющей вершины, а норовите броситься в пропасть! Что вас ждет, если воцарится курносый – об этом вы подумали?
– Ему что, – басисто вступил в разговор третий, неизвестно кто. – Ну, в поместье сошлют или, шишки зеленые, за границу укатит. А за горшки платить нам с вами, Еремей Умбертович. Ma foi,[5] Платон, ну ее к черту, дуру жеманную. Ты не думай, нешто я не понимаю, каково тебе со старухой слюнявиться? Я тебе, сосенки точеные, нынче же из табора такую богиню доставлю – затрясешься. И шито-крыто будет, никто не сведает!
– Молчи, Пикин. Ты дурак, тебе только по шлюхам таскаться. Оба заткнитесь! Мое желание вам – закон. А перечить будете, выгоню прочь. Нет, не выгоню – болтать про меня станете. В медвежью яму кину, ясно?
Загрохотали гневные шаги – один ушел, двое остались. Значит, придется еще ждать. Зефирка положила Мите голову на плечо, сидела тихо.
Внизу помолчали.
– Ну что, Пикин? – медленно произнес секретарь светлейшего. – Сами видите, наш петушок вовсе ума лишился. Дальше ясно: поймают с поличным (уж ловильщики сыщутся) да и взашей. Старуха не простит. Время теряем, Пикин. Вы завтра во дворце на дежурстве, так?
– Так.
– Ну и подмените склянку, как велено. Старуха выпьет и околеет, но не сразу – дня через два. Успеет и завещание объявить, и Внуку скипетр передать. Тогда нам бояться нечего, в еще большей силе будем. Что вы усами шевелите? Или перетрусили, прославленный храбрец?
А ведь «старуха» – это государыня императрица, догадался Митя, и ему стало очень страшно. Околеет? Отравить они ее, что ли, хотят? Как Мария Медичи наваррскую королеву? Ах, злодеи!
– Еремей Умбертович…
– Что это вы, Пикин, в глаза не смотрите? Или забыли про расписку? А про ту шалость? Это ведь каторга, без сроку.
– Ладно пугать, не из пугливых, – огрызнулся преображенец. – Нашел чем стращать – каторгой. Бутылку подменить дело ерундовое, да только вот какая оказия… Пропала склянка-то.
– Что-о?! Как пропала?!
– Ума не приложу. В спальне у меня была, в сапоге. Думал, никто не залезет. А нынче утром сунул руку – пусто.
– Это Маслов, – простонал итальянец. – Он, ворон, больше некому. Тогда непонятно одно: почему вы еще на воле? Или не опознал? Навряд ли. Он у старухи каждый день, не мог не заметить, что склянка точь-в-точь, такая же. А если… Тс-с-с! Что это? Вон там, на печи!
Ax, беда! Выдала Митю несмышленая Зефирка. Надоело ей тихо сидеть, зашебуршилась, заелозила, да и брякнула каким-то из своих сокровищ.
– Мышь.
– Странная мышь, со звоном. Ну-ка, кликните слуг.
– Зачем слуг? Сам взгляну. Я, Еремей Умбертович, ужас до чего любопытный.
Внизу, совсем близко, загрохотало – это Пикин лез любопытствовать. Не торопился, лиходей, да еще напевал хрипловатым голосом:
- Ни крылышком Амур не тронет,
- Ни луком, ни стрелой.
- Псишея не бежит, не стонет —
- Свились, как лист с травой.
В щель просунулась ручища, блеснув золотой пуговицей на обшлаге.
Митя вжался в самую стену, затаил дыхание. Да где там – не укроешься: капитан-поручик шарил обстоятельно, не спеша.
- Парапетам, парапетам, согласием дыша.
- Та цепь тверда, где сопряженно с любовию душа…
Глава пятая
Истребление тиранов
Едва цепь, соединявшая душу Ивана Ильича Шибякина с телом, оборвалась, как сразу же выяснилось, что все обман – никакого конца света не предполагается. Небо немедленно посветлело, облака из черных снова стали белыми, да и солнце передумало гаснуть. Какой там – оно засияло еще пуще, торопясь завершить свой недолгий осенний маршрут.
Когда же на город сошли густые ноябрьские сумерки, Николас Фандорин оторвался от уютно мерцающего экрана, потянулся и подошел к окну.
Одуревшему от программирования взору Москва явилась странно расплывчатой и даже, выражаясь языком компьютерным, глючной. На первый взгляд обычный вечерний ландшафт: разноцветные рекламы, волшебно-светозарная змея автомобильного потока, извивающегося по Солянке, подсвеченные прожекторами башни Кремля, вдали – редкозубье новоарбатских «недоскребов». Но, если присмотреться, все эти объекты имели различную консистенцию, да и вели себя неодинаково. Кремль, церкви и массивный параллелепипед Воспитательного дома стояли плотными, непрозрачными утесами, а вот остальные дома едва приметно подрагивали и позволяли заглянуть внутрь себя. Там, за зыбкими, будто призрачными стенами, проступали контуры других построек, приземистых, по большей части деревянных, с дымящими печными трубами. Машины же от пристального разглядывания и вовсе почти растаяли, от них осталась лишь переливчатая игра бликов на мостовой.
Николас посмотрел себе под ноги и увидел внизу, под стеклянным полом, крытую дранкой крышу, по соседству, в ряд, другие такие же, еще острый верх бревенчатого частокола. Это амбары с солью, догадался магистр истории. Задолго до того, как в начале двадцатого века Варваринское товарищество домовладельцев выстроило многоквартирную серокаменную махину, здесь находился царский Соляной двор. Неудивительно, что в этих каменных теснинах ничего не растет – земля-то насквозь просолена. Тут Фандорин разглядел у ворот Соляного двора часового в тулупе и треугольной шляпе, на штыке вспыхнул отблеск луны. Это уж было чересчур, и Николас тряхнул головой, отгоняя не в меру детальное видение.
Разве можно до такой степени погружаться в восемнадцатое столетие? Время – материя коварная и непредсказуемая. Однажды так вот нырнешь в его глубины, да и не сумеешь вернуться обратно.
Еще раз встряхнулся, энергично, и наваждение рассеялось. Пол снова стал непроницаемым, дубовым, на улице заурчали автомобили, а с верхнего этажа донеслась дерганая карибская музыка – там жил растаман Филя.
Надо сказать, что отношения с местом обитания у Фандорина сложились странноватые. Такой уж это город – Москва. В отличие от Венеции или Парижа, она берет тебя в плен не сразу, при первом же знакомстве, а просачивается в душу постепенно. Этакая гигантская луковища: сто одежек, все без застежек, снимаешь их одну за одной, снимаешь, сам плачешь. Плачешь оттого, что понимаешь – до конца тебе не раздеть ее никогда.
Голос у тысячелетнего Города – в смысле, настоящий, а не обманный, который для гостей столицы – не шум и гам, а тихий-претихий шепот. Кому предназначено, услышит, а чужим незачем. С некоторых пор Ника научился разбирать эти приглушенные речи. А потом, лиха беда начало, приспособился и видеть такое, что открывается немногим. Например, контуры прежних зданий, проступающие сквозь стены новых построек. Парящие над землей разрушенные церкви. Гробы позабытых кладбищ под многолюдными площадями. Даже людей, которые жили здесь прежде. Толпы из разных московских времен скользили по улицам, не пересекаясь и не замечая друг друга. Иногда Фандорин останавливался посреди тротуара как вкопанный, залюбовавшись какой-нибудь незнакомкой в пышной шляпке с вуалью. На долговязого растяпу налетали сзади, обзывали сердитым словом (и поделом обзывали). Опомнившись, Николас виновато улыбался и шел дальше, но все оглядывался, оглядывался – не вынырнет ли снова у витрины «Седьмого континента» силуэт из столетнего далека.
Как-то раз, сдуру, попробовал рассказать про другую Москву жене. Та встревожилась, потащила к психиатру – еле отбился. Что ж, если это было и сумасшествие, Нике оно нравилось, излечиваться он не хотел. Во всяком случае, он псих тихий и никому не докучающий, не то что сегодняшний господин Кузнецов. «Суд удаляется на совещание». Каково? Ладно, а сам-то, сам: президент фирмы добрых советов, подверженный галлюцинациям и тратящий уйму времени на никому не нужные игрушки.
За этим дурацким занятием не заметил, как день пролетел. С загадкой для сержанта в конце концов все устроилось. Придумался такой фокус – пальчики оближешь или, как выражается Валя, абсолютный супер-пупер.
Секретарь разок заглянул в кабинет, наверное, хотел что-то спросить, но Николас замахал на него: уйди, уйди, не до тебя – перед Данилой никак не желала открываться дверь в Бриллиантовую комнату. То и дело звонил телефон, но, судя по тому, что Валя обходился сам, ничего важного. Говорить пришлось всего однажды, с женой.
– Пожар, – сказала Алтын, как всегда, без вступлений и нежных словечек, даже без «здравствуй». – Из Питера позвонили. Там «Возня» горит. Заболел председатель секции по растленке. Нужно выручить. Я из редакции в аэропорт. Забери зверят из сада. Вернусь через три дня. Ты в порядке?
– Да, но…
– Не скучай.
И повесила трубку. Жена у Николаса была ужасно невоспитанная. Он давно к этому привык и не обижался, только иногда, в философические минуты, диву давался – что за диковинную пару они собой представляют: двухметровый рефлексирующий мямля, воспитанный в вест-эндской частной школе, и маленькая, задиристая пантера из бескудниковских джунглей. Налицо несхожесть вкусов, противоположность темпераментов, даже внутренние хронометры у них настроены по-разному – Алтын живет по секундной стрелке, а он ведет отсчет времени на века. Почему молодая, стильная, победительная женщина до сих пор не послала «баронета хренова» (как выражалась Алтын в сердитые минуты, и это еще в лучшем случае) к королеве-матери (еще одно выражение из ее динамичного лексикона), для Фандорина было загадкой, чудом из чудес. Однако спасибо за то, что на свете есть чудеса, и не стоит подвергать их химическому анализу.
Полное название «секции по растленке» было такое: Секция по борьбе с растлением несовершеннолетних при Всероссийском Обществе Защиты Нравственности Юношества (в просторечии «Возня»), одним из учредителей и спонсоров которого являлась газета «Эросс». К этим общественным обязанностям Алтын относилась не менее серьезно, чем к редакционным, и никакого противоречия между обеими сферами своей деятельности не видела. На ехидные Никины замечания отвечала: полноценная сексуальная жизнь нравственности не помеха, а если ты, дожив до сорока лет, этого еще не понял… – и дальше начинались оскорбления.
Забрать из детского сада детей? Однако Николас обещал, что съездит с Валей Гленом в Мюзик-холл. Валя давно занимался современным танцем, но исключительно для собственного удовольствия, а тут вдруг решил попробовать свои силы на профессиональной сцене. В Мюзик-холле шел открытый кастинг для нового супер-продакшна «Пиковый валет», и человек будущего очень нервничал, просил оказать моральную поддержку. Должно быть, затем и в кабинет заглядывал – проверить, не забыл ли шеф про обещание.
Сейчас четверть седьмого. В саду детей держат до восьми, самое позднее до половины девятого. Значит, нужно было торопиться.
Фандорин вышел в приемную.
Глен стоял у окна, выходившего во двор, и что-то сосредоточенно разглядывал. По стеклу плыли неземные красно-синие отсветы. Заинтересовавшись их происхождением, Николас присоединился к своему помощнику.
Колодец двора, расписанный домоуправлением в цвета лунного кратера, смотрелся жутковато, но красиво. Окна сияли, как планеты, а внизу стоял луноход – милицейский автомобиль, гонявший по стенам красные и синие блики. Какие-то люди водили по земле кружками яркого света, и на мгновение из полумрака выхватился нарисованный мелом контур человеческой фигуры.
– Что там такое? – спросил Фандорин.
– Улет, старфлайт, – мечтательно протянул Валя.
– Какой улет?
– Полный. Мужик какой-то взял и улетел. Абсолютно. Послал всех на факофф и улетел. Наверно, вмазал «белого» или стэмпов нализался – от них тоже крылья вырастают.
– Кто-то выкинулся из окна? – спросил дрогнувшим голосом Ника. – Только что?
Живешь обычной, счастливой жизнью, расстраиваешься или радуешься из-за пустяков, а в это время совсем рядом кто-то задыхается от нестерпимой боли или невыносимого одиночества и выносит сам себе смертный приговор…
– Не, давно уже. Часа три. Сначала альтефрау дворовые заголосили, потом приехали флики. Я хотел вам сказать, а вы меня по бэксайду веником.
– Ты что тут про стэмпы плел? – нахмурился Николас, отходя от окна. – Какие еще крылья? Смотри, Валентин, ты мне слово давал. Будешь баловаться с наркотиками – вылетишь в секунду, без выходного пособия.
– То-то с бонанзы соскочу, – съязвил ассистент.
Туше. Что правда, то правда – денег Николас платил своему помощнику мало, да и те с задержками. С другой стороны, Глен работал в «Стране советов» не из меркантильных соображений. Мать-банкирша (Валя называл ее Мамоной) выдавала сынуле на кино и мороженое куда больше, чем Николас зарабатывал в самые хлебные, докризисные времена. Фандорин неоднократно намекал представителю золотой молодежи, что при нынешней конъюнктуре вполне может обойтись и без секретаря, но реакция на подобные демарши была бурной. В голубые дни Валя наливался скупой на слова мужской обидой, а в розовые закатывал, то есть закатывала истерику с рыданиями.
Глен не делал секрета из причины, по которой пять дней в неделю, с одиннадцати до шести, просиживал в приемной офиса 13-а. Причина была романтической и называлась «Любовь». В каком из двух своих качеств Валя был (была?) влюблен(а) в шефа, для последнего оставалось загадкой, ибо Николас ловил на себе томные взгляды ассистента и в голубые, и в розовые дни. Глен обладал чудовищным терпением гусеницы-древоточицы и, несмотря на абсолютную невосприимчивость обожаемого начальника к андрогинным соблазнам, явно не терял надежды рано или поздно добиться своего. Фандорин понемногу привык к утомительным повадкам секретаря – зазывному трепету ресниц, облизыванию якобы пересохших губ, беспрестанному соскальзыванию бретельки с точеного плечика – и перестал обращать на них внимание. В конце концов, с канцелярской работой Валя справлялся превосходно, а на выезде и вовсе был незаменим. Где найти другого такого сотрудника, да еще за столь неубедительную зарплату? В этой логике безусловно присутствовал постыдный элемент содержанства, но Фандорин рассчитывал, что Валина страсть постепенно перейдет в платоническую фазу – ведь сексуальная жизнь человека будущего протекала куда как бурно и без Никиного участия.
Валя укоризненно потупился, ласкающим движением руки провел по своей тонкой шее, любовно обрамленной воротом пятисотдолларового свитера, погладил себя по полированной до зеркального блеска макушке. Он очень гордился идеальной формой черепа и в мужской своей ипостаси выставлял ее напоказ, в женской же предпочитал разнообразие в прическах – в особом шкафу у него висело несколько десятков париков самых невообразимых фасонов и расцветок.
– Ладно вам закидываться. – Глен одним пальцем дотронулся до Никиного плеча. – Захотел человек и улетел. Его прайваси. Мы все как перелетные фогели. Поклюем семечек, выведем птенцов и курлык-курлык, пора в райские страны. Шеф, мы едем в театр или нет? Ай эм coy нервэс, прямо кошмар!
* * *
Все он врал про кошмарное волнение. Это стало ясно, когда три десятка претендентов стали отплясывать на сцене, следуя командам режиссера («Ручейком назад! Прыжок! Еще! Теперь поработайте ногами! Девушка в зеленом трико, я сказал ногами, а не задницей! Волну руками! Так! Показали растяжечку!»).
Среди всего этого броуновского движения Глен смотрелся прима-балериной в окружении кордебалета. Его прыжки были самыми высокими, ручеек самым изящным, ноги он закидывал так, что колено сливалось с плечом, а когда режиссер велел «поддать эротики», все, кто сидел в зале, смотрели уже только на новоявленного Антиноя.
При этом Валя еще успевал метать быстрые взгляды на шефа, так что замысел был очевиден: привел для того, чтобы впечатлить. Фандорин вздохнул, посмотрел на часы – через десять минут пора было ехать за детьми.
Режиссер выставил со сцены всех кроме Вали и теперь гонял его одного, так что исход конкурса можно было считать предрешенным.
И следующая группа конкурсантов, и болельщики, и даже посрамленные претенденты не сводили глаз с божественного танцовщика, подбадривали его криками и аплодисментами. Особенно усердствовали девушки. Николас заметил, что некоторые из них с явным интересом поглядывают и на него. Это было лестно. Если в сорок лет на тебя засматриваются нимфетки, значит, ты еще чего-то стоишь. Он расправил плечи, небрежно закинул руку на спинку пустого соседнего кресла.
Одна девчушка, очень худенькая, из-за алого трико похожая на весеннюю морковку, пошептавшись с подружками, направилась к Фандорину. Ну, это уж было лишнее. Невинно полюбоваться младой порослью – это одно, но вступать с нею в переговоры, да еще, возможно, нескромного свойства?
На всякий случай он снял руку с кресла, застегнул пиджак и нахмурился.
– Извините, вы голубой? – спросило дитя, приблизившись.
Зная раскованность московской молодежи, Николас не очень удивился. Просто ответил:
– Нет.
Морковка просияла, обернулась к подружкам и показала им два пальца, сложенные колечком – окей, мол.
– Значит, вы его ботинок? – кивнула она в направлении сцены. – Пришли попсиховать?
Только теперь до Николаса дошла причина девичьей заинтересованности в его персоне. Слово «ботинок» (производное от «батя») на живом великорусском означало «отец».
– Не ботинок, а коллега, – печально молвил он. – Однако не советую вам, милая барышня, увлекаться Валей.
Девчушка схватилась за сердце.
– Так это он голубой? Он не по девчонкам, да?
Николас не сразу придумал, как объяснить окрашенность Валиных пристрастий.
– Он… полихромный. Но, повторяю еще раз, не советую. Наплачетесь.
– Вы, дяденька, советами своими на базаре торгуйте, – ответила повеселевшая барышня. – Хорошие бабки получите.
И пошла себе. Вот уж воистину: устами младенца.
* * *
На Покровку, в детский сад «Перипата», Николас домчал быстрей, чем рассчитывал. Всегдашней пробки на бульваре не было – спасибо ноябрю, полудремотной поре, когда замедляется ток всех жизнеформирующих жидкостей, в том числе московского траффика.
Сад был не обычный, казенного образца, а прогрессивный, частный. Некая преподавательница-пенсионерка, устав прозябать на полторы тысячи в месяц, набрала группу в десять детей. Ее соседка по коммуналке, в прошлом художник-график, отвечала за питание. Стихийно возникший штат дошкольного учреждения дополняли остальные соседи: безработная аптекарша и увечный майор-спецназовец, которому доверили спорт и подвижные игры. Платить за детей приходилось немало, но «Перипата» того стоила – даже взыскательная Алтын была детсадом довольна.
Геля сидела в прихожей на галошнице, болтая ногами.
– Явился, – сказала она (научилась суровости у матери). – Между прочим, восемь часов. Костю с Викой уже забрали.
Прислушавшись к воплям, доносившимся из глубины квартиры, Николас парировал:
– Но остальные-то еще здесь.
– А Костю с Викой уже забрали, – непреклонно повторила дочь, но все же чмокнула отца в щеку, и Ника привычно растрогался, хотя поцелуй был всего лишь данью традиции.
– Что же ты не играешь?
– Я не люблю про взятие дворца Амина.
– Какого дворца? – изумился Фандорин.
– Ты что, пап, с Чукотки? – покачала головой Геля. – Амин – это афганистанец, который хотел нас всех предать.
– Афганец, – поправил Ника, мысленно, уже в который раз, пообещав себе поговорить с майором Владленом Никитичем, забивающим детям голову всякой чушью. И потом, что это за выражение про Чукотку? Или побеседую с самой Серафимой Кондратьевной, дал себе послабку магистр, потому что несколько побаивался ветерана спецназа, у которого вместо куска черепа была вставлена титановая пластина.
Минут двадцать ушло на то, чтобы вытащить из боя сына. Эраст дал себя эвакуировать, лишь получив тяжелое ранение в сердце. Николас вынес героя в прихожую, одел, обул. Сознание вернулось к раненому только на лестнице.
Все-таки удивительно, до чего мало близнецы были похожи друг на друга. Геля светловолосая, в отца, а глаза мамины, темно-карие. Эраст же, наоборот, получился черноволосым и голубоглазым.
Из-за имен между супругами разразилась целая баталия – никак не могли между собой договориться, как назвать сына и дочку. В конечном итоге поступили по-честному: мальчика нарек отец, девочку мать. Оба – Николас и Алтын – остались крайне недовольны выбором противной стороны. Жена говорила, что мальчика задразнят, будут обидно рифмовать, про героического прадеда Эраста Петровича слушать ничего не желала. Ника тоже считал имя Ангелина пошлым и претенциозным. Хотя дочке оно, пожалуй, подходило: при желании она могла изобразить такого ангелочка, что умилился бы сам Рафаэль.
В отсутствие Алтын принцип единоначалия в семье Фандориных действовать переставал, начинался разгул анархии и вседозволенности, поэтому уложить детей в кровать Николасу удалось только к десяти. Теперь оставалось прочесть вечернюю сказку, и можно будет поработать над сценарием дальнейших приключений камер-секретаря.
– «Иван-царевич и Серый Волк», – прочитал Ника заглавие сказки и подержал вкусную паузу.
Эраст, мальчик толстый, неторопливый, обстоятельный, подпер голову рукой и сдвинул брови. Угол, где стояла его кроватка, был сплошь увешан оружием и батальными рисунками. Геля приоткрыла губы, одеяло натянула до самого подбородка – приготовилась бояться. На стене у нее было нарисовано окошко с видом на море, поверх рисунка – настоящие занавески с кружевами.
– «В одном царстве, в русском государстве жил-был царский сын Иван-царевич», – начал Фандорин.
– Мальчик? – немедленно перебила Геля. – Опять? То про Мальчика-с-пальчика, то про Емелю. А про девочку когда?
Эраст выразительно закатил глаза, но проявил сдержанность, ничего не сказал.
– Будет и про девочку, – пообещал Фандорин, наскоро пробегая глазами по строчкам – по правде говоря, сказку про Серого Волка он помнил плохо, разве что по картине Васнецова. – Попозже.
– Так нечестно. Пускай сразу про девочку.
– Ну хорошо. И жила там же девочка, звали ее Марья-царевна. Собою пригожа, да мила, да кожей бела…
– А Иван-царевич? – немедленно взревновал сын. – Он что, не пригож?
– Конечно, пригож.
– И мил, и кожей бел, – закончил Эраст.
– Да. – Николас отложил книжку. При таком интерактивном режиме дочитать сказку до конца удавалось редко – приходилось выдумывать на ходу. – Полюбили Иван-царевич и Марья-царевна друг друга, решили пожениться…
– Нельзя, – отрезал Эраст.
– Почему?
– Они брат и сестра.
– С чего ты взял?
– Отчество одинаковое. Иван Царевич и Марья Царевна. Сестры с братьями не женятся, так не бывает.
Николас подумал и нашелся:
– Это же сказка. В сказках, сам знаешь, все бывает.
Эраст кивнул, можно было продолжать.
– Но полюбил Марью-царевну злой волшебник Кашей бессмертный, похитил ее и уволок далеко-далеко, в тридевятое царство, в тридесятое…
Тут перебили оба. Геля заявила:
– Если полюбил, значит, не такой уж он злой.
Сын же подозрительно прищурился:
– Не по-онял. – (Это он из телевизионной рекламы научился так говорить, теперь не вытравишь.) – Какой такой Кащей Бессмертный? Которому мы с Иванушкой-дурачком сначала яйцо разбили, а потом иголку сломали? Он же пал на землю и издох!
– Ну… – не сразу нашелся Фандорин. – Это потом было. Марью-царевну он раньше украл.
– Значит, и рассказывать нужно было сначала про Иван-царевича, а потом уже про Иванушку-дурачка, – проворчал Эраст. – А то так не правильно. Ладно, давай дальше.
Геле на ее замечание про любовь, совершенно справедливое, Николас ничего не ответил, только улыбнулся и погладил по мягким волосам. Она нетерпеливо дернула головой – не до глупостей, мол, продолжай.
– Сел Иван-царевич на доброго коня и отправился на поиски Марьи-царевны. Едет через темные леса, через глубокие моря, через высокие горы, за синие озера. Месяц едет, два, три, и попал в такое место, что ничего там нет, только ветер воет да вороны каркают. Видит – лежит на дороге большой-пребольшой камень, и на нем написано:
«Прямо пойдешь – жизнь потеряешь, налево пойдешь – душу потеряешь, направо пойдешь – коня потеряешь, а назад отсюда дороги нет».
– Может, хватит уже про Иван-царевича? – взбунтовалась Геля. – Теперь нужно про Марью-царевну рассказать. Как она там жила, у Кащея Бессмертного, о чем они разговаривали, чем он ее угощал, какие подарки дарил.
– Почему ты думаешь, что он ее угощал и дарил подарки?
– Ведь он же ее полюбил.
– Да, правильно. – Николас почесал нос. – Ну, в общем, жила она у него не сказать чтобы плохо. Мужчина он был собой видный, еще нестарый, много повидал на своем веку, да и умный. Рассказчик замечательный. Но не могла Марья-царевна его полюбить, потому что…
– Потому что сердцу не прикажешь, да? – подсказала дочь.
Эраст деликатно покашлял:
– Кхе-кхе.
Это означало: не хватит ли про ерунду? Фандорин двинул фабулу дальше:
– Стоит Иван-царевич перед камнем, выбирает, куда ехать. Жизнь ему терять неохота, душу тем более…
– А как это – душу потерять? – заинтересовалась Геля.
– Это самое страшное, что только может случиться. Потому что со стороны совсем незаметно. Вроде человек как человек, а души в нем нет, одна видимость, что человек.
– И много таких? – встревожилась дочка.
– Нет, – успокоил ее Ника. – Очень мало. Да и те не совсем пропащие, потому что, если очень захотеть, душу можно обратно отыскать.
– Мы сказку рассказывать будем? – положил конец схоластической дискуссии Эраст. – Куда же он поехал?
– Направо, конечно.
Геля спросила дрогнувшим голосом:
– А конь? Он же добрый был, ты сам сказал.
И сын насупился: непорядок.
– А коня он с собой не взял, – придумал Ника. – Около камня оставил, пастись.
– Это правильно, – одобрил практичный Эраст. – Можно его на обратном пути забрать.
Тут по законам жанра требовалось подпустить саспенса, и Николас заговорил страшным голосом:
– Пошел Иван-царевич направо и забрел в густую-прегустую чащу. Ух, как там было темно! Под ногами что-то шуршало, над головой шелестели чьи-то крылья, а из мрака светились чьи-то глаза.
– Ой, – сказала Геля и натянула одеяло до самых глаз, а Эраст лишь мужественно стиснул зубы.
– Вдруг на тропинку как выскочит Серый Волк! – продолжал нагнетать Николас. – Зубы вот такие, когти вот такие, шерсть дыбом! Как оскалит желтые, острые клычищи…
Здесь пришлось прерваться, потому что зачирикал дверной звонок. Кто бы это мог быть, в одиннадцатом часу? Может, Алтын передумала ехать на свою растленку?
– Сейчас открою и вернусь, – сказал Ника, поднимаясь.
Нет, это была не Алтын.
На лестничной площадке стоял мужчина в спортивной куртке. Лицо бритое, с упрямо выдвинутой челюстью, глаза маленькие, бойкие. Под мышкой незнакомец держал ложно-кожаную папку на молнии.
– Николай Александрович Фандорин здесь проживает? – спросил он, глядя на долговязого хозяина квартиры снизу вверх.
– Да, это я, – настороженно ответил Николас.
Всякому жителю России известно, что от поздних неожиданных визитов добра не жди.
– Так это я, выходит, к вам, – широко улыбнулся мужчина, словно сообщал необычайно радостную весть. – Из МУРа я, из шестнадцатого отдела. Оперуполномоченный Волков Сергей Николаевич.
Открыл перед носом маленькую книжечку, подержал, но недолго – Фандорин успел лишь прочесть слово «капитан».
– Разрешите войти? Разговорчик есть.
Капитан качнулся вперед, и Николас инстинктивно отступил, давая дорогу.
Переступив порог, оперуполномоченный МУРа жизнерадостно объявил:
– Хреновые ваши дела, гражданин Фандорин. Как говорится, заказывайте белые тапочки.
И оскалил острые, желтые зубы в хищной улыбке.
От этого оскала Николас непроизвольно сделал еще два шага назад, и капитан немедленно завладел освободившейся территорией. Он повертел головой вправо-влево, зачем-то потер пальцем старинное зеркало в раме черного дерева (куплено на Арбате во времена преддефолтного благополучия).
– Венецианское? Вещь!
– Почему венецианское? Русское, московской работы, – пролепетал Ника. – Какие тапочки? Что вы несете?
– Поговорить нужно, – шепнул милиционер, трогая хозяина за пуговицу – такая уж, видно, у него была дурная привычка, за все хвататься руками. – Ага, поговорить.
От этого бесцеремонного хватания, от идиотского шепота Фандорин наконец пришел в себя и разозлился. Не на позднего гостя – на себя. Что за дикость, в конце концов? Почему честный, законопослушный человек должен нервничать из-за визита милиции, хоть бы даже и криминальной?
– Кому нужно? – неприязненно спросил он, снимая с груди руку капитана. – Почему вы пришли без предварительного звонка, да еще в такое позднее…
– Вам нужно, – перебил Волков. – В первую очередь вам. Зайти-то можно?
– Входите, раз пришли.
Николас первым вошел в гостиную. Можно ли позвонить, капитан уже спрашивать не стал. Достал из кармана мобильный телефон – дорогой, побогаче скромного Никиного «сименса» – нажал одну кнопочку.
Коррупционер, решил Фандорин, которому развязный опер ужасно не понравился. Известно, какая в милиции зарплата, на нее такой телефон не купишь. Взятки берет или «крышует» – знаем, по телевизору видели.
– Але, Миш? – забубнил Волков, отвернувшись. – Это я, Серый. Ну че там у вас с трупняком?… Понятненько. И особые по нулям?… Ясно… Хрена, сам на Колобки волокись, я вам не нанялся… Да кручусь пока… Ага, у этого, у кандидата. – Тут он коротко обернулся на Николаса, и тот понял, что он и есть «кандидат». Почему-то от этого невинного слова по коже пробежали мурашки. – Отбарабанюсь – звякну… Ага, давай.
Повертев по сторонам круглой, стриженной под полубокс башкой, капитан спросил:
– Наверно, в загородном проживаете. А тут так, место прописки?
– Почему? – удивился Фандорин. – Здесь и живу. Загородного дома у меня нет.
Эта информация оперуполномоченного почему-то озадачила. Он проворно подошел к двери в кабинет, сунул нос и туда – вот какой бесцеремонный.
– Послушайте, капитан Сергей Николасаич Волков из шестнадцатого отдела, – строго начал Ника, собираясь дать наглецу укорот, но милиционер повернулся к нему, лукаво погрозил пальцем и протянул:
– Хреновата квартирка-то. Не склеивается у нас.
Николас удивился. По московским понятиям квартиру никак нельзя было назвать «хреноватой». Двухсотметровая, в старинном, но полностью реконструированном доме, с высоченными потолками, в свое время она съела изрядный кус английского наследства. Тогда казалось, что это излишество, но, если учитывать последующий дефолт, квартира обернулась единственным толковым вложением капитала.
– Что «не склеивается»?
– Версия. Мрамора нет, ковры не наблюдаются, хрусталь-бронза отсутствуют. Вы что, подпольщик? Как гражданин Корейко?
– Как кто? – моргнул Фандорин, которому в его британском детстве папа сэр Александер не позволял читать советскую беллетристику. – Да что вы себе позволяете? Вторглись в частное жилище, суете всюду нос! Что вам нужно?
Милиционер взял два стула, поставил их один напротив другого. Сел, жестом пригласил садиться и хозяина.
– Ты лучше давай со мной начистоту, – строго сказал он. – Для вашей же пользы. Ксиву видал? Я из шестнадцатого. Это отдел по раскрытию резонансных убийств, понятно? Не «колбасник» какой-нибудь и не из налоговой. Пети-мети по чужим карманам мести – не по нашей части. Колитесь, Николай Александрович, на чем бабки варите. Слово Сереги Волкова – не настучу. Сам их, клопов сосучих, не выношу… Ладно, сейчас я вам одну хреновину покажу, после которой ты со мной стесняться перестанешь, как барышня у гинеколога.
Николас поморщился – метафора капитана Волкова ему не понравилась, как и хамские перескакивания с «вы» на «ты». Но от невнятных речений оперуполномоченного на душе становилось все тревожней. Кажется, завязывалась какая-то мутная, неприятная история.
– А до завтра разговор не ждет?
Он оглянулся на дверь детской. Эраст и Геля, должно быть, заждались продолжения сказки. Так вдруг захотелось послать капитана с его непонятными речами и зловещими шарадами к черту, вернуться в ясный и светлый мир, где нет никого страшней Серого Волка и всегда побеждает справедливость.
Но Волков уже совал в руки какой-то листок, и отделаться от этого дурного наваждения не представлялось возможным.
– Почитайте-ка. А там уж сами решайте, ждать до завтра или не ждать. Ваша жизнь не моя. Ага.
Это была ксерокопия машинописного текста. Не веря своим глазам, Ника прочел:
ПРИГОВОР
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАНДОРИН, президент фирмы «Страна советов», объявляется гадом и обманщиком, на основании чего приговаривается к высшей мере справедливости – истреблению.
– Что за бред? – воскликнул Фандорин. – Где вы это взяли?
– До завтра так до завтра, – злорадно оскалился капитан, забрал листок и сделал вид, что собирается уходить.
Однако сменил гнев на милость, вынул из папки большую глянцевую фотокарточку.
– Из кармана вот у этого гражданина.
На снимке был крупный план мертвого лица: широко открытые глаза, нимб из растекшейся по асфальту крови. Гримаса для трупа необычная – довольная и даже словно бы торжествующая. Николас охнул.
– Знакомого увидали? – весь подобрался Волков.
– Да… Этот человек был у меня сегодня. На работе.
– Знаю. У него в кармане лежала реклама вашей фирмы. Во сколько?
– Где-то около трех. Что… что с ним произошло?
– Имя, фамилию знаете? – перешел на шепот милиционер, словно боялся спугнуть добычу.
– Чью, его? – тупо переспросил Фандорин. – Кузнецов, э-э-э, вот имя-отчество не запомнил. Что-то самое обычное. Иван Петрович, Сергей Александрович… Не помню. Только вряд ли он назвался настоящим именем. Что с ним случилось?
– Почему «вряд ли»?
– Не знаю, так мне показалось. Объясните же, наконец, как он погиб? И что значит этот идиотский приговор?
Капитан разочарованно протянул:
– Правильно вам показалось… Проницательный вы человек, гражданин Фандорин. Нипочем не стал бы он вам свое настоящее имя называть… Как погиб, спрашиваете? С крыши спарашютировал. Дома номер один по улице Солянке, тут близехонько.
– Так это был он!
Николас вспомнил луноход в кратере и очерченный мелом контур на асфальте.
– Я видел милицейскую машину из окна. У меня там офис!
– Знаю. Зачем он к вам приходил? О чем говорил?
– Честно говоря, я так и не понял, что его ко мне привело. Вел он себя странно… По-моему, у него произошла какая-то личная драма. Возможно, заболела жена или даже умерла. А может, бред больного воображения. Он был явно не в себе… Но мне и в голову не пришло, что, выйдя от меня, он сразу же покончит жизнь самоубийством!
Хорош советчик, препаратор душ, горько сказал он себе. Не разглядел, что перед тобой человек на краю бездны. Ему, может, всего-то и хотелось услышать живое слово участия, а ты ему: «У вас совесть есть? Отнимаете от дела занятого человека!» Главное, чем занятого-то? Господи, как стыдно!
– Ага, самоубийством, – хмыкнул капитан. – Со скованными за спиной руками. И на лодыжке ожог от электрошокера.
Достал еще одну фотографию: перевернутый на живот труп, руки сзади сцеплены наручниками. Николас задержался взглядом на черных от крови пальцах покойника и содрогнулся.
Волков убрал страшные снимки, снова уселся. Теперь сел и Фандорин, чувствуя, что дрожат колени.
– Вот что, Николай Александрович, давай по-честному. Сначала я тебе всю правду. Потом ты мне. Лады?
Николас потерянно кивнул. Голова у него сделалась совершенно пустая, и, вопреки расхожей идиоме, мысли в ней не путались – их просто не было.
– Про убийство гендиректора ЗАО «Интермедконсалтинг» читали? – деловито спросил оперуполномоченный. – Такого Зальцмана? Его фугаской бухнули. На даче.
– Нет, не помню… Я не особенно интересуюсь криминальной хроникой. Знаете, у нас ведь бизнесменов часто убивают.
– Это точно, да и три месяца уже прошло… – Волков снова полез в папку. – Вот, нашли при осмотре мусорной корзинки в его кабинете. Видно, получил по почте, решил, что чушь собачья, да и выкинул. Гляньте-ка.
Фотография смятого листка бумаги. Машинописный текст:
ПРИГОВОР
ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ ЗАЛЬЦМАН, генеральный директор Закрытого акционерного общества «Интермедконсалтинг», объявляется гадом и обманщиком, на основании чего приговаривается к высшей мере справедливости – истреблению.
Николас хотел сглотнуть, чтобы протолкнуть застрявший в горле комок, – и не получилось.
– Ну про то, как завалили Зятькова, из «Честного банка», ты не мог не слыхать. Кипеж по всем СМИ был.
Да, ту историю Николас помнил. Во-первых, потому что при крахе банка с симпатичным названием лишились всех своих сбережений хорошие знакомые. А во-вторых, больно уж зверское было убийство. Вместе с банкротом во взорванной машине ехали семилетняя дочь и ее одноклассница – Зятьков вез подружек в зоопарк.
– Вот тебе еще чтение.
На стол лег новый снимок: точно такой же листок, как два предыдущих.
ПРИГОВОР
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ЗЯТЬКОВ, председатель правления «Честного банка», объявляется гадом и обманщиком, на основании чего приговаривается к высшей мере справедливости – истреблению.
– Что… все это значит? Николас расстегнул пуговицу на воротнике – со второй попытки, потому что плохо слушались пальцы.
– Если честно, хрен его знает, – простодушно улыбнулся оперуполномоченный. – Но главная версия у нас такая. Кто-то решил очистить общество от кровососов и капиталистических тиранов. Какие-нибудь съехавшие с резьбы коммуняки, ветераны интернационального долга. Сам знаешь, какая у нас страна: половина нервных, половина психованных, да по половине от каждой половины когда-никогда обучались народ мочить.
Фандорин хотел возразить против столь чудовищного преувеличения, но вместо этого, еще раз взглянув на фотографию, воскликнул:
– Это же терроризм! Самый настоящий! Непонятно кто, основываясь черт знает на каких сведениях, выносит невинным людям смертные приговоры и приводит их в исполнение! В России такого не бывало с царских времен! Об этом должна кричать вся пресса! В Думе нужно учредить специальную комиссию! А никто ни сном, ни духом!
– Это специально, чтоб паника не началась, по-нашему «резонанс». Шестнадцатый отдел именно такими делами и занимается, которые могут всенародный шухер произвести. Покойники-то, сами видите, люди непростые, буржуины буржуинычи, или, выражаясь интеллигентно, бизнес-элита. Принято решение вести розыск, как говорится, без участия общественности. А то начнется: красно-коричневая угроза, трали-вали. Политика. Ладно, не мое дело. Я сыскарь. Носом в землю уткнусь и нюхаю, есть след или нету. Короче, создана объединенная оперативно-следственная группа. Называется: «Дело Неуловимых Мстителей». Это я придумал, – похвастался капитан, но Николас юмора не оценил, потому что вырос на иных меридианах и с советской приключенческой киноклассикой знаком не был.
– Неуловимых? – повторил он упавшим голосом. – Их что, никак невозможно поймать? Но за что мне-то мстить? Я ведь никому ничего дурного не сделал. Какой-то театр абсурда…
– Что театр, это точно, – согласился Волков. – Вернее, цирк. Тут заколдованный круг получается. Вроде бы мстители эти сами подставляются: перед тем, как накрячить очередного буржуя, приговор высылают. Ставь засаду и бери их голыми руками, так?
– Так, – немного воспрял духом Фандорин.
– А вот шиш. Из-за того, что звону в прессе нет, мы узнаем про новое приключение неуловимых, когда налицо имеется трупак, мелко фасованный и в очень удобной упаковке. Приговоренные – люди серьезные, таких на фу-фу не возьмешь. Они привыкли, что обстоятельные пацаны грохают без предупреждения, а тут какая-то лохомудия: «гад и обманщик», «приговаривается». Зальцман выкинул приговор в корзинку – я вам говорил. Хорошо в пятницу вечером, уборщица не успела прибраться. У Зятькова бумажка эта неделю валялась, если не больше. Жене показывал, говорил – гляди, сколько чеканутых на свете развелось. Хотел выбросить, да супруга не дала. Себе оставила, подружек веселить. Повеселилась… Ни мужа, ни дочки, ни «мерса» за сто штук баксов, ни, между прочим, шофера, с которым, как установило расследование, мадам Зятькова состояла в сексуально-половых отношениях. – Волков коротко хохотнул. – В обоих случаях бумажки с приговором попали в руки следствия случайно. Запросто может быть, что и у других наших висяков по богатым, которые больше не плачут, тоже отсюда ноги растут. – И веселый капитан неожиданно пропел. – «Мертвые с косами вдоль дорог стоят. Дело рук красных дьяволят».
– Но… при чем здесь я? Как видите, я не миллионер, никого не эксплуатирую. У меня в фирме всего один сотрудник!
– Что за фирма? – прищурился оперуполномоченный. На чем бабки стругаете?
Чуть смущаясь, Николас объяснил про свой уникальный бизнес. Что люди сплошь и рядом попадают в трудные или нестандартные ситуации, рады бы получить квалифицированный совет, да часто не у кого. А между тем, нет ничего ценнее вовремя данного правильного совета… Объяснял, ежась под пристальным взглядом детектива, и сам чувствовал, как глупо все это звучит.
– Ясно, – сказал капитан, когда Ника умолк. – Правду говорить не хотите. Нехорошо, Николай Александрович. Вроде договаривались по честному.
– Послушайте! – Николас встрепенулся. Кажется, мозг начинал оттаивать от первоначального шока, и возникла первая гипотеза, пускай нелепая. – Если это какие-нибудь осколки коммунистического режима, может, они обиделись на название моей фирмы? Усмотрели в нем издевательство над… ну, не знаю, идеалами Октября. Наверное, можно установить, кто был этот человек, который бросился… то есть, которого сбросили с крыши?
– Если бы, – вздохнул Волков. – У парашютиста нашего ни особых примет, ни документов, ни мобилы. Отпечатки пальцев взяли, сдадим в лабораторию. Бумажки оформлять целый геморрой, а проку не будет. Татухи нет – значит, не сидел. И так видно, что не уголовный.
– Да, по типу он скорей похож на советского номенклатурщика невысокого ранга. Но кто мог его убить и почему?
Милиционер встал, спрятал последнюю фотографию в папку, вжикнул молнией.
– Наверно, свои. А почему – тайна двух океанов, спросите чего полегче. Может, предал интересы пролетариата. Кто их, уродов скособоченных, разберет. Однако уроды не уроды, а свое дело знают. И тут вырисовывается загадочка поинтересней. – Он придвинулся к Николасу вплотную и посмотрел прямо в глаза, для чего капитану пришлось подняться на цыпочки. – Что же у них с вами-то, гражданин Фандорин, облом вышел? Исполнитель мертв, а вы живы. Зря вы со мной ваньку валяете. Ей-богу зря. Как бы вас самого в удобной упаковке не расфасовали. Мне-то что, я переживу. Ваша проблема.
И двинулся к двери, напевая песенку кота Леопольда: «Неприятность эту мы переживем».
Ника переполошился:
– Постойте! Вы не можете так меня бросить! Я же не олигарх, у меня телохранителей нет!
– У нас тоже их напрокат не дают, – бросил через плечо оперуполномоченный. – В УБОПе, правда, есть отдел защиты свидетелей, но вы же свидетелем быть не желаете. Рассказали бы правду-матушку, а? Очень уж зацепочка нужна.
Оглянулся на Николаса, немного подождал.
– Не расскажете. Ну, хозяин – барин. А надумаете – вот номер.
Сунул визитную карточку, сделал ручкой и был таков. Через секунду хлопнула входная дверь, Фандорин остался один.
Пытаясь унять дрожь во всем теле, прошелся по гостиной. Хотел выпить виски и даже налил, но тут вспомнил про сына с дочкой.
Стоп. Трястись от страха будем потом, когда дети уснут.
Растянув губы в улыбке, отправился в детскую. Что за сказку он рассказывал? Ах да, про Серого Волка. А где остановился? Черт, не вспомнить. Ну, будет ему сейчас за забывчивость.
Сказку досказывать не пришлось – хоть в этом вышла Николасу амнистия. Близнецы, не дождавшись возвращения сказочника, уснули, причем Геля перебралась к брату в кровать и положила золотистую голову на его плечо.
Эта поза выглядела до того взрослой, что Фандорин вздрогнул. Права Алтын, специалистка по вопросам пола! Нужно расселить их по разным комнатам. Пятый год жизни – как раз период первичного эротизма. И уж во всяком случае не следовало нести чушь про любовь между братом и сестрой!
Но в следующий миг он увидел свисающую из под одеяла руку Эраста с крепко зажатой игрушечной шпагой и устыдился своей взрослой испорченности. Бросил детей в темном лесу, перед разинутой пастью страшного волка, а сам ушел и долго не приходил. Вот Геля и кинулась к брату за защитой.
Николас осторожно разжал пальцы сына, вынул шпагу. Вышел на цыпочках, судорожно стиснув пластмассовое оружие.
Чушь, какая чушь! «Гад и обманщик»? «Приговаривается к истреблению»?
Один день похож на другой, и от этого кажется, что жизнь обладает логикой и смыслом. Так, должно быть, полагает и улитка, греющаяся на рельсе железной дороги. А потом невесть откуда налетит огромное, черное, лязгающее, от чего нет спасения… За что, почему – есть ли что-нибудь пошлее и глупее этих вопросов? А ни за что, а ни почему. Так природа захотела, почему – не наше дело.
Слава богу, дома не было жены, и никто не видел постыдного Никиного метания по комнатам, не слышал бессвязных и жалких причитаний.
Чтобы положить конец истерике, он выпил три неразбавленных виски, и на помощь пришел мудрый алкогольный фатализм: чему быть, того не миновать, а побарахтаться в любом случае стоит. Решив, что утро вечера мудренее, Фандорин лег в кровать, для верности проглотил еще две таблетки успокоительного, и ему сразу же приснился успокотельный сон. Будто он умер, но в то же время как бы и не умер. Лежит этакой спящей красавицей в хрустальном гробу и посматривает вокруг. Там, снаружи, гроза, сверкают молнии, дождь колотит по прозрачной крышке, но замечательная усыпальница уютна и надежна. Беспокоиться ни о чем не нужно, идти никуда не нужно, и вообще делать ничего не нужно, потому что любое действие нарушает гармонию. Эта мысль показалась сонному мозгу Николаса гениальным в своей величавой простоте открытием. Уже полу проснувшись, он все продолжал додумывать ее, вертеть так и этак.
Нам только кажется, будто с нами что-то происходит и что мы перемещаемся во времени и пространстве. Нет, мы, то есть Я, – единственная фиксированная точка во всем мироздании. Вокруг может твориться что угодно, но моя незыблемость гарантирована, улыбался еще не открывший глаза Фандорин. Хрустальный гроб – отличный образ, подумал он, потягиваясь. Но тут за окном действительно грянул гром, задребезжали залитые дождем стекла, и под напором ветра распахнулась форточка. Первое, что пришло в голову испуганно вскинувшемуся Николасу, – не переоценил ли он прозрачность и прочность такой необычной гробницы.
Глава шестая
Утраченный рай
Сейчас, сейчас растопыренная пятерня подденет за ворот или за рукав, и тогда сей тесный закут воистину обернется для Митридата Карпова усыпальным склепом. Совершенно невозможно представить, чтобы два изверга, злоумышляющие против самое великой императрицы, оставили в живых свидетеля своего душегубства. Прикидываться малолетним несмышленышем бесполезно – итальянец видел, как Митя перед светлейшим красовался, чудесами памятливости блистал.
Зефирка сердито заворчала, цапнула и прижала к груди какое-то из своих сокровищ, но этого ей показалось мало, и мартышка укусила настырную ручищу за палец.
Гвардеец чертыхнулся, но руки не отдернул, вот какой храбрый.
– Крыса! – пропыхтел он. Ну, я тебе… Схватил Зефирку за ногу, выволок к свету. Та жалобно заверещала, блеснул зажатый в лапке хрустальный флакон.
– Шишки смоленые! Глядите, Еремей Умбертович, – загоготал Пикин. – Никакой не Ворон склянку стащил, а иная птица, сорока-воровка! Зря напугались. Ну-ка, что там у ней еще за добыча.
Митя и дух перевести не успел – загребущая рука потянулась к нему сызнова.
Охваченный ужасом, он подпихнул ей навстречу все, что лежало в надпечье: и съестные запасы, и свою пряжку, и старичкову звезду.
Звезда-то его и спасла.
– Ото! – Пикин с грохотом спрыгнул на пол. – Давайте делить добычу, ваше превосходительство. Пряжку вам, печенье с яблоком, так и быть, тоже, а Сашку Невского мне. Алмазы повыковыряю, закладчику снесу, вам же польза будет – часть долга уплачу.
Жалко стало Мите старичка, а что делать?
– Маленькая какая, будто игрушечная или детская, – рассеянно пробормотал Метастазио (про пряжку – больше вроде не про что). – Ладно, все хорошо что хорошо кончается. К делу, Пикин. Этими камешками вы с долгами не расплатитесь. А вот если нынче все исполните в точности, то мы квиты. Как только у старухи ночью начнется мигрень и рвота, получите все свои векселя и расписки. А когда вступит в силу завещание, я вам новый кредит открою, на десять тысяч.
– На пятьдесят, – сказал бравый преображенец. – И еще мало будет, Шишкин корень. Если курносый останется с носом (ха, каков каламбур!), вы с Платоном всю Россию в карман положите.
Затопали к выходу. Слава Богу, ушли. Можно было вылезать.
* * *
Вечером ужинали у императрицы в Бриллиантовой комнате, в самом что ни есть ближнем кругу. Сама государыня, августейший Внук без супруги, Фаворит, две старые и очень некрасивые дамы да адмирал Козопуло.
Еще были начальник Секретной экспедиции Маслов и страшный зуровский секретарь, но эти сидели не за столом, а на табуреточках: первый позади императрицы, второй с противоположной стороны, за спиной у князя. Оба держали на коленках по бювару, стопке бумаги, чернильницу с пером – чтоб враз записать, если ее величеству или его светлости придет на ум какая-нибудь государственная или просто значительная мысль.
Правда, за весь вечер такого ни разу не случилось. Наверно, из-за адмирала. Он трещал без умолку, сыпал рассказами и прибаутками, но неинтересными – всякая история заканчивалась тем, как кто-то навалил в штаны, или протошнился на каком-нибудь высоком собрании, или прелюбодействовал с чужой женой и прыгал нагишом в окно. Одним словом, всегдашние взрослые шутки. Как им только не наскучит?
А государыне нравилось. Она до слез смеялась адмираловым историйкам, особенно если попадались нехорошие слова, несколько раз даже их повторила. И все остальные тоже хохотали…
Екатерина тут была совсем не такая, как давеча, в Малом Эрмитаже. Одета попросту, в свободное платье и белый тюлевый чепец. Лицо размягченное, простое.
– Хорошо, – говорила. – Только здесь душой и разнежишься.
На Митин взгляд, место для душевного отдохновения было странное. В стеклянных шкапах торжественно сверкали имперские регалии: большая и малая корона, скипетр, златое яблоко, прочие коронные драгоценности. По стенам были развешаны шелковые и парчовые штандарты. Тут бы навытяжку стоять, при полном парадном мундире, а ей, вишь ты, отдохновенно. Должно быть, у государей душа не от того отдыхает, от чего у обычных смертных.
– Право, отрадно. – Императрица привольно потянулась. – Будто двадцать лет долой. Уж прости, дружок, – обратилась она к Внуку, – что твою Лизаньку сюда не зову, больно свежа да хороша. А так рядом с моими старушками я могу чувствовать себя красавицей. – И, со смехом, взвизгнувшей левретке. – Ах, прости, милая Аделаида Ивановна, про тебя забыла. Нас тут с тобой две красавицы.
Собачка рада вниманию, хвостом виляет, а царица лукаво Фавориту – да не на «вы», а просто, по-домашнему:
– Горюй, Платоша. Сегодня первый красавец не ты, а вон тот премилый кавалер. – И на Митю показала. – Играйся, ангел мой, играйся. После, глядишь, и я с тобой поиграю.
Диспозиция у Митридата Карпова была такая: его определили ползать по полу, где специально разложили цветные кубики и расставили деревянных солдат. Спасибо, конечно, за внимание, но все же взрослые невыносимо тупы. Какие кубики, какие солдатики, если они вчера уже видели, что разумом он ни в чем им не уступает?
Однако если б Мите вместо младенческих забав даже приготовили более увлекательную игрушку – хотя бы те же логарифмические таблицы – ему нынче все равно было не до развлечений. К деревяшкам он и не прикоснулся, все не мог отвести глаз от некоего хрустального флакона, стоявшего подле государыни. Тот самый иль не тот? Подменил Пикин или не сумел?
По случаю постного дня на столе были только рыба и фрукты, да и то всю рыбу съел один Козопуло, прочие к еде почти не притрагивались. Наверно, знают, что тут не разъешься, и заранее поужинали, сообразил Митя. Пили же по-разному, и для всякого было заготовлено свое питье: перед царицей кроме флакона был еще графин со смородиновым морсом, Фаворит пил вино, адмирал – английский пунш гаф-энд-гаф, великий князь довольствовался чаем, старухи потягивали наливку, Маслов и итальянец сидели так.
Два раза рука Екатерины тянулась к роковой склянке, и Митя коченел от ужаса, но в последний момент предпочтение отдавалось морсу.
Как, как рассказать ей про смертельную опасность?
Весь день Митю продержали в Фаворитовых покоях. Дел никаких не было, но и не сбежишь – у дверей крепкая охрана, без особого позволения не выпустит. Он думал, вечером расскажет, когда в Брильянтовую комнату поведут, но повел его не кто иной, как самый главный злоумышленник Еремей Метастазио. Митя так его боялся, что аж жмурился. Итальянец спрашивал про какую-то безделицу, а он и ответить толком не смог.
И за ужином секретарь нет-нет, да и поглядывал на Митридата, вроде бы рассеянно, но внутри от этих черных глаз все так и леденело. Оказывается, не выдумки это, про черный глаз-то. У кого душа черная, у того и взгляд такой же.
– А все же выпью настоечки, – сказала решительно государыня. – Хоть и пятница, да грех небольшой. Опять же церковь не воспрещает, если для здоровья польза. Ведь ваша настоечка полезная, Константин Христофорович? Полюбила я ее, всю внутренность она мне согревает.
– Осень полезная, васе велисество! – немедленно заверил грек. – И благословлена митрополитом. Покази-ка язык, матуська. Если розовый – пей смело.
Семирамида высунула язык, и все с интересом на него воззрились, а Митя даже на цыпочки привстал. Язык, к сожалению, был хоть и шершаво-крупитчатый, но совершенно розовый. Беды, похоже, было не избегнуть.
– Мозьно. Бокальсик, дазе два, – разрешил Козопуло и тут же налил настойки.
Митю будто толкнула некая сила. Он с криком бросился к столу и толкнул ее величество в локоть. Бокал полетел на пол, обрызгав царицыно гродетуровое платье.
– Ax! – вскричала Екатерина, а начальник Секретной экспедиции с неожиданным проворством прыгнул со своей табуреточки к Мите и крепко схватил его за ворот. Императрица ужас как рассердилась.
– Маленький дикарь! Сердце так и зашлось. Вон его отсюда, Прохор Иванович!
Маслов потащил нарушителя чинности за ухо к двери. Было больно и обидно, Митя – хотел крикнуть про отраву, но в этот самый миг встретился глазами с господином Метастазио. Ух как жуток был этот яростный, изничтожающий взгляд! А потом секретарь посмотрел ниже и судорожно дернул шейный платок, будто не мог вздохнуть. Увидел, понял Митя. Туфлю без пряжки увидел. Догадался…
Кое-как досеменил до двери, влекомый масловской рукой, беспощадной терзательницей уха. Вдруг раздался отчаянный вопль государыни, и железные пальцы Маслова разжались. Сберегатель престола кинулся к своей повелительнице.
– Что с ней? Смотрите! Ей плохо! – кричала Екатерина, указывая на пол.
Там, в разлившейся рубиновой лужице, лежала левретка Аделаида Ивановна, беззвучно разевая пасть и дергая всеми четырьмя лапами.
– Яд! – громовым голосом возопил Маслов. – Настойка отравлена! Умысел на жизнь государыни!
Императрица так и обмякла. К ней ринулись, опрокидывая кресла.
– Это хоросяя настойка! – бил себя в грудь Козопуло. – Я пил, матуська-царица пила! Никогда нисего!
Вдруг тайный советник вернулся к Мите, схватил за плечи.
– Пошто бутыль разбил? – вкрадчиво прошептал он. – С малолетской дури или знал про отраву?
Тихо прибавил:
– Ты мне правду скажи, мне врать нельзя.
Глаза у губастого старика были матовые, без блеска. Тут бы все ему и рассказать, но Митя оплошал – зачем-то взглянул на Метастазио, да и впал в оцепенение под неотрывным василисковым взглядом заговорщика.
– Знаешь что-то, вижу, – шепнул Маслов. – Добром скажешь или в экспедицию свесть? Не погляжу, что маленький…
Тут донесся слабый голос:
– Где он? Где мой ангел-хранитель? Что это вы, Прохор Иванович, ему плечики сжимаете? Иди сюда, спаситель мой. Мне и России тебя Господь послал!
И ослабла хватка черного старика, разжалась.
* * *
После памятного вечера в Брильянтовой комнате Фортуна подбросила Митридата Карпова выше высокого. Из пажей светлейшего князя Зурова, у которого этаких мальчишек разного возраста числилось до двух дюжин, сделался он Воспитанником Ее Величества, единственным на всю империю – такое ему было пожаловано отличие. Были и другие награды, более обыкновенные, но тоже завидные. Во-первых, вышло Мите повышение по военной службе: прежде он числился по конногвардейскому полку капралом сверх штата, а теперь стал штатным вахмистром, что равнялось чину армейского капитана. Во-вторых, папеньке за труды по воспитанию чудесного отрока был послан орден святого Владимира и пять тысяч рублей серебром. Однако соизволения на то, чтоб папенька с маменькой приехали (про Эндимиона Митя, памятуя затрещины и раздавленных лягушат, не просил), получено не было. «Я тебе буду вместо матушки, а Платон Александрович вместо батюшки, – ответила Екатерина. – Родителям же твоим в утешение какую-никакую деревеньку подарю из новых, из польских. Там земли да мужиков много, на всех хватит». Митя к тому времени уже ученый был, знал, что это она Фаворита расстраивать не хочет, ибо князь Зуров не терпит подле самодержицы красивых мужчин. Иные семейства своим смазливым отпрыскам на этом даже ухитрялись карьеру строить. Отправят ко двору этакого юного красавца, покрутится он денек-другой, помозолит глаза светлейшему – глядишь, дипломатическим курьером пошлют, или в армию с повышением, а одного, очень уж хорошенького, даже посланником к иностранному двору отправили, только б подальше и на подольше.
В общем, остался Митя один-одинешенек сиротствовать, а верней, как выразился остроумец Лев Александрович Кукушкин, сиропствовать — многие этак томиться пожелали бы.
Воспитаннику отвели близ высочайших покоев собственный апартамент с окнами на Дворцовую площадь. Приставили штат лакеев, назначили учителей, за здоровьем бесценного дитяти досматривал сам лейб-медик Круис.
Жилось Мите с роскошеством, но не в пример стесненней, нежели в Утешительном.
Подъем не когда пожелаешь, а затемно, в шесть, как пробьет дворцовый звонарь: долее никто спать не смей – ее величество изволили пробудиться. Утреннее умывание такое: чтоб Митридату легче сонные глазки разлепить, слуга ему протирал веки губкой, смоченной в розовой воде; потом драгоценное дитя под руки вели в умывальню, где вода, качаемая помпой, сама лилась из бронзовой трубки, да не ледяная, а подогретая. Своей рученькой он только зубы чистил, смыванием же прочих частей тела ведали два лакея – один, старший, всего расположенного выше грудей, второй – того, что ниже.
Одежда и обувь для императрицыного любимца были пошиты целой командой придворных портных и башмачников всего в два дня. Наряды, особенно парадные, были красоты неописуемой, некоторые с самоцветными камнями и золотой вышивкой. Заняло все это богатство целую комнату, именовавшуюся гардеробной. Жалко только, самому выбирать платье не дозволялось. Этим важным делом ведал камердинер. Он знал в доскональности, силен ли нынче мороз да какое у Митридата на сей день расписание, и желания не спрашивал – подавал наряд по уместности и оказии. Переодеваться для различных надобностей приходилось не меньше семи-восьми раз на дню.
Как оденут – передают куаферу чесать волосы, мазать их салом и сыпать пудрой.
Потом завтрак. Готовили в Зимнем дворце плохо, потому что государыня на кушанья была непривередлива, больше всего любила вареную говядину с соленым огурцом, и еще потому, что ее величество никогда не бранила поваров – боялась, что какой-нибудь отчаянный обидится да яду подсыплет. Вот повара и разленились. Кашу давали пригорелую, яичницу пересоленную, кофей холодный. В Утешительном Митю питали хоть и не на серебре, но много вкусней.
Дальше начинались уроки, для чего была отведена особая классная комната. Помимо интересного – математики, географии, истории, химии – обучали многому такому, на что тратить время казалось досадным.
Ну, верховая езда на британском пони или фехтование еще ладно, дворянину без этого невозможно, но танцы! Менуэт, русский, англез, экосез, гроссфатер. Ужас что за нелепица – скакать под музыку, приседать, руками разводить, каблуком притоптывать. Будто нет у человека дел поважнее, будто все тайны натуры уже раскрыты, морские пучины изучены, болезни исцелены, перпетуум-мобиле изобретен!
А занятия изящной словесностью? Кому они нужны, эти выдуманные, никогда не бывалые сказки? До четырех лет Митя и сам почитывал романы, потому что еще ума не нажил и думал, что все это подлинные истории. Потом бросил – полезных сведений из литературы не получишь, пустая трата времени. Теперь же приходилось читать вслух пиесы, по ролям: «Наказанную кокетку», «Гамлета, принца Датского», «В мнении рогоносец» и прочую подобную ерунду.
После обеда обязательные развлечения – игра на бильярде и в бильбокет. Но прежде дополнительные уроки по неуспешным дисциплинам. Таковых за Митридатом числилось две: пение и каллиграфия. Ну, если человеку топтыгин на ухо наступил, тут ничего не сделаешь, а вот с плохим буквописанием Митя сражался всерьез, насмерть. Почерк и вправду был очень нехорош. Буквы липли одна к другой, слова сцеплялись в абракадабру, строчки гуляли по листу как хотели. Писать-то ведь учился сам, не как другие дети, которые подолгу прописи выводят. Опять же рука за мыслью никак не поспевала.
Однажды, когда Митридат, пыхтя, скреб пером, портил чудесную веленевую бумагу, вошла императрица. Посмотрела на детские страдания, поцеловала в затылок и поверху листа показала, как следует писать, – начертала:
«Вечно признательна. Екатерина». Учитель велел нижние каляки отрезать, а верхний край, где высочайшая запись, хранить как драгоценную реликвию. Митя так и сделал. Отправил бумажку с ближайшей почтой в Утешительное.
Злодеев, которые подсыпали в графинчик с адмираловой настойкой отраву, пока не сыскали. Рассказать бы матушке-царице все, что слышал на печи, да жуть брала. А если Метастазио отпираться станет (и ведь беспременно станет!), если потребует доносильщика предъявить (обязательно потребует!)? Что угодно, только б не смотреть в черные, пронизывающие глаза! От одного воспоминания об этом взгляде во рту делалось сухо, а в животе тесно. Митя слышал, как Прохор Иванович Маслов докладывал ее величеству о ходе дознания: мол, его людишки с ног сбиваются и кое-что нащупали, но больно велика рыбина, не сорвалась бы. Еще бы не велика! Может, дотошный старик сам докопается, малодушничал Митя.
Великая монархиня звала своего маленького спасителя «талисманчиком» и любила, чтоб он был рядом, особенно когда решала важные государственные дела. Любила повторять, что ей сего мальчика само Провидение послало, что это Господь побудил малое дитя разбить смертоносный бокал. Бывало, задумается повелительница над трудным решением и вдруг бросит на воспитанника странный взор, не то испытующий, не то даже боязливый. Иной раз и мнение спрашивала. Митя сначала гордился таким к себе уважением, а потом понял – ей не разум его нужен, а нечто другое. Не вслушивалась она в прямой смысл-сказанного, а тщилась угадать в звуке слов некое потаенное значение, будто вещает не маленький придворный в бархатном камзольчике, а дельфская пифия.
К примеру, на послеполуденном докладе было. Государыня сидела разморенная, прикрыв глаза. То ли слушала, то ли нет. Сзади – камер-фрейлина, перебирает пальчиками у ее величества в волосах. Как найдет насекомое, давит ногтем о плоскую золотую коробочку, вошегубку. Митя был на обычном месте, низенькой скамеечке, читал Линнееву «Философию ботаники».
Камер-секретарь, претолковый молодой человек, хоть и очень некрасивый (кто ж красивого на такую должность пустил бы?), зачитывал депеши.
– В истекшем 1794 году в городе Санкт-Петербурге народилось 6750 человек, умерло 4015.
Императрица открыла глаза:
– Сколько ж прибавилось?
Камер-секретарь стал шевелить губами, а Митя, не отрываясь от чтения:
– Две тыщи семьсот тридцать пять.
– Плодятся – стало быть, сыты, ненапуганы и жизнью довольны, – кивнула Екатерина, снова смежила веки.
Докладчик читал дальше:
– Из Америки пишут. Против индейцев, обеспокоивших Кентукскую область, выслан корпус добровольнослужащих, который и разбил их совершенно.
Митя вспомнил саженного индейца. Представил, как тот крадется в ночи к ферме белого поселянина. В руке у него боевой топор, за спиной колчан со стрелами. Куда как страшно! Молодцы добровольнослужащие.
– Оттуда ж. Неприятное известие с острова Гваделупа. Французы в начале октября принудили англичан сдаться на капитуляцию и отправиться в Англию, обещав в продолжение войны не служить уже больше против французской республики.
Царица нахмурилась – не любила французов.
Камер-секретарь заметил, стушевался:
– Тут еще, того хуже…
– Ну же. – Государыня покачала головой. – Знаю я тебя, иезуитская душа. Самую пакость на конец приберег. Проверяешь, гневлива ли. Не гневлива, не опасайся.
Тогда молодой человек тихо прочел:
– Французы взяли город Амстердам…
– Да что ж это, Господи! – ахнула Екатерина. – Когда ж на них, проклятых, укорот сыщется?
Вдруг повернулась к Мите и спрашивает:
– Что делать, душенька? Объединиться с Европой против якобинцев, или пускай они и дальше промеж себя режутся, друг дружку ослабляют? Скажи, дружок, отчего эти голодранцы всех бьют? Ведь и ружей у них не хватает, и пушек, и мундиров нет, и в провианте недостача? Что за напасть такая?
И смотрит на него с надеждой, словно ей сейчас некая великая истина откроется.
А Митя рад принести благо человечеству. Линнея отложил, постарался говорить попроще и не тараторить, чтоб до нее как следует дошло:
– Это они оттого регулярную армию бьют, что у французов теперь равенство, и солдат не скотина, которая вперед идет, потому что сзади капрал с палкой. Свободный воин маневр понимает и знает, за что воюет. Свободные люди всегда и работать, и воевать будут лучше, чем несвободные.
Хотел хоть немножко подвигнуть Фелицу к пониманию того, что невозможно на исходе восемнадцатого столетия большую часть подданных содержать в постыдном рабстве.
А она в ответ:
– Как верно! Вот уж воистину устами младенца! – И секретарю. – Пиши указ: следующий рекрутский набор произвесть не из крепостных крестьян, а из вольных хлебопашцев, ибо рожденные свободными к воинскому ремеслу пригодны больше.
Остолбеневшего Митю в щеки расцеловала, подарила лаковые сани с царского каретного двора. Вот оно каково властителям-то советовать – хотел добра, а вышло зло.
Или еще случай был.
Раскладывала государыня пасьянс-солитэр, пребывала в мечтательном настроении.
– Ах, – говорит, – мой маленький птенчик, отчего это старому мужчине, хоть бы даже и шестидесятилетнему, незазорно жениться на молоденькой, а зрелой даме того же возраста повенчаться с мужчиной двадцати шести или семи лет почитается невозможным?
И опять смотрит с надеждой, вздохнуть боится.
Подумав, Митя ответил так:
– Это, удумаю, оттого, ваше величество, что от шестидесятилетнего старичка все-таки еще могут дети произойти, а у шестидесятилетней бабушки приплода быть не может.
Женятся-то ведь, чтобы население преумножать, иначе зачем бы?
Кстати и факт подходящий вспомнился.
– Однако науке известны и исключения. Я читал, что в 1718 году в мексиканском вице-королевстве некая Мануэла Санчес шестидесяти трех лет забрюхатела и произвела на свет мертвого младенца женского пола весом семь фунтов три унции и два золотника, сама же померла от разрыва детородных органов.
Императрица карты швырнула, велела выйти вон, у самой слезы из глаз. А что такого сказал?
Правда, потом вышла следом в коридор, приласкала, назвала «простой душой» и «деточкой». Многие это видели, и Митин «случай» засиял еще ярче.
При дворе уж и без того много говорили о чудесном ребенке и особом расположении к нему матушки-царицы. Само собой, явились и просители. Один камергер ходатайствовал, чтоб его приглашали на малоэрмитажные собрания. Поклонился фунтом бразильянского шоколаду. Вице-директор императорских театров, пришедший хлопотать за дозволение к постановке некоей игривой пьесы, похоже, не ожидал, что прославленный Митридат окажется настолько мал. Вручил заготовленные дары не без смущения: полфунта виргинского табаку и новейшее изобретение от дурной болезни – прозрачный капушончик из пузыря африканской рыбы. Табак Митя отдал камердинеру, шоколад съел сам, а растяжной капушончик выказал себя незаменимой вещью для опытов с нагреванием газа.
Понемногу Митридат обвыкался в огромном дворце, который строчка за строчкой, страница за страницей раскрывал перед ним книгу своих бесчисленных тайн. Конечно, не всю, а лишь малую ее часть, ибо постичь сей огромный каменный фолиант во всей его необъятности навряд ли было под силу смертному человеку, хоть бы даже и самому дворцовому коменданту. Проживи сто лет под гордыми сводами – и то всего не узнаешь. После заката Версаля на всей земле не было чертогов великолепней и просторней этих.
Для изучения дворца Митя предпринимал экспедиции: сначала в ближние пределы – в соседние залы, в висячие сады, на хоры. Потом все дальше и дальше. Со временем выяснилось, что Зимний полон не только прекрасных картин с изваяниями, а также всяких несчитанных богатств, но еще и роковых опасностей. У дворца явно была своя потайная жизнь, своя живая душа, и душа недобрая, желающая новичкам зла и погибели.
На седьмую ночь после Митиного вселения приключилось необъяснимое, зловещее событие. Лежал он ночью в необъятной высоченной кровати, на которую можно было вскарабкаться только по лесенке, и смотрел на бронзовую люстру. Не то чтобы смотрел – чего на нее смотреть, когда она уже вся в доскональности изучена, – просто пялился вверх, а там, наверху, как раз и располагалась люстра. Спать не хотелось. Государыня требовала, чтобы ребенка укладывали в десять, и читать ночью не дозволяла, якобы от этого здоровью вред. Он пробовал объяснить, что ему для зарядки энергией довольно и трех часов, но царица, как обычно, толком не слушала. Так что хочешь – не хочешь, а лежи, думай.
Тяжеленная люстра изображала Торжество Благочестия: само Благочестие в образе бородатого старца располагалось посередине, а по краям вели хоровод певцы с кимвалами и арфами.
Лежал, размышлял о том, как преобразовать правосудебное устройство, чтобы судьи судили честно, властей не боялись и от истцов с ответчиками подношений не брали. Задачка была не из простых, не для ночного ума, и Митя сам не заметил, как задремал, но, видно, ненадолго и некрепко. Проснулся оттого, что показалось, будто скрипнула дверь. Потом услыхал легкий шорох – как бы рвется что-то. Похлопал глазами, пытаясь сообразить, что бы это могло быть. На бронзовом круге люстры тускло мерцал отсвет заоконного фонаря. Вдруг блик шевельнулся – сначала покачался, потом двинулся книзу, с каждым мигом разрастаясь и ускоряясь. Не столько уразумев, сколько почувствовав, что люстра падает, Митя выкатился из под одеяла на пол. Зашиб локоть, но, если б промедлил еще пол-мгновения, упавшая махина оставила б от него кучку фарша и переломанных костей. От удара у кровати подломились толстые ножки, а ложе в середине треснуло пополам.
После, когда стали разбираться, выяснилось, что лопнули волокна веревки, на которой опускают бронзовое чудище, чтоб зажигать свечи. Лакея, который к светильникам приставлен, государыня сгоряча велела за небрежение прижечь клеймом и сослать в Сибирь, но после сжалилась, приказала только немножко посечь и отдать в солдаты.
Митя тогда не очень-то и напугался – отнес за счет дурного нрава Дворца, от которого можно ожидать всякой каверзы. Но прошла еще неделя, и дело предстало в совсем ином свете.
К тому времени экспедиции по изучению каменного исполина достигли подвала, где находились кладовки и кухни. Провизия, равно как и ее приготовление, Митридата не интересовали, но за винным погребом обнаружилось любопытное местечко – старый, выложенный камнем колодец, очень возможно, что оставшийся еще от прежней постройки. Раньше, пока не провели трубы, из него, наверное, брали воду для кухонных надобностей, теперь же он стоял заброшенный. Колодец был неглубокий, до воды не дальше полу сажени (земля то в Петербурге топкая, до почвенных вод всегда близко). С четырех сторон – каменные ступеньки, чтоб поваренку сподручней наклониться, бадейкой на палке зачерпнуть воды.
Раз колодец простаивал без пользы, Митя решил приспособить его для химического опыта – выращивания кристаллов медного купороса. Место холодное, без ненужных испарений. Спустил на веревках две стеклянные банки с пересыщенным раствором, в одной обычная нитка, в другой шелковая. Раза по три на дню бегал проверять – не появились ли кристаллы.
23 февраля, в пятницу, с утра, в первой банке начался процесс. На суровой нитке явственно посверкивали синие крупицы. Ура!
Митя спустил банку обратно. Свесился, чтобы поднять вторую, но тут чья-то сильная рука схватила его за фалду, другая подцепила за воротник и швырнула головой вниз. Краем глаза он успел заметить зеленый рукав с красным обшлагом, а в следующий миг плюхнулся в черную ледяную воду.
Вынырнул в темноте, задыхаясь и отплевываясь. Стал барахтаться. Пробовал кричать, и в каменном квадрате крик отдавался гулко, но на кухне нипочем не услыхали бы – далеко, да и шумно там. Кабы не веревки, на которых были подвешены склянки, в два счета пошел бы ко дну, ибо, хоть Митя и превзошел математическую науку, понял строение материи и изрядно знал по философии, плавать не умел – недосуг было научиться.
Да и веревки, в которые он намертво вцепился, спасли бы его ненадолго. Через минуту-другую пальцы закоченели, стали разжиматься. Счастье великое, что вице-кох за вином шел и писк из колодца услыхал, иначе непременно опечалил бы Митридат Карпов родителей и матушку-государыню.
Вице кох мальчонку вытащил, первым делом надавал подзатыльников – не лезь куда не ведено, – а после дал хлебнуть вина, раздел, шерстяной варежкой натер и в два фартука укутал. Митя на несправедливые подзатыльники и ругань не обиделся. Поцеловал драчуну за спасение руку, объяснять ничего не стал.
Потом, укутанный уже не в фартуки, а в медвежье одеяло, лежал у себя в спальне, производил умственный анализ случившегося.
Тут уж на злобность дворца грешить не приходилось, налицо был человеческий умысел. Кто-то хотел истребить государынина воспитанника и только чудом не преуспел в своем намерении.
А мудреного анализа и не понадобилось.
У кого зеленый с красным мундир? У Преображенского полка.
Митя дернул за звонок, велел камер-лакею узнать, какой сегодня караул во дворце. Оказалось, точно, Преображенский. Командир – капитан-поручик Пикин. Как Митя это имя услыхал, снова его затрясло, но уже не от холода. Стал дальше размышлять, вспомнил и про упавшую люстру.
Наскоро оделся – сам, без камердинера. Прокрался в кордегардию, где журнал караульных дежурств. Подождал у двери, пока сержант отправится посты проверять, и заскочил внутрь. Кто неделю назад, 16 февраля, тоже в пятницу, дежурил? Так и есть: капитан-поручик Андрей Пикин. Зря, выходит, лакея в солдаты отдали. Да и ночной скрип объяснился. Прокрался злодей в спальню, подрезал ножиком или еще чем волоконца на веревке, да и был таков, а остальное тяжесть люстры довершила.
Вон оно что! Не успокоился господин Метастазио, предприимчивый человек. И не успокоится, пока не изведет со свету опасного свидетеля.
Видно, не в себе Митя был, не услышал приближающихся шагов, а когда дверь открылась, бежать было поздно.
Вошли Пикин и сержант-преображенец, совсем еще юнец.
– Глядите, Бибиков, – весело сказал капитан-поручик, – какой у нас гость. Сам Митридатус Премудрый. Ты что тут делаешь? Слыхал, чего с любопытной Варварой приключилось? А? – Оглядел обмершего Митю своими шальными глазищами. – Мне сказывали, ты в колодец нырял? За царевной-лягушкой? Ну, шишки-семечки, в рубашке ты родился. Таким в карты везет. Надо тебя обучить. То-то вдвоем всех чистить будем, а?
И заржал, душегуб. На роже ни тени, ни облачка, и от этого было всего страшней. Митя взвизгнул, проскочил у сержанта под локтем, понесся со всех ног неведомо куда.
* * *
Это только так говорится, что человек несется неведомо куда, на самом-то деле всякий, даже с огромного перепугу, сразу соображает, куда ему бежать спасаться. Знал про то и Митридат, даже сомнения не возникло.
Есть человек, для того и приставленный, чтобы беречь государыню и пресекать заговоры против августейшей персоны. Человек известный – тайный советник Маслов, начальник Секретной экспедиции. И давно следовало ужас перед Еремеем Мстастазио преодолеть, во всем Прохору Ивановичу признаться. Ужас, он только цепенит и воли лишает, а от погибели никогда и никого не спасал. Что кролику трепетать, взирая на разинутую пасть удава? Ведь хищного змея кроликово бездействие не отвратит от плотоядного замысла.
Проживал тайный советник близехонько от дворца, на Миллионной улице. В гости к Прохор Иванычу по доброй воле никто не хаживал, но место его обитания всему Петербургу было отлично известно. Это надо из бокового подъезда выскочить, пробежать мимо полосатой караульной будки и нырнуть во двор напротив. Там, в желтом казенном доме, бдит Секретная экспедиция, при ней и квартира начальника.
Маслов выслушал всхлипывающего мальчика внимательнейшим образом, ни разу не перебил, а только кивал да приговаривал:
«Так, та-ак», – и чем дальше, тем живей. Недоверия, которого Митя больше всего страшился – мол, напридумывал малолеток небылиц, – Прохор Иванович не явил вовсе, да и, судя по лицу, не очень-то рассказу удивился. Скорее обрадовался.
Заходил по тесному, сплошь уставленному запертыми шкафами кабинету, потирая сухие белые руки. Побормотал что-то под нос, покивал сам себе.
– Ты вот что, превосходный отрок, – говорит, – ты мне помоги матушку спасти и злодеев изобличить, ладно? Тогда и я сумею тебя от тех же самых извергов уберечь.
– Как же я могу вам помочь? – поразился Митя. – Я ведь маленький.
Тайный советник обнял его за плечо, усадил рядом с собою на диванчик, заговорил тихо, душевно:
– Ты хоть и невелик, а разумней многих больших. Посуди сам: вот знаем мы с тобой правду, только ведь этого мало. Не поверит нам матушка, потому что тут замешана дражайшая ее сердцу персона.
– Мне-то, конечно, не поверит, – горячо сказал Митя. – Я для нее что, кукла затейная, китайский болванчик. Но уж вам-то, своему охранителю!
Прохор Иванович подпер вислую щеку, пригорюнился.
– Увы. И мне, своему верному псу, тоже не поверит. Про кого другого – да, но только не про ближних подручников свет-Платошеньки. Я ей и вправду что пес: на чужих бреши, а своих не замай. Даже если сумею я в матушку сомнение заронить, дальше-то что будет?
– Что?
– А то, что явится к матушке известная особа, много красивей лицом, чем старый Прохор Маслов, запрется с ее величеством в спаленке и сыщет резоны, после которых нас с тобой вышвырнут из Зимнего, как нашкодивших кутят. И никто тогда не помешает нашему приятелю Еремею Умбертовичу довести свое злонамеренье до конца.
– А может, не сумеет светлейший сыскать резонов? Я приметил, что ума он несильного.
– Мал ты еще, – вздохнул тайный советник. – Матушка хоть и великая царица, а тоже баба. И ум князю Платону на том ристалище вовсе не понадобится.
– Что же делать? – пал духом Митя. – Неужто пропадать?
– Пропадать незачем. – Голос Маслова построжел. – Ты делай все в точности, как я скажу, и складно выйдет.
– Если смогу… – дрогнул Митин голос. Неужто не избежать очной ставки со страшным итальянцем? Как бы от мертвящего пламени черных глаз язык не присох к гортани…
– Ничего, сможешь. Если жить хочешь.
Прохор Иванович прищурил и без того маленькие глазки, пожевал губами и от этого сделался еще больше похож на старого, облезлого мопса.
– От светлейшего надо по ломтику отрезать, – молвил он тихо-претихо, будто рассуждая вслух сам с собой. – Первый ломтик – капитан-поручик Пикин. Через него доберемся до секретаря. А после прикинемся, что самого светлейшего нам не надобно. Мол, заморочили ему, бедному, голову лихие прихлебатели, а он, конечно, ни сном ни духом… Если будут у меня доказательства твердые, то отопрется от итальянца Платон Александрович, выдаст с потрохами, уж я-то его, голубя, знаю.
Тайный советник подумал еще, но теперь молча. Снова кивнул:
– Нужно от Пикина признание. С него и начнем, ибо из всех он – персона наименее значительная.
– Не будет он себя оговаривать! – вскричал Митя. – Зачем ему?
– Не зачем, а почему, – назидательно сказал Маслов. – Причину, по которой Андрейка Пикин мне всю правду скажет, я тебе сейчас покажу. Пойдем-ка.
Из кабинета он повел своего маленького сообщника в другую комнату, немногим просторней, однако обставленную с некоторой претензией на уютность: у стены примостилась козетка, и даже с вышитыми подушечками, в углу висело тускловатое зеркало, а подле стола с кокетливо гнутыми ножками стояли два кресла – одно деревянное и неудобное, зато другое мягкое и покойное, похожее на глубокую раковину.
– Тут у меня гостиная для приватных бесед с высокородными особами, нуждающимися в отеческом вразумлении, – хитро улыбнулся Прохор Иванович, да еще подмигнул. – Дорогого гостя, а бывает, что и гостью, сажаю с почетом. – Он указал на кресло поудобней. – Сам же довольствуюсь сим скромным стулом и ни за что его не променяю на то мягкое седалище.
– Почему? – удивился Митя, попрыгав на пружинистом сиденье. – Тут гораздо лучше.
– Это как посмотреть.
Тайный советник нажал рычажок, спрятанный в ручке деревянного стула, и из подлокотников гостевого кресла вдруг выскочили два металлических штыря, сомкнувшись перед Митиной грудью. Вскрикнув от удивления, он вынырнул из-под них на пол и отполз от бешеного кресла подальше.
– К чему это?
– А к тому, душа моя, что взрослый человек, в отличие от ребенка, освободиться из сих стальных объятий никак не может. Я же еще и ремешками пристегиваю – наверху и у ног, чтоб без дрыганья.
– И что же дальше?
– А дальше вот что.
Маслов повернул рычажок еще раз, и кресло вместе с квадратом паркета поползло вниз. Однако утопло в дыре не целиком – верхняя половина спинки осталась торчать над полом.
– Ух ты! – подивился Митя. – Но зачем нужно это инженерное приспособление?
– Сейчас покажу. Посмеиваясь, Прохор Иванович взял гостя за руку и повел из комнаты в узкий коридорчик, оттуда по винтовой лестнице в подвал. За железной дверью располагалось безоконное помещение с голыми каменными стенами. Посередине торчал деревянный помост, на котором Митя увидел нижнюю часть спустившегося сверху кресла.
От стены отделилась сутулая тень – длиннорукий человек в засаленном камзоле, со сплетенными в косицу желтыми волосами.
– Здравия желаю, ваше превосходительство! – гаркнул он оглушительным голосом. – А кресло-то пустое! Нет никого! Это как?
В руке у громогласного Митя разглядел плетку с семью хвостами и поежился. Вон оно что…
– Это экзекутор, – объяснил Маслов. – Имя ему Мартын Козлов, а я зову его Мартын Исповедник. Орет он оттого, что глух как пень. Это для секретных дел качество преполезное.
Повернулся к экзекутору и тихо сказал, явственно шевеля губами:
– Проверка, Мартынушка, проверка. Работа ближе к вечеру будет.
– А-а, – протянул длиннорукий и кивнул на Митю. – Это кто, родственник ваш?
– Внучок, – не моргнув глазом, соврал советник и потрепал Митю по волосам. – Иди пока, Мартын, отдыхай.
Подвел Митю к помосту, стал показывать.
– Гляди, сиденье с кресла снимается. Вот так. Потом с попавшей в сей силок особы стягиваются портки или же задирается платье, это уж смотря по принадлежности пола. И начинается работа. Я увещеваю в верхней комнате, словами, и с надлежащей вежливостью, ибо персоны-то все непростые, благородного звания. А Мартын увещевает снизу. Иной раз, – Прохор Иванович подмигнул, – и согрешишь, если баба нестарая да в обмороке сомлеет. Спустишься, снизу на нее поглядишь. Больше ни-ни, упаси Господь. Ну рукой погладишь, это бывает.
– Их вон той плеткой секут, да? – боязливо показал Митя на страшное семихвостое орудие.
– Когда разговор легкий – к примеру, с дамой по сплетническому делу – то прутиком. Если же надо от человека ответ на важный вопрос получить, то, бывает, и семихвосткой. Покается твой капитан-поручик, как на исповеди.
Митя вспомнил, как Зефирка преображенца за палец цапнула, а тот решил, что крыса, и все равно нисколько не испугался, руки не отдернул.
– А если не расскажет? Пикин, он знаете какой.
Спросил больше для порядка. Сам-то, конечно, понимал, что расскажет Пикин, никуда не денется. Один раз, тому три с лишком года, Митю тоже высекли. Братец Эндимион подстроил: разбил каминные часы, а свалил на маленького, благо тот еще пребывал в безмолвии. Митя хотел снести муку стоически, как Муций Сцевола, да не вышло – орал от боли благим матом. Так то розги были, и секли легонько, по-детски, а тут вон как. Все на свете расскажешь.
– Ну, а если ему моченой в соли семихвосточки мало будет, – сладко сказал Маслов, – то у Мартына для таких молчунов еще тисочки есть знатные, на чувствительные отростки фигуры. Такому кобелю, как Пикин, в самый раз будут. Запоет соловьем.
При чем тут тисочки и почему Прохор Иванович назвал преображенца кобелем, Митя не понял. Если ругаются, то обычно говорят про плохого человека «пес» или «собака». Если совсем осерчают – «сука».
– Сначала мы с Мартыном его в мягкость введем, – объяснял далее тайный советник. – Ты пока в тайнике посидишь. Видал в гостиной зеркало? Оно с той стороны пустое, и преотлично все видно. А как Пикин дозреет, крутить начнет да юлить, я тебя кликну. Освежишь ему воспоминания. Не робей. – Начальник Секретной экспедиции щелкнул Митридата по носу. – Им, голубчикам, теперь не до того будет, чтоб с тобой квитаться. Только не струсь.
Легко сказать «не струсь». Стоя в каменном закутке за зеркалом, Митя чувствовал себя не как привык – маленьким взрослым среди больших детей, а крошечной щепочкой, которую закрутил-завертел злой водоворот. Сколько ей, бедной, ни тщиться, самой из сей пучины не выбраться и ее неведомых законов не познать.
Когда тайный советник наконец ввел в гостиную вытребованного капитан-поручика, Митя уже весь извелся. Прохор Иванович хвастал, что к нему никто опаздывать не смеет, загодя являются, а Пикин посмел – чуть не на полчаса припозднился.
– Вот и славно, драгоценный Андрей Егорыч, что вы к старику заглянули, не побрезговали, – фальшиво добродушным голосом приговаривал Маслов, ведя гостя к креслам.
– К вам, ваше превосходительство, попробуй не приди – в цепях приволокут, – ответил злодей.
Через стекло было хорошо видно, как блеснули в беззаботной улыбке белые зубы.
– Ну уж так-таки в цепях. Наговаривают на меня злые языки, – хохотнул начальник Секретной экспедиции. – В цепях ко мне государственных преступников водят. Вы разве из их числа?
Пикин дерзко глянул на тайного советника сверху вниз.
– Государственный преступник – фигура непонятная. Бывает, что сегодня ты преступник и на тебя охота, а завтра, глядишь, все поменялось: охотники, что тебя атукали, сами в железах.
– Про охотников это вы интереснейшую аллегорию привели, господин капитан-поручик. – Маслов за рукав повел офицера к нужному креслу. – Присаживайтесь, нам найдется, об чем потолковать.
Гвардеец поклонился:
– Благодарю. Но при столь высокой особе сидеть не смею.
– Так я сам тоже сяду. Прошу покорно запросто, без чинов. Сами видите, не в кабинете принимаю, в гостиной. Стало быть, вы для меня гость. Пока что.
Последние слова были произнесены совсем другим тоном, и бровки Прохора Ивановича грозно сдвинулись. Однако Пикин и тут не испугался.
– Все же с вашего позволения постою, – ухмыльнулся он. – Я ведь нынче в кордегардии копчусь. Всю задницу отсидел.
– Нет уж, садитесь, весьма обяжете!
Маслов схватил преображенца за обе руки, стал усаживать насильно, будто чрезмерно радушный хозяин.
Сейчас тебе отсидевшую задницу-то разомнут, злорадно подумал Митя. Будешь знать, как люстры рушить да детей в колодец кидать.
Упрямый капитан-поручик садиться, однако, не желал, и из-за этого у них с Прохором Ивановичем образовалось подобие танца – так и топтались, так и кружились на месте.
Вдруг Пикин подхватил старика под мышки и швырнул в мягкое кресло.
– Сам сиди, старый черт! Наслышан я про твое угощенье! Митька Друбецкой мне рассказывал, как ты его учил про царицу не злословить!
Маслов хотел подняться, но бесшабашный капитан-поручик двинул его кулаком в лоб – его превосходительство плюхнулся в кресло.
Что ж это делается! Митя сбоку видел обоих: и скалящегося Пикина, и осовело хлопающего глазами тайного советника. Ах, наглец!
– Ты меня попомнишь, – сказал гвардеец, пошарил руками по креслу и нашел спрятанные за спинкой ремни. – Вот так, ваше превосходительство. И ножки пожалуйте… Где, шишки еловые, механизм-то? Должно быть, тут.
Подошел к деревянному стулу, потыкал туда, сюда и обнаружил-таки рычаг.
Вжик! На груди Прохора Ивановича сомкнулись стальные полосы.
Щелк! Кресло медленно поползло под пол. Тут до Мити дошло, что сейчас может воспоследовать. Мартын-то не поймет, чья ему спускается филейность. Как начнет охаживать!
– Засим остаюсь покорный вашего превосходительства слуга, – шутовски поклонился оглушенному Пикин. – Не смею далее обременять своим присутствием. Служба.
Развернулся и с заливистым хохотом выбежал прочь – вот какой отчаянный.
Внизу что-то свистнуло, щелкнуло, и Прохор Иванович вдруг очнулся.
– А-а-а! – заорал он истошным голосом. – Марты-ын, сволочь, сгною!
Снова свистнуло.
Тут начальник экспедиции уже не крикнул – подавился криком.
Ах, беда! Ведь Мартын этот глухой. Ему что кричи, что не кричи.
Митя вылетел из потайной конурки, побежал по винтовой лестнице вниз. Вопли стали приглушенней.
Вбежал в сумрачный подвал, успел увидеть, как Мартын Исповедник смачно, с потягом, вытянул по белому в красную полоску арьеру. Мучимая часть тела свесилась в седалищное отверстие и была вся на виду.
– Дядя Мартын! – Митя вцепился палачу в жилистую руку. – Нельзя! Это Прохор Иваныч!
Экзекутор оглянулся:
– А-а, внучек. Ты только погляди на него, срамника. – Мартын зашелся в странном, клекочущем смехе. – Ишь, сладострастник!
Палец кнутобойца указывал на гузно его превосходительства. Повыше нахлестанного места, где копчик, виднелась малая картинка: красный цветок навроде ромашки.
– Это у них мода нынче такая, у похабников, – объяснил Мартын, вытирая лоб. – Тутуеровка называется, от пленных турков пошло. Есть ходоки, которые для привлечения женского пола прямо на срамном уду тушью узоры накалывают. А этот не иначе как содомит. У них вся краса в гузне. Тьфу! Славно я его приласкал, по его любимой плепорции!
И загоготал, очень довольный шуткой.
– Ты погоди, малый, мне работать надо. Пока Прохор Иваныч шнуром не дернет, бить положено.
Ка-ак размахнется, ка-ак ударит! Сверху уже не вопль – хрип несется.
С потолка действительно тянулся тугой шнур, но только дергать за него наверху было некому.
Митя повис на руке с плеткой.
– Ты что? – удивился экзекутор.
– Это не тот, это сам Прохор Иваныч и есть, – тщательно шевелил губами Митя. – Ошибка вышла!
– Маточки-светы! – перепугался Мартын. – А я-то охаживаю во всю силу! Ишь, думаю, упрямец какой, хотел уж за тиски браться! Ой-ой-ой! Пропал, совсем пропал! Заметался, закружился.
– Ваше превосходительство, я сейчас! Я уксусом целебным! А после лампадным маслицем, – причитал мучитель, таща медный тазик.
Дальше Митя смотреть не стал. Повернулся, побрел восвояси. Понимал – стыдно будет тайному советнику после случившегося мальчонке в глаза смотреть.
Но Пикин-то, Пикин!
* * *
В тот же вечер был маскарад по случаю дня рождения ее императорского высочества благоверной государыни великой княжны Марии Павловны, которой недавно сравнялось девять лет. Празднество намечалось пышное, с размахом, на что имелись свои причины. Дочка наследника с начала зимы тяжко хворала свинкой, все уж думали, не выживет, но уберег Всевышний. Еще несколько дней назад была слабенькая, отчего и с праздником вышла задержка, а теперь уже вовсю бегала и даже ездила кататься. Государыня, сердечно любившая резвушку, придумала особенную затею: Лесной Бал. Когда Мария Павловна совсем помирала, августейшая бабка спросила у нее, желая ободрить, – что, мол, подарить тебе, душенька, на день рождения (а сама уж и не чаяла, что внучка доживет). «Лесную зверушку ежика», – молвила ее высочество слабеньким голосом. Эту историю при дворе рассказывали не иначе, как утирая слезы.
И вот теперь Таврический дворец обратился в лесное царство. Стены парадной залы были сплошь покрыты еловыми и сосновыми ветками, кресла задрапировали на манер пней, из-за обклеенных настоящей корой колонн высовывались чучела медведей, волков, лисиц, а для входа гостей приспособили боковой подъезд, ради такой оказии обращенный в огромного ежа. Еж щетинился деревянными иглами в сажень, стеклянные глаза светились огоньками, а дверь была устроена у лесного жителя в боку.
Когда привезли великую княжну и она увидела чудесного зверя, то захлопала в ладоши и завизжала от восторга. Ее высочество была в наряде ягодки-земляники: красное платьице, на обритой головке изумрудный венец. Приглашенным было ведено вырядиться лесной фауной либо флорой: грибами, зверями, лешими, русалками и прочими подобными фигурами. Пренебречь не дозволялось никому, даже иностранным посланникам, которые расценили затеваемое торжество не в сентиментальном, а в политическом смысле, и явились: прусский посол в виде груздя, британский – соболя, шведский – дровосека, неаполитанский – зайца, а больше всех постарался баварский, нарядившись прегордым дубом. После в реляциях своим правительствам отписали, что сия аллегория несомненно знаменует торжество Леса (то есть лесной державы России) над своим давним соперником Полем, сиречь Польшей.
Митю камердинер нарядил мужичком-лесовичком. Пудру с волос смыл, приклеил бороденку. В остальном же наряд был незатейливый, крестьянский: лапоточки, плисовые порты, белая рубаха с подпояской. В руке полагалось нести лиственничную ветку, грозить ею всем встречным и даже бить – иголки мягкие, не оцарапают.
Бить он, конечно, никого не стал и вскоре будто ненароком обронил ветку на пол. Походил среди гостей, поглазел на наряды, в очередной раз подивился недоумству взрослых. Настроение было тоскливое.
Еще тошнее стало, когда услыхал сзади шепоток:
– А я вам говорил, ваше сиятельство, никакой он не ребенок, а ученый вавилонский карла, и лет ему никак не меньше пятидесяти. Глядите, вон на макушке прядка седая – недокрасил.
О, невежественные, пустоязыкие, скудоумные!
Дальше – хуже.
Подлетел Фаворит, нагнулся, зашептал. Глаза сумасшедшие.
– Здесь она, моя Псишея! Доложили – ее карета подъехала. Три недели носа ко двору не казала, а тут не посмела государыню огорчить! Письмо не забыл?
– Помню, – буркнул Митя.
– Молодец. В конце так присовокупи. – Князь зашелестел в самое ухо. – «Нынче ночью жди. Как постылая заснет, приду. Ни замки, ни стены не остановят». Поди, нашепчи ей. И смотри: если что – кишки размотаю.
– Да кому ей-то? – жалобно вздохнул несчастный Митридат. – Я ведь и знать не знаю, какая особа имела счастие вызвать сердечный интерес вашего сиятельства.
– Графиня Хавронская. Павлина Аникитишна, Павлинька.
Зуров выговорил это имя нежно, словно пропел.
– Видишь клавесин и арфу? Сейчас будут музицировать. Сначала Наследник споет романс в честь дочери, а потом запоет она, моя сладкоголосая русалка.
Митя обреченно направился к возвышению, где уже поставили украшенное оранжерейными ландышами кресло для государыни, для именинницы – стульчик в виде зеленой мшистой кочки.
Наследник был наряжен Лесным Царем – в короне из шишек, в мантии из бобровых хвостов. Пел он прескверно, но зато прочувствованно и очень громко. Самозабвенно разевал широкий редкозубый рот, так что во все стороны летели брызги слюны. Никто его, бедного, не слушал. Придворные болтали, шушукались, а царица переговаривалась с румяной русалкой: перевитые кувшинками волосы распущены, на простом белом платье приклеены блестки, изображающие рыбью чешую.
Едва смолкли последние аккорды и певец без единого хлопка сошел с возвышения, Екатерина громко сказала:
– Ну что, скромница, порадуй нас, спой мою любимую.
Русалка поднялась, сделала реверанс ее величеству и вышла к клавесину.
Это, выходит, и была пассия Платона Александровича, так что надлежало приглядеться к ней получше.
Митя не считал себя вправе оценивать женскую красоту, ибо не достиг еще уместного возраста, однако смотреть на графиню Хавронскую безусловно было приятно. Округлое, в форме сердечка лицо, губки бутоном, ясные серые глаза с предлинными ресницами, розовейше-белейшая кожа – все было диво. Да одних волнистых, обильных волос хватило бы, чтоб даже во сто крат менее прекрасную лицом особу сочли привлекательной.
Павлина Аникитишна запела про сизого голубочка, который стонет день и ночь, ибо от него миленький дружочек улетел надолго прочь, и тут очарование ее нежной красоты и мягкого голоса сделалось почти невыносимым – прямо-таки затруднительным для мерного дыхания, ибо от восторга воздух застывал в горле и не желал наполнять грудь.
Графине хлопали долго и даже кричали «Браво!». Когда она вернулась на прежнее место, Митя подобрался ближе, встал за спинкой царицыного кресла.
От пения Павлина Аникитишна распунцовелась еще пуще, глаза наполнились сиянием, но ресницы сдерживали этот пламень, скромно затеняли его. Красавица ни на кого не смотрела, внимала словам Екатерины, потупив взор.
– Улетел твой милый дружочек, улетел, – ласково выговаривала ей императрица. – Да не надолго, а навсегда, не вернешь. Поплакала уже, погоревала, будет. Что ж себя заживо хоронить? Полно, матушка, глупствовать. После, когда станешь старая, будешь локти кусать. Мою свойственницу всякий возьмет, выбирай любого жениха. А не хочешь замуж, – Екатерина наклонилась к скромнице, с лукавой улыбкой шепнула, – так заведи себе сердечного дружка. Никто не осудит, ведь пять лет вдовствуешь.
Ужас до чего сейчас было жалко великую монархиню. Не знает, бедняжка, какого аспида пригрела на сердце. Еще и сама, святая простота, содействует его злоядному умыслу. Послушает красавица совета, призадумается про сердечного дружка, а тут как раз посланник к Псишее от Амура.
– Благодарю за доброе участие, ваше величество, – тихо молвила графиня. – А только не нужно мне никого. Ежели бы только вы исполнили давнюю мою просьбу и дозволили удалиться в деревню, я была бы совершенно…
– Ну нет! – Екатерина сердито шлепнула прекрасную даму веером по руке. – Я дурству не потатчица! Еще после мне, сударыня, спасибо скажете!
Митя увидел, как из-под пушистых ресниц Павлины Аникитишны сбегают две хрустальных слезинки, и прослезился сам.
Нет, не было его мочи участвовать в Фаворитовом окаянстве.
Выбежал в вестибюль, где скидывали шубы припозднившиеся гости. По лестнице поднялся на галерею. Там было хорошо, темно. Устал Митридат от света – во всех смыслах сего слова. Отчего папенька так алкал этого Эдема? Что в нем хорошего? Семилетнего человека, и того не могут оставить в покое.
Залез на широкий подоконник, прижался пылающим лбом к холодному стеклу. Внизу горели факела и разноцветные лампионы, подъезжали и отъезжали кареты, посверкивали оледеневшие иглы чудо-ежа.
Митя спрыгнул на пол, в скорбной задумчивости прошелся по безлюдной галерее.
Никакая она, оказывается, была не безлюдная.
Из следующей оконной ниши донеслись шорохи, шепот, частое дыханье.