Читать онлайн Укридж. Любовь на фоне кур бесплатно
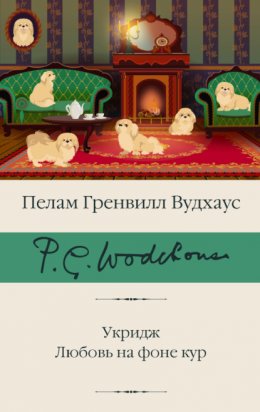
P. G. Wodehouse
UKRIDGE
LOVE AMONG THE CHIKENS
Перевод с английского И. Гуровой
Серийное оформление и дизайн обложки В. Воронина
Печатается с разрешения литературных агентств Rogers, Coleridge & White Ltd и Andrew Nurnberg.
© The Trustees of the P. G. Wodehouse Estate
© Перевод И. Гурова, наследники, 2023
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023
* * *
Укридж
Укриджский Собачий Колледж
– Малышок, – сказал Стэнли Фиверстоунхо Укридж, этот многотерпеливый человек, угощаясь моим табаком и рассеянно опуская кисет в свой карман. – Слушай меня, сын Велиала.
– Так что? – сказал я, возвращая кисет по принадлежности.
– Хочешь ли ты стать обладателем колоссального состояния?
– Хочу.
– Тогда напиши мою биографию. Вывали ее на бумагу, и мы поделим прибыль. Я проштудировал твою последнюю писанину, старый конь, и она никуда не годится. Твоя беда в том, что ты не погружаешься в колодцы человеческой натуры и все такое прочее. Просто сочиняешь какую-нибудь паршивенькую байку, да и тискаешь ее. А вот если возьмешься за мою жизнь, так получишь то, о чем стоит писать. Денег не оберешься, мой мальчик, – права на издание в Англии, права на издание в Америке, театральные права, киноправа… Можешь мне поверить, по самому скромному подсчету, мы должны получить по пятьдесят тысяч фунтов на нос.
– Неужто столько!
– Никак не меньше. И слушай, малышок, вот что я тебе скажу. Ты славный типус, и мы с тобой друзья уже много лет, а потому я уступлю тебе мою долю английских прав за сто фунтов на бочку.
– С чего ты взял, что у меня есть сто фунтов?
– В таком случае уступаю мои английские плюс американские права за пятьдесят.
– У тебя воротничок отстегнулся.
– Ну, а как насчет всей моей доли в этой чертовой штуке за двадцать пять?
– Спасибо, не для меня.
– Раз так, то я тебе вот что скажу, старый конь, – вдохновенно провозгласил Укридж, – просто одолжи мне полкроны на разживку.
Если главные события малоблагоуханной карьеры С. Ф. Укриджа должны быть представлены на рассмотрение публике – а не тактично замяты, как могли бы намекнуть некоторые, – то, пожалуй, для их описания подхожу именно я. Мы с Укриджем были друзьями со школьной скамьи. Вместе мы резвились на площадке для игр, и, когда его исключили, никто не сожалел об этом более меня. Такая прискорбная случайность – его исключение! Неуемный дух Укриджа, всегда плохо гармонировавший со школьными правилами, понудил его нарушить самое заветное из них и как-то вечером тайно отправиться на сельскую ярмарку испробовать свою сноровку в состязании по вышибанию кокосовых орехов. Предусмотрительность, с которой он наклеил себе багряные баки и фальшивый нос, оказалась полностью нейтрализованной тем обстоятельством, что по рассеянности он отправился туда в школьном форменном кепи. И на следующее утро покинул школу ко всеобщему сожалению.
После этого в нашей дружбе на несколько лет возникло зияние. Я в Кембридже пропитывался культурой, а Укридж, насколько мне удавалось понять из его редких писем и сообщений общих знакомых, летал по миру, как бекас. Кто-то повстречал его в Нью-Йорке – он как раз сошел с судна для перевозки скота. Кто-то другой видел его в Буэнос-Айресе. А еще кто-то с тоской поведал, как Укридж набросился на него в Монте-Карло и выдоил на пятерку. И лишь когда я обосновался в Лондоне, он вновь вернулся в мою жизнь. В один прекрасный день мы встретились на Пиккадилли и продолжили наши отношения с того, на чем они оборвались. Старые связи крепки, а тот факт, что он был примерно моего телосложения и потому мог носить мои рубашки и носки, очень и очень нас сблизил.
Затем Укридж вновь исчез, и только через месяц или около того я получил известия о нем.
Новость сообщил Джордж Таппер. В мой последний школьный год Джордж был первым учеником и в дальнейшем полностью оправдал надежды, которые подавал тогда. Он подвизался в министерстве иностранных дел, прекрасно себя зарекомендовал и был весьма уважаем. Он обладал большим мягким сердцем и горячо принимал к нему беды других людей. Часто Джордж по-отцовски плакался мне на прихотливый путь Укриджа по жизни, и теперь, когда он заговорил, его, казалось, преисполняла та высокая радость, с какой встречают исправившегося блудного сына.
– Ты слышал про Укриджа? – спросил Джордж Таппер. – Наконец-то он остепенился. Поселился у своей тетушки, владелицы одного из самых больших особняков на Уимблдон-Коммон. Очень богатая дама. Я в восторге. Наш старый друг теперь на верном пути.
Полагаю, он был по-своему прав, но мне это покорное пребывание в обществе богатой тетушки на Уимблдон-Коммон показалось почти непристойным и, во всяком случае, трагическим завершением многоцветной карьеры – той, что была уделом С. Ф. Укриджа. И когда неделю спустя я столкнулся с ним самим, у меня на сердце стало еще тяжелее.
Произошло это на Оксфорд-стрит в час, когда женщины приезжают из пригородов делать покупки, и Укридж стоял перед «Селфриджез» в окружении собак и рассыльных. Руки его были нагружены пакетами, лицо застыло в маске бессильного страдания, и одет он был до того безупречно, что я не сразу его узнал. Его фигура являла все, что носит Элегантный Мужчина, начиная от цилиндра и кончая лакированными штиблетами, и, как конфиденциально признался мне Укридж в первую же минуту, муки он испытывал адские. Штиблеты жали ноги, цилиндр натирал лоб, а воротничок истязал его сильнее штиблет и цилиндра, взятых вместе.
– Она заставляет меня все это носить, – сказал он угрюмо, дернул головой в сторону дверей магазина и испустил резкий вопль, так как при этом движении воротничок впился ему в шею.
– Тем не менее, – попенял я, пытаясь напомнить ему о более приятных вещах, – ты же чудесно проводишь время. Джордж Таппер упомянул, что твоя тетушка богата. Полагаю, ты купаешься в роскоши.
– Подножный корм и орошение такового неплохи, – признал Укридж, – но это утомительная жизнь, малышок. Утомительная жизнь, старый конь.
– Почему бы тебе как-нибудь не заглянуть ко мне?
– Мне запрещено выходить по вечерам.
– Так, может быть, я тебя навещу?
Из-под цилиндра сверкнул взгляд, преисполненный паники.
– И думать забудь, малышок, – потребовал Укридж. – И думать забудь. Ты отличный малый, мой лучший друг и все такое прочее, но дело в том, что мое положение в доме не очень прочно даже и сейчас, а одного взгляда на тебя будет достаточно, чтобы мой престиж превратился в фарш. Тетя Джулия сочтет тебя материалистом.
– Я не материалист.
– А выглядишь материалистом. Ходишь в фетровой шляпе и мягком воротничке. С твоего позволения, старый конь, на твоем месте я бы упрыгал отсюда до того, как она выйдет. До свидания, малышок.
– Ихавод, – скорбно прошептал я, шагая по Оксфорд-стрит. – Ихавод[1].
Мне следовало быть более стойким в вере. Мне следовало лучше знать моего Укриджа. Мне следовало понять, что пригород Лондона способен дать укорот этому великому человеку не более, чем Эльба – Наполеону.
Как-то днем, входя в дом на Эбери-стрит, где я снимал спальню с гостиной на втором этаже, я столкнулся лицом к лицу с Баулсом, владельцем дома, который стоял у лестницы в позе чуткой настороженности.
– Добрый день, сэр, – сказал Баулс. – Вас ожидает джентльмен. Мне как раз послышалось, что он меня зовет.
– Кто он?
– Некий мистер Укридж, сэр. Он…
Сверху прогремел могучий голос:
– Баулс, старый конь!
Баулс, подобно всем другим владельцам меблированных комнат на юго-западе Лондона, был экс-дворецким, и его, подобно всем экс-дворецким, будто мантия, окутывало величавое достоинство, которое неизменно ввергало меня в трепет. Он был дороден, лыс и наделен выпученными светло-светло-зелеными глазами, которые словно бесстрастно меня исчислили и нашли очень легким, как сказано в Книге пророка Даниила. «Хм! – казалось, говорили они. – Молод, чересчур молод. И совсем не то, к чему я привык в лучших домах». И, услышав, как такого сановника кличут – да еще на повышенных нотах – «старый конь», я испытал то же ощущение надвигающегося хаоса, какое охватило бы благочестивого младшего священника, если бы у него на глазах епископ получил фамильярный хлопок по спине. Поэтому шок, когда он откликнулся не просто кротко, но прямо-таки с некоторой дружественностью, оказался ошеломительным.
– Сэр? – проворковал Баулс.
– Принесите мне шесть косточек и штопор.
– Слушаю, сэр.
Баулс ретировался, а я взлетел вверх по лестнице и распахнул дверь.
– Вот те на! – сказал я ошалело.
В комнате бушевало море собачонок породы пекинес. Позднейшее исследование свело их число к шести, но в эту первую минуту казалось, что их тут сотни и сотни. Куда бы я ни смотрел, мой взгляд встречал выпученные глаза. Комната преобразилась в лес виляющих хвостов. Прислонившись к каминной полке, мирно покуривая, стоял Укридж.
– Привет, малышок, – сказал он и благодушно помахал рукой, словно предлагая мне чувствовать себя как дома. – Ты как раз вовремя. Через четверть часа я должен бежать, чтобы успеть на поезд. Молчать, дворняги! – взревел он, и шестеро пекинесов, которые усердно лаяли с момента моего появления, поперхнулись на полутявканье и онемели. Личность Укриджа оказывала прямо-таки сверхъестественное магнетическое воздействие на животное царство, начиная с экс-дворецких и кончая пекинесами. – Я отбываю в Шипс-Крей в Кенте. Снял там коттедж.
– Думаешь там поселиться?
– Да.
– Но как же твоя тетушка?
– А! Я расстался с ней. Жизнь сурова, жизнь серьезна, как сказал поэт Лонгфелло, и если я намерен разбогатеть, то должен действовать, а не сидеть взаперти по разным там Уимблдонам.
– Да, пожалуй.
– К тому же она сообщила мне, что ее тошнит от самого моего вида и больше она смотреть на меня не желает. Никогда.
Впрочем, едва войдя, я мог бы понять, что произошло какое-то землетрясение. Великолепное одеяние, превратившее Укриджа в пиршество для глаз при нашей предыдущей встрече, сменилось его доуимблдонским костюмом, который, говоря языком реклам, был неподражаемо индивидуален. Поверх серых брюк спортивного покроя, коричневого свитера и куртки для гольфа королевской мантией ниспадал пронзительно-желтый макинтош. Воротничок освободился от ига запонки и обнажил дюйма два голой шеи. Волосы были всклокочены, а властный нос венчало пенсне в стальной оправе, хитроумно подсоединенное к хлопающим ушам проволочками от бутылок с шипучкой. Все в его внешности свидетельствовало об исполненном гордости мятеже.
Материализовался Баулс с тарелкой косточек.
– Отлично. Ссыпьте их на пол.
– Слушаю, сэр.
– Мне нравится этот типус, – сказал Укридж, когда дверь закрылась. – У нас перед твоим приходом состоялся чертовски интересный разговор. Ты знаешь, что его двоюродный брат подвизается в мюзик-холлах?
– Свою душу он мне практически никогда не изливал.
– Он обещал попозже познакомить меня с ним. Человек осведомленный всегда может оказаться полезным. Видишь ли, малышок, у меня возник потрясающий план. – Он драматично взмахнул рукой, опрокинув гипсового Малютку Самуила За Молитвой. – Ладно-ладно, склеишь его клейстером или еще чем-нибудь, да и вообще, думается, ты легко без него обойдешься. Да-с, сэр, у меня возник великолепнейший план. Такая идея осеняет раз в тысячу лет.
– И какая?
– Я буду обучать собак.
– Обучать собак?
– Для выступлений в мюзик-холлах. Номера с собаками, знаешь ли. Собаки-артисты. Денег не оберешься. Начну я скромно, с этой шестерки. Обучу парочке-другой трюков, продам какому-нибудь профессионалу за княжескую сумму и куплю двенадцать новых. Обучу их и продам за княжескую сумму, а на эти деньги куплю еще двадцать четыре. Обучу их…
– Погоди минутку! – Голова у меня пошла кругом: мне привиделась Англия, вымощенная пекинесами, кувыркающимися по команде. – Откуда ты знаешь, что сумеешь их продать?
– О чем речь! Спрос огромен. Предложениям за ним не угнаться. По самой скромной оценке, за первый год я должен выручить от четырех до пяти тысяч. И это, разумеется, до того как дело будет поставлено на широкую ногу.
– Ах так!
– А когда я развернусь по-настоящему, найму десяток ассистентов и обзаведусь приличным питомником, деньги потекут рекой. Моя цель – что-то вроде Собачьего Колледжа в сельской местности. Внушительные здания на огромном участке. Регулярные часы занятий по строгой программе. Большой штат – каждый сотрудник имеет под своим началом столько-то псин, а я надзираю и руковожу. И вообще, едва дело наладится, как дальше все пойдет само собой и мне останется только посиживать сложа руки и получать по чекам. И вовсе не обязательно ограничиваться одной Англией. Спрос на собак-артистов универсален во всем цивилизованном мире. Америка нуждается в собаках-артистах, Австралия нуждается в собаках-артистах, Африке, я уверен, не помешает малая их толика. Моя цель, малышок, постепенно прибрать к рукам монополию в этой области. Я хочу, чтобы всякий, у кого возникнет потребность в собаке-артисте любого разлива, автоматически обращался бы ко мне. И вот что, малышок. Если ты хочешь вложить какой-никакой капитал, условия будут самыми выгодными.
– Нет, спасибо.
– Как хочешь. Будь по-твоему. Только не забывай, был типчик, который вложил девятьсот долларов в автомобильное предприятие Форда, когда оно только еще создавалось, и получил кругленькие сорок миллионов. Послушай, эти часы не бегут? Черт, я опаздываю на поезд. Помоги мне привести в движение проклятых псин.
Пять минут спустя, сопровождаемый шестью пекинесами и прихватив с собой фунт моего табака, три пары моих носков и бутылку с остатками виски, Укридж отбыл в такси к вокзалу Чаринг-Кросс на пути к делу всей своей жизни.
Прошло примерно шесть недель, шесть тихих безукриджских недель, а затем в одно прекрасное утро я получил взволнованную телеграмму. Собственно говоря, не столько телеграмму, сколько агонизирующий вопль. Каждое слово пронизывала мука великого человека, который ведет тщетную борьбу с неизмеримо превосходящими силами. Такую телеграмму мог бы послать Иов после длительной беседы с Вилдадом Савхеянином.
«Приезжай немедленно, малышок. Вопрос жизни и смерти, старый конь.
Положение отчаянное. Не подведи меня!»
На меня она подействовала, как зов трубы: я успел на следующий же поезд.
Белый коттедж в Шипс-Крейе, видимо, предназначенный в грядущем стать историческим местом и Меккой собаколюбивых пилигримов, оказался маленьким и ветхим строением вблизи от шоссе на Лондон и в некотором отдалении от деревни. Нашел я его без малейшего труда, так как Укридж, видимо, успел стать знаменитостью в тех местах, однако переступить его порог оказалось много сложнее. Я барабанил в дверь не менее минуты без малейших результатов, потом кричал и уже почти пришел к заключению, что Укриджа нет дома, когда дверь внезапно распахнулась, а поскольку я как раз наносил по ней заключительный удар, то и впорхнул в дом на манер солиста русского балета, отрабатывающего новое и сложное па.
– Извини, старый конь, – сказал Укридж. – Я не заставил бы тебя ждать, если бы знал, что это ты. Принял тебя за Гуча, бакалейщика, – поставлено товаров на общую сумму шесть фунтов, три шиллинга и пенни.
– Ах так!
– Не дает мне вздохнуть из-за своих мерзких денег, – с горечью сказал Укридж, провожая меня в гостиную. – Это немножко множко. Провалиться мне, это немножко множко. Приезжаешь сюда, дабы заняться серьезным прибыльным делом и облагодетельствовать туземцев, открыв перед ними возможность вкушать от этого преуспеяния, и не успеваешь опомниться, как они изворачиваются и кусают руку, намеревающуюся их кормить. С первого же моего дня здесь эти кровопийцы ставят мне палки в колеса. Чуть-чуть доверия, чуть-чуть сочувствия, чуть-чуть старого доброго духа «ты мне, я тебе» – вот и все, о чем я просил. И что же? Они потребовали наличных наперед! Проедают мне плешь своими наличными наперед, нет, ты подумай: именно когда мне нужны все мои мыслительные способности, и вся моя энергия, и все умение сосредоточиваться, какими я только обладаю, для моей на редкость сложной и тонкой работы. Да, я не мог дать им наличных наперед. Попозже, если бы они только проявили разумную терпеливость, я, вне всяких сомнений, был бы в положении уплатить по их инфернальным счетам сторицей. Но время еще не дозрело. Я их урезонивал. Я говорил: «Вот я, занятой человек, не покладая рук обучаю шесть пекинесов для выступлений в мюзик-холлах, а вы являетесь, отвлекаете мое внимание и снижаете мою работоспособность, бормоча про наличные. Это ли дух сотрудничества? – сказал я. – Это ли тот дух, который завоевывает богатства? Подобное мелочное скряжничество не откроет дорогу к успеху. Никогда». Но нет, они остались слепы. И принялись без передышки являться сюда и выскакивать на меня из засады на проезжих дорогах, пока моя жизнь не превратилась в абсолютное проклятие. А теперь, как ты думаешь, что произошло?
– Что?
– Псины.
– Подхватили чумку?
– Нет. Гораздо хуже. Мой домохозяин забрал их как заложников своей инфернальной арендной платы! Слямзил материальный фонд. Связал активы. Сделал подножку предприятию на самой его заре. Ты когда-нибудь слышал о более вопиющей подлости? Я знаю, что дал согласие вносить чертову плату еженедельно и не вносил что-то около шести недель, но, спаси и помилуй, нельзя же ждать от человека, на руках у которого важнейшее предприятие, чтобы он отвлекался по мелочам, когда он занят самым тонким… Ну, я изложил все это старику Никерсону, но без всякого толка. И тогда телеграфировал тебе.
– А! – сказал я, и наступила краткая многозначительная пауза.
– Я подумал, – задумчиво произнес Укридж, – что ты порекомендуешь кого-нибудь, кого я мог бы подоить.
Говорил он равнодушно, почти небрежно, но в его обращенных на меня глазах был выразительный блеск, и я виновато отвел свои. Мои финансы в тот момент пребывали в своем обычном неустроенном состоянии – вернее, более чем обычно из-за промашки с фаворитом на ипподроме в Кемптон-Парке в предыдущее воскресенье; однако, мнилось мне, если только существует время протянуть дружескую руку, так оно настало именно сейчас.
Я напряженно размышлял. Случай требовал незамедлительного решения.
– Джордж Таппер! – вскричал я на гребне озарения.
– Джордж Таппер? – повторил Укридж, просияв. Его уныние исчезло, как туман в солнечных лучах. – Кто, как не он, черт побери! Просто поразительно, но я о нем и не вспомнил. Джордж Таппер, старый школьный товарищ с большим сердцем. Он сразу же отстегнет и не поморщится. У них, у типчиков из министерства иностранных дел, всегда припрятана в носке лишняя десятка-другая. Они выщипывают их из общественных фондов. Мчись назад в город, малышок, хватай Таппи, угости его и кусни на двадцать фунтов. Настал час для всех хороших людей прийти на помощь партии.
Я был убежден, что Джордж Таппер не обманет наших ожиданий, и он их не обманул. Он расстался с указанной суммой, не пискнув – и даже с энтузиазмом. Ничего приятнее для него и нарочно нельзя было придумать. Мальчиком Джордж поставлял сентиментальные стишки в школьный журнал, а теперь он принадлежит к тем людям, которые постоянно составляют списки жертвователей на то или иное дело, воздвигают мемориалы, организуют презентации. Он выслушал меня с вдумчивым официальным видом, с каким эти типчики по части иностранных дел взвешивают, не объявить ли войну Швейцарии, не направить ли суровую ноту Сан-Марино, и на второй минуте моей речи полез за чековой книжкой. Печальное положение Укриджа, казалось, глубоко его тронуло.
– Прискорбно, – сказал Джордж. – Значит, он дрессирует собак? Ну, раз он наконец занялся настоящим делом, будет крайне жаль, если его с самого начала обескуражат финансовые трудности. Нам следовало бы оказать ему какую-нибудь весомую помощь. В конце-то концов заем в двадцать фунтов не может решить проблему раз и навсегда.
– По-моему, ты большой оптимист, если расцениваешь это как заем.
– Укридж нуждается в капитале, вот в чем суть.
– Он тоже так считает, как и Гуч, бакалейщик.
– Капитал! – повторил Джордж категорично, словно урезонивал полномочного посла какой-нибудь Великой Державы. – Каждое новое предприятие для начала нуждается в капитале. – Он задумчиво сдвинул брови. – Как мы можем приобрести капитал для Укриджа?
– Ограбить банк.
Лицо Джорджа Таппера прояснилось.
– Нашел! – сказал он. – Сегодня же вечером я отправлюсь в Уимблдон и подниму этот вопрос перед его тетушкой.
– Ты, кажется, упускаешь из виду, что в настоящее время Укридж ей как будто по вкусу даже меньше скисшего молока.
– Возможно, имеет место временная размолвка, но если я изложу ей факты и внушу, что Укридж действительно старается заработать себе средства к жизни…
– Ну, попробуй, если считаешь нужным. Но вероятнее всего, она науськает на тебя попугая.
– Разумеется, тут нужна дипломатия. Пожалуй, будет лучше, если ты ничего не скажешь Укриджу о моем намерении. Не хочу пробуждать надежды, которые могут и не сбыться.
Сверкающая желтизна на перроне станции Шипс-Крейя оповестила меня, что Укридж явился встретить мой поезд. Солнце лило лучи с безоблачного неба, однако одного солнечного сияния было мало, чтобы вынудить Стэнли Фиверстоунхо Укриджа сбросить макинтош. Он выглядел как одушевленный ком горчицы.
Когда поезд подкатил к перрону, Укридж стоял в одиноком величии, но, покидая вагон, я увидел, что к нему присоединился человек со скорбным лицом, который, если судить по быстроте и настойчивости его манеры говорить и по выразительной жестикуляции, вентилировал тему, задевшую его за живое. Укридж выглядел разгоряченным и замученным, и, приближаясь, я услышал его голос, загремевший в ответ:
– Мой дорогой сэр, мой дорогой старый конь, будьте же благоразумны, попытайтесь развить широкий, глубокий и гибкий взгляд на вещи…
Он увидел меня и умолк – отнюдь не с огорчением, – ухватил меня за локоть и потащил по перрону. Человек со скорбным лицом не слишком уверенно последовал за нами.
– Привез, малышок? – осведомился Укридж возбужденным шепотом. – Привез?
– Да. Вот…
– Убери, убери! – простонал Укридж в неизбывной муке, едва я опустил руку в карман. – Ты знаешь, с кем я сейчас разговаривал? Это Гуч, бакалейщик.
– Поставлено товаров на общую сумму шесть фунтов, три шиллинга и пенни?
– В самую точку!
– Ну так чего же ты ждешь? Швырни ему кошелек, полный золота. Это его сразу усмирит.
– Мой милый старый конь, я не могу позволить себе транжирить наличность направо и налево, чтобы усмирять бакалейщиков. Эти деньги предназначены Никерсону, моему домохозяину.
– А! Послушай, по-моему, типчик шесть фунтов, три шиллинга и пенни следует за нами.
– В таком случае, малышок, припустим! Если этот человек узнает, что при нас имеются двадцать фунтов, я за наши жизни не дам и ломаного гроша. От него всего можно ждать.
Он быстро увел меня со станции на тенистую дорогу, которая вилась среди лугов, и все время пугливо поеживался, «как путник, что глухой тропой от страха нем бредет. Страшась через плечо взглянуть, главы не обернет. Исчадье ада, знает он, во след ему идет», о котором поведал поэт Кольридж. Собственно говоря, исчадье ада после нескольких шагов отказалось от преследования, что я не замедлил довести до сведения Укриджа, ибо такой день не слишком подходил для того, чтобы без особой надобности бить рекорды по спортивной ходьбе.
Он с облегчением остановился и утер обширный лоб носовым платком, в котором я узнал мою былую собственность.
– Слава Всевышнему, мы от него оторвались, – сказал он. – По-своему, не такой уж плохой типус, насколько мне известно. Хороший муж и отец, как мне говорили, и поет в церковном хоре. Но ни малейшей прозорливости. Вот чего ему недостает, старый конь. Прозорливости. Он не в состоянии уяснить, что все компании-гиганты в свое время опирались на систему щедрого и любезного кредита. Не хочет понять, что кредит – это жизненная сила коммерции. Без кредита коммерция теряет эластичность. А какой толк от неэластичной коммерции?
– Не знаю.
– И никто не знает. Ну, теперь, когда он отвязался, можешь отдать мне эти деньги. Старик Таппи выкашлянул их охотно?
– С наслаждением.
– Я так и знал, – сказал глубоко растроганный Укридж. – Один из наилучших. Таппи мне всегда нравился. Человек, на которого можно положиться. В один прекрасный день, когда я обрету необходимый размах, он получит эту сумму назад десятерной сторицей. Я рад, что ты привез ее в мелких купюрах.
– Но почему?
– Я хочу рассыпать их веером на столе перед подлюгой Никерсоном.
– Он живет тут?
Мы приблизились к дому с красной крышей, укрытому от дороги деревьями. Укридж с силой забарабанил дверным молотком.
– Скажите мистеру Никерсону, – повелел он горничной, – что пришел мистер Укридж и хочет поговорить с ним.
В облике мужчины, который незамедлительно вошел в комнату, куда нас проводили, сквозило неуловимое, но заметное нечто, отличающее кредиторов по всему миру. Мистер Никерсон был человеком среднего роста, почти целиком огороженный бородой, сквозь чащобу которой он взирал на Укриджа оледенелыми глазами, извергающими волны вредоносного животного магнетизма. С первого взгляда становилось ясно, что он не питает к Укриджу особой любви. В общем и целом мистер Никерсон походил на одного из наименее приятных пророков Ветхого Завета, готовящегося к допросу плененного царя амалекитян.
– Ну-с? – сказал он, и мне еще ни разу не доводилось слышать, чтобы это словечко произносилось столь сурово.
– Я пришел по поводу платы за аренду.
– А! – сказал мистер Никерсон осмотрительно.
– Внести ее, – сказал Укридж.
– Внести ее! – вскричал мистер Никерсон недоверчиво.
– Вот! – сказал Укридж и неподражаемым жестом швырнул деньги на стол.
Теперь я понял, почему великий мыслитель одобрил мелкие купюры. Они придавали зрелищу особую внушительность. В открытое окно веял легкий ветерок и так музыкально зашелестел этим нагромождением богатства, что мрачная суровость мистера Никерсона, казалось, исчезла, будто след дыхания с лезвия бритвы. На миг его глаза остекленели, и он чуть пошатнулся, а затем, когда начал собирать деньги, обрел благолепие епископа, благословляющего паломников. Солнце воссияло на небосклоне для мистера Никерсона.
– Что же, благодарю вас, мистер Укридж, – сказал он. – Весьма вам благодарен. Надеюсь, никакой обиды?
– Не с моей стороны, старый конь, – отозвался Укридж благодушно. – Дело есть дело.
– Вот-вот.
– Ну, так, пожалуй, я теперь же заберу собак, – сказал Укридж, угощаясь сигарой из коробки, которую только теперь обнаружил на каминной полке, и самым дружеским образом опуская в карман еще две. – Чем быстрее они вернутся ко мне, тем лучше. Они и так уже лишились целого дня занятий.
– Ну, разумеется, мистер Укридж, разумеется. Они в сарайчике в саду у забора. Я незамедлительно приведу их к вам.
Он удалился через дверь, что-то вкрадчиво лепеча.
– Поразительно, как эти индивиды любят деньги, – вздохнул Укридж. – Такая пошлость. Глаза подлюги засверкали, положительно засверкали, малышок, пока он сгребал наличность. А неплохие сигарки, – добавил он, прикарманивая еще три. Снаружи послышались спотыкающиеся шаги, и в комнате вновь появился мистер Никерсон. Его, казалось, что-то угнетало. Обрамленные бородой глаза остекленели, губы, хотя разглядеть их в густых дебрях было не так-то просто, как будто горько искривились. Он обрел сходство с малым пророком, которого съездили по уху чучелом угря.
– Мистер Укридж!
– А?
– Со… собачки!
– Ну?
– Собачки!
– Что с ними?
– Они исчезли!
– Исчезли?
– Убежали!
– Убежали? Как, черт побери, могли они убежать?
– Оказывается, в задней стене сарайчика отвалилась одна досточка, и собачки, наверное, пролезли наружу. От них и следа не осталось.
Укридж в отчаянии воздел руки к небу. Он надулся, как аэростат. Пенсне закачалось на переносице, полы макинтоша угрожающе захлопали, а воротничок сорвался с запонки. Его кулак с грохотом опустился на стол.
– Провалиться мне!
– Я крайне сожалею…
– Провалиться мне! – вскричал Укридж. – Какое испытание! Какое тяжкое испытание! Я приезжаю сюда положить начало великому предприятию, которое со временем принесло бы оживление торговли и преуспеяние здешнему краю, и не успеваю я оглядеться и заняться предварительной подготовкой, как является этот вот субъект и лямзит моих собак. А теперь он сообщает мне с беззаботным смешком…
– Мистер Укридж, уверяю вас…
– Сообщает мне с беззаботным смешком, что они исчезли. Исчезли! Куда исчезли? Так ведь, черт дери, они могут рассредоточиться по всему графству! Да у меня нет никаких шансов снова их увидеть. Шесть дорогостоящих пекинесов, уже практически подготовленных для публичных выступлений, суливших, вне всяких сомнений, колоссальнейшую прибыль…
Мистер Никерсон, виновато шаривший в кармане, теперь извлек из него мятый ком банкнот и трепетно протянул их Укриджу, который с омерзением от них отмахнулся.
– Этот джентльмен, – прогремел Укридж, указывая на меня размашистым жестом, – между прочим, адвокат. На редкость удачно, что он приехал навестить меня именно сегодня. Вы внимательно следили за происходившим?
Я ответил, что следил за происходившим очень внимательно.
– По вашему мнению, тут есть повод для иска?
Я сказал, что это более чем вероятно, и веское суждение знатока со всей очевидностью довершило усмирение мистера Никерсона. Чуть ли не со слезами он старался вручить Укриджу смятые банкноты.
– Что это? – надменно осведомился Укридж.
– Я подумал, мистер Укридж, что, если вас это устроит, вы могли бы согласиться взять назад ваши деньги и считать инцидент исчерпанным.
Укридж обернулся ко мне, высоко подняв брови.
– Ха! – вскричал он. – Ха и ха!
– Ха-ха! – эхом подхватил я.
– Он думает, что может исчерпать инцидент, вернув мне мои деньги! Ну не смешно ли?
– Более чем, – согласился я.
– Эти собаки стоят сотни фунтов, а он думает, что может отделаться от меня паршивой двадцаткой. Вы бы поверили подобному, если бы не слышали собственными ушами, старый конь?
– Никогда!
– Я скажу вам, что я сделаю, – объявил Укридж, немного подумав. – Я возьму эти деньги… – Мистер Никерсон поблагодарил его. – Ну, и несколько пустячных счетов от местных торговцев. Вы уплатите по ним…
– Всенепременно, мистер Укридж. Всенепременно.
– А после этого… ну, мне надо это обдумать. Если я решу вчинить иск, мой адвокат снесется с вами в положенный срок.
И мы расстались с несчастным, дрожавшим мелкой дрожью за ширмой своей бороды.
Пока мы шли по тенистому проулку навстречу слепящему блеску шоссе, я размышлял о том, что Укридж в минуты катастрофы ведет себя со стойкостью, достойной всемерного восхищения. Его бесценная движимость, живая кровь его предприятия, рассеялась по всему Кенту и, возможно, безвозвратно, а что взамен? Аннулирование просроченной арендной платы за несколько недель да уплата по счетам Гуча, бакалейщика, и ему подобных. Такая ситуация сокрушила бы дух заурядной личности, но Укридж словно бы даже не приуныл. Нет, судя по его виду, он скорее пребывал на эмпиреях. Глаза за пенсне сияли, и он насвистывал забористый мотивчик. А когда он запел, я почувствовал, что настал момент для возвращения его на землю.
– Что ты намерен делать? – спросил я.
– Кто? Ты про меня? – бодро сказал Укридж. – Ну, я возвращаюсь в Лондон ближайшим же поездом. Ты не против, если мы протопаем до следующей станции? Всего пять миль. Отбыть прямо из Шипс-Крейя, пожалуй, рискованно.
– Почему рискованно?
– Да из-за псин, а то чего же?
– Псин?
Укридж испустил ликующую фиоритуру.
– Угу. Забыл поставить тебя в известность. Они у меня.
– Что-о?
– Ну да. Вчера поздно ночью я сходил и слямзил их из сараюшки. – Он испустил веселый смешок. – Проще простого. Ничего, кроме ясного, трезвого ума. Я позаимствовал дохлую кошку, привязал к ней веревочку, когда хорошенько стемнело, смотался в сад старика Никерсона, изъял досточку из задней стенки сарая, всунул туда голову и чирикнул. Собачеи просочились наружу, и я помчался прочь с почтенным котом на буксире. Великолепная была пробежка. Гончаки сразу напали на след и ринулись вперед всей сворой со скоростью пятидесяти миль в час. Кот и я держали пятьдесят пять. Я каждую секунду ожидал, что старик Никерсон услышит и начнет палить направо и налево из своего ружьеца, но ничего не произошло. Я возглавил кросс по пересеченной местности, без единой заминки припарковал псин у себя в гостиной – и на боковую. Порядком вымотался, можешь мне поверить! Я ведь уже не так молод, как прежде.
Я помолчал, весь во власти чувства, близкого к благоговению. У этого человека, бесспорно, был размах. В Укридже всегда крылось нечто, притупляющее нравственное чувство.
– Ну, – сказал я наконец, – в прозорливости тебе не откажешь!
– Что есть, то есть, – польщенно отозвался Укридж.
– А еще и в широком, глубоком и гибком взгляде на вещи.
– Как же, как же, малышок, в наши дни без него не обойтись. Краеугольный камень успешной деловой карьеры.
– Ну, и какой же следующий ход?
Мы уже приближались к Белому Коттеджу. Он стоял, плавясь в солнечных лучах, и во мне проснулась надежда, что внутри найдется что-то холодненькое для утоления жажды. Окно гостиной было открыто, и из него рвалось наружу тявканье пекинесов.
– О, я подыщу коттедж где-нибудь еще, – сказал Укридж, взирая на домик с некоторой сентиментальностью. – Затруднений это не составит. Масса коттеджей повсюду. И тогда я препояшусь для серьезной работы. Ты будешь поражен, насколько я уже продвинулся. Еще минутка, и увидишь, на что способны эти собачеи.
– Во всяком случае, лаять они умеют.
– Да. Их как будто что-то возбудило. Мне пришла в голову великолепная мысль. Когда мы встречались у тебя, я планировал специализироваться на собаках-артистах для мюзик-холлов – на, так сказать, профессиональных собачеях. Но я все хорошенько обдумал и не вижу причин, почему бы мне не заняться развитием и любительских талантов. Предположим, у тебя имеется псина – Фидо, любимец всей семьи, – и ты решаешь, что в доме станет еще уютнее, если он иногда будет проделывать какие-нибудь кунштюки. Ну а ты занятой человек, у тебя нет времени его обучать. И потому ты просто вешаешь бирку ему на ошейник, отправляешь псину на месяц в Укриджский Собачий Колледж, и он возвращается к тебе, получив исчерпывающее образование. Ни забот, ни хлопот, цены умеренные. Провалиться мне, любительство даже доходнее профессионализма. Не вижу причин, почему бы собаковладельцам не начать посылать своих псов ко мне на, так сказать, традиционной основе, как они посылают своих сыновей в Итон и Винчестер. Ого-го-го! Эта мысль обрастает мясом. И вот что: почему бы не создать особый ошейник для всех собак, заканчивающих мой колледж? Что-нибудь оригинальное, которое все будут сразу узнавать. Усекаешь? Своего рода почетная эмблема. Типус с собачеей, имеющей привилегию носить укриджский ошейник, будет вправе смотреть сверху вниз на типчика с псиной без такового. И вскоре ни один человек, дорожащий своей репутацией, не решится показаться на людях с неукриджской собакой. И начнется обвал. Псины будут рушиться на меня из всех уголков страны. Работы столько, что одному мне не справиться. Придется открыть филиалы. Колоссальные возможности. Миллионы, мой мальчик, миллионы! – Он помолчал, держась за ручку входной двери. – Конечно, – продолжал он, – в данную минуту не следует закрывать глаза на тот факт, что я стеснен и связан по рукам и ногам отсутствием капитала и вынужден приступать к делу в самом малом масштабе. Из чего следует, малышок, что так или иначе мне необходимо раздобыть капитал.
Самый подходящий момент, чтобы сообщить благую весть.
– Я обещал ему, что промолчу, – сказал я, – чтобы не обмануть счастливых надежд, но, откровенно говоря, Джордж Таппер как раз сейчас прилагает все силы, чтобы найти для тебя исходный капитал. Вчера вечером, когда я расстался с ним, он как раз к этому приступил.
– Джордж Таппер! – Глаза Укриджа увлажнились скупою мужскою слезою. – Джордж Таппер! Соль земли! Добрый верный товарищ! Истинный друг! Человек, на которого можно положиться. Провалиться мне, будь на свете больше типчиков вроде старины Таппера, никто бы слыхом не слыхал про нынешний пессимизм и томление духа. А он представлял себе, где именно сумеет раздобыть для меня искомый капиталец?
– Да. Он отправился сообщить твоей тетушке о том, как ты занялся здесь обучением этих пекинесов и… В чем дело?
Ликующий облик Укриджа претерпел жутчайшие изменения. Глаза выпучились, нижняя челюсть отвисла. Добавьте несколько квадратных футов седой бороды, и он был бы точной копией светлой памяти мистера Никерсона.
– Моей тетушке? – промямлил он, повисая на дверной ручке.
– Да. Но что с тобой? Он полагал, что она, если он ей подробно все изложит, непременно растает и примчится на выручку.
Вздох стойкого бойца, лишившегося последних сил, исторгся из облеченной макинтошем груди Укриджа.
– Среди всех чертовых инфернальных липучих, лезущих не в свое дело, наипартачнейших тупоголовых ослов, – произнес он страдальчески, – Джордж Таппер самый отпетый.
– О чем ты?
– Этому типчику нужна смирительная рубашка, он угроза общественной безопасности.
– Но…
– Это псины моей тетки. Я их слямзил, когда она вышвырнула меня вон!
Пекинесы внутри коттеджа все еще трудолюбиво тявкали.
– Провалиться мне, – сказал Укридж. – Это немножко множко.
Полагаю, он сказал бы еще многое, но в этот миг из недр коттеджа с жуткой внезапностью донесся голос. Это был женский голос, ровный, металлический голос, который, подумалось мне, откровенно намекал на ледяные глаза, орлиный нос и волосы цвета орудийной стали.
– Стэнли!
Вот все, что произнес голос, но этого было достаточно. Мой взгляд скрестился с дико мечущимся взглядом Укриджа. Он, казалось, съежился в своем макинтоше наподобие улитки, застуканной врасплох за вкушением салата.
– Стэнли!
– Что, тетя Джулия? – осведомился Укридж дрожащим голосом.
– Иди сюда. Мне надо с тобой поговорить.
– Сейчас, тетя Джулия.
Я бочком ускользнул на шоссе. Тявканье пекинесов внутри коттеджа перешло в настоящую истерику. Я обнаружил, что двигаюсь быстрой рысцой, и тут же – хотя день был жарким – помчался во всю мочь. Конечно, я мог бы и остаться, если бы захотел, но почему-то я не захотел. Что-то, казалось, шепнуло мне, что я буду лишним при этой священной семейной встрече.
Не знаю, что именно создало у меня подобное впечатление, – но не исключаю, что прозорливость или же широкий, глубокий и гибкий взгляд на вещи.
Укриджский Синдикат Несчастных Случаев
– Минуточку, малышок, – сказал Укридж. И, стиснув мой локоть, он остановил меня возле небольшой толпы, которая собралась у церковных дверей.
Такие толпы на протяжении лондонского брачного сезона можно наблюдать в любое утро перед любой из церквей, уютно гнездящихся на тихих площадях между Гайд-парком и Кингз-роуд в Челси.
Она состояла из пяти женщин кухарочьего облика, четырех нянек, полудюжины мужчин непроизводительного класса, которые отвлеклись от своего обычного занятия – подпирания стены «Виноградной грозди», питейного заведения на углу, уличного торговца с тачкой овощей, разнообразных мальчишек, одиннадцати собак и двух-трех молодых людей целеустремленного вида с фотоаппаратами через плечо. С первого взгляда становилось ясно, что в церкви совершается бракосочетание, а судя по присутствию молодых людей с фотоаппаратами и вереницы дорогих авто, припаркованных у тротуара, так и великосветское бракосочетание. Одно было неясно (для меня), почему Укридж, неколебимейший холостяк, возжелал присоединиться к зрителям.
– В чем, – осведомился я, – заключается идея? Почему мы прервали нашу прогулку, чтобы поприсутствовать при погребении человека абсолютно нам незнакомого?
Укридж ответил не сразу. Он словно погрузился в размышления. Затем он испустил глухой скорбный смешок – жуткий звук, что-то вроде последнего хрипа издыхающего лося.
– Абсолютно незнакомого, расскажи своей прапрабабке! – отозвался он со свойственной ему безапелляционностью. – А ты знаешь, кого там сейчас запрягают?
– Так кого?
– Тедди Уикса.
– Тедди Уикса? Господи Боже! – вскричал я. – Да неужели?
И пяти лет как не бывало.
Свой великий план Укридж развил в итальянском ресторане Баролини на Бик-стрит. Баролини был любимым оазисом нашей небольшой компании убежденных борцов за место под солнцем в те дни, когда человеколюбивые содержатели ресторанов в Сохо имели обыкновение подавать обед из четырех блюд и кофе за полтора шиллинга. В тот вечер там, кроме Укриджа и меня, присутствовали Тедди Уикс, актер, как раз вернувшийся после шестинедельных гастролей с труппой третьего разряда, игравшей «Всего лишь продавщицу»; Виктор Бимиш, художник, создатель «Пианиста без забот», талантливого рисунка, который украшал рекламные страницы «Пиккадилли мэгэзин»; Бертрам Фокс, автор «Пепла покаяния» и других пропадающих втуне киносценариев, а еще Роберт Данхилл, который, будучи служащим Новоазиатского банка с окладом в восемьдесят фунтов годовых, вносил в нашу компанию практичный здравомыслящий коммерческий элемент. Как обычно, Тедди Уикс ухватил разговор за шиворот и в очередной раз рассказывал нам, как он блистал и как жестоко обходится с ним злокозненная судьба.
Описывать Тедди Уикса никакой надобности нет. Под другим более благозвучным именем он уже давно жутко намозолил глаза своей внешностью всем, кто листает иллюстрированные еженедельники. Тогда он был тошнотворно красивым молодым человеком с теми же покоряющими глазами, подвижным ртом и волнистыми, как шифер, волосами, которые столь пленяют публику в наши дни. И тем не менее на том этапе своей карьеры он транжирил себя в третьеразрядных бродячих труппах. Он объяснял это – как и Укридж был склонен объяснять свои неудачи – отсутствием исходного капитала.
– У меня есть все! – воинственно заявил он, подчеркивая свои утверждения стуком кофейной ложечки. – Наружность, талант, обаяние, чудесный сценический голос – ну, все. Мне не хватает только шанса. А он мне не представится потому, что мне нечего надеть. Директора театров все на один лад и никогда не заглядывают глубже внешности, никогда не дают себе труда узнать, не гений ли перед ними. Судят о нем только по одежде. Будь мне по карману заказать пару костюмов портному на Корк-стрит, а штиблеты – Мойкоффу, а не покупать их готовыми и подержанными у «Братьев Мозес», да если бы мне удалось обзавестись приличной шляпой, по-настоящему пристойными гетрами и золотым портсигаром, причем всем этим одновременно, я мог бы войти в кабинет директора любого лондонского театра и подписать контракт на вест-эндский спектакль хоть завтра же.
И вот тут-то к нам присоединился Фредди Лант. Фредди, как и Роберт Данхилл, был будущим финансовым магнатом и ревностным завсегдатаем Баролини. И мы вдруг спохватились, что давненько не видели его здесь. И осведомились о причине подобного пренебрежения.
– Я провалялся в постели, – ответил Фредди, – больше двух недель.
Такое признание навлекло на него суровое неодобрение Укриджа. Этот великий человек принципиально не вставал с постели ранее полудня, и был случай, когда небрежно брошенная спичка прожгла дырку в его единственных брюках и продержала его между простынями сорок восемь часов; однако лень столь величественного масштаба глубоко его шокировала.
– Лентяй и шалопай, – сказал он сурово. – Позволяешь золотым часам своей юности пропадать втуне, вместо того чтобы трудиться не покладая рук и приобретать репутацию.
Фредди заявил, что подобное обвинение глубоко не-справедливо.
– Я стал жертвой несчастного случая, – объяснил он. – Упал с велосипеда и растянул лодыжку.
– Не повезло, – был наш общий вердикт.
– Ну, это как посмотреть, – сказал Фредди. – Отдохнуть совсем не помешало. Ну и, конечно, пятерочка.
– Что еще за пятерочка?
– Я получил пяток фунтов от «Еженедельного велосипедиста» за то, что растянул лодыжку.
– Ты… что-о?! – вскричал Укридж, взволнованный до недр души (как и всегда) рассказом о шальных деньгах. – Сидишь вот тут и говоришь мне, что какая-то чертова газетенка уплатила тебе пять фунтов, потому что ты растянул лодыжку? Опомнись, старый конь. Такого не бывает.
– Но это правда.
– А ты можешь предъявить мне эту пятерку?
– Нет, потому что я ее предъявлю, а ты сразу заберешь ее взаймы.
На этот выпад ниже пояса Укридж ответил исполненным достоинства молчанием.
– И они уплатят пятерку всякому, кто растянет лодыжку? – спросил он, не отвлекаясь от главной темы.
– Да. Если он подписчик.
– Так я и знал, что без подвоха тут не обошлось, – мрачно сказал Укридж.
– Сейчас многие еженедельники пускают в ход этот приемчик, – продолжал Фредди. – Подписываешься на год и получаешь право на страховку при несчастном случае.
Мы живо заинтересовались. Это же было в те дни, когда ежедневные лондонские газеты еще не вступили в бешеную конкуренцию друг с другом в деле страхования и не начали предлагать княжеские подкупы гражданам страны, чтобы они безмерно разбогатели, сломав шею. Теперь газеты платят до двух тысяч фунтов за труп без подделки и пять фунтов в неделю за какой-нибудь ничтожный вывих позвоночника. Но в то время идея была совсем свежей и очень привлекательной.
– И сколько же этих грязных листков выплачивают такие страховки? – осведомился Укридж. Блеск в его глазах свидетельствовал, что великий мозг уже жужжит, как динамо-машина. – С десяток наберется?
– Думаю, что так. Конечно, не меньше десяти.
– Значит, типчик, который подпишется на них на все, а потом растянет лодыжку, получит пятьдесят фунтов? – заключил Укридж проницательно.
– И даже больше, если повреждение серьезнее, – заявил Фредди, эксперт в подобных вопросах.
Воротничок Укриджа спрыгнул с запонки, а его пенсне пьяно зашаталось. Он повернулся к нам.
– Сколько денег, типусы, вы способны собрать? – спросил он грозно.
– А зачем они тебе? – осведомился Роберт Данхилл с банкирской предусмотрительностью.
– Дорогой мой старый конь, неужели ты не видишь? Кошки-мышки, да ведь это же идея века. Провалиться мне, плана, сулящего подобные проценты, еще никто не разрабатывал. Соберем нужную сумму и подпишемся на каждую из этих чертовых газетенок.
– И что толку? – сказал Данхилл с холодным отсутствием энтузиазма.
Банковских клерков дрессируют подавлять эмоции, чтобы, став управляющими, они отказывали в кредитах не моргнув и глазом.
– Крайне маловероятно, чтобы с кем-либо из нас произошел несчастный случай, а тогда деньги будут выброшены на ветер.
– Великий Боже, ослиная ты башка, – презрительно фыркнул Укридж, – не думаешь же ты, что я собираюсь пустить это на самотек? Слушайте! Суть плана такова: мы подписываемся на все эти газеты, потом тянем жребий, и типус, которому достанется роковая карта или там что-нибудь другое роковое, идет прогуляться, ломает ногу и заграбастывает добычу, мы делим ее на всех и начинаем купаться в роскоши. Это ведь обернется многими и многими сотнями фунтов.
Последовало долгое молчание. Нарушил его Данхилл, чей ум отличался скорее увесистостью, чем гибкостью:
– Ну, а если он не сумеет сломать ногу?
– Кошки-мышки! – возмущенно вскричал Укридж. – Как-никак мы живем в двадцатом веке, имеем в своем распоряжении все новейшие достижения и возможности цивилизации, чтобы ломать ноги на каждом шагу, а ты задаешь такой дурацкий вопрос! Конечно, он сумеет сломать ногу. Любой осел способен сломать ногу. Это немножко слишком множко! Мы все инфернально на мели – лично я, если Фредди не сможет уделить мне чуток этой пятерочки до субботы, не знаю, как до нее дотяну. Нам всем до чертиков нужны деньги, и тем не менее, когда я выдвигаю этот чудотворный план разжиться сотней-другой, ты, вместо того чтобы завилять хвостом перед моей молниеносной находчивостью, рассиживаешься здесь и выискиваешь возражения. Это не тот дух. Не тот дух, который ведет к победе.
– Если ты на такой мели, – возразил Данхилл, – как ты намерен внести свою долю?
Страдальческий, почти ошеломленный взгляд появился в глазах Укриджа. Он смотрел на Данхилла сквозь свое лопоухое пенсне, как человек, решающий, верить ли своим ушам.
– Я? – вскричал он. – Я? Мне это нравится! Надо же! Да провалиться мне, если, черт побери, в мире есть какая-никакая справедливость, если есть хоть искра порядочности и доброжелательности в ваших чертовых сердцах, так вы, мнилось мне, могли бы взять меня в долю за выдвижение идеи! Немножко слишком множко. Я вношу свой мозг, а ты хочешь, чтобы я, кроме того, выкашлянул бы еще и наличность? Кошки-мышки, такого я не ожидал. Это меня ранит, черт побери! Да если бы кто-нибудь сказал мне, что старый друг…
– Ну ладно-ладно, – сказал Роберт Данхилл. – Ладно, ладно, ладно. Но одно я тебе скажу. Если ты вытянешь жребий ломать ногу, это будет самый счастливый день в моей жизни.
– А вот и не вытяну, – сказал Укридж. – Что-то шепчет мне, что не вытяну.
И не вытянул. Когда в торжественной тишине, нарушаемой только звуками дальнего переругивания официанта с поваром через переговорную трубу, мы завершили жеребьевку, перст судьбы указал на Тедди Уикса.
Полагаю, что даже в весенние деньки юности, когда сломанные руки-ноги больше смахивают на пустяки, чем в зрелые годы, все-таки не такое уж блаженство гулять по улицам и стараться навлечь на себя несчастный случай. В подобных обстоятельствах мысль о том, что ты таким образом принесешь пользу своим друзьям, служит не слишком большим утешением. Тедди Уикса она, казалось, не утешала вовсе. То, что он не очень склонен жертвовать собой ради общественного блага, становилось все более очевидным – день проходил за днем и находил его по-прежнему целым и невредимым. Укридж, когда он зашел ко мне обсудить положение дел, был явно встревожен. Он рухнул в кресло у стола, за которым я приступал к моему скромному завтраку, и, выпив половину моего кофе, глубоко вздохнул.
– Провалиться мне, – простонал он, – как тут не утратить веру в людей? Я перенапрягаю свой мозг, изыскивая планы, чтобы обеспечить всех нас кое-какими деньжатами именно в тот момент, когда мы особенно в них нуждаемся, и, когда натыкаюсь на, возможно, простейшую и все-таки замечательнейшую идею нашего времени, этот типчик Уикс подводит меня, увиливая от своего прямого долга. Таково уж мое везение, что жребий вытянула подобная мокрица. А хуже всего, малышок, что, поставив на него, мы уже ничего изменить не можем. Собрать достаточную сумму, чтобы подписать на год кого-то еще, нам не в подъем. Остается Уикс, и только Уикс.
– Думаю, нам следует дать ему время.
– Так он и говорит, – проворчал Укридж, угрюмо отправляя в рот жареный хлебец. – Он говорит, что не знает, как к этому приступить. Послушать его, так можно подумать, будто вляпывание в пустяковый несчастненький случай – это такое сложное и тонкое дело, что оно требует годы и годы изучения, а потом – специальной подготовки. Тогда как шестилетний ребенок способен все устроить за пять минут одной левой. Этот типчик просто инфернально дотошен. Даешь дельные советы, и вместо того чтобы принять их в разумном духе сотрудничества, он всякий раз отбрыкивается с помощью нелепых возражений. Он чертовски разборчив. Когда мы прогуливались вчера вечером, то повстречали парочку сцепившихся землекопов. Славные дюжие ребята! Любой мог бы уложить его в больницу на месяц. Я сказал, чтобы он вмешался и начал их расцеплять, а он отвечает: нет, это частный спор и его не касается, так что он не чувствует себя вправе вмешиваться. Педантизм, вот как я это называю. Так что, малышок, этот типчик – трость надломленная, как сказано в Библии. Трус. Мы допустили промашку, вообще разрешив ему участвовать в жеребьевке. Могли бы сообразить, что от такого типчика результатов не добьешься. Ни совести, ни esprit de corp[2]. Ни малейшего побуждения ударить пальцем о палец ради блага общества. А мармелада у тебя больше нет, малышок?
– Нет.
– Тогда я пошел, – сказал Укридж мрачно. – Полагаю, – добавил он, задержавшись у двери, – ты не можешь ссудить меня пятью шиллингами?
– И как ты только догадался!
– Тогда я тебе вот что скажу, – объявил Укридж, всегда справедливый и рассудительный. – Можешь вечером угостить меня обедом. – Казалось, на миг этот счастливый компромисс его ободрил, но тут же он снова помрачнел. – Стоит мне подумать, – сказал он, – о всех деньгах, которые томятся в этом жалком слабодушном зайце и тщетно ждут своего освобождения, и я готов заплакать, малышок, будто дитя. Этот типчик мне никогда не нравился. У него дурной глаз, и он завивает волосы. Никогда не доверяй типчикам, которые завивают волосы, старый конь.
Укридж был отнюдь не одинок в своем пессимизме. Через две недели, когда с Тедди Уиксом не приключилось ничего хуже легкого насморка, от которого он избавился за два-три дня, его расстроенные коллеги по Синдикату пришли к единодушному мнению, что положение становится отчаянным. Не было и намека хоть на малейшую прибыль с колоссального капитала, вложенного в него нами, а ведь надо было покупать еду, платить квартирным хозяйкам и приобретать разумный запас табака. При таких обстоятельствах чтение утренней газеты ввергало в неизбывную тоску.
Повсюду в обитаемом мире каждый день, как давал понять хорошо осведомленный листок, несчастные случаи приключались буквально со всеми ныне живущими его обитателями за исключением Тедди Уикса. Фермеры в Миннесоте запутывались в жнейках, крестьян в Индии препарировали крокодилы, железные балки ежечасно срывались с небоскребов на головы граждан во всех городах от Филадельфии до Сан-Франциско, а от пищевых отравлений не страдали только люди, которые падали с обрывов, разбивали авто об стены, проваливались в канализационные колодцы или полагались на недостоверные сведения о том, что пистолет не заряжен. Создавалось впечатление, что среди этих повальных бедствий только Тедди Уикс один-одинешенек расхаживает целый и невредимый и пышет здоровьем. Короче говоря, сложилось одно из тех мрачных ироничных, серых, безнадежных положений, которые обожают описывать русские романисты, и совесть не позволила мне упрекнуть Укриджа за то, что он принял действенные меры для выхода из кризиса. Я сожалел только о том, что редкое невезение воспрепятствовало исполнению превосходнейшего плана.
Первое предупреждение, что он попытался ускорить события, я получил, когда мы с ним как-то вечером прогуливались по Кингз-роуд и он увлек меня на Маркхем-Плейс, унылую заводь, где он одно время квартировал.
– Это еще зачем? – осведомился я, так как всегда недолюбливал указанное место.
– Тут живет Тедди Уикс, – сказал Укридж. – В моей прежней квартире.
Я не понял, в чем состояла магия этого факта. Каждый день я все более скорбел, что у меня хватило глупости вложить столь необходимые деньги в предприятие, подающее все признаки лопнувшего мыльного пузыря, а потому мои чувства к Тедди Уиксу полнились холодом и антипатией.
– Хочу узнать, как он и что.
– Узнать, как он и что? Но почему?
– Ну, дело в том, малышок, что, по-моему, его покусала собака.
– С чего ты взял?
– Не знаю, – произнес Укридж мечтательно. – Просто почему-то мне так кажется. Сам знаешь, как вдруг приходит в голову что-нибудь эдакое да и застревает там.
Даже предвкушение столь чудесного события было настолько упоительным, что я на некоторое время онемел. В каждом из десяти органов печати, в которые мы вложили свой капитал, собачьи укусы особенно рекомендовались в качестве первой необходимости для любого подписчика. Они занимали среднюю позицию в списке доходных несчастных случаев. Ниже сломанного ребра или перелома малой берцовой кости, но дороже вросшего ногтя. Я радостно упивался картиной, воспоследовавшей из слов Укриджа, как вдруг громкое восклицание вернуло меня с эмпиреев к реальной жизни. И моим глазам предстало омерзительнейшее зрелище. По улице к нам неторопливо приближалась знакомая-презнакомая фигура Тедди Уикса, и одного взгляда на его элегантный экстерьер было достаточно, чтобы нам стало ясно, что наши надежды воздвигались на песке. Нет, к этому человеку не приложил зубов даже тойтерьер.
– Привет, ребятки! – сказал Тедди Уикс.
– Привет, – тупо отозвались мы.
– Я тороплюсь, – сказал Тедди Уикс. – Бегу за врачом.
– За врачом?
– Ну да. Бедный Виктор Бимиш. Его покусала собака.
Мы с Укриджем переглянулись. Казалось, Судьбе приспичило играть с нами. Что толку, что какая-то собака покусала Виктора Бимиша? Что толку, покусай Виктора Бимиша хоть сотня собак? Собакопокусанный Виктор Бимиш не имел ни малейшей рыночной стоимости.
– Вы ведь знаете свирепого пса моей квартирной хозяйки, – сказал Тедди Уикс, – который всегда выскакивает во дворик и лает на людей, приближающихся к двери? (Я тут же вспомнил огромного беспородного кобеля с бешеными глазами и сверкающими клыками, которому очень не помешало бы подстричься. Однажды я повстречался с ним на улице, когда навещал Укриджа, и от горькой судьбы Виктора Бимиша меня избавило только присутствие Укриджа, близко с ним знакомого, не говоря уж о том, что все псы ему братья.)
– Каким-то образом, – продолжал Тедди Уикс, – сегодня вечером он забрался ко мне в спальню. И поджидал там, когда я вернулся. Со мной был Бимиш, и животное ухватило его за ногу, едва я открыл дверь.
– А почему оно не ухватило тебя? – скорбно осведомился Укридж.
– Я одного не понимаю, – сказал Тедди Уикс, – каким образом зверюга оказался у меня в комнате? Кто-то должен был запереть его там. Все это очень и очень таинственно.
– Почему он не ухватил тебя? – вторично осведомился Укридж.
– Ну, пока пес кусал Бимиша, я сумел забраться на гардероб, – сказал Тедди Уикс. – А потом пришла моя хозяйка и увела его. Но я не могу болтать тут с вами. Я должен бежать за врачом.
Мы молча взирали ему вслед, когда он упорхнул дальше по улице. И заметили, с какой предусмотрительностью он остановился на углу и огляделся, прежде чем перейти улицу, и как осторожно попятился, пропуская несущийся мимо грузовик.
– Нет, ты слышал? – сказал Укридж сквозь зубы. – Он влез на гардероб!
– Да.
– И ты видел, как он увильнул от этого достойного грузовика?
– Да.
– Что-то надо делать, – твердо сказал Укридж. – Этому человеку необходимо напомнить о его обязательствах.
На следующий день Тедди Уикса посетила делегация.
От нашего имени выступал Укридж, и он перешел к делу с похвальной прямолинейностью.
– Так как же? – спросил Укридж.
– Что «как же»? – нервно парировал Тедди Уикс, избегая его укоризненных глаз.
– Когда же дело сдвинется с места?
– А! Ты про несчастные случаи?
– Да.
– Ну, я это обдумывал, – сказал Тедди Уикс.
Укридж плотнее запахнул свой макинтош, который носил и дома, и на улице, причем в любую погоду. В этом движении было что-то от римского сенатора, готового изобличить врага государства. Именно так должен был завернуться в свою тогу Цицерон, пока набирал дыхание, чтобы обрушиться на Клодия. Несколько секунд он поиграл с проволочкой от шипучки, которая удерживала его пенсне на положенном месте, и безуспешно попытался пристегнуть воротничок к запонке под затылком. Когда Укриджем овладевали сильные чувства, его воротничок обретал прыгучесть, с которой не могла совладать ни одна запонка.
– Да, тебе давно уже пора подумать об этом, – сурово прогремел он.
Мы одобрительно поерзали на своих стульях – все, кроме Виктора Бимиша, который не пожелал сесть и прислонился к каминной полке.
– Провалиться мне, тебе давно было пора заняться обдумыванием. Отдаешь ли ты себе отчет, что мы вложили в тебя колоссальную сумму на четко обозначенном условии, что можем положиться на тебя и получить немедленные результаты? Неужели мы должны прийти к выводу, будто ты такой слабак и так тонок в кишках, что помышляешь уклониться от долга чести? Мы были лучшего мнения о тебе, Уикс. Мы-то считали тебя предприимчивым, кристальнодушным стопроцентным высокопробным мужчиной с тяжелыми кулаками, готовым стоять за своих друзей до последнего.
– Да, но…
– Любой типчик, сколько-нибудь лояльный и понимающий, как важно это для нас остальных, уже давным-давно бросился бы искать способ для выполнения своего обязательства. Ты же нарочито упускаешь все подвертывающиеся тебе возможности. Только вчера я видел, как ты попятился, когда шаг вперед посодействовал бы грузовику наскочить на тебя.
– Ну, позволить грузовику наскочить на себя не так-то легко.
– Вздор! Для этого нужна чуточка решимости, и все. Дай волю воображению, наконец. Постарайся вообразить, что ребенок упал с тротуара – маленький златокудрый ребенок, – сказал Укридж, растроганный до глубины души. – И чертовски огромное такси или там еще что-нибудь уже совсем близко. Мать дитяти беспомощно стоит на тротуаре, заломив руки в агонии. «Черт дери! – кричит она. – Неужто никто не хочет спасти мое сокровище?» «Да, клянусь дьяволом, – кричишь ты, – я хочу!» И ты прыгаешь на мостовую, и все завершается в один момент. Не понимаю, почему ты кочевряжишься.
– Да, но… – сказал Тедди Уикс.
– Более того, мне говорили, что боли никакой. Тупой удар, и все.
– Кто тебе это говорил?
– Не помню. Кто-то там.
– Можешь передать ему от меня, что он осел, – с раздражением сказал Тедди Уикс.
– Ну ладно. Если ты против того, чтобы тебя переехал грузовик, найдется множество других способов. Но провалиться мне, предлагать их бесполезно. Ты словно бы совсем лишен предприимчивости. Вчера, после того как я ценой огромных усилий поместил в твою комнату собаку – собаку, которая все сама за тебя могла сделать, – тебе было достаточно просто стоять на месте. И что происходит? Ты сигаешь на…
Его перебил Виктор Бимиш голосом хриплым от наплыва чувств:
– Значит, это ты подсунул туда чертова пса?
– А? – сказал Укридж. – Ну да. Но мы можем побеседовать об этом по душам позднее, – торопливо продолжал он. – Вопрос в данный момент заключается в том, каким образом нам убедить этого бесхребетного червяка получить для нас страховку. Черт меня побери, ты мог бы сообразить…
– Я могу только сказать… – горячо начал Виктор Бимиш.
– Да-да, – сказал Укридж, – как-нибудь в другой раз. А сейчас нельзя отвлекаться, малышок. Я говорил о том, – возобновил он свою речь, – что, по моему представлению, ты будешь пыхтеть от нетерпения выполнить свои обязательства ради себя же самого. Ты же все время ноешь, что тебе не во что одеться, чтобы заинтересовать театральных директоров. Подумай обо всем, что ты сможешь накупить на свою долю, едва соберешься с духом и доведешь дело до конца. Подумай о костюмах, штиблетах, шляпах, гетрах. Ты все время бубнишь про свою чертову карьеру, про то, что тебе требуются только элегантные шмотки, чтобы зацапать главную роль в вест-эндском спектакле. Так вот он – твой шанс заполучить их.
Его красноречие не пропало втуне. В глазах Тедди Уикса появился жаждущий взгляд – такой взгляд, какой мог появиться в глазах Моисея на вершине Фасги, откуда ему открылся вид на Землю Обетованную. Он тяжело вздохнул. Было видно, что мысленно он идет по Корк-стрит, сопоставляя достоинства знаменитых портных.
– Вот что я предлагаю, – внезапно сказал он. – Бесполезно просить меня пойти на это в здравом уме и твердой памяти. Я на такое просто не способен. Нервы сдают. Но если, ребятки, вы угостите меня вечером обедом с шампанским – много-много шампанского! – то, думается, оно меня достаточно взбодрит.
Тягостное молчание воцарилось в комнате. Шампанское! Слово это прозвучало как похоронный звон.
– Как мы сможем позволить себе шампанское? – сказал Виктор Бимиш.
– Либо так, либо никак, – сказал Тедди Уикс. – Решать вам.
– Джентльмены, – сказал Укридж, – совершенно очевидно, что предприятие нуждается в дополнительном капитале. Так как насчет него, старые кони? Давайте сплотимся в откровенном деловом карты на стол духе и поглядим, что можно сделать. Я могу заручиться десятью шиллингами.
– Что! – вскричало все собравшееся общество в изумлении. – Это как же?
– Заложу банджо.
– Но у тебя нет банджо!
– Бесспорно, но у Джорджа Таппера есть, и я знаю, где он его хранит.
После такого бодрящего начала взносы потекли рекой. Я пожертвовал портсигар, Бертрам Фокс решил, что его хозяйка потерпит с платой за квартиру еще месяц, у Роберта Данхилла имелся в Кенсингтоне дядюшка, который, мнилось ему, при правильном подходе может расщедриться на фунт, а Виктор Бимиш сказал, что если заказчик «Пианиста без забот» проявит себя последним скупердяем и откажется авансировать пять шиллингов в счет будущих рисунков, значит, он горько в нем ошибается. Короче говоря, за несколько минут молниеносный сбор средств принес внушительную общую сумму в два фунта шесть шиллингов и мы спросили Тедди Уикса, сможет ли он адекватно подбодриться в пределах этой суммы.
– Попытаюсь, – сказал Тедди Уикс.
И вот, памятуя, что эта превосходная харчевня подает шампанское по восемь шиллингов квартовая бутылка, мы договорились встретиться в семь у Баролини.
Если рассматривать обед для подбадривания Тедди Уикса как светское мероприятие, то он решительно не удался. Мне кажется, он стал для нас испытанием почти с самого начала. И причиной было не столько то обстоятельство, что Тедди упивался восьмишиллинговым шампанским Баролини, мы же из-за ограниченности наличных были вынуждены довольствоваться самыми плебейскими напитками. Нет, приятность мероприятия портило воздействие, которое это пойло оказало на Тедди. Что было составной частью шампанского, которое поставлялось Баролини и предлагалось почтенной публике, то есть тем, кто был настолько бесшабашен, что пил его за восемь шиллингов бутылка, остается тайной между его творцом и Творцом этого творца. Но как бы то ни было, трех бокалов оказалось достаточно, чтобы преобразить Тедди Уикса из кроткого и почти елейного молодого человека в воинственного задиралу.
Он перессорился со всеми нами. За супом он громил мнения Виктора Бимиша касательно искусства; за рыбой он высмеял точку зрения Бертрама Фокса на будущность кино, а к тому времени, когда были поданы куриные ножки с салатом из одуванчиков (или, как утверждали некоторые, с салатом из шпагата, мнения тут разошлись), адское пойло довело его до того, что он начал пенять Укриджу за растранжириваемую попусту жизнь и уговаривать голосом, слышным на той стороне улицы, немедленно приступить к поискам работы, чтобы обрести достаточно самоуважения, дабы впредь он мог смотреть на себя в зеркало без содроганий. Впрочем, добавил Тедди Уикс с оскорбительностью, которую мы все сочли неуместной, тут никакое самоуважение ничего не изменит.
Высказавшись так, он властно потребовал еще одну кварту за восемь шиллингов.
Мы скорбно переглядывались. Какой благой ни была цель, ради которой нам приходилось сносить все это, факт оставался фактом – сносить это было очень нелегко. Но меркантильные соображения вынуждали нас молчать. Мы понимали, что этот вечер принадлежит Тедди Уиксу и что его следует ублажать. Виктор Бимиш кротко сказал, что Тедди прояснил многие моменты, которые давно ставили его в тупик. Бертрам Фокс согласился, что предсказания Тедди относительно будущего крупных планов имеют за собой. И даже Укридж, чья гордая душа была прожжена до самого основания личностями, которые позволил себе вышеуказанный Тедди Уикс, обещал принять его проповедь к сердцу и последовать ей в ближайший же удобный момент.
– Не то поберегись! – воинственно сказал Тедди, откусывая кончик одной из лучших сигар, предлагаемых Баролини. – И еще одно: чтоб я больше не слышал, что ты приходишь и лямзишь чужие носки.
– Хорошо, малыш, – смиренно сказал Укридж.
– Если на свете есть тип, которого я презираю, – сказал Тедди, вперяя налитые кровью глаза в преступника, – так это носколямзер… лямзеноскер… то есть… ну, вы знаете, о чем я.
Мы поспешили заверить его, что знаем, о чем он, и он погрузился в летаргический ступор, из которого вышел через три четверти часа и возвестил, что не знает, о чем мы себе думаем, а он уходит. Мы сказали, что мы тоже уходим, уплатили по счету и ушли.
Негодование Тедди Уикса, когда он обнаружил, что мы сгрудились вокруг него на тротуаре перед рестораном, было жарким, и он выразил его со всей силой. Среди всего прочего он сказал – что было заведомой ложью, – будто у него есть репутация в Сохо, которую он должен оберегать.
– Все в ажуре, Тедди, старый конь, – обезоруживающе сказал Укридж. – Мы просто подумали, что тебе будет приятно находиться в кругу друзей, когда ты его осуществишь.
– Осуществлю? Что осуществлю?
– Так несчастный же случай.
Тедди Уикс испепелил его взглядом. Затем в его настроении, видимо, произошла разительная перемена, и он разразился добродушным хохотом.
– Надо же вообразить такую глупость! – весело вскричал он. – Никакого несчастного случая со мной не произойдет. Вы же не могли всерьез поверить, будто я действительно собирался подвергнуть себя несчастному случаю, а? Я просто пошутил. – Затем после новой разительной перемены настроения он словно бы стал жертвой неизбывной печали. Нежно погладил плечо Укриджа, и по его щеке прокатилась слеза. – Просто пошутил, – повторил он. – Вы же не обидитесь на шутку, правда? – сказал он умоляюще. – Вы же любите мои шутки, верно? Только шутка, и ничего больше. Про несчастный случай я и не думал вовсе. Только об обеде. – Веселая сторона случившегося тут же развеяла его печаль. – Смешнее я в жизни ничего не слышал, – объяснил он благодушно. – Не несчастный случай, а обед. Обеденный случай, случай обеда, – добавил он, доводя до нашего сведения свою мысль. – Ну, спокойной ночи всем-всем, – сказал он бодро и, ступив с тротуара на банановую кожуру, был тут же отброшен на десять шагов проезжавшим мимо грузовиком.
– Два ребра и рука, – сказал врач пять минут спустя, дирижируя уборкой тела с мостовой. – Поосторожней с носилками!
Прошло две недели, прежде чем власти предержащие больницы Чаринг-Кросс сообщили нам, что пациент в состоянии принимать посетителей. Пущенная по кругу шляпа обеспечила цену корзиночки с фруктами, и акционеры поручили Укриджу и мне доставить ее с приветом и соболезнованиями от них всех.
– Привет! – сказали мы вполголоса, как и положено у одра страдания, когда нас наконец допустили к нему.
– Прошу садиться, джентльмены, – ответствовал страдалец.
Должен сознаться, что даже в этот первый миг я ощутил легкое удивление. Не в привычке Тедди Уикса было называть нас джентльменами. Укридж, однако, ничего странного не заметил.
– Ну-ну-ну, – сказал он ободряюще. – И как мы себя чувствуем, малышок? Мы принесли тебе кое-какие фруктики.
– Мое выздоровление продвигается превосходно, – ответил Тедди Уикс все в той же неестественной велеречивой манере, из-за которой его первая реплика привела меня в недоумение. – И мне следует сказать, что, по моему мнению, у Англии есть все основания гордиться чуткостью и предприимчивостью ее замечательных органов печати. Превосходный материал для чтения, изобретательность разнообразных конкурсов, а главное – дух прогресса, плодом которого явился план страхования. Он вообще выше всяких похвал. Вы это записали? – осведомился он.
Укридж и я посмотрели друг на друга. Нам сказали, что Тедди практически обрел нормальную ясность мысли, но это смахивало на горячечный бред.
– А что нам следовало записать, старый конь? – мягко спросил Укридж.
Тедди Уикс словно бы изумился:
– Разве вы не репортеры?
– То есть как – репортеры?
– Я думал, вас прислал один из тех еженедельников, которые выплачивают мне страховку, и вам поручено взять у меня интервью.
Укридж и я обменялись еще одним взглядом. На этот раз встревоженным. Полагаю, что черное предчувствие уже начало простирать над нами свою тень.
– Ты же меня помнишь, Тедди, старый конь? – обеспокоенно осведомился Укридж.
Тедди Уикс сдвинул брови, страдальчески сосредоточиваясь.
– Ну да, конечно! – сказал он наконец. – Вы же Укридж, ведь верно?
– Вот-вот, Укридж.
– Ну, конечно, Укридж!
– Да. Укридж. Странно, что ты меня забыл!
– Да, – сказал Тедди Уикс. – Следствие шока, который меня поразил, когда эта махина меня сбила. Полагаю, меня стукнуло по голове. В результате моя память закапризничала. Здешние врачи страшно заинтересовались. Говорят, что случай просто уникальный. Некоторые вещи я помню отлично, а касательно других моя память не сохранила ровнехонько ничего.
– Но послушай, старый конь, – произнес Укридж дрожащим голосом, – про страховку же ты не забыл?
– Нет-нет, это я помню.
Укридж облегченно перевел дух.
– Я подписан на ряд еженедельных газет, – продолжал Тедди Уикс. – И теперь они выплачивают мне страховые деньги.
– Да-да, старый конь, – вскричал Укридж, – но я имел в виду, помнишь ли ты про Синдикат?
Тедди Уикс поднял брови:
– Синдикат? Какой Синдикат?
– Ну, когда мы собрались вместе и собрали деньги для подписки на эти еженедельники и бросили жребий, кто из нас пойдет и нарвется на несчастный случай, а потом соберет денежки. И жребий выпал тебе, разве ты не помнишь?
Крайнее изумление – к тому же возмущенное изумление – отразилось на лице Тедди Уикса. Он выглядел донельзя шокированным.
– Безусловно, ничего подобного я решительно не помню, – сказал он негодующе. – Не могу себе представить, чтобы я дал согласие принять участие в том, что, по вашим же собственным словам, представляет собой преступный сговор с целью получения денег под ложным предлогом от ряда еженедельных газет.
– Но, малышок…
– Однако, – сказал Тедди Уикс, – если эта история содержит крупицу истины, без сомнения, у вас имеется документальное тому подтверждение.
Укридж посмотрел на меня. Я посмотрел на Укриджа. Наступило долгое молчание.
– Концы рубим, старый конь? – сказал Укридж скорбно. – Оставаться тут смысла нет.
– Да, – ответил я с такой же печалью. – Пошли.
– Рад был повидать вас, – сказал Тедди Уикс, – и спасибо за фрукты.
Когда я в следующий раз увидел этого типа, он выходил из театральной конторы в Хеймаркете. На нем была новехонькая фетровая шляпа, жемчужно-серая, гетры ей в тон и новый голубой костюм из тонкой шерсти элегантнейшего покроя с еле заметной красной искрой. Вид у него был торжествующий, и, когда я проходил мимо, он извлек из кармана золотой портсигар.
Вскоре после этого, если вы помните, Тедди Уикс имел шумный успех в роли молодого героя-любовника на сцене «Аполлона» и начал свою головокружительную карьеру кумира публики.
Внутри церкви орган разразился знакомыми звуками «Свадебного марша». Причетник распахнул двери. Пять кухарок перестали обмениваться воспоминаниями о других бракосочетаниях куда шикарнее, к каковым им удалось приобщиться. Фотографы подняли свои фотоаппараты. Уличный торговец продвинул свою тачку с овощами на шаг вперед. Растрепанный и небритый субъект рядом со мной неодобрительно буркнул:
– Трутни праздные!
Из церкви появилось воплощение красоты, держа под руку еще одно воплощение, но не совсем красоты.
Нельзя отрицать, что Тедди Уикс выглядел чрезвычайно эффектно. Он стал даже красивей, чем прежде. Его великолепно завитые волосы сияли под солнцем, большие глаза лучились, гибкой фигуре, облаченной в безупречные фрак и брюки, позавидовал бы сам Аполлон. Однако новобрачная чем-то наводила на мысль, что Тедди женился на деньгах. Они остановились в дверях, и фотографы засуетились.
– У тебя найдется шиллинг, малышок? – тихим ровным голосом сказал Укридж.
– Зачем тебе понадобился шиллинг?
– Старый конь, – сказал Укридж сквозь зубы, – крайне и жизненно важно, чтобы у меня был шиллинг здесь и сейчас.
Я протянул искомую монету. Укридж повернулся к растрепанному субъекту, и я заметил, что он держит в руке внушительный помидор, сочной и перезрелой наружности.
– Не хотите ли заработать шиллинг? – спросил Укридж.
– Хочу ли! – ответил растрепанный субъект.
Укридж перешел на хриплый шепот.
Фотографы завершили свои приготовления. Тедди Уикс откинул голову с тем благородным величием, которое завоевало ему столько женских сердец, и выставил напоказ свои прославленные зубы. Кухарки вполголоса отпускали нелестные замечания по адресу новобрачной.
– Прошу приготовиться, – сказал один из фотографов.
Над головами толпы, пущенный твердой рукой, просвистел большой сочный помидор. Он разорвался, как шрапнель, между выразительными глазами Тедди Уикса, затянув их багряной пеленой. Он окропил воротнички Тедди Уикса, он закапал фрак Тедди Уикса. А растрепанный субъект резко повернулся и зарысил по улице прочь.
Укридж сжал мой локоть. Его глаза были полны высокого удовлетворения.
– Рубим концы? – сказал Укридж.
Рука об руку мы неторопливо удалились, согреваемые приятным июньским солнцем.
Дебют Боевого Билсона
Я обнаружил, что с течением времени мне бывает все труднее припоминать точные обстоятельства своего первого знакомства с тем или иным человеком, поскольку в общем и целом я не претендую на обладание моментальной памятью, каковую легко приобрести, внеся плату за курсы по переписке, щедро рекламируемые в журналах. Тем не менее я могу заявить без малейших сомнений и колебаний, что индивид, впоследствии известный как Боевой Билсон, вошел в мою жизнь в половине четвертого в субботу десятого сентября, два дня спустя после моего двадцать седьмого дня рождения. Ибо после первого моего взгляда на него дальнейшее фотографически запечатлелось на скрижалях моей памяти и хранится там, хотя вчерашний день с них уже стерся. Наша встреча не только была исполнена насыщенного драматизма, но и таила в себе что-то от последней соломинки, заключительной пращи или стрелы судьбы разящей, на которые сетовал принц Гамлет. Встреча эта словно бы завинчивала крышку на скорбях жизни.
Более недели все у меня шло наперекосяк. Я покинул Лондон более чем на неделю, повинуясь чувству долга, дабы погостить за городом у неблизких мне по духу родственников, а дождь все лил, и лил, и лил. Перед завтраком – семейные молитвы, и безик после обеда. На обратном пути в Лондон мой вагон изобиловал младенцами, поезд упрямо останавливался на каждой станции, а у меня не было никаких съестных припасов, кроме пакета с булочками. И когда наконец я вошел в свою квартиру на Эбери-стрит и поспешил в тихий уют гостиной, первое, что я увидел, открыв дверь, был могучий рыжий верзила, возлежащий на диване.
Когда я вошел, он не шевельнулся, так как спал, и точнее всего я выражу впечатление от его внушительного физического склада, сказав, что у меня не возникло ни малейшего желания его разбудить. Диван был небольшой, и он свисал с него во всех направлениях. Сломанный нос, а также челюсть подвизающегося на Диком Западе киногероя в момент, когда она выражает неколебимую решимость. Одна рука подсунута под затылок, другая свисает до пола, будто успевший окаменеть заблудший окорок. Я не знал, что он делает в моей гостиной, но, и страстно желая узнать это, предпочел не искать объяснений из первых рук. Что-то в нем словно предупреждало, что он принадлежит к тем людям, которые просыпаются с левой ноги. Я тихонечко прокрался вон и бесшумно спустился с лестницы, чтобы навести справки у Баулса, моего домохозяина.
– Сэр? – сказал Баулс сочным голосом экс-дворецкого, возникая из глубин в сопровождении густого запаха копченой трески.
– В моей комнате кто-то есть, – прошептал я.
– Так это, надо быть, мистер Укридж, сэр.
– И вовсе не надо, – ответил я с раздражением. У меня редко хватает духа возражать Баулсу, но это его утверждение было настолько далеко от истины, что промолчать я никак не мог. – Он огромный и рыжий.
– Друг мистера Укриджа, сэр. Он вчера присоединился здесь к мистеру Укриджу.
– То есть как это вчера присоединился здесь к мистеру Укриджу?
– Мистер Укридж занял ваши комнаты в ваше отсутствие, сэр, начиная с вечера после вашего отбытия. Я полагал, что с вашего одобрения. Он, если мне не изменяет память, сказал, что «все будет тип-топ».
По какой-то причине, которую я так и не сумел разгадать, с первой же встречи Баулс начал относиться к Укриджу как снисходительный отец к любимому отпрыску. И теперь он словно приносил мне поздравление с тем, что у меня есть друг, всегда готовый сплотиться вокруг и пробраться в мои комнаты, стоит мне уехать.
– Еще что-нибудь, сэр? – осведомился Баулс, тоскливо поглядев через плечо. Видимо, разлука с копченой треской его угнетала.
– Нет, – сказал я. – Э… нет. А когда вы ждете мистера Укриджа?
– Мистер Укридж поставил меня в известность, что он вернется к обеду, сэр. Если в его планах не произошло никаких перемен, то сейчас он на matinée[3] в мюзик-холле «Гейти».
Когда я добрался до «Гейти», зрители как раз начали расходиться. Я подождал на улице и вскоре был вознагражден зрелищем желтого макинтоша, проталкивающегося сквозь толпу.
– Приветик, малышок! – благодушно сказал Стэнли Фиверстоунхо Укридж. – Когда ты вернулся? Послушай, запомни-ка этот мотивчик, чтобы напомнить мне завтра, когда я наверняка его забуду. Значит, так. – Он встал как вкопанный в бушующем потоке пешеходов, закрыл глаза, вздернул подбородок и громким удручающим тенором разразился подобием тирольских йодлей. – Тамти-там-ту-тамти, тум-тум-тум-тум, – закончил он. – А теперь, старый конь, можешь перевести меня через улицу в «Угольную яму» для краткого выпивона. Ну, и как ты провел время?
– Не важно, как я провел время. Кто этот тип, которого ты забыл у меня в гостиной?
– Рыжий типус?
– Великий Боже! Ведь даже ты не напихал их туда больше одного?
Укридж посмотрел на меня с легким огорчением.
– Мне не нравится этот тон, – сказал он, увлекая меня по ступенькам в «Угольную яму». – Провалиться мне, этот тон меня ранит, старый конь. Вот уж не думал, что ты станешь возражать, если твой лучший друг приклонит свою голову на твою подушку.
– Против твоей головы я не возражаю. То есть возражаю, но, полагаю, с ней мне придется примириться. Но когда ты начинаешь пускать жильцов…
– Закажи два светлых портвейна, малышок, – сказал Укридж, – и я все объясню. Я так и думал, что ты поинтересуешься. Дело вот в чем, – продолжал он, когда два светлых портвейна были поданы. – Этот типус обеспечит меня неиссякаемым богатством.
– Да, но не может ли он заняться этим не в моей гостиной?
– Ты меня знаешь, старый конь, – сказал Укридж, величаво прихлебывая. – Прозорливость, чутье, дальновидность. Мозг не знает передышек. Всегда творит идеи – бинг! – как озарение. Недавно я сидел в пивной в Челси и ел бутерброд с сыром. Тут входит типчик, заваленный драгоценностями. Заваленный, даю слово. Перстни на пальцах, а от булавки в галстуке хоть прикуривай сигару. Я навел справки и узнал, что он менеджер Тода Бингема.
– Что еще за Тод Бингем?
– Мой милый старый конь, ты не мог не слышать про Тода Бингема. Новый чемпион в среднем весе. Выиграл титул у Элфа Палмера пару недель назад. А этот типус, осыпанный богатством, его менеджер. Думается, он получает пятьдесят процентов от всего, что добывает Тод, а ты знаешь, какие призовые деньги платят чемпионам. Кроме того, выступления в мюзик-холлах, кино и так далее. Не вижу, почему мне по самым скромным подсчетам не загребать тысячи. Идея меня осенила через две секунды после того, как я узнал, кто он такой. И это было прямо-таки предопределением, ведь как раз в то утро мне стало известно, что прибыл «Гиацинт».
Мне показалось, что он бредит. В моем скорбном измученном состоянии его манера изъясняться загадками меня раздражала.
– Не понимаю, о чем ты говоришь, – сказал я. – Что еще за «Гиацинт» и куда он прибыл?
– Возьми себя в руки, старый конь, – сказал Укридж с долготерпением человека, имеющего дело с малолетним дебилом. – Ты ведь не забыл «Гиацинт», грузовой пароходец, на котором я плавал года два назад. Я же тебе часто рассказывал про «Гиацинт». Так он вошел в Лондонский порт накануне того вечера, когда я увидел этого богатея, и я собирался днем побывать на нем, поболтать с ребятками. Типчик, которого ты нашел у себя дома, это один из кочегаров. Более приличную птичку трудно встретить. Не разговорчив, но сердце золотое. И когда мне сказали, кто этот обвешанный драгоценностями индивид, меня будто молнией ударило. Мне только надо убедить этого самого Билсона махать кулаками всерьез, стать его менеджером, и богатство мне обеспечено. Ведь это Билсон изобрел кулачные бои.
– Оно и видно.
– Чудесный типус! Он тебе понравится.
– Само собой. Чуть я его увидел, как сразу понял: он мне понравится.
– Нет, ты пойми, он никогда не затевает ссор. Чтобы он показал себя с наилучшей стороны, требуются уж не знаю какие провокации, но стоит ему начать – ух ты! Я видел, как в Марселе он очистил бар самым обворожительным образом. Бар, учти, до краев полный матросни и пожарных, и каждый способен свалить быка одним ударом. Их там было шестеро, и они молотили Билсона со всем усердием и задором, на какие были способны, но он просто предоставлял им отлетать в сторону, а сам продолжал заниматься своим делом. Это готовый чемпион, малышок, не больше и не меньше. Его и топором не прошибить, а стоит ему ударить кого-нибудь, как все местные гробовщики уже сцепляются из-за покойника. И просто поразительная удача: он ищет работу на берегу. Оказывается, полюбил официанточку в «Короне». В Кеннингтоне. Не ту, – во избежание недоразумений пояснил Укридж, – которая косит, а другую, Флосси. Девушку с желтыми волосами.
– С официантками «Короны» в Кеннингтоне я не знаком, – сказал я.
– Милые девочки, – отечески пояснил Укридж. – Так что все вышло тип-топ, понимаешь? Наши интересы совпали. Милый старый Билсон не то чтобы очень умен, но я за час или около того сумел втолковать ему все, что требовалось, и мы подписали контракт. Я получаю пятьдесят процентов от всего в вознаграждение за менеджирование, организацию боев и общего присмотра за ним.
– А общий присмотр за ним включает укладывание его бай-бай на моем диване и баюкание, пока он не заснет?
– Ты просто зациклился, малышок, а это не тот дух. Можно подумать, мы осквернили твою чертову гостиную.
– Но ты же не станешь отрицать, что с появлением этого твоего будущего чемпиона в квартире стало тесновато.
– Да не тревожься ты из-за этого, мой милый старичок, – успокоил меня Укридж. – Завтра мы отбываем в «Белого оленя» в Барнсе, чтобы начать тренировки. Я ангажировал Билсона на предварительный бой в «Стране Чудес» ровно через две недели, начиная с этого вечера.
– Да неужели? – сказал я, потрясенный такой предприимчивостью. – Как тебе это удалось?
– Да просто отвез его туда и показал устроителям. Они прямо-таки в него вцепились. Видишь ли, внешность старичка сама за себя говорит. Слава Богу, все это произошло, когда у меня завелось несколько фунтов. Мне необыкновенно повезло: я повстречал Джорджа Таппера в ту самую минуту, когда он узнал, что его намечают в помощники министра или в кого-то там еще, детали я не запомнил, но это что-то, на что намечают типчиков из министерства иностранных дел, когда они показывают класс, и Таппи расстался с десяткой, даже не пискнув. Был какой-то оглушенный. Теперь мне кажется, что я укусил бы его и на двадцатку, если бы сообразил вовремя. Тем не менее, – сказал Укридж с делавшей ему честь мужественной покорностью судьбе, – теперь уже дела не поправишь, а с десяткой я продержусь. Меня пока тревожит только вопрос, как Билсона обозвать.
– Такого человека я бы поостерегся обзывать.
– Я про то, под каким именем ему выступать?
– А почему не под собственным?
– Его родители, черт бы их побрал, – мрачно сказал Укридж, – окрестили его Уилберфорсом. Нет, ты скажи, ты способен представить себе зрителей в «Стране Чудес», когда им представят Уилберфорса Билсона?
– Уилли Билсон, – предложил я. – Вполне звучит.
Укридж, сдвинув брови, солидно взвесил мое предложение, как подобает менеджеру.
– Чересчур фривольно, – наконец вынес он вердикт. – Для легковеса вполне подошло бы, но… нет, мне не нравится. Я прикидывал что-нибудь вроде Ураганный Хикс или Скалокрушитель Риггс.
– И не думай, – перебил я, – или ты погубишь его карьеру в самом начале. Назови мне хоть одного настоящего чемпиона с такой забористой кличкой. Боб Фицсиммонс, Джек Джонсон, Джеймс Д. Корбетт, Джеймс Д. Джеффрис…
– Джеймс Д. Билсон!
– Не пойдет.
– А ты не думаешь, – почти робко осведомился Укридж, – что подойдет Дикий Кот Кикс?
– Ни один боксер с таким прилагательным перед своей фамилией еще ни разу не выступал, кроме как в предварительных трех раундах.
– Ну а Боевой Билсон?
Я похлопал его по плечу.
– Остановись на этом, – сказал я. – Решено. Боевой Билсон – вот его имя.
– Малышок, – сказал Укридж приглушенным голосом, потянулся через стол и схватил меня за руку. – Это гениально. Абсолютно гениально. Закажи еще парочку портвейнов, старичок.
Я заказал, и мы хорошенько выпили за здоровье Боевого.
Официально я был представлен моему крестнику, когда мы вернулись на Эбери-стрит, и – как ни велико было мое уважение к нему прежде – я еще больше оценил его потенциальные возможности снискать триумфы в избранной им профессии. К этому времени он уже проснулся и внушительно прохаживался по гостиной. Стоя он выглядел даже сокрушительнее, чем лежа. К тому же во время нашей утренней встречи его веки смежал сон. Но теперь его глаза были открыты – зеленого цвета и с особым металлическим блеском, – и когда мы обменивались рукопожатием, казалось, он оглядывает меня, выбирая, куда бы вернее ударить. То, что, наверное, было задумано как чарующая улыбка, мне показалось сардонической усмешкой, свирепо изогнувшей его губы. В общем и целом я еще никогда не встречал человека, настолько предназначенного судьбой одним взглядом превращать самого воинственного дебошира в убежденного пацифиста. А когда я припомнил рассказ Укриджа о небольшом инциденте в Марселе и сообразил, что у жалкой горстки, у какой-то полудюжины закаленных матросов достало дерзости вступить с этим субъектом в рукопашный бой, я испытал прилив патриотической гордости. Я почувствовал, что моряки Британского торгового флота – это самое то. Сердца из дуба.
Обед, последовавший за нашим знакомством, показал Билсона не столько блистательным застольным собеседником, сколько способным едоком. Длина рук позволяла ему хватать соль, перец, картофель и прочее без просьбы передать их ему. Ну об остальных темах у него, казалось, не было особого мнения, которое он счел бы нужным высказать. Сильный молчаливый мужчина.
Однако в его характере имелась и более мягкая сторона, открывшаяся мне, когда, выкурив одну из моих сигар и поговорив о том о сем, Укридж отправился по очередному своему таинственному делу – одному из тех, которые призывали его в любое время суток, и оставил меня наедине с гостем. После какого-то получаса тишины, нарушаемой только убаюкивающим побулькиванием его трубки, грядущий чемпион уставил на меня грозные глаза и заговорил:
– Вы когда-нибудь влюблялись, мистер?
Я был заинтригован и польщен. Что-то в моей внешности, сказал я себе, какое-то туманное нечто, свидетельствующее о моей чувствительности и чуткости, тронуло этого человека, и он собирается излить свою душу в доверительной исповеди. Я ответил, что да, я влюблялся, и много раз. А затем добавил, что любовь – это благороднейшее из чувств и никто не должен его стесняться. Я говорил долго и пылко.
– Р-ры! – сказал Боевой Билсон.
Затем, видимо, спохватившись, что непозволительно разоткровенничался с относительно малознакомым человеком, он вновь погрузился в молчание и хранил его, пока не настало время сна, а тогда он сказал «спокойной ночи, мистер» и исчез. Я был разочарован. При всей насыщенности нашего разговора я надеялся услышать что-то, что можно было бы претворить в человеческий документ под заголовком «Душа Зверя из Бездны», а затем продать в какой-нибудь журнал за наличные, в которых всегда ощущается настоятельная нужда.
На следующее утро Укридж и его протеже отбыли в Барнс, а поскольку этот речной курорт находится в стороне от моих привычных путей, то я больше не видел Боевого до судьбоносного вечера в «Стране Чудес». Время от времени Укридж заглядывал ко мне для присвоения сигар и носков и в этих случаях с неколебимой уверенностью повествовал о перспективах своего подопечного. Вначале, насколько я понял, возникли некоторые трения из-за глубокого убеждения этого последнего в том, что трубочный табак представляет собой неотъемлемую и важнейшую часть тренировок. Но к концу недели мудрые доводы взяли верх, и он согласился перестать курить до своего дебюта. По убеждению Укриджа, эта уступка превратила простую уверенность в абсолютный верняк, и он пребывал в самом солнечном настроении, когда занял у меня деньги, чтобы оплатить наш проезд до станции метро, на которой выходят паломники, желающие посетить ист-эндскую Мекку любителей бокса – «Страну Чудес».
Боевой опередил нас, и мы нашли его в раздевалке уже сногсшибательно полуобнаженного. Я полагал, что никакой человек не может выглядеть крупнее мистера Билсона в верхней одежде, однако в трусах и боксерских туфлях он казался собственным старшим братом. Мышцы, напоминающие швартовы океанского лайнера, змеились по его рукам и вздувались на плечах. В сравнении с ним отнюдь не маломощный атлет, с которым мы столкнулись в дверях, выглядел карликом.
– Тот самый парень, – объявил мистер Билсон, мотнув рыжей головой в сторону двери.
Из этих слов мы поняли, что в дверях встретились с его противником, и поддерживавший нас дух уверенности обрел новую силу. Там, где шесть отборнейших моряков торгового флота потерпели поражение, не этому фитюльке было надеяться на успех.
– Я с ним поговорил, – сказал Боевой Билсон.
Эту внезапную словоохотливость я объяснил некоторым нервничанием, естественным в подобные минуты.
– У него полно неприятностей, у парня этого, – сказал Боевой.
Ответ напрашивался сам собой: теперь число их заметно увеличится. Но прежде чем кто-то из нас успел его произнести, хриплый голос возвестил, что Косой и Щеголь завершили свой трехраундный поединок и сцена ждет появления нашего кандидата. Мы поспешили занять свои места. Необходимость навестить нашего бойца в его раздевалке лишила нас удовольствия увидеть поединок Косого и Щеголя, но, насколько я понял, он отличался живостью и очень развлек зрителей, поскольку они как будто пребывали в прекрасном настроении. Все те, кто не был занят поглощением копченых угрей, весело болтали или пересвистывались в два пальца с друзьями по ту сторону зала. Когда мистер Билсон поднялся на ринг во всем великолепии рыжих волос и играющих мышц, гул голосов перешел в рев. Было ясно, что «Страна Чудес» одобрила нашего Боевого с первого же взгляда.
Зрители, на которых зиждется «Страна Чудес», искушены во всех тонкостях. Искусная работа ногами снискивает их похвалы, а умелый нырок головой встречается аплодисментами знатоков. Но выше всего они ценят удары. И один взгляд на Боевого Билсона, казалось, сказал им, что перед ними воплощенный Удар. Они приветствовали начало поединка восторженным воем и устроились поудобнее на сиденьях, готовясь насладиться благородным зрелищем того, как двое их ближних усердно и больно молотят друг друга.
Вой замер.
Я с тревогой посмотрел на Укриджа. И это – герой Марселя? Человек, который очищает бары, на которого не надышатся гробовщики? Застенчивость – вот наиболее подходящее слово для поведения нашего Боевого в первом раунде. Он нежно поглаживал своего противника. Обнимал его, как брата. Безобидно бродил по рингу.
– Что с ним такое? – спросил я.
– Он всегда начинает не спеша, – сказал Укридж, но не сумел скрыть тревоги и нервно теребил пуговицы своего макинтоша. Рефери предупредил Боевого Билсона, он говорил с ним, как горько разочарованный отец. В более дешевых и плебейских частях зала граждане высвистывали «Товарищей». Повсюду воцарилось уныние. От упоенного энтузиазма не осталось и следа, удар гонга, возвещающий конец раунда был заглушен выкриками жгучего презрения. Мистер Билсон брел в свой угол под излияниями антипатии со всех сторон.
Начало второго раунда ознаменовалось заметным взбодрением происходящего на ринге. Наш Боевой все еще пребывал в тисках странной апатии, но его противник преобразился. В первом раунде он, казалось, немного нервничал и действовал с опаской. То есть вел себя так, словно считал, что расшевелить мистера Билсона было бы неразумно. Но теперь отвращение к прямым действиям покинуло его. Излучая веселую беспечность, он направился к центру ринга, а оказавшись там, вытянул длинную левую руку и чувствительным ударом поразил нос мистера Билсона. Дважды он поразил его, и дважды мистер Билсон заморгал, как человек, получивший дурные вести из дома. Парень, у которого было полно неприятностей, отклонился вбок и точно врезал правым кулаком в ухо мистера Билсона.
Все было забыто и прощено. Еще секунду назад зрители были воинствующими антибилсоновцами. А теперь они столь же единодушно стали «про». Ибо эти удары, хотя, казалось, никак не подействовали на него физически, словно пробудили все лучшее в мистере Билсоне, будто кто-то открыл кран. Они исполнили мистера Билсона той жаждой биться, которая столь прискорбно отсутствовала в первом раунде. Секунду по получении затрещины по уху мистер Билсон постоял на своих плоских ступнях неподвижно, видимо, в глубоком размышлении. Затем с видом человека, внезапно вспомнившего про неотложную встречу, он ринулся вперед. Будто одушевленная мельница он обрушился на парня с неприятностями. Он бил его здесь, доставал его там. Он учинил над ним бойню. Он дубасил его так, как только способен человек, чьи возможности ограничены боксерскими перчатками, и вскоре жертва неприятностей уже привалилась к канатам. Его голова безмятежно свисала, и весь его вид был видом человека, который предпочел бы оставить это дело без последствий. Боевому оставалось только нанести заключительный удар, и сотня вскочивших на ноги энтузиастов наперебой указывали ему самое желательное место для этого.
Но вновь нашим представителем овладела странная застенчивость. Каждый второй человек в здании, казалось, назубок знал, что следует сделать дальше, и нервно, но доходчиво излагал процедуру, однако мистер Билсон был словно бы охвачен тяжкими сомнениями. Он неуверенно посмотрел на своего противника и вопросительно – на рефери. Рефери, явно человек совершенно не чуткий, сочувствия не проявил. Сделай Это Не Откладывая – вот каким мнился его девиз. Он был деловой человек и хотел, чтобы его клиенты получили за свои деньги все, что им полагалось. Он настаивал, чтобы мистер Билсон поставил убедительную точку. В конце концов мистер Билсон приблизился к своему противнику и отвел правую руку для удара. А отведя, он еще раз посмотрел на рефери через плечо.
Роковая ошибка! Парень, у которого до этого было полно неприятностей, возможно, и находился в аховом положении, но, подобно многим представителям своей профессии, он вопреки своим недавним злоключениям сохранил неприкосновенный запас энергии. И пока мистер Билсон поворачивал голову, он почти уперся в пол правой перчаткой, а затем с последним усилием привел ее по величественной дуге в соприкосновение с челюстью мистера Билсона. И пока непостоянный зал, быстро сменив предмет поклонения, принялся его подбадривать, он погрузил левую перчатку в живот мистера Билсона там, где элегантно одетый субъект застегивает третью пуговицу жилета.
Из всего, что выпадает на долю человека, удар в указанную область наименее приятен. Боевой Билсон поник, как увядший цветок, и медленно опустился на пол, где и распростерся. Он мирно лежал на спине, раскинув руки, будто плывя по тихой воде. Его дневной труд был завершен.
Скорбный вопль на миг заглушил голоса любителей этого спорта, увлеченно объяснявшим соседям, как именно все произошло. Это был вопль Укриджа, оплакивающего своего покойника.
В ту же ночь в половине двенадцатого, когда я готовился удалиться ко сну, в мою комнату вошла поникшая фигура. Я безмолвно смешал сочувственное виски с содовой, и некоторое время не звучало ни единого слова.
– Как там бедняга? – осведомился я наконец.
– В порядке, – апатично ответил Укридж. – Ел рыбу с чипсами, когда я расстался с ним в закусочной.
– Такое невезение, что его подрезали у самого финиша.
– Невезение! – загремел Укридж, вырываясь из летаргии с энергией, свидетельствующей о душевных муках. – Какое еще невезение? Чертово упрямство, и ничего больше. Провалиться мне, это немножко множко. Я вкладываю в этого типчика огромные суммы, я две недели содержу его в роскоши, ничего не прося взамен, кроме как выйти на ринг и уложить кого-нибудь, что он мог бы сделать за две минуты, если бы захотел, а он меня подводит только потому лишь, что второй типчик рассказал ему, как всю ночь просидел у постели жены, которая обожгла руку вареньем на кондитерской фабрике. Инфернальное рассиропливание!
– Делает ему честь, – сказал я.
– Ха!
– Я согласен с Теннисоном! – не отступал я. – Да, добрые сердца корон дороже.
– А кому, черт дери, нужно, чтобы у боксеров были добрые сердца? Какой толк от того, что этот Билсон способен свалить одним ударом слона, если он страдает чертовой сентиментальностью? Кто когда слышал о сентиментальном боксере? Совсем не тот дух. Никак не способствующий успеху.
– Бесспорно, это помеха, – признал я.
– Какая у меня гарантия, – вопросил Укридж, – что он, после того как я ценой неимоверных усилий и расходов устрою ему еще один матч, не отойдет в сторонку и не утрет слез сочувствия, потому что услышал про вросший ноготь, от которого страдает супруга его оппонента?
– Но ты же можешь устраивать ему матчи исключительно с холостяками.
– Да, и первый же холостяк, с которым он встретится, отведет его в угол и поведает, что его тетка подцепила коклюш, и обалдуй тяжко вздохнет и подставит подбородок, чтобы ему врезали. Никакой типус не имеет права на рыжие волосы, если не намерен их оправдывать. А ведь я, – тоскливо вздохнул Укридж, – видел, как этот типус (дело было в неаполитанском дансинге) схватился одновременно с по крайней мере одиннадцатью итальянцами. Правда, прежде кто-то из них всадил ему в ногу нож дюйма на три. Требуется что-то такое, чтобы в нем пробудилось честолюбие.
– Не представляю, как ты сумеешь подстроить, чтобы его пыряли ножом перед каждым матчем.
– Верно, – скорбно согласился Укридж.
– Так как ты намерен позаботиться о его будущем? У тебя же есть план?
– Ничего определенного. Когда я в последний раз видел мою тетку, она подыскивала компаньонку вести ее корреспонденцию и ухаживать за канарейкой. Возможно, я постараюсь устроить ему это место.
И с жутким невеселым смехом Стэнли Фиверстоунхо Укридж занял пять шиллингов и удалился в ночь.
Следующие несколько дней я Укриджа не видел, но получил известия о нем от нашего общего друга, Джорджа Таппера, на которого наткнулся, когда он в великолепнейшем настроении пританцовывал по Уайтхоллу.
– Послушай, – сказал Джордж Таппер без предисловия в каком-то ошеломленном восторге, – а меня сделали помощником министра.
Я пожал ему руку. И похлопал бы по спине, но высокопоставленных особ министерства иностранных дел не хлопают по спинам на Уайтхолле посреди бела дня, даже если вы и учились с ними в школе.
– Поздравляю, – сказал я. – Нет никого, кого я предпочел бы увидеть помощничающим при министре. Но слухи об этом уже доходили до меня через Укриджа.
– А, да! Помнится, я сказал ему, что это носится в воздухе. Милый старина Укридж! Я только что повстречал его, сообщил ему новость, и он был в восторге.
– На сколько он тебя укусил?
– А? О, всего на пять фунтов. До субботы. К тому времени он должен получить большие деньги.
– А когда-нибудь было время, когда бы Укридж не должен был получить большие деньги?
– Я хочу, чтобы вы с Укриджем пообедали со мной, чтобы отпраздновать. Среда тебе подойдет?
– Более чем.
– Ну, так в семь тридцать, «Риджент грилл». Передашь Укриджу?
– Не знаю, куда он подевался. Я его уже неделю не видел. Он тебе не говорил, где его искать?
– Где-то в Барнсе. Как же это заведение называется?
– «Белый олень»?
– Вот-вот.
– А как он выглядел? – спросил я. – Бодро?
– И очень. А что?
– Когда я в последний раз его видел, он думал на все махнуть рукой. Он претерпел кое-какие неудачи.
Перекусив, я немедленно отбыл в «Белый олень». Тот факт, что Укридж все еще пребывал под кровом этого постоялого двора и вновь обрел свой солнечный взгляд на жизнь, словно бы указывал на другой факт: предположительно, тучи, окутавшие будущее мистера Билсона, рассеялись, и его полотенце еще не повисло на канатах ринга. Что дело обстояло именно так, я узнал сразу же по прибытии. Осведомившись о моем старом друге, я был направлен в один из верхних номеров, из которого, как я обнаружил, приближаясь к нему, доносилась своеобразная дробь глухих ударов. Открыв дверь, я обнаружил, что производил эту дробь мистер Билсон. Облаченный в спортивные брюки и свитер, он усердно молотил по большому кожаному предмету, свисавшему с деревянного настила. Его менеджер сидел в углу на ящике из-под мыла и взирал на него ласковым собственническим взглядом.
– Привет, старый конь, – сказал Укридж, вставая, когда я вошел. – Рад тебя видеть.
Молотьба мистера Билсона, которую мое появление не оборвало, затрудняла разговор, и мы удалились в тихую гавань бара внизу, где я сообщил Укриджу о приглашении помощника министра.
– Я буду там, – сказал Укридж. – В одном на милого старого Билсона можно положиться безоговорочно: даже если спустить с него глаза, тренироваться он не перестанет. И конечно, он понимает, насколько это важно. Его карьера будет обеспечена.
– Значит, твоя тетка взвешивает, не нанять ли его?
– Моя тетка? О чем ты говоришь? Соберись с мыслями, малышок.
– Ты же ушел от меня с намерением устроить его к твоей тетке надзирать за ее канарейкой.
– Ну, я был тогда немного расстроен. Это все позади. Я серьезно потолковал с беднягой, и теперь он твердо намерен не подкачать. И даже обязан, раз ему представился великолепный шанс, вроде этого.
– Вроде какого?
– Нам представился замечательный случай, малышок, до чертиков замечательный.
– Надеюсь, ты удостоверился, что противник – холостяк? А кто он?
– Тод Бингем.
– Тод Бингем? – Я пошарил в памяти. – Да неужели чемпион в среднем весе?
– Он самый.
– И ты хочешь, чтобы я поверил, что ты уже организовал матч с чемпионом?
– Не совсем матч. Дело обстоит так. Тод Бингем совершает обход ист-эндских мюзик-холлов, предлагая двести фунтов всякому, кто продержится против него четыре раунда. Ну, для рекламы. Милый старый Билсон спустит себя с цепи на него в «Шордич эмпайр» в следующую субботу.
– Ты думаешь, он выстоит четыре раунда?
– Выстоит четыре раунда! – вскричал Укридж. – Да он выстоит четыре раунда против типчика, вооруженного пулеметом и парочкой мотыг. Считай, что эти деньги уже у нас в кармане. А когда мы сварганим это дельце, во всей Англии не найдется боксерского заведения, где за нас не ухватились бы двумя руками и ногами. Тебе, старый конь, я под секретом сообщу, что через год я, думается, буду загребать сотни в неделю. Нагребу сначала тут, знаешь ли, а потом сигану в Америку и заработаю сказочное состояние. Черт меня дери, да я не буду знать, куда девать деньги.
– А не потратить ли их на носки? У меня их почти не осталось.
– Эх, малышок, малышок, – сказал Укридж с упреком, – так ли уж необходимо вносить диссонирующую ноту? Разве сейчас время швырять твои мерзкие носки в лицо старому другу? Более широкий дух, вот что я хотел бы видеть.
В среду я по приглашению Джорджа Таппера прибыл в «Риджент грилл», но с опозданием на десять минут, и зрелище Джорджа, стоящего с непокрытой головой у входа со стороны Пиккадилли, пробудило во мне виноватое раскаяние. Джордж – лучший типус в мире, но атмосфера министерства иностранных дел усилила присущую ему с нежных лет тенденцию к педантичной точности, и он расстраивался, если его дела не следовали строгому расписанию. Мысль о том, что моя непунктуальность может омрачить этот великий вечер, заставила меня броситься к нему, рассыпаясь в извинениях.
– А вот и ты, – сказал Джордж Таппер. – Послушай, это выходит за все рамки…
– Жутко сожалею. Мои часы…
– Укридж! – вскричал Джордж, и я понял, что расстроил его не я.
– Неужели он не придет? – спросил я в изумлении. Мысль о том, что Укридж увернулся от бесплатного ужина, принадлежала к тем, которые сотрясают устои мира.
– Уже пришел. И привел с собой девицу.
– Девицу!
– В розовом. С желтыми волосами, – простонал Джордж Таппер. – Что мне делать?
Я поразмыслил над его вопросом.
– Даже для Укриджа это чересчур, – сказал я. – Но видимо, тебе придется угостить ее обедом.
– Но там же полно людей, которых я знаю, а эта девица такая… такая эффектная.
Я глубоко ему сочувствовал, но никакого выхода не находил.
– Как, по-твоему, могу я сказать, что внезапно заболел?
– Это больно ранит чувства Укриджа.
– Я бы с наслаждением ранил чувства Укриджа, черт бы его побрал, – горячо сказал Джордж Таппер.
– И это будет жуткий пинок девице, какой бы она ни была.
Джордж Таппер горько вздохнул. Истинный рыцарь, он расправил плечи, будто готовясь к ужасному испытанию.
– Ну, полагаю, сделать ничего нельзя, – сказал он. – Идем. Я оставил их пить коктейли в баре.
Джордж не преувеличил, когда назвал укриджскую добавку к празднеству эффектной. «Сногсшибательная» тоже подошло бы. Пока она шла впереди нас по длинному залу под руку с Джорджем Таппером (Джордж, казалось, очень ей понравился), у меня было достаточно времени изучить ее, начиная от лакированных туфель до массы золотистых волос под шляпой со страусиными перьями. У нее был громкий четкий голос, и она сообщала Джорджу Тапперу интимные подробности о внутреннем недуге, недавно поразившем ее тетю. Будь Джордж их семейным врачом, она не могла бы быть откровеннее, и я видел, как тусклый багрянец разливается по его скульптурным ушам.
Быть может, и Укридж заметил этот багрянец, потому что в нем на миг пробудилась совесть.
– Вроде бы, малышок, – шепнул он мне, – старый Таппи немножечко зол, что я захватил с собой Флосси. Если у тебя появится такая возможность, поставь его в известность, что причина тому – военная необходимость.
– Кто она такая?
– Я же тебе про нее рассказывал. Флосси, официантка в «Короне» в Кеннингтоне. Fiancée[4] Билсона.
Я посмотрел на него с изумлением:
– Ты хочешь сказать мне, что играешь со смертью, флиртуя с девушкой Боевого Билсона?
– Да ничего подобного, мой дорогой старичок. – Укридж был шокирован. – Дело в том, что мне надо попросить ее об особом одолжении, довольно-таки странном, и заговорить об этом с места в карьер – бесполезно. Предварительно требуется некоторая толика шампанского, а мои финансы на шампанское не потянут. После обеда я пригласил ее в «Альгамбру». Попозже вечерком я загляну к тебе и обо всем расскажу.
Затем мы приступили к обеду. Это был не самый приятный обед в моей практике. Будущая миссис Билсон мило болтала на всем его протяжении, а Укридж помогал ей поддерживать разговор. Однако сокрушенное лицо Джорджа Таппера лишило бы огонька любой банкет. Время от времени он брал себя в руки и пытался войти в роль гостеприимного хозяина, но по большей части хранил мрачное гробовое молчание, и, когда Укридж и его дама встали, чтобы уйти, это было истинным облегчением.
– Ну… – начал Джордж Таппер придушенным голосом, когда они направились по проходу к двери.
Я закурил сигару и откинулся, покорно готовясь слушать.
Укридж явился ко мне в полночь, сквозь стекла пенсне его глаза изливали странный свет. Он был радостно возбужден.
– Все в порядке, – сказал он.
– Рад, что ты так думаешь.
– Ты объяснил Таппи?
– Не было никакой возможности. Он говорил без передышки.
– Про меня?
– Да. Он высказал все, что я когда-либо о тебе думал, но несравненно красноречивей, чем сумел бы я.
Лицо Укриджа на мгновение омрачилось, но веселая бодрость тут же вернулась к нему.
– Ну, что поделать. Через день-два он поостынет. Но это было необходимо, малышок. Вопрос жизни и смерти. И теперь все в ажуре. Вот прочти.
Я взял письмо, которое он мне протянул. Листок, покрытый каракулями.
– Что это?
– Читай-читай, малышок. По-моему, это то, что требуется.
Я прочел:
– «Уилберфорс,
Я беру перо в руку сообщить тебе, что никогда не стану твоей. Без сомнения, ты будешь удивлен услышать, что я люблю другого, лучшего человека, так что этого не может быть никогда. Он любит меня, и он человек получше тебя.
Надеюсь, письмо застанет тебя в полном здравии, в каком покидает меня сейчас.
Искренне твоя, Флоренс Бернс».
– Я сказал ей, чтобы она написала позабористее, – объяснил Укридж.
– Ну, забористее некуда, – ответил я, возвращая письмо. – Мне жаль. Хотя я провел в ее обществе мало времени, она показалась мне хорошей девушкой… для Билсона. А ты, случайно, не знаешь адреса другого человека? Было бы добрым поступком послать ему открытку с рекомендацией покинуть Англию на год-другой.
– На этой неделе его можно будет найти в «Шордич эмпайр».
– Как?
– Другой – это Тод Бингем.
– Тод Бингем! – Драматичность ситуации меня растрогала. – Ты хочешь сказать, что Тод Бингем влюблен в девушку Билсона?
– Нет. Он ее даже не видел.
Укридж сел на скрипучий диван и хлопнул меня по колену с внезапной и неприятной силой.
– Малышок, – сказал Укридж, – открою тебе все. Вчера днем я застал старого Билсона за чтением «Дейли спортсмен». Вообще-то он не большой любитель чтения, а потому меня заинтересовало, что его так увлекло. И знаешь, что это было, старый конь?
– Не знаю.
– Да статья про Тода Бингема. Сентиментальщина, какую они теперь печатают про боксеров, расписывая, какой он прекрасный типус в частной жизни да как он всегда посылает телеграмму старушке мамочке после каждого боя и отдает ей половину приза. Черт побери! Нет на них цензуры! Этим прохиндеям все равно, что печатать! Да наверняка у Тода Бингема никакой старой мамочки и в заводе нет, а если и есть, так он ей и шиллинга не уделит. А на глазах этого болвана Билсона – слезы, и он сует мне эту статью. Соленые слезы, малышок! «Хороший парень!» – говорит. Нет, ты подумай! То есть я хочу сказать, это немножко множко, когда человек, ради которого ты сыплешь деньгами и лелеешь, как сестричку в колыбели, вдруг начинает жалеть чемпиона за три дня до того, как будет с ним драться. Заметь: чемпиона! Хватит и того, что он рассиропился из-за типчика в «Стране Чудес», но, когда дело доходит до сочувствия к Тоду Бингему, нужно принимать меры. Ну, ты меня знаешь – мозг как циркулярная пила. Я сообразил, что есть единственный способ нейтрализовать эту злокачественную чушь: так озлить Билсона на Тода Бингема, чтобы он забыл про старушку мамочку. И тут я подумал, а почему бы не уговорить Флосси сделать вид, будто Бингем отбил ее у него, вот я и пригласил ее на обед с Таппи. Мастерский ход, малышок. Ничто так не расслабляет девушку деликатного воспитания, как хороший обед, и нельзя отрицать, что старый Таппи отлично угостил нас. Она согласилась, едва я ей все объяснил, села и написала это письмишко даже глазом не моргнув. Я думаю, она думает, что это преотличный розыгрыш. Она ведь очень разбитная девушка.
– Видимо.
– Бедного старого Билсона, полагаю, это на время расстроит, но зато заставит как следует развернуться в субботу вечером, а в воскресенье утром его ждет безоблачное счастье, когда она объяснит, что пошутила, и он вспомнит про сотенку фунтов Тода Бингема в его брючном кармане.
– Мне казалось, ты говорил, что Бингем предлагает двести фунтов.
– Сотня мне, – мечтательно произнес Укридж.
– Есть только одно «но»: в письме ведь другой не назван. Как Билсон узнает, что это Тод Бингем?
– Черт подери, малышок, напряги свои умственные способности. Билсон же, когда получит письмо, не станет рассиживаться и позевывать. Он сразу помчится в Кеннингтон и спросит у Флосси.
– И тут она ему все выложит.
– Нет, не выложит. Я сунул ей парочку фунтов за обещание, что она сохранит тайну. И кстати, старичок, это мне напомнило, что я остался на мели, так если бы ты мог…
– Спокойной ночи, – сказал я.
– Но, малышок…
– И Господь с тобой, – добавил я твердо.
«Шордич эмпайр» славится большим залом, но, когда я в субботу вечером добрался туда, он был набит битком по самые двери. Полагаю, и при обычных обстоятельствах зрителей там по субботам собирается достаточно, но на этот раз такая приманка, как личное выступление Тода Бингема, обеспечила сверханшлаг. В обмен на мой шиллинг я получил привилегию занять позицию у дальней стены, откуда мне было мало что видно.
Однако взгляд на сцену между на мгновение раздвинувшимися головами и общее беспокойное нетерпение зрителей подсказали мне, что ничего сколько-нибудь интересного я не упускаю. Программа «Шордич эмпайр» на этой неделе, по сути, сводилась к одному номеру. Зрители, казалось, стиснув зубы, терпели предварительные выступления как неизбежные препятствия между ними и гвоздем программы. Они пришли посмотреть Тода Бингема и не были снисходительны к злополучным клоунам, велосипедистам, жонглерам, акробатам и исполнителям баллад, которых навязывали им в первой половине вечера. И радостные вопли, раздавшиеся, когда занавес опустился на драматической сценке, вырвались из самой глубины сердец, так как следующим номером было выступление звезды.
Дородный мужчина во фраке с красным носовым платком в грудном кармашке, исполненный посольского достоинства, вышел из-за кулис.
– Леди и джентльмены!
– У-ух! – вскричали зрители.
– Леди и джентльмены!
Одинокий голос: Ура старине Тоду! (Заткнись!)
– Леди и джентльмены, – сказал посол в третий раз. И с опаской оглядел зал. – С великим сожалением должен объявить о глубочайшем разочаровании для нас всех. К несчастью, Тод Бингем сегодня не сможет выступить перед вами.
Вой, подобный вою волков, лишившихся добычи, или заполнивших амфитеатр римских граждан после сообщения, что запас львов иссяк, приветствовал эти слова. Мы уставились друг на друга в жесточайшем недоумении. Как могло произойти подобное? Не превосходит ли это всякое вероятие?
– Чего это с ним? – хрипло вопрошала галерка.
– Угу, чего это с ним? – эхом отзывались из партера мы, публика почище.
Посол бочком скользнул к запасному выходу. До него как будто дошло, что он тут не всеобщий любимец.
– Да несчастный случай, – объявил он, и с каждым его словом все больше давало о себе знать сочное ист-эндское произношение. – По дороге сюда он, к сожалению, столкнулся с грузовиком, получил многочисленные травмы и ушибы, а потому не может выступить перед вами сегодня. С вашего позволения, его заменит профессор Дивайн, который исполнит свои неподражаемые подражания голосам разнообразных птиц и всех нам знакомых животных. Леди и джентльмены, – заключил посол, грациозно покидая эстраду, – благодарю вас всех и каждого по отдельности.
Занавес взвился, и на сцену выпорхнул франтоватый индивид с нафиксатуаренными усами.
– Леди и джентльмены, я начну с подражания известному певуну, дрозду обыкновенному, возможно, более известному многим из вас как свистелка. И касательно моего исполнения хочу указать, что у меня во рту не имеется ничего постороннего. Эффекта я достигаю…
Тут я удалился, и две трети зрителей сделали то же самое. Позади нас, замирая за закрытыми дверями, раздалась жалобная трель дрозда обыкновенного, тщетно соперничая с мощными голосами взыскательных зрителей, не привыкших скупиться на критику.
На улице кучка шордической золотой молодежи благоговейно внимала возбужденному оратору в мятой шляпе и брюках, сшитых на человека повыше и пошире. Волнующий рассказ о каких-то событиях совсем их заворожил. Отдельные слова и фразы прорывались сквозь уличный шум.
– …вот так. А потом дает ему раза вот эдак. И тут они как сцепятся…
– Проходите, проходите, – перебил официальный голос. – Проходите, не задерживайтесь.
Толпа поредела и разложилась на составные элементы. Я оказался рядом с владельцем мятой шляпы. Хотя мы не были представлены друг другу, он, казалось, счел меня достойным выслушать его повествование. И немедленно завербовал меня в качестве ядра новой толпы слушателей.
– Значит, он подходит, ну, парень этот, а Тод как раз входит в дверь для артистов…
– Тод? – изумился я.
– Тод Бингем. Ну, он подходит, когда он как раз входит в дверь для артистов и, значит, говорит: «Эй!» А Тод говорит: «Чего?», а этот парень говорит: «А ну давай, поднимай!», а Тод говорит: «Чего?», а этот парень говорит: «Руки подними!», а Тод говорит: «Чего? Я?» – вроде так с удивлением. И тут они давай драться.
– Но ведь Тода Бингема сбил грузовик?
Человек в мятой шляпе оглядел меня с тем презрением и вызовом, с какими истинно верующие одаривают еретиков.
– Грузовик! Да никакой грузовик его не сбивал. С чего вам взбрендило, что его сбил грузовик? И с чего ему лезть под грузовик и сбиваться? Его уложил тот рыжий, как я вам и толкую.
На меня снизошло великое озарение.
– Рыжий?
– Угу.
– Верзила?
– Угу.
– И он уложил Тода Бингема?
– В лоск уложил. Пришлось ему домой на такси ехать, Тоду то есть. Чудно! Раз парень может драться, как этот парень может драться, так чего ему ума не хватило на сцене подраться и деньги за это получить? Вот чего я думаю.
По ту сторону улицы лил свои холодные лучи прожектор. И в его слепящий свет вступил человек, задрапированный в желтый макинтош. Свет блестел на его пенсне и придавал жуткую зеленоватую бледность лицу. Это был Укридж, отступающий из Москвы.
– Другие, – сказал я, – тоже так думают.
И я поспешил перейти улицу, чтобы предложить свои слабые утешения. Бывают минуты, когда типус нуждается в дружеском участии.
Неотложная помощь Доре
Поскольку на протяжении нашего долгого и близкого знакомства ничто не свидетельствовало об обратном, я привык смотреть на Стэнли Фиверстоунхо Укриджа, друга моего детства, как на человека закаленно равнодушного к чарам противоположного пола. Я полагал, что, подобно многим и многим финансовым гигантам, он не располагает временем для ухаживаний – другие, куда более глубокие вопросы, казалось мне, непрерывно занимают этот великий мозг. И потому я был весьма изумлен, когда июньским днем в среду, шагая по Шефтсбери-авеню среди зрителей, покидавших театры после окончания утреннего представления, я увидел, как он подсаживает в автобус девушку в белом платье. В его манере ощущалась смесь учтивости и пылкой преданности, и будь его макинтош чуть менее желтым, а его шляпа чуть менее мятой, он выглядел бы точь-в-точь как сэр Уолтер Рэйли, бросающий бесценный плащ под ноги королевы.
Автобус тронулся, Укридж помахал ему вслед, и я приступил к расспросам. Я ощущал себя заинтересованной стороной. Его затылок четко выражал «цель – узы брака» – так, во всяком случае, представилось мне, и перспектива содержать некую миссис Укридж в привычной ей роскоши, а также снабжать выводок маленьких Укриджей носками и рубашками в восторг меня не привела.
– Кто это? – спросил я.
– Привет, малышок! – сказал Укридж, оборачиваясь. – Откуда ты взялся? Минутой раньше – и я представил бы тебя Доре.
Автобус, погромыхивая, готовился исчезнуть, свернув на Пиккадилли-серкус, и белая фигурка наверху обернулась, чтобы помахать в последний раз.
– Это была Дора Мейсон, – пояснил Укридж, потряся в ответ внушительной рукой. – Секретарша-компаньонка моей тетки. Я иногда общался с ней, пока жил в Уимблдоне. Старик Таппи снабдил меня парочкой билетов на представление в «Аполлоне», ну я и подумал, что будет добрым поступком пригласить с собой ее. Мне жаль эту девушку. Мне жаль ее, старый конь.
– А что с ней такое?
– Она ведет серую жизнь. Ни удовольствий, ни развлечений. Иногда побаловать ее – это истинный акт милосердия. Ты только представь себе! Весь день напролет расчесывать чертовых пекинесов и перепечатывать гнусные романы моей тетки.
– А твоя тетка пишет романы?
– Сквернейшие в мире, малышок, сквернейшие в мире. Она была по жабры в литературе с тех пор, как я себя помню. Ее как раз избрали председательницей Клуба Пера и Чернил. Собственно говоря, когда я жил у нее, меня сгубили ее романы. Она завела манеру отсылать меня в постель с этими пакостями, а за завтраком задавала мне вопросы. Да, малышок, без преувеличений – за завтраком! Собачья жизнь! И я рад, что ей пришел конец. Плоть и кровь не выдерживали напряжения. Ну, зная мою тетку, скажу тебе без обиняков, что при мысли о бедненькой малютке Доре у меня сердце кровью обливается. Я знаю, каково ей приходится, и чувствую, что стал лучше, благороднее, ибо подарил ей этот мимолетный солнечный лучик. Жалею, что не могу сделать для нее больше.
– А почему бы не угостить ее чаем после театра?
– Непрактичный совет, малышок. Разве что улизнуть, не заплатив, но это чертовски трудно, когда кассирши следят за дверью точно хорьки, и ведь чай даже в самой захудалой кафе-кондитерской пробивает дыры в бумажнике, а я сейчас на полной мели. Но знаешь что? Я не против выпить с тобой чашку-другую, если тебе этого хочется.
– Нет, не хочется.
– Ну-ну! Побольше старого доброго духа гостеприимства, старый конь.
– Почему ты носишь этот омерзительный макинтош в разгаре лета?
– Не уклоняйся от темы, малышок. Я с одного взгляда вижу, что тебе необходимо выпить чаю. У тебя бледный и измученный вид.
– Доктора утверждают, что чай вреден для нервов.
– Да, возможно, в этом что-то есть. Ну, в таком случае я тебе вот что скажу, – продолжал Укридж, всегда без ложной гордости готовый уступить, – обойдемся виски с содовой. Завернем-ка в «Критерион».
Случилось это за несколько дней до Дерби, и лошадка по кличке Ганга-Дин (в честь известного водоноса, воспетого Киплингом) пришла третьей. Подавляющее большинство интеллигенции сохранило спокойствие, так как указанное копытное стартовало при ставке три к стам, но для меня его успех имел животрепещущее значение, ибо именно эту лошадь я получил по воле тотализатора в моем клубе после монотонной череды пустышек, восходивших к первому году моего членства там. И вот в честь своего триумфа я решил устроить неофициальный банкет для нескольких друзей. Позже я обрел некоторое утешение в мысли, что в число приглашенных я собирался включить Укриджа, но не сумел его найти. Впереди ждали мучительные часы, но хотя бы Укридж не подкрепился перед ними моим угощением.
Ни один духовный экстаз не достигает той высшей пронзительной силы экстаза, который сопровождает выигрыш на скачках, пусть даже третьего приза. Душевный подъем был столь велик, что с наступлением одиннадцати часов казалось глупо просто посиживать в клубе за разговорами. И еще глупее – пресно отправиться на боковую. Широким жестом я предложил, чтобы все мы вернулись домой переодеться, а затем, полчаса спустя, возобновили празднование за мой счет «У Марио», где музыка и танцы длятся до трех. И мы рассыпались в такси по нашим разнообразным жилищам.
Как редко в земной юдоли нас посещает предчувствие надвигающейся катастрофы! Входя в дом на Эбери-стрит, где мною снималась квартира, я мурлыкал веселый мотивчик, и даже обычно усмиряющий вид Баулса, моего домохозяина, с которым я повстречался в прихожей, меня не усмирил. Как правило, встречи с Баулсом действовали на меня, точно интерьер величественного собора – на истинно верующего богомольца, но в этот вечер подобные слабости были мне чужды.
– А, Баулс! – вскричал я дружески и лишь в самую последнюю секунду помешал себе добавить «честная твоя душа». – Приветик, Баулс! А знаете, Баулс, в клубном тотализаторе я вытащил Ганга-Дина.
– Неужели, сэр?
– Он, знаете ли, пришел третьим.
– Да, я почерпнул это из вечерней газеты, сэр. Поздравляю вас.
– Благодарю, Баулс, благодарю.
– Пораньше вечером заходил мистер Укридж, сэр, – сообщил Баулс.
– Неужели? Жаль, что он меня не застал. Я его разыскивал. Просто так заходил или ему что-то требовалось?
– Ваш фрачный костюм, сэр.
– Мой фрачный костюм, э? – Я беспечно рассмеялся. – Нет, он неподражаем! Никогда не угадаешь… – Жуткая мысль оглушила меня как удар по затылку, по прихожей пронесся ледяной ветер. – Но он ведь его не забрал, верно? – пролепетал я.
– А как же, сэр.
– Забрал мой фрак? – хрипло пробормотал я, хватаясь за стойку для шляп, чтобы не упасть.
– Он сказал, что все будет тип-топ, сэр, – пояснил Баулс с той тошнотворной терпимостью, с какой неизменно принимал все, что говорил или делал Укридж. Одной из величайших загадок моей жизни было поразительное отношение моего домохозяина к этому адскому псу. Он прямо-таки ластился к нему. Приличный типус вроде меня вынужден тихо благоговеть в присутствии Баулса, а пятно на роде человеческом вроде Укриджа может орать на него, перегнувшись через перила, и не услышать в ответ даже легчайшего упрека. Как тут не усмехнуться саркастически, когда речь заходит о равенстве всех людей.
– Он забрал мой фрак? – прохрипел я.
– Мистер Укридж сказал, что вы, конечно, ничего против иметь не будете, поскольку сегодня вечером фрак вам не нужен.
– Но он мне нужен, черт подери! – завопил я, забыв все правила хорошего тона. Еще ни разу я не позволял себе выругаться в присутствии Баулса. – Через четверть часа я «У Марио» угощаю ужином полдюжины друзей.
Баулс сочувственно прищелкнул языком.
– Что мне делать?!
– Быть может, вы разрешите мне одолжить вам мой?
– Ваш?
– У меня есть очень пристойный фрак. Подарок его сиятельства покойного графа Окстедского, у которого я служил много лет. Думается, он будет сидеть на вас как влитой, сэр. Его сиятельство был примерно одного с вами роста, хотя, пожалуй, чуточку похудощавее. Принести его, сэр? Он у меня в сундуке внизу.
Законы гостеприимства священны. Через пятнадцать минут у Марио соберутся шестеро бонвиванов, и что они будут делать при наличии отсутствия хлебосольного хозяина? Я слабосильно кивнул.
– Вы очень добры, – умудрился я выговорить.
– Ну что вы, сэр. Для меня это удовольствие.
Если он сказал правду, мне остается только радоваться, что хоть кто-то извлек удовольствие из ситуации.
В том, что покойный граф Окстедский действительно был чуточку похудощавей меня, я убедился, едва начал натягивать брюки. До того момента меня всегда восхищал тип стройного мелкокостного английского аристократа, но не прошло и пары минут, как я пожалел, что Баулс не служил у приверженца диеты, богатой углеводами. И еще я пожалел, что мода на фраки с бархатными воротниками, раз уж ей приспичило возникнуть, не продержалась на несколько лет дольше. Как ни тускл был свет в моей спальне, его яркости хватило на то, чтобы я содрогнулся, увидев себя в зеркале.
И тут я ощутил странный запашок.
– Здесь кажется душновато, Баулс?
– Нет, сэр, мне не кажется.
– А вы не замечаете непонятного запаха?
– Нет, сэр. Однако я удручен довольно сильным насморком. Если вы готовы, сэр, я вызову такси.
Нафталин! Вот какой запах я учуял. В такси он накатился на меня, как девятый вал. Всю дорогу до «У Марио» он окутывал меня точно туман, но всю свою полноту его благоухание обрело в тот миг, когда я вошел в вестибюль и снял пальто. Гардеробщик, вручая мне номерок, изумленно потянул носом, двое-трое людей, стоявших поблизости, поспешно покинули мои окрестности, а мои друзья, когда я присоединился к ним, высказали свое мнение с подкупающей дружеской откровенностью. С полным единодушием они без обиняков поставили меня в известность, что терпят мое присутствие только потому, что за ужин плачу я.
Ощущение прокаженности, порожденное этой беспощадной принципиальностью, заставило меня по окончании ужина подняться на балкон над залом, чтобы покурить в одиночестве. Мои гости весело танцевали, но подобные наслаждения были не для меня. К тому же мой бархатный воротник снискал множество насмешливых замечаний, а я человек с тонкой кожей. Скорчившись в безлюдном уголке балкона, окруженный изгоями, которых не допускали в зал, так как они были без фраков, я жевал сигару и брюзгливым взором наблюдал за праздничным весельем. Пространство, отведенное под танцующих, было переполнено, и пары то опасливо кружились, то беспощадно пролагали себе дорогу, используя партнершу в качестве тарана. Среди беспощадных таранщиков особенно выделялся человек крупного сложения, который искусно подражал паровому катку. Он танцевал мощно, энергично, и едва он устремлялся вперед, как на его пути тут же возникала брешь.
С самого начала в этом человеке чудилось что-то знакомое, но из-за его оригинальной скорченной манеры танцевать, которая, казалось, воспроизводила манеру мистера Джеймса Д. Джеффриса передвигаться по рингу, увидеть его лицо мне выпало не сразу. Но затем музыка оборвалась, он выпрямился, чтобы похлопать в ладоши, требуя повторения, и мне открылись его гнусные черты.
Это был Укридж! Укридж, чтобы черт его подрал, в моем фраке, облегавшем его с такой элегантностью, без единой морщинки, что он вполне мог сойти со страниц романа Уйды, живописующего высший свет. До этой секунды до меня толком не доходил смысл выражения «безупречный фрак». Со страстным воплем я взвился из своего кресла и, окруженный густым ароматом нафталина, устремился к лестнице. Как Гамлет по куда меньшему поводу, я жаждал сразить этого предателя, пока он в грубом пресыщенье пребывает, пока его грехи цветут, как май, пока он пьян, в кощунстве иль в непотребстве, то путь ему на небеса закроют.
– Но, малышок, – сказал Укридж, оттесненный в угол фойе вдали от суетной толпы, – будь же благоразумен.
Я очистил свою грудь от доброй толики губительного груза, обременяющего сердце.
– Но откуда мне было знать, что тебе понадобятся эти тряпки? Взгляни на случившееся с моей позиции, старый конь. Я знал тебя, малышок, как доброго истинного товарища, который с восторгом одолжил бы закадычному другу свой фрак со всеми принадлежностями в любое время, когда они бы не требовались ему самому, а поскольку, когда я зашел к тебе домой, тебя там не было, то попросить тебя одолжить их мне я не мог, а потому, естественно, просто их позаимствовал. Маленькое недоразумение, одно из тех, которые невозможно предвидеть. По счастью, как я вижу, у тебя был в запасе еще один, и, значит, в конце концов все прекрасно уладилось.
– Не думаешь же ты, что этот пакостный маскарадный костюм – мой?!
– Неужели нет? – изумился Укридж.
– Собственность Баулса. Он мне его одолжил.
– И ты в нем удивительно хорош, малышок, – сказал Укридж. – Провалиться мне, если ты не смахиваешь на герцога или кого-нибудь там еще.
– И от меня разит, как от лавки старьевщика!
– Вздор, мой милый старый малышок, вздор. Всего лишь легкий намек на приятно-ароматное антисептическое средство. Только лишь. И мне он нравится. Очень бодрит. Нет, правда, старичок, просто поразительно, как ты выглядишь в этом костюме. Исполненным достоинства. Вот слова, которые я искал. Ты выглядишь исполненным достоинства. Тут все девушки только это и твердят. Когда ты сейчас шел поговорить со мной, я услышал, как одна из них прошептала: «Кто это такой?» Вот видишь!
– А может быть: «Что это такое?»
– Ха-ха-ха! – разразился Укридж, стремясь улестить меня подхалимским смехом. – Чертовски хорошо! Дьявольски хорошо! Не «кто это такой?», а «что это такое?». Просто не понимаю, откуда у тебя что берется. Кошки-мышки, да будь у меня твой мозг… Но теперь, малышок, с твоего разрешения, я должен вернуться к бедной малютке Доре. Она, наверное, ломает голову, куда я делся.
Многозначительность этих слов на мгновение заставила меня забыть мой праведный гнев.
– Ты здесь с той девушкой, которую водил на дневное представление?
– Да. Мне немножечко повезло с Дерби, и я подумал, что сострадание требует пригласить ее провести где-нибудь приятный вечерок. Жизнь у нее такая серая!
– Естественно, раз она вынуждена постоянно тебя видеть.
– Кажется, переходим на личности, старый конь? – с упреком сказал Укридж. – Обидно. Но я знаю, на самом деле ты так не думаешь. На самом деле у тебя золотое сердце. Сколько раз я это говорил! Только и делаю, что говорю это. Суровая закаленная внешность, но сердце золотое. Это мои слова, не чьи-нибудь. А пока прощай, малышок. Завтра загляну к тебе и верну фрак с принадлежностями. Сожалею, что с ними вышло недоразумение, но ведь оно того стоило, верно, – право почувствовать, что ты помог скрасить жизнь бедной, свирепо угнетаемой малютке, почти не знающей удовольствий.
– Одно последнее слово, – сказал я. – Одна заключительная ремарка.
– Ну?
– Я сижу вон в том углу балкона, – сказал я, – и упоминаю этот факт исключительно, чтобы ты остерегся. Если, танцуя, ты окажешься под этим местом, я уроню на тебя тарелку. И если она тебя прикончит, тем лучше. Я бедный, свирепо угнетаемый малютка, и у меня в жизни мало удовольствий.
Из-за слабовольно-сентиментального отношения к традициям я воздержался и не оказал человечеству эту услугу. И если не считать того, что я метнул в него булочку – которая в него не попала, но по счастливой случайности угодила в того из моих приглашенных, который особенно оскорбительно фыркал на мой пронафталиненный костюм, – никаких карательных мер против Укриджа я не принимал. Но урони я на него фунт свинца, его вид, когда он на следующий день посетил меня, был бы менее сокрушенным. Он вошел в мою гостиную скорбной походкой человека, который в стычке с Судьбой потерпел поражение. Я уже приготовил в уме десяток преотличных язвительных словечек, но его тоскливый облик был таким, что я оставил их при себе. Упреки по его адресу были бы равносильны пляске на гробах.
– Бога ради, что стряслось? – спросил я. – Ты выглядишь как жаба в борозде, упомянутая поэтом Бернсом.
Он со скрипом сел и закурил одну из моих сигар.
– Бедная малютка Дора.
– Что с ней такое?
– Получила по шеям.
– По шеям? От твоей тетки, ты это имеешь в виду?
– Да.
– Но за что?
Укридж тяжко вздохнул:
– Злополучное стечение обстоятельств, старый конь, и в основном по моей вине. Я не сомневался, что все сойдет тип-топ. Видишь ли, моя тетка каждый вечер отправляется на боковую в половине одиннадцатого, и я подумал, что Дора ускользнет в одиннадцать через открытое окно, не закрыв его за собой, чтобы без помех пробраться назад, когда мы вернемся от Марио. И что же произошло? Кто-то из чертовых ослов, которые много на себя берут, – сказал Укридж в справедливом гневе, – взял да и запер чертово окно. Не знаю, кто это был. Подозреваю дворецкого. У него есть гнусная привычка поздно вечером обходить дом и запирать все, что под руку попадется. Провалиться мне, это немножко слишком множко! Если бы только люди перестали вмешиваться не в свое дело и не выглядывали бы, не вынюхивали…
– Так что произошло?
– Открытым мы оставили окно в посудомойной, и, когда мы вернулись сегодня утром в четыре часа, инфернальная рама не поддавалась никаким усилиям. Перспектива выглядела не очень, но тут Дора вспомнила, что окно в ее спальне открыто круглые сутки, и мы немножко взбодрились. Ее комната на третьем этаже, но я знал, где найти приставную лестницу, и сходил за ней, и приставил, и Дора как раз начала вспархивать по ней, легко и весело, черт дери, и тут кто-то посветил на нас огромным мерзким фонарем, и это оказался полицейский, желающий узнать, что мы тут делаем. В чем беда лондонских полицейских, малышок, почему они стали предметом общего осуждения и вошли в присловье? А в том, что все они до единого – любители подглядывать и подсматривать. Понять не могу, почему они не уделяют больше времени собственным делам! Ежечасно совершаются десятки убийств по всему Уимблдону, а этот типчик стоит, поигрывает своим инфернальным фонарем и интересуется, что мы тут делаем! И ведь не удовлетворился простым объяснением, что все в полном порядке, а с непохвальной настойчивостью перебудил весь дом, чтобы нас опознали.
Укридж умолк, и его выразительное лицо омрачилось воспоминанием о пережитых муках.
– Ну и? – спросил я.
– Сбылось.
– Что-что?
– Нас опознали. Моя тетка. В халате и с револьвером. И, короче говоря, бедная малютка Дора получила по шеям.
В сердце своем я не сумел осудить его тетку за то, в чем он явно видел свидетельство надменной и возмутительной тирании. Будь я девствующей тетушкой в годах и с твердыми правилами, я избавил бы себя от услуг секретарши-компаньонки, которая возвращается на насест всего на пару часов раньше молочного фургона. Однако Укридж явно нуждался в сочувствии, а не в сухом напоминании о взаимоотношениях нанимателя и нанимаемого, и я одолжил его парочкой «гм-гм». Казалось, «гм-гм» его несколько утешили, и он обратился к практической стороне ситуации.
– Так что же делать?
– Не вижу, что ты мог бы сделать.
– Но я обязан что-нибудь сделать. Из-за меня бедная малютка лишилась места, и я должен постараться, чтобы она снова его получила. Место препоганое, но обеспечивает ей хлеб с маслом. Как, по-твоему, Джордж Таппер не согласится подскочить и поговорить с моей теткой, если я его попрошу?
– Думаю, согласится. Другого человека с таким добрым сердцем в мире нет. Но сомневаюсь, что у него что-нибудь получится.
– Вздор, малышок! – сказал Укридж, чей непобедимый оптимизм мужественно восстал из бездны. – Я полностью полагаюсь на старичка Таппи. Сейчас же отправлюсь к нему.
– Да, конечно.
– Только одолжи мне на такси, старый конь, и я прибуду в министерство иностранных дел до часа дня. Даже если из этого ничего не выйдет, он, во всяком случае, разделит со мной свой обед. А я нуждаюсь в подкреплении сил, малышок, крайне нуждаюсь. Эта заваруха очень меня вымотала.
Три дня спустя, взбодренный ароматом жареной грудинки и кофе, я поспешил довершить свой туалет и, войдя в гостиную, обнаружил, что Укридж забежал позавтракать со мной, что входило в его дружеские привычки. Он вновь казался полным оптимизма и деловито орудовал ножом и вилкой, как того требовал его аппетит.
– Доброго утра, старый конь, – сказал он радушно.
– Доброго утра.
– Дьявольски хорошая грудинка. Лучше я не едал. Баулс сейчас поджаривает малую толику для тебя.
– Очень мило. Я бы выпил чашку кофе, если ты не против, чтобы я в ожидании расположился тут как дома. – Я начал вскрывать конверты, лежавшие возле моей тарелки, и вдруг заметил, что мой гость напряженно сверлит меня взглядом сквозь стекла своего как всегда перекошенного пенсне. – Что случилось?
– Случилось?
– Но ты же, – пояснил я, – смотришь на меня как рыба в последней стадии чахотки.
– Неужели? – Он отхлебнул кофе с преувеличенной беззаботностью. – Собственно говоря, малышок, я слегка заинтересовался. Вижу, ты получил письмо от моей тетки.
– Что-о?
Я взял последний конверт. Адрес был написан властным женским почерком, мне незнакомым. Я быстро вскрыл конверт. Укридж не ошибся. Датировано вчерашним днем, с предуведомлением «Вересковая вилла», Уимблдон-Коммон. Письмо гласило:
«Дорогой сэр, буду счастлива видеть вас у себя, если вы приедете по данному адресу послезавтра (в пятницу) в четыре тридцать.
Искренне ваша,Джулия Укридж».
Я ничего не понимал. Моя утренняя почта, приятная или прямо наоборот, доставляющая счет от торговца или чек от издателя, всегда отличалась простотой, прямотой и легкостью для понимания. Но эта эпистола поставила меня в тупик. Откуда тетка Укриджа узнала о моем существовании, и почему мой визит скрасит ее жребий, было выше моего понимания. Я тщетно ломал голову над ее письмом, будто египтолог над новонайденным иероглифом.
– Что она пишет? – осведомился Укридж.
– Хочет, чтобы я побывал у нее завтра в половине пятого.
– Чудесно! – вскричал Укридж. – Я знал, что она клюнет!
– О чем ты говоришь?
Укридж перегнулся через стол и ласково потрепал меня по плечу. Этот жест опрокинул чашку, полную кофе, но, думаю, намерения у него были самые лучшие. Он вновь погрузился в свое кресло и поправил пенсне, чтобы яснее меня видеть. Это зрелище словно бы переполнило его грудь честной радостью, и он внезапно разразился воодушевленный дифирамбом в духе какого-нибудь старинного барда, импровизирующего хвалу своему вождю и нанимателю.
– Малышок, – сказал Укридж, – если есть что-то, чем я всегда в тебе восхищался, так это твоя неизменная готовность выручить друга. Одно из самых замечательных качеств, каким только может быть наделен типус, а у тебя оно превосходит всякое вероятие. В этом смысле ты просто уникум. Сколько раз люди подходили ко мне и спрашивали «Что он за типчик?», имея в виду тебя. «Каких поискать, – отвечал я. – Личность, на которую можно положиться. Человек, который скорее умрет, чем подведет вас. Типус, который пройдет сквозь огонь и воду, лишь бы оказать услугу товарищу. Индивид с золотым сердцем и натурой, несгибаемой, как сталь».
– Да, я великолепная личность, – согласился я, несколько ошарашенный таким панегириком. – Давай выкладывай.
– Я выкладываю, старый конь, – сказал Укридж с легким упреком. – Я пытаюсь сказать, что знал, с каким восторгом ты сварганишь для меня это маленькое дельце. И спрашивать тебя никакой необходимости не было. Я так и знал!
Жуткое предчувствие неумолимо надвигающейся катастрофы охватило меня, как уже столько раз охватывало при вторжении Укриджа в мою жизнь.
– Будь добр, объясни, в какую еще чертовщину ты меня втянул?
Укридж взмахом вилки осудил мою горячность. Он заговорил мягко, с обаятельной убедительностью.
– Сущий пустяк, малышок. Более чем. Просто малюсенькое доброе дело, и ты будешь мне благодарен, что я открыл перед тобой возможность совершить его. Как я мог бы предвидеть, этот осел Таппи оказался сломанной соломинкой. То есть в смысле Доры, ты понимаешь. Не добился ни малейшего результата. Он отправился к моей тетке позавчера и попросил ее вернуть Дору, и она его отбрила. Ничего удивительного. Я никогда на Таппи не полагался. Послать его туда было вопиющей ошибкой. В подобном щекотливом деле лобовой атакой ничего не добьешься. Тут нужна стратегия. Необходимо нащупать уязвимое место противника и атаковать там. Ну, а где искать уязвимое место моей тетки, малышок? Где оно? Подумай! Поразмысли, старый конь!
– Судя по звуку ее голоса в тот единственный раз, когда я оказался в ее окрестностях, их у нее нет.
– Вот тут-то ты и ошибаешься, старый добрый малышок. Подберись к ней со стороны ее гнусных романов, и малое дитя сможет есть из ее рук. Когда Таппи меня подвел, я закурил трубочку и хорошенько поразмыслил. И тут меня осенило. Я пошел к моему другу, отличнейшему типусу (ты его не знаешь, я вас как-нибудь познакомлю), и он написал моей тетке письмо от твоего имени: нельзя ли тебе посетить ее и взять интервью для «Женской Сферы». Это еженедельник, постоянной подписчицей которого она, как мне известно, состоит. Теперь слушай, малышок, и не перебивай. Я хочу, чтобы ты понял всю дьявольскую тонкость этого плана. Ты отправляешься туда, интервьюируешь ее, и она просто тает. И в диком восторге от тебя. Конечно, тебе понадобится убедительно изобразить Преклоняющегося Ученика, но для тебя это чистые пустяки. Ты хорошенько ее умаслишь, она замурлыкает, как динамо-машина, а ты встаешь, чтобы удалиться. «Ну, – говоришь ты, – это самое замечательное событие в моей жизни: встреча с той, чьи произведения так долго меня восхищали». А она отвечает: «Все удовольствие на моей стороне». А когда вы еще немножко пообливаете друг друга патокой, ты скажешь небрежно, будто тебе это только сейчас пришло в голову: «Да, кстати, если не ошибаюсь, моя кузина… или сестра (нет, лучше обойдись кузиной!)… если не ошибаюсь, моя кузина Дора Мейсон – ваша секретарша, не так ли?» «Да ничего подобного, черт подери, – отвечает моя тетка. – Я ее выгнала три дня назад». Это служит сигналом для твоей коронной сцены, малышок. Лицо у тебя вытягивается, выражает страдание, ты жутко расстроен. И начинаешь упрашивать ее вернуть Дору. А вы к этому времени уже такие закадычные друзья, что она не в силах ни в чем тебе отказать. Вот так. Мой милый старый малышок, уж поверь мне! Если ты не потеряешь головы и сыграешь Преклоняющегося Ученика достаточно убедительно, все будет тип-топ. Непробиваемый план. Ни единой слабины.
– Одна имеется.
– Думаю, ты ошибаешься. Я все тщательнейше продумал. Так какая?
– Слабина в том, что я к твоей инфернальной тетке и на сто шагов не подойду. Так что можешь отправляться к своему дружку, специалисту по подделыванию чужих писем, и сообщить ему, что он напрасно потратил лист хорошей писчей бумаги.
О тарелку звякнуло упавшее пенсне. Через стол на меня заморгали два удрученных глаза. Стэнли Фиверстоунхо Укридж был ранен в самое сердце.
– Да неужели ты хочешь сказать, что решил бросить это дело? – сказал он тихим дрожащим голосом.
– Я за него еще и не брался.
– Малышок, – сказал Укридж проникновенно, упираясь локтем в последний кусок своей грудинки, – я хочу задать тебе один вопрос. Только один простенький вопрос. Ты когда-нибудь меня подводил? Был ли хоть один случай на протяжении нашей долгой дружбы, когда бы я понадеялся на тебя и был бы обманут? Ни единого!
– Всему бывает начало. И я начну сейчас.
– Но подумай о ней. Дора! Бедная малютка Дора! Подумай о бедной малютке Доре!
– Если это научит ее в будущем держаться от тебя подальше, она в конечном счете только выиграет.
– Но, малышок…
Вероятно, в моем характере таится какая-то роковая слабость, или же тот сорт грудинки, которую поджарил Баулс, обладал особым умягчающим свойством, но в любом случае, добрые десять минут оставаясь непреклонным, я встал из-за стола, связав себя обязательством, против которого восставали все фибры моего существа. Но в конце-то концов, в тяжелое положение попала девушка. Дух рыцарственности. Наш долг – протягивать руку помощи при всяком удобном случае, пока мы пребываем в нашей земной юдоли и все такое прочее. И в четыре часа на следующий день можно было видеть, как я погружаюсь в такси и называю шоферу адрес: «Вересковая вилла», Уимблдон-Коммон.
Чувства, с которыми я переступил порог «Вересковой виллы», можно уподобить только тем, которые охватили бы меня при свидании с дантистом, который по странной прихоти судьбы был бы еще и герцогом. С той секунды, когда дверь открыл дворецкий супербаулсовского достоинства и, оглядев меня с плохо скрытой неприязнью, повел по длинному коридору, я пребывал в тисках страха и смирения. «Вересковая вилла» входит в число наиболее величественных уимблдонских особняков. Сколь величаво высятся они, как выразилась поэтесса миссис Хеманс. После смиренной серости Эбери-стрит «Вересковая вилла», откровенно говоря, ввергла меня в трепетное благоговение. Ведущей темой в ней была предельная прибранность, которая словно насмехалась над моим мятым воротничком и осуждала мои пузырящиеся на коленях брючины. Чем глубже я проникал в дом по блистательно натертому паркету, тем яснее мне становилось, что я – жалкое отребье и мне не мешало бы подстричься. Выходя из дома, я и не подозревал, какие длинные у меня волосы, но теперь я, казалось, был весь обвешан свалявшимися непотребными патлами. Заплатка на моем левом ботинке, выглядевшая очень симпатично на Эбери-стрит, теперь пятнала пейзаж. Нет, я не чувствовал себя непринужденно, а когда мне пришла в голову мысль, что через минуту-другую мне предстоит встретиться лицом к лицу с теткой Укриджа, этой легендарной фигурой, меня преисполнило тоскливое восхищение прекрасной душой того, кто терпит подобное, лишь бы помочь девушке, которой он даже не был представлен. Сомнений быть не могло – факты говорили сами за себя, – я был чуть ли не самым великолепным типусом, с каким мне довелось повстречаться. Тем не менее, как ни крути, брюки пузырились у меня на коленях.
– Мистер Коркоран, – доложил дворецкий, открывая дверь гостиной. Произнес он эти слова с интонацией, не оставлявшей сомнения, что он снимает с себя всякую ответственность. Раз уж я приглашен, дал он ясно понять, то его долгом, пусть и омерзительнейшим, было проводить меня в гостиную, но теперь он умывает руки.
В гостиной наличествовали две дамы и шесть пекинесов. С пеками я свел краткое знакомство во время их ускоренного курса обучения в Укриджском Собачьем Колледже, но они как будто меня не узнали. Случай, когда они угощались обедом за мой счет, как будто изгладился из их памяти. Они по очереди подходили, нюхали и удалялись, словно мой букет их не вдохновил. Они, казалось, давали понять, что солидарны с дворецким в его оценке молодого визитера. И я остался один на один с дамами.
Из них (читая справа налево) одна была высокой костлявой особой женского пола с ястребиным лицом и каменными глазами. Другая, на которую в тот момент только мимоходом взглянул, была невысокой и, показалось мне, приятной наружности. У нее были глянцевые волосы, чуть припудренные сединой, и кроткие молочно-голубые глаза. Она напомнила мне кошку благородного происхождения. Я принял ее за гостью, заглянувшую выпить чашечку чаю. И свое внимание я сосредоточил на ястребихе. Она смотрела на меня пронизывающим пренеприятнейшим взглядом, и я подивился ее точному сходству с портретом, который сложился у меня в уме от рассказов Укриджа.
– Мисс Укридж? – осведомился я, скользя к ней по ковру и ощущая себя новичком на ринге, чей менеджер вопреки его возражениям устроил ему встречу с чемпионом в тяжелом весе.
– Мисс Укридж – это я, – сказала вторая дама. – Мисс Уотерсон, мистер Коркоран.
Это был шок. Но едва миг удивления миновал, на меня снизошло что-то вроде душевного спокойствия – впервые с той минуты, как я вошел в этот дом скользких ковров и презрительно-надменных дворецких. Каким-то образом Укридж внушил мне, что его тетка была воплощением сценической тетки – сплошной жесткий атлас и поднятые брови. А эта полпорция с кроткими голубыми глазами, казалось, была мне вполне по силам. Я не мог понять, почему Укриджу она внушала такой ужас.
– Надеюсь, вы не против, если мы побеседуем в присутствии мисс Уотерсон? – сказала моя гостеприимная хозяйка с чарующей улыбкой. – Она заглянула обсудить частности в организации бала Клуба Пера и Чернил, который мы намереваемся вскоре дать. Она будет тише мыши и не станет нас перебивать. Вы не возражаете?
– Нисколько, нисколько, – ответил я с присущим мне обаянием. Не будет преувеличением сказать, что в эту минуту меня переполняло снисходительное благодушие. – Нисколько, нисколько. О, нисколько.
– Прошу, садитесь.
– Благодарю вас, благодарю вас.
Ястребиха удалилась к окну, оставив нас тет-а-тет.
– Вот мы и устроились очень уютно, – сказала тетка Укриджа.
– Да-да, – согласился я. Черт подери. Эта женщина мне все больше нравилась.
– Скажите, мистер Коркоран, вы сотрудник редакции «Женской Сферы»? – осведомилась тетка Укриджа. – Это одна из любимейших моих газет. Я читаю ее каждую неделю.
– Внешний сотрудник…
– Как так – внешний?
– Ну, в редакции я не работаю, однако главный редактор иногда дает мне то или иное поручение.
– Ах так! А кто сейчас там главный редактор?
Благодушия у меня поубавилось. Разумеется, она просто поддерживала разговор, стараясь, чтобы я почувствовал себя непринужденно, но все равно я предпочел бы, чтобы она прекратила засыпать меня вопросами. Я тщетно рылся в уме в поисках фамилии – любой фамилии, но, как всегда в подобных случаях, все английские фамилии вылетели у меня из памяти.
– Ну конечно же! Я вспомнила! – к моему величайшему облегчению, сказала тетка Укриджа. – Мистер Джевонс, не правда ли? Я познакомилась с ним на банкете.
– Джевонс, – пробулькал я. – Совершенно верно, Джевонс.
– Высокий, со светлыми усами.
– Относительно высокий, – уточнил я.
– И он послал вас проинтервьюировать меня?
– Да.
– Так о каком моем романе вы хотели бы поговорить со мной?
Меня охватило блаженное облегчение. Наконец я почувствовал под ногами твердую почву. И тут до меня внезапно дошло, что Укридж, верный себе, не потрудился сообщить мне название хотя бы одного ее романа.
– Э… о них обо всех, – поспешил я сказать.
– Ах так! Вообще о моем литературном творчестве?
– Вот именно, – сказал я, испытывая к ней прямо-таки нежность.
Она откинулась в кресле, сложила кончики пальцев, и на ее лице появилось выражение милой задумчивости.
– Вы полагаете, читательницам «Женской Сферы» будет интересно узнать, какой из своих романов я предпочитаю остальным?
– Я в этом убежден.
– Разумеется, – сказала тетка Укриджа, – автору не просто ответить на подобный вопрос. Видите ли, бывают настроения, когда любимой кажется одна книга и почти сразу же – другая.
– О да, – ответил я. – О да.
– А какая из моих книг вам особенно нравится, мистер Коркоран?
Тут меня сковала беспомощность, как бывает в кошмарах. Из шести корзин шесть пекинесов не спускали с меня шесть пар немигающих глаз.
– Э… О, все они, – услышал я осипший голос. Предположительно, мой голос, хотя я его не узнал.
– Это восхитительно, – сказала тетка Укриджа. – Нет, другого слова я не нахожу. Восхитительно! Два-три критика утверждали, будто мое творчество неровно. Так мило встретить кого-то, кто с ними не согласен. Сама я, пожалуй, предпочитаю «Сердце Аделаиды».
Я кивнул, одобряя этот взвешенный вывод. Мышцы, вздувшиеся горбом у меня на спине, начали расползаться по своим законным местам. Я обнаружил, что снова дышу.
– Да, – сказал я, задумчиво сдвигая брови. – Пожалуй, «Сердце Аделаиды» – самый лучший ваш роман. В нем столько человечности! – добавил я для верности.
– Вы его читали, мистер Коркоран?
– О да!
– И он правда вам понравился?
– Чрезвычайно.
– А вы не думаете, что местами он излишне смел?
– Крайне несправедливый упрек! – Я нащупал верный путь. Не знаю почему, но я полагал, что ее романы того сорта, каким изобилуют библиотеки на курортах. Они же, очевидно, принадлежали к другому классу женских романов – тому, на который библиотеки накладывают запрет.
– Конечно, он написан честно, бесстрашно и показывает жизнь такой, какая она есть, – продолжал я. – Но излишне смел? Нет-нет!
– А сцена в оранжерее?
– Лучшая в книге, – заявил я без колебаний.
На ее губах заиграла польщенная улыбка. Укридж был прав. Расхвалить ее книги – и малое дитя сможет есть из ее рук. Я поймал себя на сожалении, что не прочел эту вещицу, а потому не могу коснуться всяких частностей и сделать ее еще более счастливой.
– Я так рада, что он вам нравится, – сказала она. – Право, это большая поддержка.
– О нет, – скромно пробормотал я.
– О да. Потому что, видите ли, я только сейчас начала его писать. И сегодня утром завершила первую главу.
Она по-прежнему улыбалась так мило, что весь ужас этих слов дошел до меня не сразу.
– «Сердце Аделаиды» – это мой следующий роман. Сцена в оранжерее, которая вам так нравится, находится примерно на середине. Думаю, что дойду до нее где-то в конце следующего месяца. Как странно, что вам она так хорошо знакома!
Вот теперь до меня дошло, и ощущение совпадало с тем, какое испытываешь, когда садишься, а под тобой вместо стула оказывается пустое пространство. Почему-то мне стало еще больше не по себе из-за того, что она говорила все это так мило. В своей деятельной жизни я нередко чувствовал себя дураком, но никогда до подобной степени. Жуткая баба играла со мной, водила за нос, наблюдала, как я трепыхаюсь, будто муха на липкой ленте. И внезапно я понял, что ошибся, посчитав ее глаза кроткими. Они были точно пара голубых буравчиков. Она смахивала на кошку, сцапавшую мышь, и за короткий миг, протянувшийся целую вечность, я понял, почему Укридж так ее страшится. Она бы напугала и любого киношейха.
– И еще одна странность, – журчала она. – То, что вы пришли проинтервьюировать меня для «Женской Сферы». Интервью со мной было опубликовано там всего две недели назад. Мне это показалось настолько странным, что я позвонила моей подруге мисс Уотерсон, главному редактору, и спросила ее, не произошла ли какая-нибудь ошибка. А она сказала, что никогда о вас не слышала. Вы когда-нибудь слышали про мистера Коркорана, Мюриэль?
– Никогда, – ответила ястребиха, пронзая меня уничтожающим взглядом.
– Как странно, – сказала тетка Укриджа. – Но с другой стороны, все это очень странно. Неужели вы уже уходите, мистер Коркоран?
Мои мысли были в хаотичном беспорядке, но одна была кристально ясной. Да, я ухожу. Через дверь, если сумею ее отыскать, а если не сумею – то через окно. И тому, кто попробует меня остановить, следует очень поберечься.
– Кланяйтесь от меня мистеру Джевонсу, когда его увидите, хорошо? – сказала тетка Укриджа.
Я боролся с дверной ручкой.
– И, мистер Коркоран! – Она все еще мило улыбалась, но теперь в ее голосе появилась та же нота, что и в том достопамятном случае, когда голос этот призывал Укриджа из глубин его коттеджа в Шипс-Крейе на встречу с Роком. – Будьте добры, передайте моему племяннику Стэнли, что я буду рада, если он прекратит подсылать ко мне своих друзей. Всего доброго.
Полагаю, в какой-то момент происходящего моя радушная хозяйка позвонила, поскольку в коридоре я узрел моего старого приятеля, тамошнего дворецкого. С помощью непостижимой телепатии, присущей его биологическому виду, он как будто успел узнать, что удаляюсь я, так сказать, не под развернутыми знаменами, ибо держался он теперь с суровостью тюремного надзирателя. Его рука словно чесалась от желания ухватить меня за плечо, а когда мы достигли парадной двери, он бросил тоскливый взгляд на тротуар, словно думая, какое это идеальное место для того, чтобы я приложился к нему с глухим стуком.
– Прекрасный денек, – сказал я, поддаваясь лихорадочному инстинкту бессвязно бормотать, который овладевает сильными мужчинами в минуты агонии.
Он не снизошел до ответа, и я, пока, пошатываясь, удалялся по залитой солнцем улице, ощущал на спине его взгляд.
«Очень темная личность. – Я словно услышал его голос. – И только благодаря моей предусмотрительности он не прихватил с собой серебряные ложки».
День был теплый, но недавние события невообразимо взбудоражили мои эмоции, и я прошел весь путь до Эбери-стрит пешком, причем с такой молниеносностью, что неторопливо шествующие прохожие смотрели на меня с жалостливым презрением. В полурасплавленном и измученном состоянии добравшись до своей гостиной, я узрел Укриджа, растянувшегося на диване.
– Привет, малышок, – сказал Укридж, протягивая руку за чашей с прохладительным напитком на полу возле дивана. – Я все ждал, когда ты вернешься. Хотел предупредить, что тебе больше не требуется интервьюировать мою тетку. Оказывается, у Доры на банковском счете была припрятана сотня фунтов, и ее пригласила в партнерши одна ее знакомая, владелица машинописного бюро. Я посоветовал ей не упускать такого случая. Так что с ней все в порядке.
Он испил из чаши и испустил удовлетворенный вздох. Наступило молчание.
– Когда ты об этом узнал? – наконец спросил я.
– Вчера днем, – ответил Укридж. – Собирался заскочить предупредить тебя, но каким-то образом из головы вылетело.
Возвращение Боевого Билсона
Это был крайне неприятный момент, один из тех, которые высекают морщины на лице и подергивают благородной сединой волосы у висков. Я глядел на бармена. Бармен глядел на меня. Присутствующее общество беспристрастно глядело на нас обоих.
– Хо! – сказал бармен.
Я очень сообразителен. И молниеносно понял, что он мне не симпатизирует. Это был крупный, обильный типчик, и его взгляд, встретившись с моим, дал недвусмысленно понять, что для него я – кошмар, ставший явью. Его подвижные губы слегка изогнулись, дав сверкнуть золотому зубу, а мышцы его могучих рук, крепостью не уступавших железу, слегка зазмеились.
– Хо! – сказал он.
Обстоятельства, поставившие меня в данное прискорбное положение, были нижеследующими. Творя рассказы для популярных журналов, которые в то время вызывали у стольких издательств столько сожалений, я подобно одному моему собрату-писателю сделал своей областью весь род человеческий. А потому сегодня я разделывался с герцогами в их замках, а завтра совершал поворот кругом и начинал зондировать угнетенные десять процентов на дне их трущоб. Разносторонний типус. В данный момент я творил довольно трогательную вещицу про девушку по имени Лиз, которая трудилась в лавочке, торгующей жареной рыбой на Рэтклифф-Хайуэй, и потому отправился туда в поисках местного колорита. Какой бы приговор потомки ни вынесли Джеймсу Коркорану, они не смогут сказать, что он когда-либо избегал неудобств, если дело касалось его искусства.
Рэтклифф-Хайуэй – весьма интересная магистраль, но в жаркие дни она вызывает жажду. Посему, побродив примерно час, я вошел в бар «Принц Уэльский», попросил пинту пивка, выпил кружку одним глотком, опустил руку в карман за звонкой монетой и обнаружил пустоту. Теперь я получил возможность прибавить к моим заметкам о лондонском Ист-Энде очередное наблюдение: очищение карманов там достигло степени высокого искусства.
– Крайне сожалею, – сказал я, улыбаясь умиротворяющей улыбкой и стараясь придать своему голосу обаятельное дружелюбие. – Оказывается, у меня нет денег…
Вот тут-то бармен и произнес свое «хо!», а затем вышел на открытое пространство через дверцу в стойке.
– Думаю, мне обчистили карманы, – сказал я.
– Думаешь, значит? – сказал бармен.
Он произвел на меня впечатление человека, чей характер претерпел изменения не в лучшую сторону. Годы общения с бессовестными гражданами, так и норовящими выпить на дармовщинку, угасили тот наивный юношеский энтузиазм, с каким он вступил на стезю барменства.
– Так я оставлю вам мою фамилию и адрес? – предложил я.
– А кому, – холодно осведомился бармен, – нужен твой непотребный адрес с фамилией в придачу?
Неизменно практичные, они сразу же хватают быка за рога. Он упер указательный палец в самую суть вопроса. Кому были нужны мой непотребный адрес и фамилия? Решительно никому.
– Я пошлю… – продолжал я, но тут слова сменились делами. Явно многоопытная рука ухватила меня за шею, другая сомкнулась на моих брюках чуть ниже поясницы, поток воздуха ударил мне в лицо, и я покатился по тротуару в направлении мокрой и неаппетитной канавы. Бармен – гигантская фигура на фоне грязно-белого фасада пивной – мерил меня мрачным взглядом. Думается, если бы он ограничился взглядом – пусть и в высшей мере оскорбительным, – я бы оставил дело без последствий. В конце-то концов право было на его стороне. Каким образом он мог заглянуть в мою душу и убедиться в ее снежно-белой чистоте? Но когда я кое-как поднялся на ноги, он не устоял перед соблазном и добавил еще парочку штрихов.
– Вот к чему приводит выпивка на дармовщину, – произнес он нестерпимо нравоучительным тоном – или так мне показалось.
Эти грубые слова невыразимо меня оскорбили. Я воспылал праведным гневом. И кинулся на бармена. Совсем забыв, что он может уложить меня одной рукой.
Секунду спустя он, однако, напомнил мне об этом факте. Не успел я атаковать, как неизвестно откуда взявшийся гигантский кулак опустился на мою голову. Я снова сел.
– Э-эй!
Я смутно понял, что ко мне кто-то обращается, причем не бармен. Этот атлет уже сбросил меня со счетов и вернулся к своим профессиональным обязанностям. Я поглядел вверх, и у меня возникло впечатление чего-то большого в голубом коверкоте, а затем меня поставили на ноги, как пушинку.
Моя голова начала проясняться, и я сумел сосредоточить взгляд на том, кто мне посочувствовал. И пока я его сосредоточивал, у меня возникло ощущение, что я уже где-то, когда-то видел этого человеколюбца. Рыжие волосы, блестящие глаза, внушительное телосложение… Так это же не кто иной, как мой старый друг Уилберфорс Билсон! Боевой Билсон, грядущий чемпион, которого я в последний раз видел, когда он выступал в «Стране Чудес» под эгидой своего личного менеджера Стэнли Фиверстоунхо Укриджа.
– Он вам вдарил? – осведомился мистер Билсон.
На этот вопрос мог быть только один ответ. Хотя мои умственные способности находились в некотором разброде, тут у меня сомнений не было.
– Да, он мне вдарил, – сказал я.
– Р-ры! – сказал мистер Билсон и немедленно проследовал в питейное заведение.
Я не сразу постиг всю значимость этого маневра. Моя интерпретация его внезапного ухода сводилась к тому, что мое общество ему приелось и он решил пойти и перекусить. И только когда из открытой двери хлынули звуки повышенных голосов, в душу мне закралось подозрение, что, приписав ему такую черствость, я был несправедлив к этому золотому сердцу. А когда последовало новое явление бармена, который вылетел наружу словно под воздействием какой-то необоримой силы и протанцевал через тротуар что-то вроде фокстрота спиной вперед, подозрение это превратилось в уверенность.
Бармен, как подобает человеку, который выполняет свои обязанности на Рэтклифф-Хайуэй, обладал твердой натурой. Заячья трусливость была ему чужда. Едва он успел завершить свои пируэты, как изящным движением потрогал правую скулу, произнес краткий монолог, а затем ринулся назад в свой бар. Дверь снова захлопнулась следом за ним, и этот момент, можно сказать, и послужил официальным началом последовавших событий.
Что именно происходило внутри указанного питейного заведения, я не видел, так как был еще слишком обессилен, чтобы войти и узреть собственными глазами. Но судя по звукам, там разразилось землетрясение, причем далеко не самое слабое. Создавалось впечатление, что вся стеклянная посуда в мире одновременно разлеталась вдребезги, население нескольких метрополий кричало в унисон, и я готов был поклясться, что стены здания ходили ходуном. И тут кто-то засвистел в полицейский свисток.
В трелях полицейского свистка есть особая магия. Они мгновенно обращают в штиль самый свирепый шторм. И громовой шум сразу стих. Стеклянная посуда прекратила разбиваться, голоса умолкли, и секунду спустя из двери, не соблюдая особых церемоний, появился мистер Билсон. Его нос слегка кровоточил, под глазом намечался фонарь, но в остальном с ним все, казалось, было в порядке. Он осторожно оглядел улицу справа и слева, а затем спуртовал к ближайшему углу. И я, стряхивая с себя остатки томности, овладевшей мной после соприкосновения с барменом, спуртовал ему вслед. Я сгорал от благодарности и восхищения. Я хотел настигнуть этого человека и поблагодарить его по всем правилам этикета. Хотел заверить его в моем неугасимом уважении. Кроме того, я хотел занять у него шестипенсовик. Мысль, что он был единственным во всем обширном лондонском Ист-Энде, кто мог бы одолжить мне деньги, чтобы не возвращаться на Эбери-стрит пешком, окрылила мои ноги.