Читать онлайн Байрон бесплатно
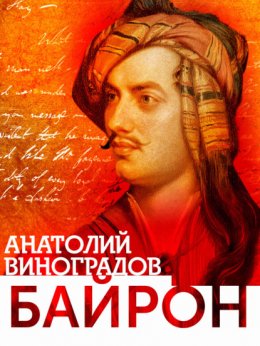
© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»
* * *
Первая ссора с миром
Пусть читатель перенесется воображением в Англию к зимним дням 1811 года и представит себе дорогу, покрытую снегом, а на ней большую карету, запряженную шестеркой почтовых лошадей, пусть он представит себе пассажира, бледного, с большими черными глазами, в зимнем плаще с пелериной, с меховой муфтой в зябнущих руках. Так читатель познакомится с человеком, о котором написана эта книга. Таким описывают Байрона люди, встречавшие его в этот день. Молодой лорд, вместо того чтобы ехать в собственном экипаже, едет с пассажирами в обыкновенном почтовом дилижансе. Ему двадцать три года. Он только что вернулся из путешествия по Востоку. Он ничем не знаменит. Одинок. Умерла мать, сломленная бременем непосильных долгов. Умер дальний родственник. От него молодой Байрон унаследовал полновесный баронский титул, легковесное наследство и развалины векового замка с холодным камином, протекающими потолками, столетним парком и ручным медведем.
Еще не успел молодой лорд войти во владение Ньюстедским аббатством, еще не успел запечатлеть громкими и звучными строфами новой поэмы свои впечатления от Европы, охваченной пожарами войн и революций, как ему пришлось выполнить первую обязанность лорда, вошедшего новичком в верхнюю законодательную палату, – выступить с первой, так называемой «девственной», парламентской речью. Среди многих вопросов, занимавших любого английского политика тогдашнего времени, молодому лорду легко можно было растеряться, если, конечно, он не безразлично относился к своему выступлению.
Но Англия того времени жила особенно напряженной политической жизнью. Потрясающие события Великой французской революции нашли себе отклики в английской общественности. Специфические английские экономические затруднения, связанные с наполеоновской блокадой и кризисом английского сбыта, приняли особо острый характер в связи с общеевропейским кризисом 1811 года. Помимо рабочих волнений в больших фабричных городах Англии, началось брожение умов и в средних классах английских городов. В самом Лондоне было раскрыто «Общество друзей конвента». Молодые аристократы из числа тех, кто не довольствовался спортом и домашними делами, охотно входили в такие организации, как «Гемпден-клубы», как бы присоединяясь к протесту старинного Гемпдена, который осмелился из принципиальных соображений отказать королю в платеже корабельного налога, установленного без согласия парламента. Однако чем шире развертывались военно-революционные события в Европе, тем реакционнее становилась Англия. Превратившись в центральный штаб европейских объединений против Бонапарта, ловко пользуясь чужими военными услугами, островная держава удерживала колоссальное владычество на морях и с особой бдительностью препятствовала проникновению новых мыслей и революционных идей в «милую старую Англию».
Байрон, три года не бывавший в Англии, перед поездкой на Восток успевший прочитать Вольтера, Руссо – энциклопедистов Франции, был уже человеком новой формации. Простое соприкосновение с военными событиями на территории Испании и Португалии, где английские войска под видом защиты пиренейской независимости соревновались с французскими в грабежах и угнетении испанских и португальских сел и городов, – уже это одно скептически настроило молодого Байрона по отношению к английскому оружию вообще. Вот почему мы не увидим Байрона патриотически настроенным, равнодушным лордом, выбирающим для первой парламентской речи безразличный объект. Наоборот, его выбор показывает и беспокойный ум и остроту взора, редко свойственные представителям аристократической молодежи Англии, в которых воспитанное чванство и въевшийся в кровь консерватизм тормозят всякое живое движение мысли. Байрон из всех вопросов, подлежащих обсуждению в палате лордов, выбрал вопрос о шестнадцатом, самом ярком, восстании ноттингемских ткачей.
Для того, чтобы выступить, Байрон считал необходимым обладать исчерпывающими материалами об этом восстании. Но перед ним оказались только официальные сообщения, суммирующие впечатление от побега полиции, от вызова войск, от выстрелов, виселиц и казней. Лорды Райдер и Эльдон полагали этот материал вполне достаточным для того, чтобы внести законопроект (билль) о применении смертной казни в качестве кары рабочим, выступающим против хозяев и ломающим ткацкие станки. Байрон этот материал полагал совершенно недостаточным, ибо он решил защищать право ткачей на труд и жизнь.
Такова была причина, заставившая молодого лорда выехать по зимней дороге из Лондона в Ноттингем.
Этой поездке предшествовала, правда, еще одна поездка, в Ньюстед, после которой Байрон очень насторожился.
По старым узаконенным обычаям парламента, всякий лорд, появляющийся в палате впервые, должен быть представлен одним или двумя старшими лордами, как новичок. Но такого лорда, который пожелал бы представить Байрона в палате, не нашлось. Байрон пришел один и умышленно с опозданием, прихрамывая, поднялся по лестнице и проследовал мимо негодующего спикера. В полутьме огромного зала раздавалась речь министра Персиваля. Байрон не сразу оглядел круги сидящих старых британских сановников. Красивый юноша спокойным взором обвел сотни Лиц и не спеша занял крайнюю левую скамью третьего ряда. Этот выбор встретили саркастическими улыбками: бедный лорд занял место на скамьях оппозиции. Вот он уже встал и, взглянув на карманные часы, решил, что двух минут вполне достаточно для первого визита в палату лордов. Потом из всей массы предложенных биллей он выбрал для своей вступительной речи билль о казни ткачей, и ушел. И вдруг, как бы вне всякой связи с этим выбором, Байрон внезапно получил предложение представить, в силу происходящей проверки полномочий, сведения о законности брака своего деда. Таким образом могло сорваться не только намеченное выступление по делу о ткачах, но был поставлен под угрозу самый вопрос о титуле Байрона, а следовательно и о том, может ли он вообще принимать участие в законодательстве страны. Работа по розыску необходимых документов стоила дорого и требовала времени. Денежные дела были плохи. Байрон поехал сам рыться в семейном архиве.
Пусть читатель вместе с Байроном ознакомится с этой грудой документов из ранней биографии «бедного лорда»…
Вот он обнаружил переписку матери, предшествующую разрыву с отцом. Там мать упрекала его отца, Джона Байрона, не только за себя, но и за леди Коньерс, первую жену Джона Байрона, которой «жилось не сладко» по тем же причинам, по каким плохо живется и ей, с тех пор как она из мисс Екатерины Гордон превратилась в леди Байрон – жену «самого беспутного из англичан, закруживших свою пьяную голову среди парижских вертопрахов».
Вот документ о рождении Августы Байрон 26 января 1784 года. И тут же письмо первой жены Джона Байрона, рожденной Коньерс, с упреками по адресу отца, даже не взглянувшего на новорожденную дочь. А вот письмо, переданное с оказией из французского города Валансьена, от Джона Байрона. Он пишет, что ему известно о рождении 22 января 1788 года сына Джорджа Гордона Байрона, он поздравляет свою супругу с этим событием; но по-видимому он не знает, что она живет в доме номер шестнадцать, на Холл-Стрит, неподалеку около Оксфорд-Стрит, и сообщает неверный адрес, по которому ее будет искать человек, отвозящий письмо. Джон Байрон жалуется, что совершенно разорен, что в Париже невозможно жить: «разрушена Бастилия, бунтует чернь, завладевшая властью». Политика и кредиторы выгнали Джона Байрона из Парижа. Джон Байрон просит денег. Но, увы, бедствия обрушились на госпожу Байрон; она тоже подсчитывает последние медные монеты, но она «не тратит их в игорных домах, и притонах Парижа с промотавшимися французскими аристрократами».
Джордж Гордон Байрон, откидывая пачки писем, вспоминает, что мать с ненавистью говорила о французском дворе, о нравах парижских дворян. Она оправдывала казнь Людовика XVI и со странным увлечением говорила о «вождях народа».
Следующие кипы писем: вот исполнительные листы, вот опись имущества. Мисс Екатерина Гордон оф-Гайт, считавшая себя праправнучкой Анны Изабеллы Стюарт, дочери Иакова I, короля шотландского, стала нищей.
Ее муж в 1791 году, скрываясь от долгов на чердаке у валансьенского булочника, умер. Лучше не возбуждать вопроса о наследстве, но надо воспитывать сына. На берегу Северного моря, там, где часто туман заволакивает горизонт и волны ударяют в меловой берег, в маленьком Абердине, госпожа Байрон поселилась с сыном.
Отец поэта умер тридцати шести лет, когда госпоже Байрон исполнилось двадцать шесть лет. Невзгоды и семейная жизнь и нездоровая наследственность сделали госпожу Байрон крайне раздражительной, а в порыве гнева доходящей до исступления. Нечто похожее на утробный паралич поразило сына, когда она бежала из Парижа в Лондон. Мальчик появился на свет хромой. Он прихрамывал всю жизнь той незаметной хромотой, которая субъективно переживается гораздо сильнее, нежели бросается в глаза постороннему наблюдателю. Мать деятельно стремится воспитать сына, но слишком многие обстоятельства колеблют ее семейный авторитет. По каждому поводу госпожа Байрон поднимает крик, сбегаются соседи, но это не прекращает воплей. Все более и более повышая голос, госпожа Байрон называет сына «выродком». Не стесняясь присутствием посторонних, она то и дело кричит, что леди Коньерс была «разводкой», что она бессовестно обманывала мужа. Родственники отказываются платить долги Джона Байрона, который «прокутил состояния двух жен и угрожает спокойствию всех родных». Дядя отца, лорд Вильям Байрон, не желает знать ни второй жены своего племянника, ни ее сына.
Все письма говорят о нищете. И ни намека на законность венчания деда его, «капитана бурь». Байрон слышал неоднократно, что Foulweather Jak был «беспорядочным человеком на суше и на море», может «действительно он не венчался с мисс Треварион», и тогда прощай политическая карьера поэта и лорда. Но если нет никакого намека в переписке отца, то, быть может, есть какие-нибудь указания в архиве дяди отца – Вильяма Байрона? Вот большие пергаменты, вот голубые кожаные портфели, но и в них ничего нет. Нечаянно попавшееся письмо из Франции, в котором отец дает едкий отзыв о характере матери: «она мила, но ни апостолы, ни ангелы не прожили бы с ней и двух месяцев, только я один мог выдержать это испытание». А вот перехваченное матерью письмо, в котором сын в письме к Августе упрекает мать за «неудержимую склонность к скандалам» и за то, что она не довольствуется в гневе словом «хромуша», но перечисляет все «преступления Байронов, совершенные от Вильгельма Завоевателя до наших дней». Портфели лорда Вильяма Байрона не содержат документов о дедовском венчании, но зато действительно похожи на скандальную хронику. Вот судебные папки лорда Вильяма Байрона. Нелюдимый и мрачный старик, однажды потеряв рассудок от неимоверного количества алкоголя, поссорился со своим родственником Чавортом и вынудил его принять такие условия дуэли, которые были похожи на убийство. Чаворт умер от раны. И только звание пэра Англии спасло лорда Вильяма. Он избег тюрьмы, но был исключен из палаты лордов и на всю жизнь удален в Ньюстед. Он ведет в родовом замке пьяный образ жизни. Он обижает окрестных жителей и слышать не хочет о маленьком Байроне. «Злой лорд», – эта кличка недаром бросалась вдогонку лорду Вильяму.
Перелистывая страницу за страницей, лист за листом и документ за документом, Байрон вспоминал себя в девятилетнем возрасте, когда красивая Мери Дефф с насмешкой принимала поклонение влюбленного «хромого мальчика», испытавшего и первое страдание сердца и повторное страдание оскорбленного самолюбия. Нянька Майа Грей долго не могла понять, чем обеспокоен ее девятилетний питомец, который сменил бурные порывы детской шалости на печальные уединенные прогулки по морскому берегу.
Каждая папка писем – годы детских воспоминаний. Каждый документ – свидетельство о бурной заносчивости и мрачной величавости характера предков. Моряки старинных фамилий, капитаны пехоты, полковники кавалерии, нормандские артиллеристы, кутилы, проглотившие в жизни неимоверное количество бочек можжевеловой водки, – все это выходцы из старинной Нормандии. Недаром отец поэта, «шалый Джек», так сдружился с нормандским выходцем, командовавшим французской гвардией, маршалом Бироном, у которого в силу дальнего родства бросил якорь «корабль шалого Джека». Байрон ни разу в жизни не видел своего отца.
А вот письма сестры Августы, которая рассказывает о возникновении дружбы с дальним родственником, сэром Лей. Мать была в ссоре с первой тещей своего супруга, августа жила у бабушки, леди Хольдернесс. Бабушка не желала знать госпожу Байрон, и только в четырнадцатилетнее возрасте, в 1802 году, школьник Байрон, увидел свою сводную сестру, когда леди Хольдернесс уже лежала на кладбище.
А вот документы, сообщающие о том, что при осаде Кальви в 1798 году сын «пятого лорда», Вильяма Байрона, убит, и вследствие этого шестой титул лорда Байрона неожиданно переходит Джорджу Гордону Байрону, школьнику из Абердина. С замиранием сердца красивый хромой школьник услышал впервые на классной перекличке, как надзиратель выкликнул его имя с прибавлением титула, и товарищи, неожиданно услышав об этой перемене, стали вытягивать шеи, чтобы поглазеть на нового лорда.
Байрон перелистал еще несколько папок, размышляя о том, что «это неожиданное титулование» все-таки совершилось, но странно, что у лорда Вильяма после убийства Чаворта не спрашивали документов о законном браке прадедов для удостоверения права на ношение титула, А ему – стоило только заняться для выступления в верхней палате вопросом о восстании ткачей, как немедленно последовал запрос о законности ношения титула и о праве заседать в палате лордов. Титул лорда, шестого барона из рода Байронов, ставшего пэром Англии, Джордж Гордон Байрон носит уже четырнадцать лет. И за все эти годы никто не оспаривал этого титула, пока в несчастном Ноттингемшире по деревням и лесным дорогам не появились трупы людей, умерших от голода, и скелеты ткачей, объеденных волками. Но ни одной мысли о том, чтобы отказаться от невыгодных поисков и перенести их на более благоприятное время, не появилось у Байрона. Можно было просто не выступать в намеченный день февраля 1812 года, а потом, восстановив полностью права на титул, заняться другим, более спокойным делом, нежели билль о казни ткачей. Но Байрон не свернул с дороги.
…Дожди, мокрый снег и холод вынудили его уйти из большой ньюстедской залы в другое помещение, маленькое и тесное. В антресолях нового Ньюстеда, где сорок восемь свечей языками пламени, колеблемого ветром, плохо освещали старые документы и новые письма, Байрон продолжал свои поиски с тем бешеным упорством, которое он оценивал в себе как наследство, полученное от предков.
Вот письма школьного директора доктора Глени, у которого он пробыл 1799 год и встретил новое столетие больным, так как нога даже ночью не давала покоя. Байрон мало учился и много читал. У доктора Глени была прекрасная библиотека. Помимо латинских авторов там было все, что касалось философии: книги Юма, Локка, Беркли, а также английские переводы Вольтера и Руссо. Там была даже вся многотомная французская энциклопедия: «Большой диксионер наук, искусств и ремесл».
Но вот нога поправилась, наступает 1802 год, и после нового увлечения дальней родственницей, Маргаритой Паркер, Байрон находит поверенного для своих тайн в лице своей старшей сестры. Знакомство было кратковременным, и дальнейшие отношения свелись к переписке. Надо было ехать для поступления в другую школу, в Гарроу, где усердно изучали латынь, греческий язык и английскую литературу. Однако лорд Вильям не только не желает принять участия в воспитании маленького Байрона, он не желает даже «знать о его существовании». Так, ставши лордом, юный Байрон остается «захудалым дворянином», болезненно самолюбивым, вспыльчивым, гордо затаившим житейские обиды и чрезвычайно чувствительным. Маленькая девочка Мери Дефф, затем Маргарита Паркер и наконец Мери Чаворт нарушают покой мальчишеского сердца до такой степени, что от меланхолической мечтательности у маленький Байрон переходит к бешеной раздражительности, если впечатления внешней жизни ранят его душу. В эти минуты мать, принимающая тайком от сына какого-нибудь краснощекого усатого фермера, кажется ему исчадием ада. Начинается ссора, которая сопровождается побегом в соседнюю аптеку: сын спрашивает, не просила ли его мать каких-нибудь сильных отравляющих средств. Старый аптекарь, смотря поверх очков, отрицательно кивает головой, не произнося ни слова-Он знает, что через минуту, подавляя одышку, к нему войдет полнокровная толстая дама и предложит тот же вопрос относительно своего сына.
На почве такой повышенной возбудимости возникла резкая, порывистая доброта Байрона к слабым и больным Товарищам в школе, на защиту которых он всегда выступал против сильных и грубых школьников. На этой почве возникло его болезненное ощущение человеческих страданий вообще. И это чувство осложнялось еще тем, что богатые школьники, дети новых фабрикантов и заводчиков, прекрасно одетые, никогда не нуждавшиеся в деньгах и проводившие время на спортивных площадках Гарроу, делали все, чтобы хромой четырнадцатилетний Байрон всегда чувствовал себя отстающим. Но если, плохо работает одна нога, то у красивого, хотя и не в меру толстого мальчика Байрона целы руки. И вот он начинает упражняться в плавании и становится прекрасным пловцом. Он завоевывает себе уважение товарищей, и когда насмешки по поводу его наследственной тучности больно стали колоть его самолюбие, он посадил себя на такую диету, какую при его спортивных увлечениях стрельбой, верховой ездой и плаванием не мог бы вынести никакой другой организм.
Так проходят годы в Гарроу. Адвокат Хенсон по поручению госпожи Байрон ведет дело о выделении части наследства и выигрывает большую сумму денег, около тридцати тысяч фунтов стерлингов. Сумма, вполне достаточная для среднего бюджета, однако не обеспечивает молодого лорда.
В октябре 1805 года Байрон поступает в кембирджский «Колледж св. троицы», бывший на положении высшего учебного заведения тогдашней Англии. Там наряду с прохождением наук и очень серьезным чтением Байрон присоединяет к своим спортивным увлечениям изучение бокса, карточной игры и «искусства неимоверного поглощения алкоголя». Между поездками в Соутвелл, неподалеку от Ноттингема, где жила его мать, и кабинетами Кембриджа Байрон занимается впервые писанием стихов. Уже в 1806 году в печати появляются тридцать восемь стихотворений под названием «Мелкие произведения» («Fugitive pieces»), – сборник, впоследствии тщательно скупаемый и уничтожаемый Байроном. А через год, ко дню бракосочетания Августы Байрон с драгунским полковником Ли, вышел второй сборник, в сорок восемь стихотворений, под названием «Стихи на разные случаи». Из этих сборников возникли так называемые «Часы досуга». Вот среди семейного архива томик этих стихов, а внутри вложена тетрадь, вырезанная из «Эдинбургского обозрения», с уничтожающей, непристойной руганью по адресу начинающего поэта. А вот и черновики, являющиеся ответом на критику «Эдинбургского обозрения». Первые сатирические стихи Байрона под названием «Английские барды и шотландские обозреватели». Байрон вспоминает, как первый сатирический размах мысли разбудил в нем дремавшего озорника и насмешника.
Часы досуга, проводимые теперь в Ньюстеде, теряют свой невинный характер. Окруженный друзьями, студентами Мэтьюзом, Гобгоузом, Далласом и Ходжсоном, Байрон то совершает налет на лондонские гостиницы, то, решив с товарищами наказать скучного лектора по греческой литературе, он вводит в лекторий огромного ручного медведя и вступает в пререкания с университетской прислугой на тему о том, имеет ли право этот «благонамеренный нечестный медведь получить образование в самом лучшем колледже в свободной Англии».
Так наступил 1808 год. Огромные семейные долги поглотили наследство. Лорд Вильям умер. Арендатор Ньюстеда, лорд Грей, покидая имение, увез все, что мог увезти; расплата с ним также потребовала напряжения средств. И как раз в то время, когда Байрон отпраздновал совершеннолетие, 22 января 1609 года, наступил внезапный срыв настроения. «Бумажные пули», как назвал Байрон нападки «Эдинбургского обозрения», посыпались на Байрона именно тогда, когда самонадеянный юноша, считая себя «королем жизни» смело смотрел вперед и не ждал никаких ударов. Но даже такая маленькая приписка на титульном листе «Часов досуга», как «Байрон Несовершеннолетний», – и та вызвала едкие нападки печати, когда через несколько месяцев уже совершеннолетний Байрон появился в Лондоне. Его кололи насмешливые взгляды. О нем говорили, как о бедном лорде, «желающем заработать литературой». А когда настал час официального включения его в состав палаты лордов и по традиции два старейших лорда должны были ввести молодого законодателя, – вместо этого официального водворения Байрон получил только печатный устав палаты лордов. Все это промелькнуло перед Байроном заново, когда он пытался разобраться в лапках и портфелях в поисках документа, удостоверяющего его право на законодательство.
Так в бесплодных поисках прошло несколько дней. Свидетельство венчания предка своим исчезновением развенчивало, потомка. Байрон нервно откидывал папку за папкой. Вот сборы в путешествие. Вот отъезд на Восток. Вот его собственные письма к матери и сестре. Вот наброски стихов по поводу ограбления лордом Эльжином афинских мраморных храмов. «Проклятие Минервы». И вот, наконец, его собственные письма из Фальмута, куда он приехал 11 июня 1809 года и где сидел перед выездом на Восток, в ожидании попутного ветра, со слугой Флетчером.
Весь архив перерыт, и никаких следов прадедовского венчания. И вот, бросив поиски в фамильном архиве, Байрон предпринимает дорогостоящие поездки всюду, где могли быть хоть какие-нибудь следы брачной записи Байронов по церквам Англии. В маленькой Корнвалийской церкви, где венчались все моряки, увозившие девушек за море, после долгих поисков, была найдена запись о венчании деда его лорда Байрона с некоей мисс Треварион. После проверки этого документа и длинных пересудов Байрон получил право на титул лорда.
Итак, в погоне за более обширными материалами для выступления по делу восставших ткачей, Байрон направился на место происшествия в Ноттингем. И он не раскаивался в поездке. Он видел нищету по деревням и селам, он слышал и знал, что за 1811 год две тысячи больших предприятий Англии объявили себя банкротами. В морях перехватывали хлебные грузы французский король и его союзники. Но совершенной новостью для Байрона была жизнь самого Ноттингема. Там, где еще недавно богатые крестьяне, фермеры, обитатели сел и деревень, получив из города шерсть и хлопок, работали дома на ручных станках, и потом сдавали работу городскому хозяину, лишь изредка вступая в артели в силу соседства или родственных связей, там наступила полная нищета. Ручные станки стояли без дела. Сельские ткачи и прядильщики побросали стой дома. Зато в городах, как Ноттингем, они жили сотнями в отвратительных бараках с земляным полом, со сточными канавами для нечистот, пролегающими через все клетушки этих страшных бараков. Это новая порода ткачей, пришедших из сел для работы под одной крышей ради того, чтобы объединиться перед громадными машинами, работающими паром. Что ни год, то машина становилась совершеннее. Вот станок, за которым один рабочий заменяет собой восемь добротных, хорошо зарабатывавших ткачей. Одна фабрика делает столько в один день, сколько, округ делал раньше в неделю. Голодные и оборванные, нагруженные четырнадцатичасовой работой, эти люди Ноттингема с ужасом смотрят на мир, ожидая, что завтра тихий голос из конторы объявит увольнение новой сотне и новой тысяче, а дальше – голодная смерть и самоубийство целых семей.
Тут неподалеку огромный Шервудский лес. Молва рассказывает о том, что там когда-то жил Робин Гуд – стрелок, защитник бедняков. Первые рабочие объединения связаны были с этой легендой. Из Шервуде кого леса ждали появления грозного и сильного мстителя за страдания рабочего люда. Называли его имя. Это был некий Нэд Лудд. Его помощники, его вестники, «луддиты», ходили по селам и городам Часто слышали в лесах и оврагах, на глухих дорогах и по берегам Трента ночную стрельбу, голоса и таинственную маршировку неведомого войска. В Манчестере неизвестные люди врывались на фабрику и тяжелым енохом, как называли кузнечный молот, разбивали станки, трубопроводы паровых машин и даже головы хозяев. Такие же таинственные люди четыре раза проникали в дома Ноттингема, требовали прекращения работы и распространяли таинственные письма из «Конторы Нэда Лудда в Шервудском лесу» в министерство внутренних дед. В местечке Арнольд разбиты енохом шестьдесят вязальных станков, принадлежавших одному из самых ненавистных предпринимателей. 4 ноября был такой случай: вязальщики собрались около Ноттингема, потом, надев маски, вошли с разных концов в город, ворвались в дома предпринимателей и потребовали восстановления в правах всех уволенных рабочих. Мало того, они указывали от имени того же Неда Лудда из Шервудского леса, что если установка новых «широких» станков будет сопровождаться увольнением рабочих, то пострадают не только станки, но и хозяева станков. Эти люди проходили по Ноттингему с песнями такого содержания: «Пусть пугаются виновники человеческих страданий, но честному труженику нечего бояться ни за жизнь, ни за имущество. Мы ненавидим только широкий станок, на котором хозяева выткали нам узкую плату. Смерть машинам, убирающим людей, и наш Лудд, ломая все преграды, исполнит приговор рабочей семьи».
Прошло два дня. По дороге из Сеттона на Басфорд поползли сквозь туман вереницы угрюмых крытых повозок Те же люди в масках подстерегли эти возы, остановили лошадей, разгрузили подводы, на которых оказались ненавистные «широкие» станки. Загорелись костры, загудели молоты. Лошади вернулись к удивленным хозяевам с облегченными возами, а замаскированные люди исчезли. И вот отчаянные депеши летят в Лондон. В парламентских регистрах значатся донесения агентов: «Невозможно описать состояние умов в этом городе в течение последних четырех-пяти дней: день и ночь парадными маршами идут войска. Разводы на маленьких площадях создают впечатление начавшейся войны. Луддиты переправились через реку Трент, вошли в селение Реддингтон, сломали там четырнадцать станков, оттуда пошли в Клифтон и разрушили там все станки, оставив в целости только два. Клифтонская полиция, перепуганная насмерть, отправила в Ноттингем извещение с просьбой послать эскадрон гусар. Но в Ноттингеме не могли собрать эскадрона. Послали сколько могли, исхитрившись так, чтобы одна часть гусар организовала погоню за луддитами, другая разбилась на мелкие отряды у всех переправ и бродов через Трент, чтобы помешать луддитам скрыться. Но это не помогло. Луддиты не растерялись. Лодки, тайно заготовленные по реке, перевезли их там, где всего меньше ожидали речные сторожа».
Сохранился другой документ: секретное донесение городского клерка Ноттингема министерству внутренних дел: «Наши рабочие притворялись доносчиками: и, получив за доносы установленную вами плату, они обращали деньги на защиту и спасение захваченных рабочих». А когда действительные доносчики выдавали рабочих, причастных к движению, то после этого они совершенно лишались возможности оставаться в Ноттингеме и вынуждены были переселяться в другие графства. Другой клерк в секретном донесение парламенту сообщает, что некая женщина из Ноттингема по дороге в полицейское управление, куда она шла для дачи показаний против луддитов, была замечена рабочими и просто горожанами, которые у самого входа в полицию бросились на нее с целью убить. Полиция оказалась бессильной, и только выстрелы военного патруля спасли жизнь доносчице. Судья Бейли боялся выносить приговоры. Владельцы ноттингемских фабрик осаждали Лондон жалобами на трусливого судью.
И вот как раз в это время лорд Байрон в целях, расследования приехал на место происшествия. Ему представилась странная картина. Голубая речка, рыжая глина и прошлогодняя зелень выглядывают из-под снега по обоим берегам навстречу скупым лучам зимнего солнца. Через мост, в красивых медных киверах с султанами, в красных мундирах, под звуки полкового оркестра и длинных индийских барабанов, проходят гвардейские гусары в пешем строю. Далеко на берегу Трента горят костры, белеют палатки из русской парусины, играют сигнальные трубы; флажки развеваются над прибрежными домами в доказательство того, что здесь находится штаб кавалерийских частей майора Стерджена, победоносно захватившего поселок на левом берегу Трента в целях охраны британской короны и спокойствия лордов Англии. Четыре пушки смотрят с холма на рабочие хижины и улицы, запруженные ткачами.
27 февраля 1812 года, в 4 часа пополудни, Байрон закрыл кожаный портфель с последней корректурой своей первой книги, выходящей в Англии после приезда его с Востока. Пара лошадей доставила его к указанному сроку в здание палаты. Скорее прикрывая бешенство, чем разыгрывая спокойствие, новый лорд вошел на трибуну. Проходя кулуарами, он уже слышал, что вопрос о казни рабочих предрешен, что никто из больших государственных деятелей не будет говорить о рабочем бунте и Ноттингемском графстве. Свидетели «девственной» речи Байрона говорят, что она поразила слушателей необыкновенной уверенностью и красотой своего построения.
Громко и уверенно прозвучала в палате лордов первая длинная фраза, произнесенная Байроном:
«Милорды, предмет, впервые представленный теперь на рассмотрение ваше, хотя и является новостью для этой палаты, однако вовсе не нов для нашей страны. Я даже думаю, что он вызвал самые серьезные размышления у граждан всех, классов еще до того, как привлек внимание вашего законодательного учреждения, а между тем только ваше вмешательство могло бы оказать делу своевременную и необходимую помощь».
Если бы Байрон, остановившись, посмотрел в сторону, где сидит лорд Холланд, он заметил бы резкое движение этого человека, показывающего министру Персивалю письмо Байрона от 25 февраля 1812 года. Там, между прочим, говорилось: «…я считаю ткачей людьми пострадавшими и принесенными в жертву выгодам нескольких предпринимателей, которые обогатились благодаря приспособлениям, лишившим массу ткачей их работы. Вот вам пример: с изобретением известного рода станка один человек в состоянии исполнить работу семи и, следовательно, шестеро остаются безработными. Следует еще принять во внимание, что полученный таким образом товар гораздо худшего качества; его почти невозможно сбыть на родине, и он быстро фабрикуется с видами на экспорт. Безусловно, милорд, как бы мы ни радовались прогрессу в области изобретений, который может быть полезен человечеству, мы не должны допускать, чтобы человечество приносилось в жертву техническим усовершенствованиям. Поддержка и достаток рабочей бедноты – дело гораздо большей важности для человечества, чем обогащение нескольких монополистов, какими бы то ни было усовершенствованиями в области техники, которые лишают рабочего куска хлеба и делают труженика человеком, не имеющим права на заработок… Причиной моего выступления против проведения билля является его явная несправедливость, несомненная бесполезность. Я – очевидец положения этих несчастных людей, и считаю это положение рабочих позором для цивилизованной страны. Можно осуждать их эксцессы, но нечего им удивляться. Последствием настоящего билля будет открытое восстание. Несколько слов, которые я намерен сказать во вторник, будут основаны на этих взглядах и наблюдениях, которые я собрал на месте. Я убежден, что наша предварительная, осведомленность водворила бы этих людей, на места их прежней работы, и страна успокоилась бы. Быть может, еще не поздно; во всяком случае стоит попытаться. Я полагаю, милорд, что вы не вполне согласитесь со мной в этом вопросе; я вполне искренне подчиняюсь вашему компетентному мнению и опыту, я проведу другую линию аргументации) против билля или буду совсем молчать, если найду последнее более разумным. Обсуждая поведение этих несчастных, я верю в существование бедствий, которые должны скорее вызвать чувство горя, чем стремление к наказанию. Я остаюсь с почтением, милорд, вашим покорным и обязанным слугой.
Байрон.
P. S. Может случиться, что вы, милорд, по прочтении письма сочтете меня слишком снисходительным по отношению к этим людям и назовете, пожалуй, „стачечником“.»
Байрон продолжал речь:
– Я слышу здесь мнение двух лордов. Я знаю, что лорд Эльдон и лорд Райдер внесли билль о применении вооруженной сильг и смертной казни. Они кричат, что «ткачи образовали тайное общество для уничтожения не только своего благосостояния, но и самих средств к нему». Но можете ли вы забыть, что в сущности это все представляет собой чистый результат английской политики, разрушительных войн последних восемнадцати лет? Эти войны уничтожили условия спокойного труда, они подорвали ваше благосостояние, они подорвали всеобщее благосостояние: Эта политика, лорды, родилась в Англии одновременно с применением положения «нет больше великих государственных умов!» Это безумная политика. Она пережила мертвецов, чтобы лечь печатью проклятия на живущих, и так, очевидно, будет в Англии в третьем и четвертом поколениях!
Последняя фраза особенно встревожила почтенных лордов. Десятки горящих глаз устремились на Байрона с выражением негодования, десятки старых и лысых голов вышли из полусонного состояния, забормотали, закивали; иные с тревогой, иные с ненавистью смотрели на говорящего, а он продолжал:
– Ведь до этих восстаний ткачи никогда раньше не ломали своих станков; они работали на них, работали до износа, и даже потом сами рабочие чинили свои станки, чтобы, износившись, станки не стали препятствием к работе, дающей насущный хлеб. Что же мудреного в том, что в наши времена, когда банкротство, злостное мошенничество и наглый обман встречаются на каждом шагу, даже в таком общественном слое, который, право же, господа лорды, ничем не отличается от положения здесь сидящих, что, говорю я, мудреного в том, что низшая, хотя в сущности говоря, самая полезная часть Англии, могла забыть, как говорите вы, забыть свой долг, впав в состояние тягчайшей нищеты. Однако эта рабочая масса, даже под угрозой нищеты, оказалась неизмеримо выше многих представителей вашего класса. Обратите внимание на то, что преступник из аристократов находит средство обходить законы, и в то же время придумывает новые изысканные репрессии, расставляет новые убийственные ловушки для этой несчастной, так называемой «физической силы», которая доголодалась до преступления! Эти люди хотели бы взрыхлить поле, но заступ оказался не в их руках. Они вышли на дорогу просить милостыню, – никто им не подавал. Их право на труд, их собственные средства к существованию были отняты, их руки повисли, так как никто не допустил их к работе. Так можно ли удивляться тому, что эти люди пошли по пути восстания, как бы ни сожалели их одни и как бы ни осуждали их другие!.. Я скажу вам, лорды, что сами владельцы предприятий спровоцировали разрушение своих станков. Начатое мною следствие основано на неопровержимых документах, и не имею ли я права потребовать, чтобы вы обратили всю систему ваших взысканий на этих провокаторов. Мне кажется правильным, чтобы нас не приглашали сразу, не изучив подробно всех обстоятельств, к обсуждению билля с поспешностью, ничем не обоснованной и противозаконной, чтобы нас не приглашали сразу предпринять массовые приговоры и апробировать казни, подписанные вслепую.
Вся палата зашевелилась. Люди всех политических оттенков с любопытством переспрашивали друг друга: – Кто говорит?
– Что это за новый оратор?
– Что это за перенесение революционных речей в палату пэров?
Фамилия оратора шепотами, хрипами прокатилась по скамьям из угла в угол, из одной стороны в другую. Лорд Райдер и сэр Гоксбери в негодовании рвали клочки бумаги, лорд Эльдон сидел красный, как рак, с глазами навыкат и, казалось, готов был растерзать Байрона в куски. А с трибуны гремела речь:
– …Я слышу здесь, что этих людей зовут «чернью», отчаянной, опасной и невежественной. Ясно ли вы отдаете себе отчет в том, насколько вы, здесь сидящие, обязаны этой самой «черни»? Эта «чернь» работает на ваших полях, она прислуживает в ваших домах; она управляет вашими кораблями, из нее набирается ваше войско; от того-то именно она и дает вам возможность угрожать всему миру. Но зато будет время, когда ваше пренебрежение к ее интересам, когда бедствия этого великого множества рабочего люда повергнет этот люд в отчаяние, и тогда это будет живой угрозой вам… Разве можно превращать в тюрьмы целые графства! Вы хотите воздвигнуть плаху на всех полях, вы уже вешаете людей, как копченую рыбу. Вы хотите восстановить Шервудский лес, как место для королевской охоты и как заповедник беглецов, объявленных вне закона. Этими мерами вы хотите избавиться от голодающего населения. Но когда смерть оказывается единственным избавлением для этих людей, неужели вы воображаете, что ваши драгуны могут обеспечить спокойствие Англии? Неужели вы думаете, что то, чего не могли сделать ваши гренадеры, сделают палачи? Авторы вносимого билля могут гордиться тем, что они унаследовали славу африканского царька, записывавшего свои узаконения кровью…
Чайльд Гарольд в Лондоне
Кто этот Байрон, выступающий с такой дерзкой речью?
В ответ на эту фразу, еще долго звучавшую в Лондоне, в одно прекрасное утро марта месяца 1812 года появилось объяснение, сразу заставившее по-новому говорить об авторе дерзкой речи. Вышли две первые песни «Странствований Чайльд Гарольда», которые сразу, по выражению самого Байрона, «застали его знаменитостью». Неожиданность этого успеха обусловлена была и формой и содержанием поэмы. Типичная с нашей точки зрения романтическая поэма была написана в старинной форме девятистрочной строфы, в которой чередуются рифмы.
1а 2б 3а 4б 5б 6в 7б 8в 9 в. Это сложное и трудное чередование рифмы так же действовало на воображение читателя, как действует на зрение подкинутая к небу стрельчатая арка из тяжелых гигантских камней.
Со стороны содержания новая поэма Байрона также интриговала и беспокоила читателей. Это была какая-то всемирная политическая география в стихах; в поэме не было ни завязки, ни развязки, ни классического построения сюжета. В «Странствованиях» описывались путешествия юноши (по-английски – child – юноша благородного происхождения, предназначенный к посвящению в рыцари). Но этот юноша, Гарольд, в отличие от обыкновенного английского туриста, имеет совсем иные, чем тот, побуждения для своих путешествий. Его не гонит политическое преследование, его не интересует путешествие с целью открытий, он не ищет удовольствий в ознакомлении с экзотическим бытом далеких стран. Одним словом, нет у него никаких целей. Он жертва своего внутреннего разлада, своего страшного разочарования, заставляющего бежать от самого себя, – вот причина его скитаний. Им, как впоследствии пушкинским Онегиным, «овладело беспокойство, стремленье к перемене мест». Недаром Пушкин, рисуя своих ранних героев, хотя бы кавказского пленника, говорил: «Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи девятнадцатого века». Пушкин полностью развернул этот характер, когда изображал своего Онегина – москвича в гарольдовом плаще. Потом эти дети Чайльд Гарольда, постепенно вырождаясь, мрачными тенями прошли по всей мировой литературе и сделались главными героями тех писателей, которые рисовали нам образ неприкаянного молодого человека, ищущего себе места в жизни.
Необходимо иметь в виду, что сам Чайльд Гарольд имеет довольно сложную и притом совсем не английскую литературную родословную. В 1774 году в Германии вышла книжка под названием «Страдания молодого Вертера». Ее автором был выходец из буржуазной семьи, ученый, философ, министр Веймарского герцога, впоследствии гениальный поэт и великий оппортунист в делах житейских – Иоганн Вольфганг Гете. За пятнадцать лет до Великой французской революции его книжка звучала страшной тоской, выросшей на сумрачной и безрадостной почве самой отсталой европейской страны. Страдания молодого Вертера, его уход из жизни, его представление о человеческом обществе, так похожем на тюрьму, стены которой разукрашены ландшафтами, оваренными солнцем, с широкими свободными горизонтами, – все это, как нельзя более, отвечало настроению молодой германской буржуазии, угнетаемой тупым и жестоким дворянством. Все это говорило о том, что молодые люди нового сословия понимают жизнь иначе, что им тесно в старых рамках феодального уклада. В них появилось сознание умственного превосходства перед дворянством. В отличие от людей, владеющих землями и крестьянским трудом, эти молодые и старые горожане трудились над организацией производств, они двигали науку, они создавали философские системы. Они знали, что люди родятся свободными и равными в правах, и с любовью повторяли слова Руссо о том, что все выходит прекрасным из рук творца и все портится в руках неумелого человеческого общества. Молодой Вертер заражен ядом религиозных сомнений. Он испытывает целый ряд неудач, и самая главная неудача – это сомнение в ценности жизни, так как природа одарила его чистейшими стремлениями к чистейшему счастью без возможности удовлетворить это стремление.
Не все молодые люди такого склада кончали так плохо, не все уходили из жизни. Соратник Гете, герцогский фельдшер Фридрих Шиллер, изобразил другого неприкаянного молодого человека – Карла Моора. Это был идеальный разбойник, разбойник благородный. Вся совокупность жизненных условий бросила его на большую дорогу. На этот раз – это уже выходец из семьи феодалов, который бросает вызов всему обществу. Опять писатель молодой буржуазии ищет для молодежи дорогу к будущему. В воздухе той эпохи носился этот протест, но он исходил не из той среды, которая была способна на железный закал классовой воли, на огромность коллективных действий.
На смену героям Шиллера, на смену Вертеру появилось новое издание неприкаянного молодого человека. Из Бретани, из замка с заплесневелым прудом и протекающими крышами, окруженного землянками без стекол, в которых крестьяне спят на прошлогодней листве, бежал от громов революции дворянин Шатобриан и начал скитальческую жизнь. Этот молодой человек был в Америке, скитался по глухим лесам в надежде найти уголок девственной и нетронутой человеком природы. Затем он эмигрировал в Англию, превратившуюся в штаб европейской контрреволюции, но там постепенно, под влиянием гигантских событий, стал критически относиться к своему сословию и вступил на путь поисков примирения с действительностью. Он почти был готов броситься в объятия суровым истинам революции, когда Наполеон Бонапарт сломал хребет французской республики.
Шатобриан опять попал не в тон. Он опоздал приобщиться к революционной идеологии, а теперь он опоздал понравиться первому консулу. Из политической карьеры молодого человека ничего не вышло, но он, нашел живой и очень своеобразный отклик в новом французском читателе. Шатобриан заговорил живым и горячим языком новой французской публицистики; это был сумбурный, недоработанный язык парижских секций, понятный мелкобуржуазной массе французских городов. Но вместо революционного содержания, вместо живых и свежих людей, Шатобриан преподносил утомленному и напуганному французскому обывателю сумбурно меланхолические чувства с прослойкой контрреволюционных политических размышлений и с явно реакционным стремлением восстановить нрава религии.
В одной из его книг мы находим рассказ о разочарованном скитальце Ренэ. Мы узнаем в герое рассказа «Ренэ» самого господина Шатобриана, но в отличие от своего героя, который «никогда не желал говорить о своих приключениях, хотя собеседникам очень хотелось узнать, какое горе привело знатного европейца к странному решению укрыться в пустыне Луизианы», автор гораздо болтливее. Мы узнаем, что он был непреклонного нрава и неровного характера. То шумливый и веселый, то молчаливый и грустный, он собирал вокруг себя своих юных товарищей, затем покидал их внезапно, потом наблюдал бегущие облака и слушал, как дождь пронизывает древесную листву.
Оказывается, это старый знакомый – это Вертер, но вместо его серого камзола мы видим меланхолический голубой сюртук с черным бархатным воротником и сапоги с желтыми крагами, хлыстик в руке, перчатки, верховую лошадь. Старый Вертер – состарившийся неприкаянный молодой человек, но вместо свежего и чистого весеннего мироощущения мы видим, что вокруг этого нового издания Вертера – признаки гниения, разложения. Ренэ страдает от не совсем здорового стремления к нему родной сестры, монастырский быт тянет его к морю, море тянет его к берету. Он нигде не находит себе покоя. В отличие от молодого Вертера, на которого склепом наваливается тяжелая действительность, сила которой непреодолима, этот новый Вертер, Ренэ, видит перед собой покорные и послушные обстоятельства жизни. Старый Вертер еще не успел вкусить меда и уже умирает. А Ренэ настолько пресыщен, что его не привлекают лучшие плоды жизни и деятельности, он бежит от самого себя, бежит без оглядки, и там, где новое человечество без всяких иллюзий шло на труд и на борьбу за лучшее будущее, он не находит для себя ничего достойного внимания. Это плохая и упадочная обида на мир; неблагородная и смешная ссора с историей заканчивает первый цикл истории молодого человека XIX столетия.
Прошло десять лет, и вот в Лондоне появился Чайльд Гарольд, полузагадочный скиталец, вовсе не склонный к слезливости и чуждый сентиментализма. Если на первых порах он кажется шалопаем и снобом, то это впечатление исчезает, как только юный бездельник начинает давать оценки огромным политическим событиям, происходящим на территории Европы. Он подвергает жесткой критике систему человеческих отношений, рабство восточных стран, ханжество и другие черты, возникающие под влиянием религии, он поражает читателя смелостью и неожиданностью мысли. И если он смотрит разочарованными глазами на все, что встречает по пути, то он делится с читателем причинами своего разочарования; он рассказывает о победах английского оружия в Испании и говорит:
- …пройдут года
- И все ж потомство, полное презренья,
- Позора не забудет тех вождей,
- Что, победив, узнали пораженье…
- Их ожидают в будущем глумленья
- И гневный приговор суда грядущих дней.
И далее:
- Так думал Чайльд, один бродя по горем;
- Тяжелых дум он здесь изведал много
- И пожалел, немой тоской объят,
- Что долго шел преступной дорогой;
- К проступкам он своим отнесся строго:
- От света истины померк Гарольда взгляд.
И далее:
- Гарольд вперед несется, очарован
- Красой холмов, ущелий и долин…
- Не горестно ль, что цепью рабства скован
- Тот светлый край?
Какую громадную эволюцию проделал молодой Вертер! Воплотившись в поручика Наваррского полка, он через десять лет уже не выдержал соприкосновения с действительностью, и его бегство от самого себя превращается в поиски действительности. Если откинуть иронические объяснения Байрона, что, дескать, его Гарольд является повторением бандита Зелуко, если откинуть вообще мистификацию Байрона, которая является опытом самозащиты, то мы увидим, что Чайльд Гарольд все больше и больше теряет неопределенные черты неопределенного героя и под конец превращается в самого автора. То, что впоследствии было названо второй песнью «Чайльд Гарольда», было вчерне закончено уже на берегах Малой Азии, в Смирне. Рукопись Байрона, представляющая собой черновые наброски того, что вышло в Лондоне в марте 1812 года, датирована: Смирна, 28 марта 1810 года.
Поэма, появившаяся 10, марта 1812 года во всех книжных магазинах Лондона безымянно, сразу сделала имя автора знаменитым. За 1812 год поэма выдержала пять изданий сразу.
В том же году Байрон еще дважды выступал в палате лордов, и оба раза неудачно. Он выступал в защиту закона о равноправии ирландских католиков. Дело в том, что с XVII века экономически обоснованная вражда Британских островов с засильем католической церкви на континенте не только приобретала заостренные формы, но и была окрашена моментами вражды национальной. Ирландцы, шотландцы и бритты в силу политического объединения числились в составе Соединенного королевства, но фактически были разъединены как системой управления, так и целым рядом религиозных, бытовые и внутринациональных признаков. Традиции католической церкви в Ирландии сохранились в среде фермеров, мелкопоместных дворян и горожан. Критика не отмечает встречи Байрона в дни возвращения его в Лондон с памфлетистом Коббедом, – это был редактор еженедельной газеты «Режистер». Этот публицист с негодованием рассказал Байрону о том, что принц регент и министры ведут возмутительную травлю ирландских солдат, которые, так же как и природные бритты, сражаются в рядах великобританской армии с Бонапартом. Эта травля ирландских солдат, запрещение повышать их в чинах, производить в офицеры объяснялась очень просто: король еще до своего сумасшествия заявил, что он «никогда не будет возвращаться к вопросу о даровании равноправия католикам».
В 1811 году выяснилось, что Георг III не может больше править Англией. Король обнаружил явные признаки полного помешательства, но так как он был еще жив, то его наследник и сын под именем регента приступил к управлению страной. Приобщил он к этому и специфическую среду аристократов и крупнейших буржуа, обновляя старые фамилии земельных дворян выходцами из среды крупных купцов-бандитов. В 1812 году религиозная рознь и чисто ирландские стремления к самостоятельности приводили к тому, что на фронте, в боевой обстановке, героические люди Ирландии, сражавшиеся против Наполеона, не получали повышения, равно как и солдаты, провинившиеся в боевой обстановке, получали телесное наказание только в тех случаях, если они были ирландцами.
Последующие речи Байрона, как мы сказали, не имели успеха в палате лордов. Ему было вменено в вину то, что памфлет Коббеда об ирландских католиках на фронте совпадает с его собственной речью. Да и мало ли еще с чем неприятным для англичан совпадает выступление Байрона. Вот сэр Френсис Бердет – депутат палаты общин – требует изменения избирательной системы Англии; он говорит, что города, населенные новыми людьми, прибывшими из деревень на фабрики, лишены права избирать депутатов в палату общин, в то время как местечки Англии, давно залитые водой моря, наступающего на старинные берега, по-прежнему сохраняют свои избирательные права, а так как здесь давно уже не может жить ни один человек, то ближайший лорд выплывает из своего поместья на лодке, чтобы с моря голосовать за угодных ему депутатов. Да и мало ли других, простых и сложных махинаций придумывает старая веселая Англия в тех случаях, когда ей необходимо поддержать старый порядок.
Если существует поговорка «семь раз отмерь и один раз отрежь», то Англия на основах неписаной конституции, защищающей всегда и в первую очередь частную собственность и богатого человека, говорит, что лучше семь тысяч раз отмерить, чем один раз отрезать хотя бы миллиметр благосостояния из километра богатства в пользу рабочего населения Англии. Неписаная конституция основана на «великой хартии вольностей» и других актах, среди которых теоретически не последнюю роль играет Habeas Corpus Act. Этот последний является тем поводом для хвастовства, который либералы разных стран выставляют как самое замечательное доказательство английской свободы. Согласно этому акту всякий гражданин, задержанный на улице при совершении преступления или где-либо в общественном месте, имеет право требовать в течение суток предъявления судебного обвинения или приказа об освобождении. По этому, акту никакое жилище не может быть подвергнуто ни вторжению полиции, ни вхождению какого бы то ни было постороннего лица. Эти прекрасные слова закона, как песни сирены, очаровывали политических деятелей либерального склада на всем протяжении истории XIX века. Но реальный комментарий к этому закону говорит, что Англия давно несвободная страна. Отмена этого акта о неприкосновенности личности производится всегда, когда предприниматель боится за свое имущество и когда он под видом спасения страны спасает свою банковскую наличность. Недаром депутат Шеридан, автор веселых и печальных драм «Школа злословия», «Соперники» и т. д., говорил в унисон с сэром Бердетом: «Отмена акта, неприкосновенности всегда производится под видом спасения страны в опасный период времени, и много красноречия расточается на избитую тему о якобинских принципах и скрытой измене. Наши министры всегда поют одну и ту же соловьиную песню и клевещут на стремления нации. Они изобретают обвинения в вероломстве и предательстве и в государственной измене. Это доказывает только одно: Англия в безумии распространяет устами своих министров химерическую тревогу, а на самом деле в стране нет никакого мятежного духа, а есть только справедливое негодование».
Если для Шеридана эти намеки прошли безнаказанно, то только потому, что они были сказаны с трибуны и не попали в печать. Сэр Френсис Бердет надумал напечатать эти страшные фразы. И вот возникает давно не практиковавшаяся в Англии попытка арестовать члена парламента. Спикер палат является к Бердету на квартиру и от имени парламента приказывает ему итти в тюрьму. Бердет круто разговаривает со спикером. Он говорит: «Палата сошла с ума», и без обиняков спускает спикера с лестницы. Вместо тюрьмы сэр Френсис Бердет является в парламент. Он берет слово вне очереди, и прежде чем его успевают схватить за руки, он вбегает по ступенькам трибуны и громко заявляет о несообразном с законами Англии желании отдельных депутатов, интриганов низкого сорта, подвергнуть неслыханному аресту законного депутата лондонского квартала. Не слыша криков, раздавшихся за его спиной, Бердет успевает вернуться к себе, а тем временем палата выносит постановление обязательно отправить в Тоуэр, в эту страшную, грозную башню, видевшую тысячи людей, обреченных на смерть, и этого «свободного, неприкосновенного депутата старой конституционной Англии». Трудно было, конечно, взломать прикладами запертую дверь его квартиры; тем более, что весь квартал встревожился по поводу такого решения.
– Знают ли солдаты в чем дело?. – спрашивает Бердет в форточку.
– Нет, им ничего не известно, – отвечают ему снизу.
Проходит три дня, сэр Бердет видит с чердака, как толпы людей, вооруженные предметами домашнего обихода – кочергами, топорами, кухонными ножами, – большими группами собираются к нему на выручку, раздаются воинственные клики, солдаты озираются дико по сторонам, окруженные лондонскими гражданами. Сердце Бердета не выдержало; он вызвал дежурного офицера, открыл ему дверь, оделся и добровольно пошел в тюрьму, чтобы не быть виновником кровопролития.
15 января 1811 года, как мы сказали, сумасшедший Георг III должен был передать королевскую власть своему сыну, будущему Георгу IV, который первоначально стал у власти под именем регента. Как ни слабо было влияние короля в феодально-капиталистической Англии, но эта фигура Георга IV, тогдашнего принца-регента, как нельзя более отвечала самым затаенным желаниям самой реакционной части английского общества. Лорд Персиваль продолжал политику реакции, и если 11 мая 1812 года полусумасшедший человек с пистолетом в руках вместо ненавистного лорда Гауэра выстрелом из пистолета убил лорда Персиваля, то, быть может, он отражал настроение бедных людей Англии, для которых политика первого министра была политикой разорения и угнетения.
Одним словом, старая, веселая, богатая, либеральная Англия в эти годы вовсе уж не была полна того легендарного благополучия, которое мы встречаем в соображениях заурядных биографов Байрона, рисующих этого поэта как человека, не сумевшего в силу дефектов личной психики примириться и найти общий язык с благородной Англией тогдашнего времени.
Несомненно, личные свойства поэта, его повышенная чувствительность или, как говорят невропатологи, сенситивность, равно как и поражение нервной системы еще в утробном состоянии, – все это предрасполагало поэта в дальнейшем к нездоровым реакциям на действительность. Но характер гения оказывался в Байроне чрезвычайно рано. Его умение переработать внешние впечатления в гармоническую систему поэтических образов, быть может, спасло его от колоссального душевного разлада, свойственного тогдашней молодежи. Объективируя свои человеческие достояния, Байрон достиг той необходимой высоты, которая помогла Гете, создателю Вертера, отделаться от навязчивых меланхолических состояний после того, как его любимая Шарлотта Буфф вышла замуж за приятеля Кестнера. Недаром Кестнер писал, обижаясь на Гете, своему другу Гейненгу: «Вертер есть Гете. Лота и Альберт списаны с меня и моей жены. Мы очень недовольны им за то, что он к своему вымыслу пристегнул реальные побочные мелочи».
Но Гете, в отличие от Вертера, не покончил жизнь самоубийством. И Байрон тоже не кончил ни безумием, ни уходом из жизни. А если он на почве первой ссоры с миром испытал всю судьбу человека, претерпевающего разлад с действительностью, то необходимо из этого вывести только одно заключение, вся колоссальная писательская восприимчивость и внутренняя добросовестность художника не позволяли ему мириться с этой действительностью. Не всякий писатель обладает рецептами лечения заболевшей действительности. Двигателем исторических процессов являются не писательские рецепты, а глубокие социально-экономические причины и коллективная воля трудящихся. Но от этого не теряют своей ценности те не случайные, а закономерно возникшие диагнозы, которые дает писатель, перерабатывая впечатления действительности в творческие образы. Общество, путем познавания самого себя, испытывает удовлетворение от чтения таких произведений, которые в самом полном синтезе отражают картину наиболее ярких явлений эпохи. Быть может этим объясняется то, что безвестный лорд, выступавший в палате лордов против смертной казни взбунтовавшихся ноттингемских ткачей, сделался внезапно знаменитым в те дни, когда Лондон раскупил небывалый тираж (14 тысяч экземпляров) книжки «Странствования Чайльд Гарольда». Байрон делал все, чтобы погасить образ Гарольда, ибо слишком яркие черты героя явно напоминали автора. И эти, смягченные линии контура, приглушенные интонацией голоса, которые мы чувствуем в поэме, делают образ Гарольда в первых двух песнях не вполне определенным. Если читателю не сразу бросятся в глаза некоторые детали поэмы, как бы выпадающие из нее, не связанные с основным замыслом, то при историческом анализе поэмы мы ясно видим те редакционные швы, которые говорят о цензурной борьбе в бесцензурной Англии. Так же, как закон о неприкосновенности личности и жилищ реакционная Англия приостанавливала всякий раз в годы рабочих волнений и социальных бурь, так же и здесь, несмотря на свободу печати Англии, поэма сделалась объектом политического давления. Целых тринадцать строк были выброшены из первого издания «Чайльд Гарольда», и только впоследствии их удалось восстановить по рукописи. Безвозвратно погибли строфы, относящиеся к лорду Веллингтону, строфы, осуждающие безобразия английских грабежей на территории Испании и Португалии, и многие другие. Байрон не предполагал печатать поэму, и только друзья, и прежде всего Доллас, убедившись в тщете своих настояний, сами, почти без ведома Байрона, начали и закончили печатание первых двух песен «Чайльд Гарольда». Этим объясняется та легкость, с какой Байрон отнесся к упразднению острых мест поэмы.
Первая песнь «Чайльд Гарольда» всем, начиная с эпиграфа и кончая наилучшими строфами поэмы, свидетельствует о том, что Байрону были чужды шовинистические или националистические черты. Байрон берет эпиграфом строчки из книжки «Гражданин мира» («Космополит») Фуэкрэ де Монброн (1753): «Вселенная – книга, в которой идешь не дальше первой страницы, если видишь только свою страну. Что касается меня, я листал страницу за страницей и пришел к выводу, что все они плохи; я получил полезный урок и возненавидел отечество. Грубость других людей, других отечеств заставила меня с грустью примириться и вернуться на родину. За неимением других выгод, радуюсь, что это стоило дерево, и не жалею об издержках и усталости».
Среди выброшенных строф «Чайльд Гарольда» мы находим строфы ненависти, посвященные лорду Эльджину, который, пользуясь обострением вражды между греками и турками, помутнением политической воды, ловил крупную рыбу и грабил памятники античной Греции. Насколько сильно было негодование Байрона, мы можем заключить из письма от 3 января 1810 года: «В настоящую минуту в дополнение к тому, что уже награблено в Лондоне, здесь, в Пирее, сносится на корабль бандитов и воров все, что может быть вывезено из уцелевших греческих мраморов. Рядом стоит молодой грек, который говорит, что „лорд Эльджин может гордиться разрушением Афин“», и далее: «Я не думал, чтобы честь Англии выиграла от ограбления Индии или Аттики. Бесстыдство наглого вора кажется пустяком по сравнению с наглостью человека, начертавшего на стенах Акрополя свое английское имя. Бесполезное и разнузданное скалывание и истребление барельефов может вызвать только чувство омерзения в тех, кто будет впоследствии читать имя лорда Эльджина». Байрон не раз будет возвращаться к этой теме культурного мародерства Англии.
Так или иначе, но «Чайльд Гарольд» увидел свет Балладный, архаический староанглийский тон говорит о том, что Байрон в достаточной степени отвык от английской современности за время своего путешествия. Оттолкнувшись от тяжелых впечатлений своей личной судьбы и судьбы своего класса, Байрон все более и более отталкивался в годы странствий и от этой архаической забавы. Игра в археологию со старинной арфой в руках Чайльд Гарольда все больше и больше уходит из поэмы, в ней все чаще появляются живые образы, яркие характеристики, пленительные по звучности строфы, легкость музыкального дыхания; утроенные рифмовки последних строф каждого станса все больше и больше говорят о том, что поэт сам захвачен волшебным поэтическим потоком стихийного творчества, которое дисгармоническую раздвоенность и разлад с действительностью превращает в гармоническую настроенность поэмы.
Однако нельзя было не оглядываться на берега, которые он покинул. Уже 3 октября 1810 года Байрон писал Ходжсону: «Что касается Англии, то я давно о ней ничего не слышу. Уснули навеки все, кто был хоть чем-нибудь со мной связан. Поверенный пишет мне деловые письма, а вы – мой единственный корреспондент. У меня в мире нет друзей, хотя было много школьных товарищей. Но все они теперь „вошли в жизнь“, т. е. выступили под чудовищными и страшными личинами, кто в маске военного, кто в облачении адвоката, кто переодетый священником играет в религию, а кто просто надел на себя маску светского человека, и этот маскарад они назвали своей жизнью. Я распрощался с ними, я порвал всякую связь с этими деловыми людьми. Никто из них мне не пишет. Да я и не просил: я ведь только бедный путешественник, безвестный языческий философ, исколесивший огромные берега Леванта, я зритель многих необычайных земель и морей… и вот теперь, перед возвращением, я чувствую себя ничем не лучше, чем в день отплытия».
Друзья сомкнутой фалангой пошли в атаку на Байрона. Одни из них советовали выкинуть из поэмы места, которые могут обидеть лорда Эльджина или снизить авторитет Веллингтона, другие советовали Байрону вспомнить о господе боге и бессмертии души и о том, что люди, оставившие этот мир, будут несомненно встречаться с Байроном в загробном мире. В ответ на эти религиозные увещевания Байрон пишет Ходжсону: «Милейший Ходжсон! Советую вам оставить меня в покое с вашим бессмертием, в которое я не верю. Довольно с нас несчастий этой жизни: я считаю нелепостью строить предположения о будущем бессмертии. Если людям суждено оживать после смерти, то зачем они умирают? А уж если они однажды умерли, то какой смысл нарушать их крепкий сон, как говорят – сладостный, непробудный?»
Эти, не столько скептические, сколько трезво реалистические взгляды Байрона опять являются новой чертой, диссонирующей с эпохой романтической фантастики, в которую вступала тогдашняя литература. Шатобриан, автор «Ренэ», все более и более шел по пути мистико-эстетической трактовки христианства. Этот крестоносец в дилижансе, рыцарь в лакированных туфлях, своеобразно интересничал, предпринимая поездки ко гробу господню для того, чтобы рассказы об этом паломничестве щекотали нежные сердца кокетливых пиэтисток эпохи реставрации. Набожные виверы и титулованные раскаявшиеся Магдалины окружали Шатобриана шелестом восхищенного шопота.
Вместо романтической небывальщины и эффектов дешевого героизма Байрон рисовал подлинную душевную историю реального путешественника. Он никогда не лгал самому себе и не обманывал читателя.
Письма с Востока показывают, что Байрон менее всего думал о себе как о поэте. Успех произведения, которое он считал продуктом часов своего досуга, был неожиданным для Байрона, и на распутье больших житейских дорог он вдруг почувствовал, что поэзия является для него второй натурой. Но еще не был решен вопрос о том, что же ему выбрать – дорогу политического деятеля и борца, строителя британских законов, или тернистый путь поэта?
Два представителя английского «высшего света» привлекали в эту пору внимание Байрона. Первый соблазнительный предмет подражания – это Бекфорд – автор единственной книжки «Ватек», стяжавшей ему неувядаемую и редкостную славу, столь же экзотическую, как и сама восточная сказка о калифе Ватеке. Строитель фантастического замка, праздный миллионер, разорившийся на путешествиях и эстетических прихотях, этот человек казался Байрону недосягаемым идеалом. Другой – Джордж Бремель – денди, основатель религии дендизма, замечательный своими неповторимыми и ненужными эстетическими пустяками. Биограф говорит: «Бремель носил перчатки, которые облегали его руки, как влажная кисея. Но дендизм состоял не в совершенстве этих перчаток, а в том, что эти перчатки были изготовлены, четырьмя художниками-специалистами, тремя для кисти руки и одним для большого пальца». Безродный и совсем не знатный Бремель своими костюмами, своей манерой держать себя, своей непринужденностью и тончайшим остроумием проложил себе дорогу к очень странной и единичной славе, понятной только в обществе пресыщенном, консервативном, считавшем проявление яркой мысли или свежей человеческой идеи нарушением хорошего тона.
На жестком бессердечии и цинизме, на ханжестве, на морали, осуждающей бедняков и маскирующей преступность богатых, выросла та своеобразная житейская философия, то умение прикрыть человеческое поведение совокупностью манер, условных взглядов и трафаретов, которые вместе называются одним английским словом «cant». Бремель был модным кумиром великосветских салонов, успех в жокей-клубе и вечерние встречи в интимном кружке принца-регента были свидетельством его популярности. Будущий Георг IV был почитателем можжевелового алкоголя. Джин подавался ему в количествах, превышающих меру легендарных капитанов и моряков голландской новеллы: принц пил и наедине и с друзьями.
Однажды. Бремель, жестом руки указывая на сонетку, обратился к своему «высокому» другу со словами: «Джордж, позвоните». Принц-регент позвонил и сказал вошедшему толстому лакею Бобу: «Выведите этого пьяницу».
Серьезный биограф Бремеля говорит, что это было началом падения светской карьеры Бремеля. С воцарением Георга IV Бремель донашивал свою скуку и свои костюмы на континенте в должности английского консула. Английский король, проезжая через маленький французский городок, пригласил Бремеля в знак примирения к обеду в три часа дня. Бремель ответил, что он никогда не принимает пищи в эти часы. Примирение не состоялось, но ответ Бремеля вызвал в золотой молодежи Англии такое же восхищение, как его изысканные костюмы.
В этих мелких аристократических выпадах не было ровно ничего политического, и все же Байрон после первых головокружительных месяцев успеха «Чайльд Гарольда», вступив в большой английский свет, в первую очередь увлекся Бремелем. Длительным голодом, блюдечком риса, бисквитом и содовой водой Байрон изнурял себя в борьбе с наследственной тучностью и, достигая успеха, делал вид, что он устанавливает новую моду. Здоровый аппетит английских аристократов был серьезно поколеблен на Званых обедах, когда, пренебрежительно цедя сквозь зубы, молодой, стройный лорд отказывался от какого-нибудь фешенебельного блюда со словами: «Благодарю вас, я никогда не ем этого блюда». Все эти мелочи, все эти нелепые пустяки, характеризующие праздное общество, захватили досуги Байрона после первых месяцев успеха. Совершенно не иронически и без аффектации Байрон сказал однажды, что он предпочел бы стать Бремелем, скорее чем Наполеоном.
Но назревала другая ссора с миром. Байрон не успел сделаться Бремелем и, восхищаясь автором «Ватека», не пошел по пути волшебной сказки. Лондон, город страшной нищеты и невероятных колониальных богатств, был все-таки столицей страны, в которой обитало десять миллионов жителей. На севере была Шотландия, уже давно расставшаяся со своей самостоятельностью. Там насчитывалось около двух миллионов. Ирландия, которая ни на минуту не забывала о вековой вражде к англичанам-завоевателям, имела население в пять миллионов, из которых искусственно насажденные землевладельцы и чиновники были преданными гражданами Соединенного королевства. Все остальное население этой страны кипело и бушевало, а в тот год, к которому относится наш рассказ, Ирландия представляла собой бочку с порохом. В Лондоне жила десятая часть английского населения. Это был самый населенный город тогдашней Европы. И подобно тому, как десять лордов владели почти всей территорией лондонского центра, так и девять десятых земель Соединенного королевства принадлежали всего лишь десяти тысячам землевладельцев Англии. Английские кредитки ничего не стоили, несмотря на парламентский билль о принудительном паритете. И если в первой главе читатель нашел описание рабочих волнений, то мы могли бы дать материал и о крестьянских беспорядках Англии, возникавших каждый раз при выселении обедневших фермеров или при помещичьем объявлении о взимании арендной платы по курсу без паритета, причем этот денежный лаж между помещиком и мелким арендатором, лаж грабительский, всегда кончался победой помещиков.
В этих условиях такой богато одаренной натуре, как Байрон, с его бедным наследством и протекающими потолками родового замка, довольно трудно было удержаться на почве влечения к дендизму или подражания Бекфорду. Его влекли другие интересы, другая борьба.
В борьбе с действительностью
Казалось, что светские успехи вскружили голову Байрону, казалось, что с момента своей последней речи в парламенте он решил не возвращаться к политике. Все его политические выступления были столь же благородны, сколь безуспешны. Как мы уже говорили, он выступал второй раз в палате лордов, добиваясь элементарных прав для ирландских католиков, сражающихся на фронте бок-о-бок с протестантскими бриттами. Он очень остро говорил о привилегированном положении специальных протестантских школ, о способе пополнения их детьми в принудительном порядке на всей территории Ирландии. Он подчеркивал, что Англии XIX века в вопросе религиозной розни ведет себя так же, как Франция XVII столетия в лице Людовика XIV с его драгонадами, когда драгунский постой в поселке превращал этих миссионеров в сапогах со шпорами в главный фактор «добровольного» перехода гугенотов в католичество.
Речь Байрона была раскрытием огромного преступления сент-джемского кабинета. Он говорил: «Монтескье по поводу английской конституции заявил, что ее прототип можно найти у тацитовых германцев. А я добавлю, что английская система протестантских школ заимствована у цыган, ворующих детей с целью вымогательства. Эти школы пополняются, как полки янычар во время больших наборов султана Амурата или цыганские таборы наших дней, путем выкрадывания ребенка». Горячая речь Байрона не имела никакого успеха.
Третье выступление Байрона в палате произошло 1 июня 1813 года. Байрон, как нарочно, суживал темы своих речей. Если первая речь говорила об угнетении огромного человеческого коллектива, об эксплоатации трудящихся, а вторая – о религиозном изуверстве в применении к порабощенной Ирландии, то третья была защитой голоса единичного человека – Картрайта, подвергшегося нападению и остракизму только потому, что он осмелился подать проект о реформе избирательного закона. Проект не только не был допущен к рассмотрению, но сам автор подвергся аресту и оскорблению со стороны полиции и военного отряда. Интересен вывод, сделанный Байроном в своей речи: «Хотя петиция подписана только одним человеком, но факты, ею сообщаемые, таковы, что требуют расследования. Это не есть личное неудовольствие, а заявление, разделяемое множеством людей. Оказывается, что любой человек как в этих стенах, так и вне их, может подвергнуться дикому оскорблению и такому же отказу в исполнении своего священного долга – восстановить попранную конституцию нашей страны в той части, которая предоставляет гражданам право петиции к парламенту о реформах».
Это было последнее парламентское выступление Байрона. После этой речи Байрон не возвращается к политической деятельности в палате лордов, и на этом биографы обыкновенно заканчивают обзор его политической деятельности. Мы не можем этого сделать. Если сам Байрон говорил о том, что речь в защиту ноттингемских ткачей является «предисловием» к «Чайльд Гарольду», то мы, в свою очередь, имеем право всю последующую литературную деятельность поэта на территории Англии рассматривать как отчетливую реакцию на лондонскую действительность, хотя восточный колорит и тематика поэм, вышедших с 1811 до 1816 года, как будто говорят обратное. Личность Байрона чрезвычайно многогранна. Лондонские светские успехи и его бурное увлечение светской жизнью могут быть, конечно, связаны с личным разочарованием Байрона в парламентской деятельности. Но совершенно невозможно согласиться с большинством биографов, которые считают, что литературный успех и светские увлечения отбили у Байрона окоту заниматься политикой.
Байрон никогда не был революционером в нашем смысле слова. Он никогда не был последовательным в развертывании программно-политических взглядов, он никогда не забывал о преимуществах своего дворянского происхождения. В некоторых моментах его индивидуального политического бунта без сомнения проглядывает требование лорда простить ему неуважение к закону. Однако мы имеем основание утверждать, что, отказываясь от парламентской деятельности, Байрон не только не чуждался политических интересов, но воспринимал политическое бытие Англии и Европы с той поразительной остротой наносил такие беспощадные удары по общественному быту и морали, что это гораздо больше, чем парламентские выступления, ставило великого английского поэта в резкую оппозицию к господствующим классам.
Байрон в своем индивидуальном бунте заново пересматривал всю совокупность проблем, связанных с местом человека не только в обществе себе подобных, но и в мире. Отсюда биологический ужас небытия и ощущение астрономического холода междузвездных пространств. Социально обусловленная и индивидуально пережитая разочарованность воплощается в космические образы до такой степени, что упадочные переживания Байрона приобретают иногда болезненный, патологический характер и в эти моменты доводят его сознание до распада. В качестве производной от этих настроений возникает та неудержимость порывов Байрона-человека, которая так омрачает фигуру Байрона) – поэта. Стремление ввести в какие-то пределы хаос собственных чувств чередовалось у Байрона с безудержным стремлением выйти за пределы не только общественной морали, но и тех границ, которые в целях самосохранения ставит себе каждый здоровый человек.
Стоустая молва о знаменитом путешественнике, блистательном поэте сделала Байрона предметом повышенного интереса к нему светских женщин Лондона. Одна из них, именно Каролина Лемм, надолго задержала внимание поэта. Отношения с Каролиной Лемм не принадлежали к числу серьезных связей. Они носили на себе все черты легкости, хрупкости и неустойчивости. Быть может предчувствие непрочности этих отношений заставило Каролину, влюбленную издали в поэта Байрона, отказаться от встречи с Байроном-человеком. Каролина Лемм самым резким образом оскорбила Байрона отказом от знакомства, когда неосторожная подруга сделала эту попытку. В салонах леди Мельбурн и леди Холланд последующие встречи были все-таки неизбежны. И вдруг неожиданный визит: Каролина Лемм в костюме Королевского пажа сама врывается в жилище поэта. Если первые встречи нравились Байрону, то последующие доводили его до бешенства, – когда этот паж стал появляться в парламентских коридорах, на лестницах общественных зданий, преследуя, нагоняя и окликая свою жертву. Байрон всячески стремился уйти от этой женщины. Он вовсе не собирался ссориться с ироническим и благодушным полковником Леммом – супругом Каролины. Он не собирался вступить в супружество с разведенной светской дамой; кроме того он уже давно находил больше удовольствия в обществе леди Френсис Вебстер и леди Оксфорд. На помощь Байрону выступила зоркая престарелая леди Мельбурн, считавшая своей, обязанностью по мере надобности то устраивать ссоры, то мирить врагов, но главным образом устраивать союзы сердец. В нужный момент леди Мельбурн решила спасти Каролину Лемм от семейного скандала, спасти полковника Лемм от ухода жены, спасти Байрона от опасного непостоянства, тем более, что ей удалось выведать затаенные мысли Байрона, боящегося обширности своей человеческой свободы и искавшего «милого вожатого», как он по неосторожности в беседе с леди Мельбурн назвал «женщину, которая могла бы стать его женой». Перед невесткой леди Мельбурн, Каролиной Лемм, внезапно возникает необходимость поездки в свое ирландское имение.
Перед этим Каролина Лемм от имени леди Мельбурн передает на суждение Байрона, без ведома автора, стихи некой молодой особы Анны Изабеллы Мильбенк и добивается мнения Байрона об ее творчестве. В мае 1812 года Байрон пишет Каролине Лемм следующее письмо: «Дорогая моя леди Каролина! Я прочел со вниманием стихотворения мисс Мильбенк. В них фантазия и чувство настолько хороши, что если немного практики, то появится навык и легкость выражений. Она бесспорно необыкновенная девушка. Кто мог бы подумать, что под этой спокойной внешностью таится такая сила и таксе разнообразие мысли? Однако я полагаю, что мисс Мильбенк нет необходимости выступать в качестве писательницы. Я вообще не считаю похвальным печатание произведения ни для мужчин, ни для женщин, я сам нередко стыжусь этого, хотя вы и не поверите мне. Но я без колебания говорю вам, – она обладает той мерой таланта, который может вырасти, если она будет его растить. Она может получить известность. Только что был здесь один из моих друзей (пятидесятилетний писатель… нет, нет не Роджерс). Под стихами нет подписи, я показал их моему другу. Его похвалы превышают даже мои». Письмо заканчивается своеобразным абзацем: «Я не питаю желания ближе познакомиться с мисс Мильбенк, она слишком хороша для падшего духа. Она больше нравилась бы мне, если бы меньше были ее совершенства».
Разрыв с Каролиной Лемм произошел. Через несколько лет эта покинутая женщина едва не стала писательницей. Она изобразила своего вероломного любовника в романе «Гленервон», причем осталась верна своему характеру. Герой, пожиратель сердец, он, конечно, мрачный, пиратообразный. Но каждая строчка Каролины Лемм, даже там, где она стремится ненавидеть Байрона, дышит настоящей любовью и говорит скорее о милых и детских чертах самого автора, чем о дурных свойствах изображаемого героя. Недаром, когда враги предполагали выпустить итальянское издание «Гленервона», а друзья хотели помешать этому выпуску, Байрон не только не помешал, но предложил издателю денежную помощь.
Что касается мисс Мильбенк, то она, не сделавшись знаменитым поэтом, в январе 1815 года сделалась женой Байрона. Этому предшествовал ее отказ на первое предложение со стороны Байрона. Легкость, с какой Байрон перенес этот отказ, убеждает нас в том, что он, как человек сильный, нашел наилучшую форму самоубеждения: он определил себя, как виновника отказа мисс Мильбенк. Письма тогдашнего времени полны уверений в том, что Байрон не считает себя достойным всех совершенств мисс Анабеллы. Он не только писал это, но он старался поведением доказать, что он действительно недостоин мисс Мильбенк. Он писал о себе в записках, которые называл «отрывочные мысли»: «Я любил общество денди, они всегда были очень предупредительны ко мне, но они недолюбливают литературу и делали неоднократно госпожу Сталь, Льюиса и других предметами жестокой мистификации. Сам я в молодости был склонен к дендизму и хотя рано отстал от него, но в двадцать четыре года у меня было еще достаточно старых привычек, чтобы примирить с собою дендизм. Я азартно играл, пил, играя, добился университетского диплома и вел очень рассеянный образ жизни. Я не был педантом, мне чуждо властолюбие, я мирно уживался со всеми денди. Я был почти со всеми знаком, они меня избрали членом великолепного Вотьеровского клуба, несмотря на то, что, кажется, я был у них единственным представителем презираемого литературного мира».
Продолжая вести светский образ жизни, Байрон встречался с трагическим актером Кином, с Вальтер Скоттом, с поэтом Роджерсом и очень сошелся с оратором и драматургом Шериданом. Невидимому колебания между двумя житейскими планами достигли своего апогея именно в этот год, после отказа мисс Мильбенк. Опять была сделана попытка оборвать мирное течение жизни-и броситься в чужие страны. Корабль «Бойн» уходил в дальнее плавание; Байрон выхлопотал себе разрешение на офицерскую каюту. Сохранилось письмо, в котором он назначает секретарю адмиралтейства последним сроком выезда «субботу». Но многие субботы прошли, а Байрон все оставался в Лондоне, ведя рассеянный образ жизни, – по одним биографическим сведениям, – заканчивая ориентальные поэмы в качестве послесловия к восточным мотивам «Чайльд Гарольда», – по другим биографическим сведениям. Очевидно, и то и другое характеризовало этот период жизни Байрона. И не только это, – необходимо отметить, что чередование светских безумств и поэтического творчества имело какой-то закономерный характер, и остается только удивляться слепоте некоторых биографов, которые не сумели или не желали отметить острых политических разочарований, приведших Байрона к таким конфликтам внешнего порядка, которые повлияли если не на его литературное творчество, то во всяком случае роковым образом сказались на его житейских обстоятельствах.
6 марта 1812 года в газете «Morning Chronicle» без подписи появились восемь строчек, обращенные к «Плачущей: девушке». Эти стихи звучали так:
- Плачь, дочь из рода королей!..
- Плачь над отцом твоим и над твоей страною.
- О, если б ты могла омыть слезой одною
- Позор отца и бедствия людей!..
- Плачь… Пусть в глазах твоих печальных и святых
- Прекрасная заря для родины блеснет,
- И в светлом будущем за каплю слез твоих
- Улыбкою отплатит твой народ!..
Политический характер этого отрывка был разгадан сейчас же. Номера газеты быстро разошлись по Лондону, и стихи в переписанном виде ходили по рукам. Весь Лондон повторял их наизусть, единогласно считая их автором Томаса Мура. Основанием к этому было не только ирландское происхождение Томаса Мура, но главным образом, его написанное в девятнадцатилетнем возрасте «Обращение к ирландскому народу», в котором молодой Мур с величайшим презрением клеймит английскую национальную партию и считает Англию «страной преступников против Ирландии». Никто не сомневался в том, что речь идет о принцессе Шарлотте, дочери принца-регента и Каролины Брауншвейгской. Судьба этой молодой девушки была широко известна. Ребенком она узнала немало печали, боялась отца так же, как боятся дикого животного. Разлученная с матерью и находясь все время во дворце, принцесса Шарлотта имела возможность слышать и знать больше, чем королевские министры, особенно потому, что ее присутствию не придавали никакого значения и отец при ней не стеснялся.
Через четыре дня после появления стихов, когда в лондонском обществе слишком громко заговорили о происшествии, вызвавшем слезы принцессы Шарлотты, в газете «Курьер» появилось неуклюжее «политическое извещение», Которое описывало «происшествие в Карлтон Таузе» 22 февраля: «Общество состояло из принцессы Шарлотты, герцогини Йоркской, герцогов Йоркского и Кембриджского, лордов Мойра, Эрскина, Лодерделя и господ Адамса и Шеридана. Принц-регент выразил свое удивление и неудовольствие поведением лордов Грея и Гренвиля. На это лорд Лодердель с недопустимой при дворе свободой заметил, что вышеназванные лорды не одиноки, а имеют многочисленных политических сторонников, и что лорд Лодердель сам присутствовал при составлении ответа на письмо принца-регента герцогу Йоркскому, предписывающее объединение управления Ирландии и Англии, что лорд Лодердель участвовал в протесте и вполне одобряет мысли лордов Грея и Гренвиля. Принц был глубоко огорчен словами лорда Лодерделя, а принцесса Шарлотта, видя его волнение, опустила голову и залилась слезами, после чего принц-регент обернулся и просил присутствовавших дам удалиться».
Из этого неуклюжего сообщения жители Лондона могли понять всю важность и серьезность, какую придали в правительстве восьми строчкам безвестного стихотворца. Но вместо успокоения началось такое обсуждение подробностей происшествия во дворце 22 февраля, какое привело к полному установлению истины: Гренвиль написал возражение на приказание принца-регента уничтожить всякие признаки самостоятельности Ирландии; принц-регент, встретив Лодерделя на вечернем приеме, набросился на него с руганью как на участника протеста. Лодердель не растерялся и стал возражать. В ответ на это принц Георг закричал на него, обещая крутой поворот в сторону еще большей реакции, и по-видимому жесты принца-регента, всегда нетрезвого и возбужденного, Настолько перепугали собравшихся, что принцесса Шарлотта, всплеснув руками, зарыдала. Будущий король Англии бросился на дочь с кулаками, и принцесса Шарлотта, быстро вбежав в большую залу, поразила танцующих гостей своим раскрасневшимся лицом, смятенным видом и слезами.
В Лондоне начались усиленные поиски автора стихов, посвященных «Плачущей девушке». Газета не выдала Байрона, быть может потому, что сама не знала автора. Томас Мур сумел во-время отказаться от авторства, а когда друзья Байрона напали на верный след и один из них прямо обратился к нему с письмом, Байрон ответил очень красноречивой фразой: «Не я писал эпиграммы, которые вы мне приписываете, но если бы мне пришлось выступить бомбистом, то, уверяю вас, мои бомбы полетели бы в голову принца-регента». Опровержение в достаточной степени сильное, после которого никто уже не сомневался в авторстве Байрона, и первое маленькое выступление против королевского дома несомненно положило начало большим преследованиям поэта.
Ежегодно правительство Англии, как писал Байрон, «выпекало пирожки», то вроде закона «о вредных и мятежных сочинениях», в котором говорилось, что «всякий человек, с мятежным намерением распространяющий устно или письменно какие-либо слухи, слова, сочинения, совершает преступление. А возбуждение дурных чувств в отношении к королю, к законам страны, к палате парламента подлежит суду». Не менее красноречивым был закон о митингах: «Ни одно собрание более чем в пятьдесят человек не может состояться без разрешения местных властей. Представитель местной власти обязан присутствовать на таком митинге и наблюдать, чтобы ничего не произносилось против короля, министров парламента и законов страны. Кто заговорит так, – да будет арестован. Кто митинг превращает в волнение, – да будет изъят. Собрание, ведущее себя бурно, – да будет разогнано применением вооруженной силы. Происшедшие в таких случаях убийства не возлагаются на ответственность местных властей».
Характерно для тогдашней Англии это объединение парламента и правительства и противопоставление этого объединения всему остальному населению страны. Это станет понятным, если вспомнить, на основе какой избирательной системы созывалась английская палата общин. Существовали города и графства, в которых основная масса населения не знала, что такое избирательное право. В Эдинбурге – главном городе Шотландии – с населением около девяноста тысяч человек только семьсот граждан имели избирательные права. В Ноттингеме из тридцати тысяч жителей только двадцать человек обладали избирательными правами. Конечно, при таких условиях состав парламента с его секретными комитетами и комиссиями был в огромном большинстве верным пособником королевской полиции. Если билль о казни рабочих, против которого выступил Байрон в 1812 году, был временно задержан, то в 1814 году он прошел без затруднений.
В 1811 году Байрон еще до своего первого парламентского выступления написал ответ двум лордам, требовавшим смертной казни рабочим:
- Лорд Эльдон, прекрасно; лорд Райдер, чудесно!
- Британия с вами как раз процветет.
- И Гоксбери с Горроби правят совместно.
- Лекарство поможет, но раньше – убьет.
- Ткачи-негодяи готовят восстанье:
- О помощи просят. Пред каждым крыльцом
- Повесить у фабрик их всех в назиданье!
- Ошибку исправить и – дело с концом.
- В нужде, негодяи, сидят без полушки,
- А пес, голодая, на кражу пойдет.
- Их вздернув за то, что сломали катушки, –
- Правительство деньги и хлеб сбережет.
- Ребенка скорее создать, чем машину,
- Чулки – драгоценнее жизни людской,
- И виселиц ряд оживляет картину,
- Свободы расцвет знаменуя собой.
- Идут волонтеры, идут гренадеры,
- Полков двадцать два – на мятежных ткачей,
- Полицией все принимаются меры,
- Двумя мировыми, толпой палачей.
- Из лордов не всякий отстаивал пули,
- О судьях взывали. Потраченный труд!
- Согласья они не нашли в Ливерпуле,
- Ткачам осуждение вынес не суд.
- Не странно ль, что если является в гости
- К нам голод, и слышится вопль, бедняка, –
- За ломку машины ломаются кости,
- И ценятся жизни дешевле чулка?
- А если так было – то многие спросят:
- Сперва не безумцам ли шею свернуть,
- Которые людям, что помощи просят, –
- Лишь петлю на шее спешат затянуть?{«Morning Chronicle».}
Это стихотворение было напечатано тогда же, без имени автора. Теперь оно было переписано и в тысяче списков ходило по рукам.
Политические выступления Байрона вступали во все более резкое противоречие с его собственными житейскими намерениями, и это не могло не повлечь за собой нового разлада с обществом накануне такого значительного шага, каким являлось намерение Байрона жениться в Лондоне, т. е наиболее тесно связаться с целым рядом неприятных бытовых явлений английской жизни. Байрону казалось, что он, повторяя свое предложение Анабелле Мильбенк, находит «милого вожатого» и в этом очень гармоническом существе будет иметь зеркало своих собственных лучших свойств без своих пороков. Он очень мало считался с теми неизбежными свойствами лицемерия и ханжества, бытовых предрассудков, которые характеризовали идиотически тихую, неподвижную, самодовольную английскую семью. Он не хотел считаться с целым рядом условностей, отличавших общество, с которым он был связан своим рождением и с которым намерен был связать свою будущую жизнь.
Насколько смело нарушал он эти условности, видно из следующего факта: публицист и поэт Ли Хент и его брат Данон Хент, издатель журнала «Икземинер», занимались на страницах своего журнала тем, что преподносили населению Англии перевод на общепонятный простонародный язык милой и старой Англии трудно понимаемые статьи газеты «Морнинг Пост», в которых продажное перо в лакейско-прихлебательском тоне писало статьи, посвященные принцу-регенту и реакционной политике Англии. Первоначально операции Ли Хента с этими статьями не внушали никаких подозрений, но чем дальше, тем больше внимание Лондона к этим статьям раскрывало глаза правительству Англии на пародийное значение статей Ли Хента. Ли Хент превращал хвалебные статьи регенту в такую нелепую и глупую шумиху, которая делала самый предмет похвал карикатурой. Похвалы целомудрию регента, его трезвости, его деловому образу жизни, его заботам о гражданах Сити вызывали хохот читателей. Ли Хент не довольствовался простым усилением хвалебных характеристик, он вносил в статьи «Морнинг Пост» комментаторские вставки, которые были диаметрально противоположны самому смыслу утверждения этой газеты, или, пользуясь информацией «Морнинг Пост», Ли Хент приводил иллюстрации, которыми широко оповещал население Англии о реальном значении политики королевского правительства и секретных комитетов обеих палат. Последний номер «Икземинера» был конфискован за хвалебную оду принцу-регенту. Ли Хент попал под действие закона об оскорблении величества, и суд приговорил его к двухгодичному тюремному заключению. Байрон внимательно следил за английской прессой тогдашнего времени и отлично усвоил направление журнала Ли Хента, а когда издатель попал в тюрьму, Байрон, словно бросая вызов обществу большого света, несколько раз навещал поэта Ли Хента в тюрьме. Мало того, он демонстрировал свою симпатию к журналисту, т. е. к человеку «не из общества» и вдобавок журналисту, сидящему в тюрьме за оскорбление величества. Не желая воспользоваться чужой фамилией, Байрон имел дерзость получать внеочередной пропуск в тюрьму как член палаты лордов.
Все это стало известным, все это не могло не вызвать недовольства среди аристократического общества. Но система английского недовольства такова, что сказывается не сразу, а если сказывается, то не способом прямого выражения и не как следствие, вытекающее из причины, известной человеку, который испытывает кару недовольного правительства.
К этому времени относится еще более острое, сатирическое проявление ненависти Байрона к королю Георгу.
Опубликованное через пять лет после написания, это стихотворение нисколько не утратило своего политического значения. Документ этот полностью называется так:
«Стихи, написанные на случай, когда автор видел его королевское высочество принца-регента стоящим между гробницами Генриха VIII и Карла I в королевском склепе, в Виндзоре».
- Священных уз попранием суровым
- Известные, в гробницах здесь лежат
- Бездушный Генрих с Карлом Безголовым.
- Меж ними видит третьего мой взгляд:
- Он жив, царит, вершит свои желанья, –
- Во всем король он, кроме лишь названья.
- Карл для народа, Генрих для жены
- Тираном был, а в нем воскрешены
- Те два тирана вместе: Смерть и Право
- Напрасно в нем свой прах смешали, право!
- Два царственных вампира, съединясь,
- Восстали вновь, и царствует их сила;
- Бессильна смерть: извергла нам могила
- Опять в лице Георга кровь и грязь.
В 1813 году появились новые произведения Байрона: поэмы «Гяур» и «Невеста из Абидоса». Через год вышли поэмы «Корсар» и «Лара».
Разрывая с мирной традицией «Чайльд Гарольда», Байрон теперь воспевает разбойника. Он трагически освещает центральную фигуру поэмы «Гяур», он завязывает узлы таинственных психологических сплетений героя, он заинтриговывает читателя поисками мотива глубоких страданий этой человеческой личности. Историки литературы дают всевозможные генетические толкования этой поэмы. Некоторые пытаются тему «великодушного разбойника» возвести к старой литературе профессиональных сказочников. Будто бы уже во времена римского императора Тевтиния Севера существовал прообраз байроновского Гяура в виде героя «Повести о разбойнике Феликсе». Исследователи могут найти немало остроумных догадок о том, что разбойники александрийского романа предвосхитили байроновского героя, или о том, что примирившиеся рыцари легенды «О круглом столе и короле Артуре», Валентин из «Двух Гаронцев» Шекспира, старый герой Шервудского леса Робин Гуд, а может быть даже и новая редакция «Робин Гуда» в виде «Нэда Лудда», наконец Карл Моор Шиллера и Гец фон Берлихинген Гете, – все благородные разбойники проложили дорогу байроновскому Гяуру-разбойнику и великодушному добровольному отверженцу человеческого общества. Во всяком случае необходимо установить одно, – что Байрон не занимался такими большими поисками и разбойник Феликс, времен римских императоров был ему неизвестен. Но ему была известна английская действительность, и сам он все больше и больше с ней ссорился. Не имея возможности ее преодолеть, он мужественно не хотел сдаваться и капитулировать. Одиночный бунт превращался в грустное сознание своей оторванности; отсюда мировая скорбь, побег от человеческого общества на лоно пустынной прекрасной природы, в чужие страны, хотя и там он не находил покоя. Однажды он писал: «Второго июля будет год, как мы покинули Альбион. Мне надоела моя родина, но я не нахожу страны, которую мог бы ей предпочесть. Я „влачу свои цепи“, не удлиняя их при каждом переходе. Я похож на того веселого мельника, который никого не любит и никем не любим. Для меня все страны одинаковы».
Этими чертами характеризуется герой новой байроновской поэмы. Но к этим чертам Байрон прибавил полную и бесповоротную отверженность и глубокий пессимизм. Единственным просветом в жизни Гяура была любовь к мусульманке, попавшей в рабство и казненной своим господином. Поэма рассказывает о мести Гяура, но не вскрывает полностью его характер и не рассказывает читателю о том, кто же сам этот Гяур. Едва успела появиться эта поэма, как к обычной светской болтливости присоединились не совсем обычные настойчивые слухи о том, что «Гяур» – автобиографическая поэма в гораздо большей степени, чем «Чайльд Гарольд». Там, где простой читатель восхитился бы полнозвучной музыкой пленительного байроновского стиха, там, словно по специальному заданию, началось с пристрастием чтение между строк. Слова Байрона:
- Старик, ты смотришь на меня,
- Как будто хищный коршун я.
- Да, путь кровавый преступленья
- И я прошел, как коршун злой…
были истолкованы как автобиографическая исповедь, а предисловие к «Гяуру», по существу совершенно невинное, породило злобную лондонскую сплетню. Злобную в силу полной своей неопределенности, позволявшей допускать любые истолкования.
Таким образом, к огромному успеху «Чайльд Гарольда», создавшему Байрону славу, теперь искусственно примешивали такое ядовитое, отравляющее любопытство, которое можно было объяснить только ссорой автора с господствующей частью общества и злостной интригой довольно могущественного человека из правительственных сфер. С момента выхода в свет «Гяура» Байрон уже не мог избавиться от топота: «кто может поручиться, что эти вещи не случились с Байроном во время путешествия по Востоку?» И если романтический ореол производил впечатление на лондонских красавиц, то вместе с тем в набожных английских семьях и в правительственных кругах создалось предубеждение против автора. Байрон вынужден был писать дополнительные объяснения к поэме хотя бы тем друзьям, которые были связаны с благожелательной славой поэта, в том числе поэту Роджерсу, которому поэма была посвящена, и Томасу Муру, на помощь которого он рассчитывал.
Следом за «Гяуром» появилась «Невеста из Абидоса». Поэма первоначально носила наименование «Зулейка». Абид, или Абидос, – это старый греческий город на азиатском берегу, в самой узкой части Геллеспонта. Против Абидоса на другом берегу возвышаются здания другого греческого города – Сеста. К этим местам старинной греческой территории приурочена история мифической любви Леандра и красавицы Геро. История двух молодых сердец, разлученных не только морской стихией, пленила Байрона. Свидания на другом берегу, затрудненные волнами широкого пролива, гибель Леандра, пренебрегшего опасностью и в бурю переплывавшего пролив, смерть Геро, не вынесшей тревоги и разлуки, – вот элементы древнего мифа о любви, преодолевающей препятствия. Уже Овидий в поэмах «Герои и героини» дал обработку этого греческого сказания; потом в VI столетии нашей эры, в так называемый «Железный век» классической литературы, поэт Мусей заново дал обработку сюжета разлученных любовников. И до и после Байрона европейская поэзия не раз возвращалась не только к сюжету, но даже к именам Геро и Леандра.
Байрон переживал творческую лихорадку. В четыре ночи закончил он первый набросок поэмы, а через две недели дал ее окончательную редакцию. Греческая Геро превратилась в красавицу Зулейку. Леандр превратился в Селима. Гжаффир-паша напоминает Али-Янинского пашу. Гжаффир-паша воспитывает племянника Селима, сына своего брата, убитого рукой Гжаффира, и не знает, что Селим является братом его собственной дочери Зулейки. На этой коллизии завязывается сюжетный узел байроновской поэмы, осложняющий старинный миф о Геро и Леандре. Если «Чайльд Гарольд» как целое произведение совершенно лишен сюжета, завязки и развязки, если «Гяур» обладает этими формальными качествами в незначительной степени и колоритная мощь Востока, так хорошо передаваемая Байроном, искупает, с точки зрения читателя, сюжетную неопределенность «Гяура», то в «Невесте из Абидоса» мы видим начало нового творческого пути Байрона. Сюжетные контуры выступают здесь резче и, несмотря на лихорадочную поспешность доработки, это новое произведение Байрона построено, с точки зрения композиции и сюжета, гораздо полнее, чем предшествующие.