Читать онлайн Женщина бесплатно
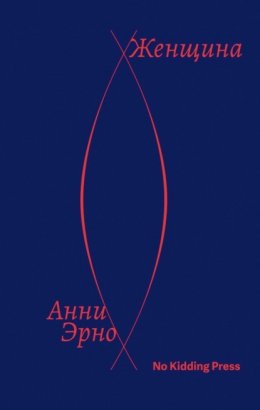
© Éditions Gallimard, Paris, 1987
© Мария Красовицкая, перевод, 2022
© Издание на русском языке, оформление. No Kidding Press, 2022
* * *
Если говорят, что противоречие немыслимо, то нужно сказать, наоборот, что в боли, испытываемой живыми существами, оно есть даже некоторое действительное существование.
Гегель
Мама умерла в понедельник 7 апреля в доме престарелых при больнице города Понтуаз, куда я поселила ее два года тому назад. «Ваша мать скончалась сегодня утром, после завтрака», – сказал мне по телефону медбрат. Было около десяти.
Впервые дверь в ее комнату была закрыта. Тело уже обмыли, голову обмотали полоской белой ткани, которая проходила под подбородком и собирала кожу вокруг рта и глаз. Всё тело до плеч обернули простыней. Было похоже на маленькую мумию. Бортики, которые раньше не давали ей вставать, теперь лежали по бокам от кровати. Я хотела надеть на маму белую ночную рубашку с кружевами, которую она купила когда-то для своих похорон. Медбрат сказал, что сиделка об этом позаботится, а еще положит маме на грудь распятие, найденное в ее тумбочке. На нем не хватало двух гвоздиков, которые крепили медные руки к кресту. Вряд ли их удастся чем-то заменить, сказал медбрат. Но это было неважно, я всё равно хотела, чтобы ей вложили в руки этот крест. На больничном столике стояли ветки форзиции, которые я принесла накануне. Медбрат посоветовал мне сходить оформить бумаги, пока проводят опись маминых вещей. У нее почти не осталось ничего своего – костюм, голубые летние туфли, электробритва. Раздался женский крик. Я слышала его здесь месяцами. Я не могла понять, почему эта женщина жива, а моя мама – нет.
Девушка в отделе регистрации спросила, по какому я вопросу. «Сегодня утром умерла моя мать». – «В больнице или в доме престарелых? Как фамилия?» Она посмотрела свои записи и чуть улыбнулась: ей уже сообщили. Она сходила за маминой картой и задала мне несколько вопросов: где мама родилась, где жила до переезда в дом престарелых. Наверное, эти данные были в досье.
На тумбочке в маминой комнате уже стоял пакет с ее вещами. Медбрат протянул мне список на подпись. Я не захотела забирать одежду и предметы, которыми она здесь пользовалась. Взяла лишь статуэтку из Лизьё, куда она как-то ездила в паломничество с моим отцом, и фигурку трубочиста – сувенир из Анси. Теперь, когда я приехала, маму могли переместить в больничный морг, не дожидаясь, пока пройдет два часа с момента смерти, в течение которых тело полагалось держать в палате. Уходя, я увидела через стекло в помещении для персонала мамину соседку по комнате. Она сидела там с сумочкой: ей было велено ждать, пока маму не отвезут в морг.
Мой бывший муж поехал со мной в похоронное бюро. Там, за витриной с искусственными цветами, стояли кресла и журнальный столик с прессой. Сотрудник бюро провел нас в кабинет и стал задавать вопросы: дата смерти, место погребения, нужна ли заупокойная месса. Всю информацию он записывал в толстый журнал и время от времени щелкал на калькуляторе. Потом он проводил нас в темное помещение без окон и зажег там свет. У стены вертикально стояло с десяток гробов. «Все цены с учетом налогов», – сообщил сотрудник. Три гроба были открыты, демонстрируя цвета обивки на выбор. Я остановилась на гробе из дуба. Это было мамино любимое дерево, она всегда покупала в дом только дубовую мебель. Обивку мой бывший муж предложил розовато-лиловую. Он гордо, чуть ли не с удовольствием вспомнил, что мама часто носила блузки такого цвета. Я выписала сотруднику бюро чек. Они брали на себя всё, кроме доставки живых цветов. Я вернулась домой к полудню, и мы с бывшим мужем выпили портвейна. У меня разболелись голова и живот.
Около пяти я позвонила в больницу спросить, можно ли прийти к маме в морг с моими двумя сыновьями. Мне ответили, что уже поздно, морг закрывается в полпятого. Я села в машину и объехала новые кварталы рядом с больницей в поисках цветочной лавки, которая была бы открыта в понедельник. Я думала заказать белых лилий, но флористка меня отговорила: их берут только для детей, в крайнем случае для молодых девушек.
Похороны были в среду. Я приехала в больницу с детьми и бывшим мужем. На морг нет указателей, и мы чуть не заблудились, пока искали это одноэтажное бетонное здание на самом краю поля. Сотрудник в белой рубашке говорил по телефону и зна́ком предложил нам присесть в холле. Мы сидели на стульях вдоль стены, лицом к открытой двери в уборную. Мне хотелось еще раз увидеть маму и положить ей на грудь две цветущие веточки айвы, которые я принесла с собой в сумке. Мы не знали, покажут ли нам тело напоследок, перед тем как гроб заколотят. Из соседней комнаты вышел тот самый сотрудник похоронного бюро, с которым мы общались, и учтиво пригласил нас следовать за собой. Мама лежала в гробу с запрокинутой головой, ее руки были сложены на распятии. Ткань с нее сняли и переодели ее в ночную рубашку с кружевами. Тело до груди покрывал атласный саван. Помещение было большое, голое, с бетонными стенами. Непонятно откуда проникало немного дневного света.
Сотрудник похоронного бюро объявил, что посещение окончено, и проводил нас обратно в холл. У меня возникло ощущение, что он отвел нас к маме, только чтобы продемонстрировать качество услуг. Проехав через новые кварталы, мы остановились у церкви рядом с культурным центром. Катафалк еще не прибыл, мы ждали у входа. На фасаде супермаркета напротив было намалевано гудроном: «Деньги, товары и государство – три столпа апартеида». К нам подошел священник. «Это ваша мать?» – участливо спросил он меня. Затем поинтересовался у мальчиков, что они изучают и в каком университете.
Прямо на бетонном полу перед алтарем стояло что-то наподобие небольшого ложа, обитого красным бархатом. Мужчины из похоронного бюро поставили на него мамин гроб. Священник включил на магнитофоне кассету с органом. Кроме нас на службе никого не было: в этих местах маму никто не знал. Священник говорил о «вечной жизни», о «воскресении сестры нашей», пел молитвы. Мне хотелось, чтобы церемония длилась вечно, чтобы для мамы сделали что-то еще – еще пели, еще совершали обряды. Орган заиграл по второму кругу, и священник потушил свечи у гроба.
Катафалк сразу поехал в Ивто – нормандский городок, где маму должны были похоронить рядом с моим отцом. Мы с сыновьями отправились туда на моей машине. Всю дорогу лил дождь, дул порывистый ветер. Мальчики расспрашивали меня про мессу: они были на ней впервые и не знали, как себя вести во время церемонии.
В Ивто у ворот кладбища толпились родственники. «Ну и погодка! Можно подумать, сейчас ноябрь!» – закричала мне издалека двоюродная сестра, чтобы не смотреть молча, как мы идем от машины. Все вместе мы направились к могиле моего отца. Она была раскопана, рядом возвышался холм желтой земли. Поднесли мамин гроб. Когда его стали опускать в яму на ремнях, мне сказали подойти и посмотреть, как он скользит вниз. Неподалеку стоял могильщик с лопатой, в синем комбинезоне, берете и сапогах. У него было багровое лицо. Мне захотелось подойти и поговорить с ним, дать ему сотню франков. Я подумала, что он их пропьет, но это не имело значения. В конце концов, это последний человек, который позаботится о маме. Он будет закапывать ее могилу до вечера, так пусть делает это с удовольствием.
Родственники настояли, чтобы я осталась на обед. Мамина сестра заказала поминальный стол в ресторане. Я согласилась, потому что хотела сделать для мамы еще хоть что-то. Обслуживали там медленно. Мы обсуждали работу, детей. Иногда вспоминали маму. «Какой смысл жить в таком состоянии?» – говорили они мне. Все считали, что ее смерть была к лучшему. Мне не понять этих слов, этой убежденности. Я вернулась в Париж уже вечером. Теперь всё точно было кончено.
Всю следующую неделю я могла разрыдаться в любой момент. По утрам, едва открыв глаза, я тут же осознавала: мама умерла. Я просыпалась от тяжелых снов, которых не помнила, только знала, что в них была мама. Мертвая. Я делала лишь самое необходимое – покупки, еда, стирка. Порой я забывала алгоритм действий. Могла почистить овощи и застыть: чтобы перейти к следующему шагу и помыть их, мне требовалось отдельное усилие сознания. Читать и вовсе было невозможно. Однажды я спустилась в подвал и обнаружила там мамин чемодан. Внутри лежали ее кошелек, летняя сумка и несколько шарфов. Я застыла над распахнутым чемоданом как вкопанная. Хуже всего было, когда я выезжала в город. Я вела машину, и вдруг: «Ее больше не будет, никогда и нигде в этом мире». Я не могла примириться с тем, что другие люди живут как раньше. Пристальное внимание, с которым они выбирали кусок мяса в магазине, вызывало у меня ужас.
Постепенно это проходит. По-прежнему утешает, что погода стоит холодная и дождливая, совсем как в начале месяца, пока мама была еще жива. Внезапная пустота, когда осознаю, что «уже не надо» или «я больше не должна» (делать для нее то-то и то-то). И дыра в груди от мысли: «Это первая весна, которую она не увидит». (Теперь понятна сила расхожих фраз, клише.)
Завтра будет три недели с похорон. Только позавчера я сумела преодолеть страх и написать на белом листе бумаги в самом верху: «Мама умерла» – как начало книги, не письма. И еще я смогла взглянуть на ее снимки. На одном она сидит на берегу Сены, поджав под себя ноги. Фото черно-белое, но я словно вижу ее рыжие волосы и как отражается в водной ряби ее черный костюм из шерсти альпаки.
Я продолжу писать о маме. Она была единственной женщиной, которая действительно что-то значила для меня. Последние два года она страдала деменцией. Возможно, стоило бы подождать, пока ее болезнь и смерть не станут частью моего прошлого, как другие события – смерть отца и расставание с мужем, – чтобы с этой дистанции было легче анализировать воспоминания. Но сейчас я просто не в состоянии делать ничего другого.
Это непростая задача. В моих глазах у мамы нет истории. Она просто всегда была. Когда я говорю о ней, мне сразу хочется дать ей какую-то характеристику вне времени – «у нее был взрывной характер», «она зажигала всё вокруг» – и вспомнить пару случаев из ее жизни. Но так я воссоздаю лишь женщину из собственного воображения, ту самую, которую уже несколько дней вижу во снах, где она снова живая, у нее нет возраста, и атмосфера вокруг напряженная, как в триллере. А мне бы хотелось уловить и реальную женщину, которая существовала независимо от меня, родилась в крошечном нормандском городке, почти в деревне, и умерла в гериатрическом отделении больницы в пригороде Парижа. Самое достоверное, что я хочу описать, находится, вероятно, на стыке семьи и общества, мифа и истории. Мой замысел имеет литературный характер, поскольку его цель – выяснить правду о моей матери, а добраться до нее можно только через слова. (Ни фотографии, ни мои собственные воспоминания, ни рассказы родственников не способны дать мне этой правды.) Но в определенном смысле я хочу остаться на ступень ниже литературы.
Ивто – холодный город на ветреном плато между Руаном и Гавром. В начале века здесь сосредоточилась вся торговая и деловая жизнь этого сельскохозяйственного региона, где заправляли крупные землевладельцы. Мои дед и бабушка переехали туда через несколько лет после свадьбы. Он работал возчиком на ферме, она ткала на дому. Оба были родом из деревеньки в трех километрах от Ивто. Они сняли низенький домик с участком на окраине города, в той неопределенной его части между последними привокзальными кафе и первыми рапсовыми полями, которая больше напоминает село. Там и родилась в 1906 году моя мать, четвертая из шестерых детей. (Помню, как она с гордостью говорила: «Я не в деревне родилась».)
Четверо из детей никогда не покидали Ивто, мама провела там три четверти жизни. Они так всегда и жили на окраине, хотя однажды переехали чуть ближе к центру. Они «ходили в город», чтобы побывать на службе, купить мяса или отправить деньги по почте. Сейчас моя кузина живет в центре, прямо у Национальной автострады 15, где днем и ночью носятся грузовики. Она дает своему коту снотворное, чтобы тот не выбежал на дорогу и не попал под машину. Район, где выросла мама, сейчас весьма востребован среди людей с высоким достатком: там тихо и много старых домов.
Моя бабушка была главной в доме и «муштровала» детей побоями и криками. Она работала за троих, имела крутой нрав и одну радость в жизни – читать романы, которые печатались в газетах частями. Она умела изложить мысли на бумаге, была первой ученицей во всем кантоне и могла бы стать учительницей. Но родители не отпустили ее из деревни. Уехать из семьи считалось верной дорогой к несчастью. (По-нормандски «амбиция» означает «боль от расставания»; к примеру, собака может умереть от амбиции.) Чтобы понять этот эпизод (бабушке тогда было одиннадцать), надо вспомнить фразы, начинающиеся со слов «а вот в наше время»: а вот в наше время в школу не ходили, а вот в наше время слушали родителей и прочее.
Она была хорошей хозяйкой: умудрялась кормить и одевать семью на крошечные средства. В церковь ее дети приходили чистыми и опрятными, всегда выглядели достойно и не чувствовали себя бедняками. Заношенные воротнички и манжеты на рубашках она выворачивала на другую сторону, чтобы дольше служили. Всему находила применение: из пенок от молока и черствого хлеба пекла пироги, золой от дров стирала белье, на теплой погасшей печи сушила сливы или полотенца, а водой, оставшейся после утреннего умывания, они мыли руки в течение дня. Она знала все хитрости, помогающие хоть немного ослабить тиски бедности. Эти знания матери веками передавали дочерям, но на мне эта цепь прерывается. Я – только архивистка.
Мой дед, сильный и добрый мужчина, умер в пятьдесят лет от грудной жабы. Маме тогда было тринадцать, и она его обожала. Овдовев, бабушка совсем ожесточилась и стала ко всему относиться с недоверием. (Два главных страха: мальчики в тюрьме, девочки приносят в подоле.) Когда спрос на ручное ткачество исчез, бабушка стала подрабатывать прачкой и убираться в конторах.
Под конец жизни она переехала к младшей дочери и ее мужу. Они жили у железной дороги, в хибаре без электричества, где раньше была заводская столовая. Мама возила меня туда по воскресеньям навещать бабушку. Эта невысокая полная женщина двигалась на удивление проворно, хотя одна нога у нее была с рождения короче другой. Она читала романы, говорила мало и резко, любила крепкий алкоголь, который смешивала в чашке с кофейной гущей. В 1952 году она умерла.
Детство моей матери выглядело примерно так:
– постоянный голод. По дороге из булочной она жадно съедала довесок хлеба. «До двадцати пяти лет я могла бы море проглотить, со всеми рыбами!»;
– одна спальня на шестерых детей, одна кровать с сестрой, приступы лунатизма: ее находили во дворе, где она спала стоя, с открытыми глазами;
– платья и ботинки переходят от старших к младшим, тряпичная кукла на Рождество, яблочный сидр, от которого портятся зубы;
– а еще прогулки верхом на ломовой лошади, катание на коньках (зимой 1916-го замерз местный пруд), скакалка, а также обзывательства в адрес «барышень» из частного пансиона и ритуальный жест презрения: развернуться и бойко хлопнуть себя по заднице;
– все прелести дворовой жизни сельской девчонки, которая умеет всё, что и мальчишки, – пилить деревья, трясти яблони, убивать куриц ударом ножниц в горло. С одним отличием: не позволять трогать себя «там».
Она ходила в местную школу и пропускала занятия, когда нужно было помогать в поле или ухаживать за больными братьями и сестрами. Из воспоминаний только то, что учительницы заставляли быть вежливой и опрятной: показать ногти, воротничок, снять ботинок (и никогда не знаешь, какую ногу мыть). Моя мать училась в школе без малейшего интереса. Тогда никто не «заставлял» детей, они знали сами, что нужно «через это пройти». Школа была неизбежным этапом перед самостоятельной жизнью и не более того. Пропустив урок-другой, ты ничего не терял. Но только не мессу. Там, даже стоя у дальней стены, ты соприкасался с красотой, роскошью и духовностью (золотые чаши, расшитые ризы, песнопения) и уже не чувствовал себя «отребьем». С самого детства мама живо интересовалась религией. Из всех школьных предметов ее занимал только катехизис – все ответы она знала наизусть. (Даже во взрослом возрасте она восторженно и с придыханием подхватывала молитвы на службе, словно желая продемонстрировать свои знания.)
Она не была ни рада, ни расстроена, когда в двенадцать с половиной перестала ходить в школу (обычное дело по тем временам)[1]. Она устроилась на маргариновую фабрику, где мучилась от холода и сырости: ее вечно мокрые руки были обморожены всю зиму. С тех пор она не выносила даже вида маргарина. В общем, «мечтательной юности» она была лишена. Вместо этого – ожидание вечера субботы, зарплата, которую приносишь матери, оставляя себе лишь немного на модный журнал и пудру, порой смех, обиды. Однажды у начальника цеха шарф попал в конвейерную ленту. Никто не пришел ему на помощь, он был вынужден спасаться сам. Мама стояла рядом. Понять ее можно, только испытав такую же степень отчужденности.
В двадцатых годах на волне индустриализации в регионе открылась крупная канатная фабрика, и молодежь ринулась туда. Мама, ее сестры и двое братьев получили там места, и бабушка для удобства переехала в маленький домик в ста метрах от фабрики. По вечерам она сама работала там уборщицей вместе с дочерьми. Маме нравились чистые сухие цеха, где не запрещалось разговаривать и смеяться во время работы. Она гордилась своим местом. Чувствовала себя цивилизованной по сравнению с дикарками (деревенскими пастушками, что ходят за коровами) и свободной в глазах рабынь (горничных, вынужденных «целовать задницы богачам»). Но при этом – смутное ощущение, что всё это отдаляет ее от заветной мечты: стать продавщицей.
Как и многие большие семьи, семья моей матери была племенем; иными словами, бабушкины дети походили на нее и манерами, и образом жизни сельских работяг. С одного взгляда было ясно: это семья Д. Все они, и мужчины, и женщины, кричали по любому поводу. Неумеренно веселые, но при этом обидчивые, они легко выходили из себя и «не стеснялись в выражениях». Особенно они гордились своей рабочей силой. С трудом верили, что кто-то может быть выносливее них. Границам, обступавшим их со всех сторон, упорно противопоставляли уверенность, что они «не пустое место». Возможно, потому они и бросались так яростно на работу, на еду, хохотали до слез, а через час заявляли, что «готовы утопиться».
Моя мать больше всех отличалась тщеславием и буйным нравом. Она ясно осознавала, что принадлежит к низшему классу, и негодовала, если ее судили только по социальному статусу. «Мы ничем не хуже», – говорила она о богачах. Она была красивой крепкой девушкой («Кровь с молоком!») со светлыми волосами и серыми глазами. Ей нравилось читать всё, что попадалось под руку, петь популярные песенки, краситься, ходить с друзьями в кино и в театр на «Роже-позор» и «Хозяина кузницы». Она всегда была не прочь «немного развлечься».
Но в то время в маленьком городке, где общественная жизнь состояла главным образом в том, чтобы узнать как можно больше о соседях, и где женщины находились под пристальным вниманием блюстителей морали, молодая девушка неизбежно разрывалась между желанием «наслаждаться юностью» и опасением за свою репутацию. Мама старалась соответствовать самому благоприятному мнению о девушках ее профессии: «работает на фабрике, но порядочная». Она посещала мессу и причащалась, вышивала приданое в приюте для девочек и никогда не ходила в лес наедине с парнем. Откуда ей было знать, что ее короткие юбки, стрижка под мальчика, «дерзкий» взгляд и особенно тот факт, что она работает с мужчинами, сами по себе означали, что ее никогда не будут считать той, кем ей так хотелось быть – «благопристойной девушкой».
Молодость моей матери – это отчасти попытки избежать наиболее вероятной участи: нищеты (неминуемой) и алкоголизма (вполне возможного). То есть всего, что случается с женщиной из рабочего класса, когда она «распускается» – курит, гуляет ночами, носит одежду с пятнами, – и что не придется по вкусу ни одному «приличному молодому человеку».
Ее братьям и сестрам ничего этого избежать не удалось. За последние двадцать пять лет четверо из них умерли. Долгое время они заливали бездонную ярость алкоголем: мужчины выпивали в кабаках, женщины – дома. (Жива только мамина младшая сестра, которая не пила спиртного.) Радоваться и разговаривать они были способны только после определенного количества выпитого. Всё остальное время они молча делали свое дело – «хорошие работники» и горничные, к которым «не подкопаешься». С годами они привыкли к тому, что их оценивают исключительно по степени опьянения – «навеселе», «лыка не вяжет». Однажды, накануне Духова дня, по дороге из школы я встретила свою тетю М. У нее был выходной, и она, как всегда, шла в город с сумкой пустых бутылок. Она поцеловала меня, нетвердо стоя на ногах, не в состоянии произнести ни слова. Думаю, я никогда не смогу писать так, словно не встречала ее в тот день.